А. Е. РЫНДИН ГДЕ НЕ БЫЛО ТЫЛА Документальная повесть
Выстоявшим и победившим
Рецензенты: кандидат военных наук П. Ф. Шкорубский, кандидат исторических наук В. И. Ежаков, начальник группы отдела печати Главного политуправления Советской Армии и Военно–Морского Флота полковник М. А. Меньшов
Художник Р. В. Левицкий
© Краснодарское книжное издательство, 1981
Алексей Ефремович Рындин родился в 1899 году в станице Чамлыкской Лабинского отдела. Кубанской области в семье крестьянина. В годы гражданской войны в восемнадцатилетнем возрасте добровольно вступает в красногвардейский отряд станицы Чамлыкской и участвует в боях за установление Советской власти на Кубани. В 1920 году принят в ряды ленинской партии. После окончания агрономической школы участвует в колхозном строительстве, находится на партийной работе.
С первых дней войны комиссар А. Е. Рындин идет добровольцем на фронт, участвует в героической обороне Севастополя. Тяжелораненым попадает в плен, в одном из концлагерей становится во главе подпольного комитета и вместе с товарищами поднимает вооруженное восстание.
После Великой Отечественной войны находится на советской и партийной работе. Имеет награды. Ныне персональный пенсионер.
КНИГА О МУЖЕСТВЕ
Где не было тыла» — книга о времени трудном и суровом. Ее написал человек, многое испытавший.
Ветеран партии, активный участник гражданской войны, партийный работник, защитник Севастополя, подпольщик ряда фашистских лагерей, А. Е. Рындин всю свою сознательную жизнь сражался за Советскую власть, всегда находясь там, где не было тыла.
С победой Советской власти на Кубани восемнадцатилетний Асексей Рындин участвует в формировании красно, гвардейского отряда в станице Чамлыкской, вскоре вступает в ряды ленинской партии, принимает участие в героическом походе 11‑й Северо–Кавказской армии через астраханские степи. Затем направляется в Новороссийск, занятый деникинцами, для подпольной работы. В 1920 году окончилась гражданская война, но для чекиста А. Е. Рындина борьба с контрреволюцией продолжается. В последующие годы он приобретает специальность агронома и трудится на поприще виноделия.
Мирные планы А. Е. Рындина, как и всех советских людей, были нарушены вероломным нападением гитлеровской Германии на нашу Родину. Он скова надел шинель и встал в строй. Его назначают комиссаром формировавшегося кавалерийского полка. Затем Рындин сопровождает тысячу кубанских добровольцев, отправляющихся в осажденный гитлеровцами Севастополь.
Трудные дни переживали мужественные защитники города. После того как советские войска в мае 1942 года потерпели поражение на Керченском полуострове и в районе Харькова, немецко–фашистское командование осуществило ряд наступательных операций в районе Севастополя и на некоторых других участках советско–гер. майского фронта. Против войск Севастопольского оборонительного района, насчитывавших 106 тысяч человек, 606 орудий, 918 минометов, 38 танков и 116 самолетов, в начале июня противник сосредоточил превосходящие силы: 204 тысячи человек, более 2000 орудий и минометов, в том числе несколько десятков батарей тяжелой и сверхмощной артиллерии, 450 танков и около 1060 самолетов.
2 июня враг начал новый штурм города. На протяжении пяти дней гитлеровцы интенсивно обстреливали и бомбили позиции советских войск, а утром 7 июня предприняли атаку пехотой и танками. Вот что сказано об этих боях в 5‑м томе «Истории второй мировой войны 1939–1945 гг.»: «С первого же дня вражеского штурма севастопольских позиций разгорелись ожесточенные бои. Авиация противника ежедневно совершала по 600–1000 самолето–вылетов. Стойко и организованно отражали вражеские атаки защитники Севастополя. Не щадя своей жизни, сражались воины Приморской армии и черноморцы. Героизм был нормой поведения солдат и офицеров. Особо отличились в боях за Севастополь 25‑я Чапаевская, 95‑я и 172‑я… стрелковые дивизии». Комиссаром одного из полков Чапаевской дивизии был назначен А. Е. Рындин. С восхищением и особой любовью рассказывает он о массовом героизме и самоотверженности защитников города. Автор называет имена многих боевых товарищей, которые, не жалея ни крови, ни жизни, отстаивали каждую пядь советской земли, правдиво и ярко описывает их подвиги.
Советский народ и весь мир с затаенным дыханием следили за ожесточенным сражением у стен славного Севастополя. «Самоотверженная борьба севастопольцев, — писала 15 июня 1942 года газета «Правда», — это пример героизма для всей Красной Армии, для всего советского народа».
В середине июня 1942 года бои достигли крайнего напряжения. Положение защищавшей город Приморской армии генерала И. Е. Петрова с каждым днем становилось все тяжелее. Войска несли большие потери. Резервы были израсходованы. Не хватало боеприпасов, поэтому бои все чаще переходили в рукопашные схватки. Вечером 30 июня, когда кончились боеприпасы, продовольствие и питьевая вода, защитники города отошли к бухтам Стрелецкая, Камышевая, Казачья и на мыс Херсонес. Эти драматические события подробно описываются в книге А. Е. Рындина.
Незначительным группам севастопольцев удалось через линию фронта уйти в горы, где они продолжали сражаться в партизанских отрядах. Однако большая часть последних защитников города, среди них было много раненых и контуженых, оказалась во. вражеском плену. Среди них находился и раненый Рындин.
Завершилась восьмимесячная оборона черноморской твердыни. Севастопольский гарнизон успешно выполнил поставленную перед ним задачу. Он нанес противнику огромные потери и на длительное время сковал сильную 11‑ю немецко–фашистскую армию генерала Э. фон Манштейна, которая в то время не смогла участвовать в наступлении на южном крыле советско–германского фронта.
Для советских воинов, попавших в фашистский плен, у ворот лагеря, казалось, кончилась всякая надежда не только на продолжение сопротивления фашизму, но и на жизнь. И действительно, многие сотни тысяч советских военнопленных были уничтожены гитлеровскими палачами. Но оставшиеся в живых, как рассказывается в книге, не покорились врагу и, несмотря на невероятно тяжелые условия, продолжали неравную, а подчас отчаянную борьбу.
Книгу А. Е. Рындина о защитниках Севастополя, которые своим массовым героизмом и самопожертвованием обогатили славные боевые традиции советского народа, с пользой прочтут все, кто интересуется событиями незабываемых дней Великой Отечественной войны.
М. СЕМИРЯГА,
доктор исторических наук, профессор.
СЕВАСТОПОЛЬ
В одну из темных декабрьских ночей 1941 года от Новороссийского причала отошел теплоход «Абхазия», на котором разместилась тысяча кубанских добровольцев. До полуночи люди осваивались с новой обстановкой. Рейс был особенный! И это ощущали все.
Когда разговоры и голоса моих спутников стихли, уставшие люди заснули, я вышел на палубу. Зимняя ночь была непроницаема. Ни звездочки, ни огонька на далеком берегу.
Вспомнился вызов в крайком партии. В военном отделе сидел А. А. Егоров. Я его знал еще секретарем Темрюкского райкома партии, тогда, когда сам работал в такой же должности в Северском районе. А. А. Егоров был низкорослым, подвижным и веселым человеком.
— Ну, Рындин, идем к товарищу Селезневу, — сказал он, едва я вошел к нему.
Напутственное слово секретаря крайкома Петра Ианнуарьевича Селезнева было коротким.
— В Севастополь надо отвезти тысячу добровольцев–кубанцев. Я вам, дорогие товарищи, скажу — это особенные люди: участники гражданской войны, руководящие товарищи, комсомольцы, беспартийные, интеллигенция… Наши советские патриоты, отозвавшиеся на зов Родины! Так вот, товарищ Рындин, довезешь до Севастополя, сдашь командованию и возвратишься назад.
— А там еще будут добровольцы, — добавил Егоров.
— Это несомненно, — сказал секретарь, — а сейчас поезжай прямо в Абинский лагерь. Людей там военкомат уже подготовил…
Утро выдалось солнечным. Море замерло и будто покрылось голубой тканью. Корабль немного вздрагивал, шел уверенно, быстро. И только теперь мы заметили, что следом за теплоходом, «Абхазия», по обеим сторонам сзади, двигались эсминцы. Это была транспортная охрана. Я обошел все помещения корабля, набитые до отказа добровольцами. Везде шли оживленные разговоры. Люди стояли у перил, смотрели, как у боковин судна струилась прозрачная голубизна воды.
Двое остановились около меня:
— Скоро будет Севастополь? Не нападут ли на корабль вражеские подводные лодки или самолеты?
Корабль шел на юго–запад, и мне подумалось, что он действительно еще не вышел на траверз Севастополя.
— Да вот, товарищи, скоро повернем на север, а там уже и Севастополь…
И вдруг тишину ночи разорвала сирена «Абхазии», объявили боевую тревогу. Вскоре показались фашистские бомбардировщики. Они шли прямо на корабль, и тут Же с эсминцев заполыхали зенитки. И когда стервятники уже почти повисли над нашим судном, заговорили зенитки и крупнокалиберные пулеметы «Абхазии».
Было видно, как от самолетов отделились черные сигары бомб. Казалось, каждая из них непременно упадет на палубу, неся с собой разрушение и смерть. Но корабль внезапно свернул в сторону, и черные бомбы упали в воду. По бокам, спереди и сзади корабля росли, как деревья, столбы воды. Все, кто был на палубе, напряженно следили за борьбой жизни и смерти. Снаряды наших зениток взрывались около пикирующих стервятников. Вдруг один из них задымил и, охваченный пламенем, резко пошел к воде. На ровной глади моря от него остался лишь дым.
Оставшиеся два стервятника поднялись выше, отклонились от нашего курса и скрылись за облаками. Мой сосед, наблюдавший все время за боем, тяжело вздохнув, сказал:
— Ну, сейчас пронесло! А что дальше будет, побачимо…
Я перешел в носовую часть «Абхазии», глянул за борт и заметил выше ватерлинии большую вмятину. Осыпавшаяся краска и окалина на обнаженном металле свидетельствовали, что это старая метка, что корабль уже не раз был в подобных боевых переплетах.
С горечью ложатся на бумагу эти строки. «Абхазия» благополучно закончила этот рискованный рейс, а через несколько дней, возвращаясь из Севастополя в Новороссийск, попала в более тяжелую ситуацию, чем описанная мной, и погибла.
Во второй половине дня транспорт под острым углом повернул на север. На следующее утро в туманной дымке показался берег, и мы вошли в Северную бухту.
Разгрузка людей прошла в боевом темпе, и сразу же колонна добровольцев направилась в город. После обеда кубанцы попали в Карантинную бухту, где размещалось командование Приморской армии.
Пока полковник Н. И. Крылов (кто–то назвал его начальником штаба) — высокий, с мужественным лицом человек — рассматривал и изучал переданный ему тяжелый пакет, мы наблюдали, как над городом вели воздушный бой фашистские и краснозвездные самолеты. Не нужно было быть военным, чтобы предвидеть исход боя: на наших глазах загорелся «мессершмитт», затем он перевернулся, камнем пошел вниз и вскоре скрылся в морских волнах у входа в Северную бухту. Второй, взятый в кольцо «ястребками», вынужден был идти на посадку.
— Любую половину берите, товарищ Рындин, — сказал, улыбаясь, Крылов. — Одна останется здесь, другую поведете в Инкерман, для пополнения 25‑й Чапаевской дивизии. Вот лейтенант, проводник ваш… Всего хорошего, — полковник пожал мне руку, затем, козырнув, торопливо пошел к стоявшей недалеко группе офицеров.
В городе уже были видны приметы войны: разбитые здания, обгорелые деревья, у железнодорожного вокзала, на путях — бесформенная груда железа от обгоревшего «юнкерса»…
— Пойдем по более скрытой дороге, — сказал проводник. — По Лабораторной балке, она глубокая и не так заметна.
Лейтенант был уже обстрелянным воином. В одном из боев его ранило, и он временно попал в связные.
Среднего роста, худощавый, с загорелым лицом, он шел отработанным армейским шагом, кратко и деловито отвечая на мои вопросы. Вдруг, не поднимая головы, лейтенант крикнул:
— Ложись! — схватил меня за рукав и бросил в кювет.
В воздухе внезапно появился «меСсершмитт». На бреющем полете он просвистел над нашими головами, не переставая стрелять из пулемета. Люди рассыпались по обочинам. Самолет сделал разворот и снова, стреляя по колонне, промчался над головами бойцов.
— Это хорошо, что не бомбили, а то бы наделали делов, — будничным тоном сказал лейтенант и скомандовал: — Становись!
В Инкерманскую долину спустились, когда уже начало смеркаться. Но и тут не обошлось без команды «Ложись!» — неожиданно над самой дорогой взорвались один за другим вражеские снаряды.
Мы были переданы с рук на руки связному из 25‑й Чапаевской дивизии. В темноте было трудно его рассмотреть, но вскоре мы уже знали о его лейтенантском звании и о том, что зовут его Николай Сергеевич.
— Разместимся в штольне, — заметил он. — Там и заночуем. До. рога–то грязная, ночь, лес — будем людей мучить… А утром доберемся до передовой.
Штольнями оказались тыловые склады дивизии.
— В самом деле, — рассказывал сопровождавший нас начальник склада лейтенант Васильев. — Штольни всегда людям служили: когда–то монахи выпиливали здесь целые плиты — «кирпичи», которые шли на постройку монастырей, церквей, целых городов… В общем, монахи жили — не тужили и нам вот оставили — конца не видно штольне, в некоторых проложены узкоколейки, когда–то винкомбинат свою продукцию здесь хранил. Теперь здесь устроены швейные, механические и прочие мастерские, даже располагается наш медсанбат…
Когда люди разместились на отдых, начальник склада посоветовал:
— Ложитесь на мою кровать, а я найду себе другое место, — он показал на прибранную постель в отгороженном углу.
Однако отдых был коротким: буквально через несколько минут прозвучала команда «Подъем!».
Лейтенант, коснувшись моего плеча, доложил:
— Товарищ комиссар, поступил приказ: немедленно доставить людей на передовую.
Взводные, выделенные еще в Карантинной бухте, строили колонну. В небе в разных местах плыли пронизанные размытыми лучами прожекторов облака. Где–то в горах постреливали автоматы, и казалось, что передовая находится где–то тут, рядом, в нескольких шагах от места нашего привала.
Лейтенант сказал:
— Сейчас перейдем мост через Черную речку, а там пойдет Симферопольское шоссе.
Действительно, свернув с шоссе, мы сразу попали в низкорослый дубовый лес. Под ногами чавкала разбитая грунтовая дорога.
— Еще две недели назад здесь шел бой, — словоохотливо рассказывал лейтенант. — Фрицы нажали, выбили нас с наших позиций… Я как раз был дежурным по полку, ну и почему–то задержался на КП. Фашисты окружили, кричат: «Рус, сдавайся…» У меня был запас автоматных дисков. Нет, думаю, не сдамся и поливаю фрицев из автомата. И вы знаете, выдержал, а тут наши снова нажали. Да… Ну вот и передовая.
Колонну вывели на прогалину. Между деревьями сквозь ночной полумрак угадывались блиндажи. Появились люди. Ко мне подошли трое, видно из начальствующего состава. Я представился.
Это был командир 54‑го стрелкового полка Н. М. Матусевич, комиссар этого же полка Е. А. Мальцев и начальник штаба П. М. Субботин.
Я вытащил из кармана пакет, врученный мне в штабе армии полковником Н. И. Крыловым, и передал его командиру полка.
— Сколько? — беря пакет, спросил он.
— Пятьсот…
— О, спасибо! Танцуем, комиссар, — хлопнул он по спине высокого худого человека.
Начштаба давал указания комбатам: кому и сколько выделить новичков.
В блиндаже командира 54‑го стрелкового полка чувствовался обжитой дух. На столе стояла керосиновая лампа, лежал томик стихов А. С, Пушкина, у стола разместились скамейки, а в глубине — земляные нары.
— Все кубанцы? — повернулся ко мне начальник штаба.
— Да. — Я рассказал о нескольких известных мне добровольцах.
— Ну, тогда мы еще повоюем, — повеселел он. — А вы из резерва? В армии служили?
Я подал свой воинский билет, но его перехватил командир полка.
— С Красной гвардии и до 1927‑го? Так… По должности комиссар полка, звание старший батальонный комиссар. Гарно, — он сурово посмотрел на меня. — Так что же, остаетесь на фронте или вернетесь в Краснодар?
— Остаюсь на фронте, — ответил я. — Это тоже партийная работа…
— Вот это правильно! — воскликнул комиссар. — У нас нет комиссара во втором батальоне, пойдете? — с какой–то опаской спросил он.
— А я ехал на фронт не за званиями!
Майор Матусевич посоветовал комиссару утром доложить политотделу дивизии об оформлении моего назначения и стал рассказывать о Мекензиевых Горах, о расположении полка, но я перебил его, попросив показать расположение наших позиций. Начштаба развернул передо мной карту и начал карандашом водить по многочисленным извилинам.
— Покажите мне противника на местности! — попросил я начальника штаба. Он посмотрел мне в глаза, а затем на командира и комиссара и закончил с удивлением:
— Вы же говорили, что давно не служили в армии…
Комиссар полка, взяв стоявшее в углу древко знамени, снял с него чехол. Я увидел малиновый шелк с кое–где распустившимися нитями и потускневшей золотой бахромой. Ярко–красным полукругом цвели буквы: «Разинскому стрелковому полку 25‑й дивизии имени В. И. Чапаева от ВЦИК».
— Вот под каким знаменем мы воюем, товарищ Рындин! — комиссар смотрел на меня, нежно поглаживая рукой переливающийся каким–то особенным светом шелк.
ЧАПАЕВЦЫ
Мекензиевы Горы — так называется плато, расположенное восточнее Севастополя. Одетые лесом — дубом, карагачем и прочей растительностью, распространенной по всей южной части Крымского полуострова, они в любое время года красивы.
Здесь держал оборону наш полк, входивший в третий сектор оборонительного кольца Приморской армии. В Краснодаре, в составе народного ополчения, мы в основном занимались учебой и даже несли службу по охране города, многие из нас были свидетелями налетов вражеских самолетов. Но каждый знал, что час отправки на настоящий фронт все равно придет.
Мекензиевы Горы стали для меня местом проверки воинского мастерства, твердой воли, мужества. Сюда, к Севастополю, где каждый камень был обагрен кровью наших предков, где родилась былинная слава русского солдата, мы прибыли по зову сердца, со страстным желанием грудью закрыть путь врагу к святым берегам Черноморья.
Майор К. С. Шейкин, командир второго батальона, высокий, грузный в свои сорок лет, встретил меня радушно. Улыбаясь, он сжал своей мощной ладонью мою руку:
— Наконец–то подвезло. Вот наш блиндаж, земляные нары, телефон, а после чая я вас познакомлю с комсоставом рот…
Касьян Савельевич рассказал о декабрьских боях на этом рубеже. Днем мы обошли передний край. Я смотрел на неглубокие, извилистые траншеи, выдолбленные в камне и глинистом наносе. Лес сзади, лес спереди, причем такой густоты, что передовая совершенно не просматривалась. На некоторых участках нас предупреждали:
— Прошу наклониться, отсюда нас видит противник, похлестывают снайперы…
Пока мы ходили по переднему краю, враг беспрерывно обстреливал минометным огнем и траншеи, и площадку, где расположились блиндажи полкового штаба. Вечером Шейкин рассказал мне о командовании полка, которое уже успело получить боевое крещение в ожесточенных боях за Одессу. Из этой беседы я узнал, что Касьян Савельевич Шейкин до войны командовал пол–ком на южном участке границы. На его груди алел орден Красного Знамени.
Так я оказался среди старых кадровых командиров–чапаевцев. С чувством гордости думал о том, что еще в 20‑е годы находился в числе комсостава 22‑й дивизии', сформированной из частей, которыми командовал легендарный герой гражданской войны В. И. Чапаев.
Начались занятия с новичками, знакомство с личным составом рот, взводов, налаживание хозяйства, изучение политического и морального состояния людей.
Именно в эти дни состоялась моя первая встреча с Людмилой Михайловной Павличенко — отличным снайпером, гордостью всей дивизии. 25 октября 1943 года за отличную снайперскую работу ей было присвоено звание Героя Советского Союза. В полку гордились тем, что в его рядах вырос такой боец. В двадцать лет, оставив исторический факультет Киевского университета, она пошла работать на завод «Арсенал», принимала участие в обороне Одессы, а затем и Севастополя. К моему приходу в полк уже имела на своем счету более 250 убитых фашистов.
Вот она стоит передо мной: среднего роста, темноволосая, с искорками в карих глазах, бойкая, улыбчивая. Однажды я сурово выругал ее за то, что она неосторожно перебегала от блиндажа к блиндажу во время минометного обстрела. Оторопело посмотрев на меня, она сказала:
— Вот за это спасибо, товарищ комиссар.
— За что? — спросил я.
— За то, что хоть вы выругали меня как следует!
Дважды она возвращалась с задания с пробитой каской. О ней писали газеты… В 1943 году Людмила Михайловна ездила в США, была в гостях у жены американского президента Элеоноры Рузвельт, выступала перед американскими солдатами.
В одной из рот пулеметным расчетом командовала Нина Онилова. Всякий раз, проходя по переднему краю, я обязательно встречал ее. То она хлопочет у своего «максимушки», то с тряпочкой в руке смазывает, протирает части пулемета, то деловито собирает вычищенный автомат. Маленькая, подтянутая, всегда с чистым подворотничком и с особенной дерзостью в темных глазах, она встречала «посторонних» с серьезным выражением на лице. Но стоило кому–нибудь умело пошутить — оба–ятельная улыбка расцветала на ее лице, как яркий цветок, Боевая слава Нины Ониловой разнеслась по всему фронту.
Из медперсонала особо приметной была старшая медсестра Катя Коваль. Однажды мы узнали, что ее муж погиб под Севастополем в первые месяцы войны. А незадолго до этого после окончания пединститута они сыграли свадьбу. Придя в военкомат, Катя заявила:
— Иду добровольно на фронт — мстить фашистам за отнятое у меня счастье…
Под стать Кате Коваль Мария Стефанюк, худенькая, черноглазая украинка. Сколько раз на своих хрупких плечах выносила она из–под огня тяжелораненых, оказывала им первую медицинскую помощь, настоятельно добивалась их быстрой отправки в медсанбат. Отличительной чертой Машеньки, как мы ласково называли ее, была доброта. За отвагу и героизм, проявленные в боях под Одессой, М. Стефанюк наградили орденом Красной Звезды.
Зима в Крыму в том году была неустойчива. После ночных морозов наступала оттепель. Оголенные деревья почернели, обливаясь оттаявшей слезой, опавшие с осени, жухлые, спрессованные морозами листья обмякли. Бойцы, откинув пологи из брезента на края траншей, чтобы не задохнуться от табачного дыма, смотрят на торопливо бегущие к горизонту тучи.
Воздух, наполненный гулом самолетов, дрожит. Гудят тяжелые «юнкерсы», неся в своих трюмах смерть и разрушение, где–то высоко в небе прошивают облака пулеметные очереди столкнувшихся в воздушном бою наших и вражеских самолетов. Изредка с тяжелым клекотом со стороны моря или береговых батарей через наши позиции пролетают тяжелые снаряды. Затем где–то в тылу вражеских позиций вздрагивает земля и между гор, по ущельям катится эхо взрыва.
В дни временного затишья до нас дошла весть о том, что на Керченском участке идут тяжелые бои. Это сообщение напомнило мне катастрофу у Керчи осенью 1941 года, когда отдельные части Красной Армии под натиском превосходящих сил противника вынуждены были отойти на Таманский полуостров. Это было еще памятно всем и не могло не вызвать у нас тревогу. Если противник добьется успеха под Керчью, то освободившиеся силы перебросит на наш участок и попытается ударить на Севастополь… Чтобы создать устойчивое положение советских войск на Керченском плацдарме, севастопольцы должны были продемонстрировать ложное наступление и оттянуть часть войск противника на себя. О масштабе задуманной операции мы, конечно, не знали.
Операция общего наступления началась 27 февраля. К этому времени протяженность линии фронта Севастопольского оборонительного района составляла 36 километров, разделенная на четыре сектора. В третий сектор входили: 25‑я Чапаевская стрелковая дивизия, 79‑я морская стрелковая бригада, 3‑й морской и 2‑й Перекопский полки. Комендантом сектора был назначен генерал–майор Т. К. Коломиец, командир 25‑й Чапаевской стрелковой дивизии.
В 7 часов, после 30‑минутной артподготовки, 25‑я Чапаевская дивизия с другими соединениями и частями сектора перешла в наступление, нанося главный удар в направлении Заланкоя. К концу дня части третьего сектора достигли участка в одном километре западнее хутора Мекензия и западных склонов безымянной высоты.
28 февраля войска сектора возобновили боевые действия. Части 25‑й и 345‑й стрелковых дивизий и 79‑й морской стрелковой бригады несколько продвинулись вперед. К исходу дня полки 25‑й дивизии вели бои за хутор Мекензия[1].
…Морской полк, как первый эшелон, начал наступление в 6 часов 30 минут, но на нейтральной полосе его танкетки встретили сильное сопротивление, и морским пехотинцам пришлось отойти на исходное положение. Два батальона 54‑го стрелкового полка оказались впереди, слева предполагалась поддержка 31‑го полка. Наступательную полосу заняли две. роты.
На время боевой операции заместителем командира 54‑го стрелкового полка был назначен майор П. М. Субботин, а заместителем комиссара — я. Перед нами была поставлена задача — обеспечить боевые действия батальонов на месте.
Туман рассеялся. На расстоянии видимости противника просматривался густой лес. Над нами, вынырнув из–за редких облаков, появились самолеты. Но внимание всех бойцов сосредоточилось не на нависшей над нами опасности, а на вражеских окопах. Было видно, что немцы оставляют позиции и уходят. Наши боевые порядки обстреливаются вражескими минометами. Мины падают и взрываются по всей линии нашей обороны.
Бойцы пятой роты быстро достигают балки у Белого камня. Однако противник усиливает минометный огонь. Волна наступающих накатывается на покинутые противником окопы, блиндажи, рвы и устремляется дальше. В душе каждого нашего бойца крепнет ненависть к врагу, наступательный порыв увлекает его вперед.
Мы прошли метров триста и уже поднялись на взгорок. Субботин остановился у старой, засыпанной зимним валежником воронки.
— Давай сюда коробку, — приказывает он бегущему следом за ним телефонисту и начинает налаживать связь с командиром полка.
Фашисты усилили огонь. Наши роты, зайяв мелкие вражеские окопы, ведут интенсивную перестрелку.
Я посмотрел в черные глаза Субботина и подумал: «Он, видимо, знает эту местность еще с декабрьских боев, знает, где находится злополучная высота 157,5, которую приказом командования дивизии нам надлежит занять, поэтому его движения уверенны, приказы лаконичны и продуманны».
Бой продолжался весь день, к вечеру мы продвинулись еще на несколько сот метров, заняли вражеские блиндажи и здесь решили остаться на ночь, дав отдохнуть бойцам. Выставили боевое охранение.
ВЫСОТА
Лагерь проснулся, когда утренний туман уже рассеялся. С трех сторон от нас, мы это знали, располагался враг, и нужно было быть настороже. Примерно в трехстах метрах впереди находилась высота 157,5.
Командиры батальонов и рот собрались на совещание. Майор В. И. Гальченко, суровый и малоразговорчивый офицер из старых кадровиков, смотрел в сторону «заветной» высоты и спокойно курил. Его комиссар, старший политрук П. В. Новиков, невысокий светловолосый весельчак, был на этот раз серьезным.
Рядом со мной стояли командиры рот второго батальона Н. Н. Свободный и В. И. Соляник, тут же находились и политруки подразделений. Эта встреча не была совещанием — просто заместитель командира полка Л. М. Субботин должен был объявить боевой приказ: перед решительным наступлением двумя ротами овладеть сначала стоящей на пути к высоте 157,5 возвышенностью, а затем с ходу захватить саму высоту.
Через пять минут командиры разошлись по своим подразделениям. Ко мне подошли Нина Онилова и Катя Коваль. Нина, съежившись от утренней прохлады и пряча в варежку вздернутый красный носик, посматривала настороженно по сторонам. Катя, молодая, стройная, общительная, независимо стояла рядом.
— Холодно, товарищ комиссар, — сказала она, потирая ладони.
— Чайку бы горячего сейчас...
— А я бы около печки погрелась, — шутливо добавила Нина. — Мы плохо спали в этих сырых и вонючих фрицевских блиндажах…
— Товарищ комиссар, сегодня, наверное, будет жарко? — неожиданно спросила Катя и добавила: — Мы что–то далеко залезли к фрицам.
Я вынужден был предупредить их о том, что день будет действительно тяжелым, что гитлеровцы должны быть сброшены с важной высоты, которая, очевидно, достанется нам дорогой ценой.
Я посмотрел на часы — нужно было торопиться.
— Товарищ комиссар! Алексей Ефремович! — неожиданно по–граждански, дрожащим голосом проговорила Коваль. — После этого увидимся ли еще… Давайте попрощаемся…
Сцена «прощания» со стороны показалась бы сентиментальной, может быть, вызвала бы и осуждение кого–то. Но через сутки стало ясно, что прощание наше было не напрасным…
Холм, с которого гитлеровцы вели ожесточенный пулеметно–автоматный огонь, ни с какой стороны обойти невозможно. Наши бойцы, пользуясь прошлогодней высокой травой, ползли, ведя огонь по высоте и блиндажам немцев.
Н. Н. Свободный
Ф. А. Мороз
Я оказался у пулеметчиков, братьев Пшонкиных, моих земляков. В этот момент второй номер качнул головой и свалился навзничь. Из шеи пулеметчика фонтаном била кровь, Мне пришлось взяться за ленту с патронами и помогать первому номеру. Через минуту и он вскрикнул:
— Ой, плечо! — и упал.
Свистели пули.
— Гранаты! — закричал я, вскакивая на ноги.
Цепь бойцов поднялась и ринулась вперед, бросая гранаты, на ходу стреляя из автоматов и винтовок. Холм был занят с одного броска. Вокруг блиндажа и в окопчиках лежали убитые гитлеровцы. Один из них, повиснув на щитке пулемета, большими голубыми глазами с длинными рыжими ресницами глядел в небо. Из блиндажа упорно продолжали отстреливаться. Туда полетело несколько гранат. Все стихло.
Вокруг меня собрались командиры рот, политруки, командир минометной батареи капитан Нянько, старший лейтенант Попович, начальник штаба первого батальона. Но я не видел командиров батальонов.
Уже стало совсем светло, кое–где между гор еще держались сизые дымки. Высота 157,5, от подножия и до вершины одетая густым черным лесом, кажется неприступной. Подобраться к ней можно лишь через заросшую крупным кустарником балку. «Взять ее нужно с ходу, на одном дыхании, — думал я. — Но выше нас сидят с пулеметами и автоматами фашисты. И они понимают, что их позиция неуязвима…»
Кругом незнакомые горы, лес. Зона, несколько месяцев назад занятая врагом, нами еще не освоена. Сейчас мы ориентируемся только по карте.
Н. Н. Свободный, бросив окурок сигареты, посмотрел на В. И. Соляника:
— Что, Вася, смотришь на высоту? Думаешь одним махом оседлать?
— Одним рывком, Коля, — спокойно отвечает Соляник. — Видишь, какая она круглая, отдаленная от остальных гор, поэтому ее и выбрали для нас, как булочку. Колючая, как еж, не подступи, — как будто сам про себя рассуждал лейтенант. — А фрицам придется карабкаться вверх, вот тут–то мы их и того…
Я видел: бойцы передохнули, накурились, возбужденные первым успехом, оживленно шутили, как будто не замечая, что впереди их ждет самое трудное.
Это были минуты, когда душевный порыв бойцов еще не угас. Какой–то внутренний толчок, может быть как старшего по должности, заставил меня взять у Николая Мохова полуавтомат и тут же подать команду:
— Подготовиться к атаке! За мной, вперед, за Родину!
В траншеи ворвались по всей линии окопов. Гитлеровцы бежали, отстреливаясь, а тех, кто не успел уйти и пытался сопротивляться, уничтожали на месте. Как–то сразу роты и взводы заняли боевые участки.
Пройдя по линии захваченной нами обороны, следовавший со мной капитан Нянько заметил:
— Странные у фашистов окопы: до того мелкие, что и головы некуда спрятать, неужели лень лопатой поработать? Или понимают, что не вечно им тут сидеть.
Мы вошли в один из офицерских блиндажей. Укрытием в нем служил большой слой новых шинелей нашей морской пехоты.
— Сволочи, расстреливали моряков, а шинели использовали вместо бревен! — возмутился капитан.
Я приказал телефонисту связаться со штабом, хотел доложить о том, что полк выполнил боевое задание командования дивизии — высота 157,5 занята, роты закрепляют боевые позиции.
— Связь прервана, товарищ комиссар, — доложил телефонист.
Послал связистов для исправления линии. Прошло полчаса — связисты не возвращались, телефон не работал.
«Связистов могли перехватить гитлеровцы, — думал я. — Время идет».
Послал еще двух связистов с наказом во что бы то ни стало прорваться к КП полка. Но и после этого связь не восстановилась.
Между тем противник, придя в себя, начал обстреливать минами нашу площадку. Открыли огонь и автоматчики, приближаясь между деревьев к нашим окопам. Минометный огонь уплотнился, появились раненые.
— Видимо, фрицы нас окружают, — снова появился в блиндаже Нянько. — Они отрезали нам отход. Смотрите, поблескивают каски.
Взводный Бурнашев прислал донесение о том, что политрук роты убит, командир ранен. Иду в роты. Окопы мелкие и узкие, труднопроходимые, пули дзинькают со всех сторон. Лежит с окровавленной головой политрук. Здесь же среди бойцов находится комроты Свободный. На голове окровавленная повязка.
— Виноват, товарищ комиссар, — подскочил Свободный.
— В чем же ты виноват? Отправишься в тыл или останешься в роте? — спрашиваю его.
— Нет, нет! Я останусь… Патронов мало, вышел из строя «максим», — докладывает он.
Вижу настороженные беспокойные взгляды бойцов, пытаюсь подбодрить словами, успокоить тем, что скоро принесут патроны, подойдет заградотряд дивизии, что по соседству 31‑й полк… А в голове таятся тревожные мысли: где же, в самом деле, 31‑й полк? Неужели оторвался? Прошло достаточно времени, чтобы в штабе полка забеспокоились. А связи нет, нет и боеприпасов.
Устраиваюсь в одном из окопов. Вдруг около меня падает взводный Алиев.
— Помогите! — просит он.
Шинель распахнута. Я вижу большую рану на его груди, разрываю бинт, прикладываю вату, беру новый пакет, и все моментально утопает в крови. Зову санитаров и слышу:
— Товарищ комиссар, командир роты приказал доложить, что в роте нет патронов, просит помочь, выходят из строя винтовки.
Сам вижу, как растет число раненых. Бой уже перешел на вторую половину дня, но из тыла никаких вестей. Беспокоит мысль и о том, что, если не будет оказана помощь, две роты погибнут. Высоту, занятую с таким риском и жертвами, оставлять нельзя. Фашисты понимают наше положение и пойдут на штурм. Зачем же тогда огород городить? Что об этом думают в штабе дивизии, что предпринимает штаб полка, зная, в каком критическом положении оказались люди, честно выполнившие свой долг?
Огонь противника не прекращается. Иду снова по траншеям. Некоторые бойцы сидят, не стреляют, на мой вопрос: «Почему?» — отвечают: «Нет патронов…» Тревога охватила не только бойцов, но и командиров. Но по тому, как светятся надеждой их глаза, я чувствую, что они верят мне, знают, что патроны скоро будут доставлены.
Подбежал Нянько.
— На батарее кончились боеприпасы, — говорит он, тяжело дыша. — Мы уже обложены плотным вражеским кольцом.
Нянько — кадровый офицер, не раз бывал в боях. Рассудительный, исполнительный, на него можно положиться в любой обстановке. Но тут я подумал о лейтенантах В. И. Солянике и Н. Н. Свободном. Они одновременно прибыли в полк из Тбилисского военного училища, одногодки, веселые сильные парни. Соляник — румяный брюнет с пухлыми губами и детским выражением глаз. Он только начал учиться в художественном техникуме, и вот… Свободный рассказывал однажды, как его отец в 1917 году получил фамилию Свободный. Среднего роста, крепкий, рассудительный, он перед войной пытался поступить на юридический факультет в Ленинграде. Часто по–товарищески подтрунивал над Соляником, задавая один и тот же вопрос: большой ли город Кривой Рог?
День уходит к закату. Принял решение: спасать оставшихся бойцов. Созвал командиров и приказал: забрать раненых, роты отвести на кряж высоты.
На поляне, разместившейся на самом гребне высоты, все выстроились. Было видно: ряды поредели, не видно многих младших командиров. Закралось сомнение — всех ли вывели, все ли знали об отходе? Скомандовал: «За мной!» Бойцы снова бросились к окопам. Гитлеровцы уже заняли свои старые позиции и броска не ждали.
С разбега я не заметил вражеского автоматчика. Как назло, моя полуавтоматическая винтовка дала осечку. В это мгновение в глаза полыхнуло пламя. И вдруг между этой горячей трассой свинца и мной встал П. Г. Беда, мой земляк. Почти падая, он успел выстрелить в фашиста. Я почувствовал боль в плече…
— Зачем вы… — крикнул Беда, тяжело опускаясь на сухой и колкий валежник.
…Он лежал на спине, скрестив руки на груди, и трудно было определить: мертв ли, жив ли — лицо его улыбалось, как всегда, только в полуоткрытых глазах отражались облачные блики севастопольского неба. Я наклонился, потрогал холодеющие руки, они быстро покрывались желтизной. «Вот и кончились улыбки, шутки, доброта моего земляка. Погиб второй председатель сельсовета, привезенный мной к Севастополю. Упал, сраженный пулей, предназначавшейся мне». Тяжело было уходить, даже не предав земле погибшего бойца.
Собрали оставшихся раненых. Снова построились.
Надвигались вечерние сумерки. Надо вырываться из окружения через тылы фашистов, там, где они нас не ожидают.
Когда была подана команда к походу, в конце колонны вдруг раздался выстрел:
— В чем дело?
На склоне площадки лежал солдат. Ко мне подошел боец пятой роты Али Мамедов, бывший нефтяник из Баку.
— Я убил, товарищ комиссар, — сказал Али.
— За что?
— Он предатель, товарищ комиссар. Я давно за ним следил… Он бросил винтовку, противогаз и шапку и сказал: «Я не пойду, я останусь здесь!» И хотел бежать…
Спокойно выслушав Мамедова, я посмотрел на лежащий в стороне винтовку, противогаз и шапку убитого.
— Как его фамилия?
— У собаки нет фамилии, товарищ комиссар.
— Правильно, что Мамедов предателя застрелил, — отозвались несколько голосов.
…По пути уничтожили вражескую линию связи, нарвались на тыловое хозяйство неприятеля, дважды наталкивались на дзоты и, забросав их гранатами, шли дальше. И только когда в лесу наступила темь, по частой стрельбе поняли, что линия вражеской обороны где–то близко.
Возник план: неожиданно наброситься на врага с тыла, ошеломить его и вырваться из окружения.
Это решение было принято, когда мы стояли у края полянки, которую еще предстояло преодолеть. Вдруг раздался выстрел и выкрик: «Хальт!»
Наше местопребывание было обнаружено.
— Вперед! — крикнул изо всех сил и бросился через поляну. Почти на ее середине мои кирзовые сапоги запутались в какой–то проволоке и сейчас же кругом взорвались десятки вспышек. «Минное поле», — догадался я и закричал:
— Спасайте людей! — Ив этот миг какая–то сила бросила меня в сторону. Очнулся, когда прекратились взрывы мин, но из–за деревьев еще метались трассирующие разноцветные иглы, рядом доносился чей–то тяжелый стон. По груди и спине текло что–то теплое и липкое.
— Бурнашев, — кричу лежащему рядом комвзводу, — забросайте гранатами дзот!
— Гранат нет…
В карманах моей стеганки две гранаты Ф-1. Слабеющей рукой передаю их Бурнашеву. Раздается взрыв, и дзот замолкает.
Нас. преследуют фашисты. Взорвали еще один дзот. Люди устали. Во время одной из передышек под раскидистой кроной алычи я лег на живот и буквально под носом увидел мину.
— Товарищи, мины! — предупредил бойцов.
Соляник занялся исследованием поляны и нашел еще несколько хорошо замаскированных мин. Осмотрев их, он понял, что мины наши, советские. «Значит, мы на нейтральной полосе, вблизи своей передовой, — догадался я. — Надо быстрее выводить раненых, связаться с передовой, с боевым охранением полка».
Чувствую, как на теле стынет белье, пропитанное кровью, по спине и ногам пробегает неудержимая дрожь. Опускаюсь на колени, цепляясь за ствол дерева. Душит жажда…
МЕДСАНБАТ
…Белые, когда–то стесанные пилой стены и потолок не удивили меня. Я знал до этого, что медсанбат нашей дивизии размещается в штольнях Инкерманских каменоломен. Не вызвала удивления и палата, в которой лежали раненые. Многие из них стонали, просили пить, кого–то звали.
Бинты лежали у меня на плече, на правой руке, на пояснице, был забинтован правый глаз. Удивился, как же этих ран не почувствовал там, в минуты прорыва.
Хотелось узнать, что же было после того, как я потерял сознание, но на эти мои вопросы некому было отвечать. И тут я вспомнил, как утром, когда санитары укладывали меня на носилки, кто–то сказал:
— Да он жив, смотри! Ну–ка плесни водой…
От студеной воды, вылитой на голову, пришел в себя.
— Товарищ комиссар, мы за вами пришли.
— А где я нахожусь? — оглядев в полумраке землянку, спросил я.
— Это блиндаж комбата–один. Вас, говорят, принесли сюда мертвым, — словоохотливо сообщил один из санитаров. — А фрицы следом за нами шли, полк потеснили, потому вас здесь и оставили… Так что немцы вас тоже, видимо, за мертвого приняли.
«Ну и ну, — подумал я. — Вот так, не чувствуя смерти, можно умереть».
— Где остальные, — обратился я к санитарам, — вывели ли их из леса?
— Все в порядке, товарищ комиссар… Раненых отправили в медсанбат, — последовал успокаивающий ответ.
Вскоре машина доставила меня в медсанбат. Сразу же попал в «разделочную», как у нас говорили раненые.
Мне почему–то не хотелось расставаться с ватным бушлатом, срезанным с плеч.
Пожилая, с приятным лицом санитарка смотрела на меня и качала головой:
— Не печальтесь — получите новый. Главное, что вы живы остались, а мы вас подлечим.
За соседним столом над обнаженным маленьким человечком старательно трудилась целая группа врачей. Мне показалось, что это был подросток, лица его я не видел. Был лишь виден рассеченный бок и как в него то и дело ныряли медицинские инструменты. Больной молчал.
— Кто это? — спросил я медсестру.
— Онилова Нина, пулеметчица…
Только теперь я заметил на ее плечах темные короткие косички. Вспомнились слова, сказанные еще вчера утром: «Я бы сейчас у печки погрелась!»
Когда меня с коляски перенесли на кровать, я поинтересовался, есть ли в палате, кроме Ониловой, мои однополчане. Оказалось, в противоположном углу лежал Субботин с ранением в шею.
Он сообщил:
— Знаешь, Онилова в тяжелом состоянии: раздроблены почки… Выдержит ли?
— А Катя Коваль где? Что с ней? — спросил я.
Петр Михайлович вздохнул.
— Когда отходили, была жива…
Прошла неделя моего пребывания в медсанбате. Я освоился с новым своим положением, перезнакомился с соседями по палате. Новости с фронта поступали редко, я с нетерпением читал газеты — это было моим единственным, занятием. Однажды из полка почтальон принес письма. Из них выяснилось, что дома о моем ранении еще ничего не знали. Одно письмо–треугольник, но не от моих домашних, встревожило меня не менее, чем события на передовой. Письмо было от десятилетней дочки Беды. Она писала: «Дядя комиссар Рындин! Мой папа с вами выехал на фронт, но он почему–то долго на мои письма не отвечает…»
Меня охватило удушье, глаза заволокло слезой, строчки прыгали и расплывались. «Бабушка совсем старенькая, — продолжал я читать детские каракули, — я осталась одна… Дядя комиссар, напишите мне, скоро ли приедет мой папа?»
7 марта по палатам медсанбата пронесся слух: «Командующий армией товарищ Петров в штольне…» В нашей офицерской палате в воздухе плавал табачный дым. Шутили: генерал пройдет и никого не заметит. Но было не до шуток: медперсонал бегал по палатам как угорелый, заправлялись кровати, собирались бумажки, везде наводился порядок.
Генерал появился неожиданно, из глубины штольни. За ним следовала, кроме врачей, группа офицеров. Среди них я узнал заместителя начальника политотдела дивизии старшего батальонного комиссара С. Н. Вашука.
Командующий остановился у первой стоявшей у двери кровати П. М. Субботина. Говорил с Петром Михайловичем минуты три, потом прошел дальше. На середине палаты его остановил Вашук. Увидев меня, он что–то сказал генералу, и после этого все подошли ко мне, Иван Ефимович взялся руками за спинку кровати, я увидел, как внимательно через пенсне он рассматривал меня.
— Так сколько уже дней лежишь, Рындин?
— Седьмые сутки, товарищ командующий, — ответил я.
Я видел, как у командующего подергивается правая щека. Об этом его физическом недостатке знал почти каждый боец армии, все знали также, что Петров участвовал в первой империалистической войне, затем в гражданской, был контужен, несколько раз ранен.
— Значит, взяли высоту 157,5? — снова спросил генерал.
— И отдали, товарищ командующий, — ответил я без всякого энтузиазма.
— И отдали? Г–м–м. Это тебе не гражданская война! — Иван Ефимович быстро повернулся и направился к выходу.
Через некоторое время в палате появилась медсестра, остановилась на середине палаты и объявила:
— Генерал был у Ониловой. Сказал: «Ты героиня наша, по тебе равняются бойцы армии… Держись, дочка!» Наклонился и поцеловал ее. А Нина плачет, — медсестра умолкла, молчали и все находящиеся в палате.
Вечером по медсанбату как молния разнеслась весть: Нина Онилова скончалась.
Хоронили нашу героиню на следующий день—8 марта, со всеми воинскими почестями на кладбище Коммунаров. Никто из нас тогда не мог знать, что через двадцать лет эта отважная защитница Севастополя будет посмертно удостоена звания Героя Советского Союза и на ее могиле появится монумент, на котором в лучах солнца будут сиять слова: «Герою Советского Союза Нине Ониловой».
ЗОЛОТАЯ БАЛКА
Был конец мая 1942 года. Вокруг бушевала весна: все тянулось к жизни. Настроение выздоравливающих было единым — скорее оторваться от лечебных процедур и перевязок, вернуться в действующую армию. Я часто заходил в отдел кадров армии, располагавшийся по соседству с Карантинной бухтой, просил отправить меня в родной полк. В один из таких визитов майор–кадровик ответил кому–то в трубку телефона:
— Рындин здесь.
Затем он сказал мне:
— Посидите минутку.
Поняв, что меня ждет какая–то неожиданность, я молча смотрел на плакат, изображающий бойца с большим красным штыком.
В комнату стремительно вошел высокий, плечистый человек, в его петлицах красовались три прямоугольника.
— Вот тебе Рындин, — сообщил ему кадровик.
— Алексей Ефремович, дорогой! — Я не успел прийти в себя, как незнакомец схватил меня в объятия.
Я продолжал оставаться в крайнем недоумении.
— Идем сядем к столу, — потянул меня незнакомец в другой угол комнаты.
Я смотрел в его наполненные радостью голубые глаза, на вспотевшую светлую прическу и наконец не выдержал:
— Позвольте, я вас первый раз вижу и не знаю, кто вы?
— Правильно. Ты меня не видел, но я тебя знаю, А я—Митогуз Кузьма Тихонович, — и захохотал, — Сейчас все узнаешь…
И он начал рассказывать, как в 1920 году в моей родной станице стоял полк 34‑й дивизии, а Митогуз тогда был политруком роты.
— Я три месяца жил на квартире твоего отца, — пояснил он и назвал по имени и отчеству моих родителей, сестру и брата. — Какие хорошие люди! А тебя я видел только на фото. Помню, станичники рассказывали, как ты, будучи первым председателем ревкома, устанавливал вместе с фронтовиками Советскую власть, сражался с кулаками и прочей белогвардейской сволочью. .
— Все верно, — подтвердил я, немало удивленный и этой встречей, и его благодарной памятью. Мелькнула мысль: «Неужели, чтобы только пожать мне руку и вспомнить прошлое, этот человек искал меня?». Между тем неугомонный Митогуз продолжал:
— Теперь вот что. Во–первых, я — начальник политотдела 388‑й дивизии… Во–вторых, у нас в штабе служит офицером связи» кто бы ты думал? — загадочно улыбнулся он.
Я двинул плечами.
— Павлик Букреев! Он тебя ждет…
Назвав эту фамилию, Митогуз предполагал, что от этого сообщения, я свалюсь со стула. Я действительна был поражен этой новостью и не мог удержаться от улыбки. Встретить где–то вдали от родного дома, на фронте, старого школьного приятеля, товарища по подполью, бойца красногвардейского отряда! Это было удивительно!
— Едем к нам, вместе будем воевать! — решительна предложил Митогуз. — Майор, выписывай направление Рындину, — наступал он на кадровика.
Я начал возражать. Говорил о том, что хочу вернуться в родной полк, в котором получил первое боевое крещение и был ранен, что это один из полков легендарной Чапаевской дивизии.
Но кадровик стал на сторону моего «противника», и я сдался. Через несколько минут в «газике» Митогуза мы мчались в сторону Херсонесского мыса. «Чапаевцы будут на меня в обиде, скажут, что изменил им», — думал в дороге.
Остановились в Юхариной балке.
— Здесь наше хозяйство, — сказал Митогуз, спрыгивая с машины.
Вошли в штольню, и я увидел Букреева. Мы долго молча обнимались. Я смотрел на Букреева — невысокого, худощавого, с морщинками на лице и растерянной улыбкой уже лысеющего человека — и сравнивал его с тем Павликом, который навсегда остался в моей памяти: подвижный, решительный, никогда ни в чем не уступающий.
— Ну, а теперь о службе, — проговорил Митогуз. — Ты, Алексей Ефремович, назначаешься инструктором политотдела. Теперь перейдем к делам неотложным…
Начался разговор о подготовке частей дивизии к новым боям.
Утром 21 июня 1942 года фашисты обрушили всю огневую мощь на Севастополь. В небе стаями кружили самолеты с черными крестами. В этот день противник сбросил на город свыше 2600 бомб. В разных его местах поднимались оранжевые языки пламени и столбы дыма, вздрагивала земля, с треском раскалывался воз–щух. Уже было разрушено более 60 процентов домов[2]. Над старой черноморской крепостью стоял черный, густой дым. По извилистым траншеям передовой от Балаклавы и до Черной речки беспрерывно клокотала пулеметно–автоматная стрельба. Над этой огневой линией колыхалось знойное марево дня. Воздух пропитан удушливыми газами, бойцы в окопах и траншеях изнывали от жажды. Шла третья неделя ожесточенных боев на Севастопольском плацдарме.
За беспрерывные попытки ворваться в город противник расплачивался неисчислимыми потерями. Несли значительные потери и мы. 773‑й стрелковый полк, к которому в период оборонительных боев я был прикреплен, отражая яростные атаки врага, потерял почти две трети своего состава. Казалось, мы сделали все возможное, чтобы сдержать огневой шквал, но люди один за другим выходили из строя. Иногда возникала мысль: все кончено. Пальцы, онемевшие от напряжения и усталости, уже были не в силах нажать на спусковой крючок автомата. Жажда вызывала удушье. Но снова и снова какая–то неведомая сила, ярость, вера в победу поднимали нас в атаку, и мы бросались на брустверы окопов, стреляли на ходу, кололи штыками. Гитлеровцы откатывались, и на короткое время наступало затишье.
В такие минуты в разговор вступал мой связной, не то с укоризной, не то с отчаянием он повторял:
— А наши молчат, очень уж долго молчат…
Действительно, не было слышно яростного, неумолчного ответа наших батарей, скорострельного говора зенитных орудий. В чем дело? Ответ мог быть только один: мало снарядов, очень мало, подвезти новые позавчера было трудно, вчера еще труднее, а сегодня, наверное, невозможно. А фашистские стервятники безнаказанно пикируют на наши окопы, кружат над самой землей.
— Ничего, не раскисай, и не то видели, — пытался я подбодрить своего боевого помощника. Но, очевидно в моих словах не было той прежней уверенности, мой голос звучал неестественно бодро, потому что мои спутник ответил так, будто не ему, а мНе больше всего в эту минуту были нужны утешительные слова:
— Тяжело, да ничего, выдюжим… Восемь месяцев Гитлер обламывает зубы о камни нашего Севастополя!
…Ночью мы оставили село Кадыковка. Собственно,, селом ее уже нельзя было назвать. Кадыковка превратилась в сплошные руины. Всюду груды битого кирпича, обожженной^ штукатурки, труха из глинобитных стен, изуродованные перекрытия домов. Не уцелело ни одного здания. Не сохранилось признаков, по которым можно было бы определить, где прежде стояли школа, клуб, дом. И тем не менее изо дня в день еще до восхода солнца десятки «юнкерсов» с остервенением набрасывались на жалкие руины Кадыковки, в которых затаились оборонявшиеся бойцы.
Нам было понятно, почему гитлеровцы избрали именно Кадыковку для такого ожесточенного обстрела. Дело в том, что это село является последним подступом к Сапун–горе. А Сапун–гора это не что иное, как один из возможных подходов к городу. Стоит противнику прорваться через село и выйти на плато Сапун–горы, как откроется прямая дорога на Севастополь.
Наш полк покинул Кадыковку и занял новую позицию по склону Сапун–горы. Здесь еще осенью было прорыто несколько рядов зигзагообразных траншей. В рост человека, даже с «лисьими норами», они тянулись до Инкермана. А выше их скалистыми выступами сереют железобетонные доты. На широком и гладко^ плато маскируются капониры нашей дивизионной артиллерии. С того времени, как гитлеровцы овладели Качей, Мекензиевыми Горами и Балаклавскими высотами, с которых хорошо просматривается Сапун–гора, они ежедневно обстреливают ее. Сотни тяжелых снарядов кромсают землю, не оставляя на ней ничего живого. Глубокие воронки, обгоревшие, изуродованные деревья обезобразили все вокруг. На склонах совершенно не видно растительности, только сплошная серая с красным отливом вздыбленная земля...
И все же в этой обстановке разрушения, потерь, отступления тревога и паника не взяли власть над волей севастопольцев. В каждом из них царил дух непоколебимой веры в победу. Возможно, особую уверенность придало всем участникам обороны проведенное неделю тому назад командующим Приморской армией И. Е. Петровым совещание в Юхариной балке. Клубное помещение на втором этаже было заполнено командным составом до отказа. На сцене за большим столом стоял И. Е. Петров в летней гимнастерке со звездами генерал–майора в петлицах. Рядом с командующим — члены Военного совета армии бригадный комиссар М. Г. Кузнецов и дивизионный комйссар И. Ф. Чухнов.
Когда в зале наступила тишина, Иван Ефимович, притронувшись к своим светлым редким усаМ, заговорил:
— Товарищи! С тех пор как нашими войсками был оставлен город Керчь, противник всю свою технику, все войска южной группировки перебросил под Севастополь… Манштейн намеревается на этом участке Крымского фронта добиться решительного перевеса, сломить нашу оборону…
Зал словно пустой, ни звука, только слышен неторопливый голос командующего. Потряхивая головой и изредка трогая усы, он продолжал:
— Нам нужны стойкость и вера в победу… Если каждый из нас уничтожит по одному фашисту — противник сразу потеряет сто тысяч человек…
При этих словах командующего зал как бы вздохнул, по рядам прошелестел шепот. Многие поняли, что на сегодня Севастопольский гарнизон имеет под ружьем сто тысяч человек. И этому «раскрытию» военной тайны никто не удивился. Командующий понимал, что пришло время сообщить об этом открыто[3].
— Поэтому я прошу вас, — говорил генерал Петров, — поднять боевой дух в войсках, призвать командиров и бойцов к решительной защите прекрасного города, славы российской — Севастополя… Партия, народ, Советская власть надеются на нас, верят нам. Передайте мой привет, пожелание боевого успеха бойцам и командирам первого сектора!
В зале грохнули аплодисменты, но командующий дал слово еще двум–трем старшинам и сержантам–боевикам, а когда они сошли с трибуны, посмотрел на свои карманные часы и сказал:
— Товарищи, прошу немедленно разъехаться по своим местам.
С каким–то особенным настроем, взволнованные и одухотворенные, возвращались в свои части командиры и политработники. Многие тепло и сердечно говорили об И. Е. Петрове. Будучи мобилизованным в первую империалистическую войну из бедняцкого учительства и став затем офицером, он в 1918 году без колебания добровольно вступил в Красную Армию, был принят в большевистскую партию. В Приморской армии все знали о его общительном характере, искренней любви к солдату, знании военного дела.
…Минут через двадцать я возвратился в Юхарину балку, чтобы ехать в одно из подразделений. Двухэтажное здание, в котором мы только что слушали командующего, лежало в дымящихся развалинах. От глубоких бомбовых воронок на десятки метров расходились щели, местами они пересекали балку. Дорога была завалена выброшенной землей и камнями. Мы вынуждены были остановить машину.
— Вот гады, когда же они успели? — возмущался водитель машины. — Значит, засекли. Задержись мы на пять–десять минут и нам был бы каюк.
«Мне хватит и того, что уже пришлось вынести», — мелькнула мысль. Еще неделю тому назад меня вызвали в штаб дивизии. В блиндаже командира 388‑й стрелковой дивизии полковника Н. А. Шварева находились начальник штаба, комиссар и старый мой знакомый — командир 91‑го запасного полка майор Проценюк.
— Товарищ Рындин, — заговорил полковник, — вот к нам прибь'л уполномоченный штаба армии, — он кивнул в сторону Проценюка. — Сейчас на участке 778‑го стрелкового полка, у Планидина, создалось тревожное положение.
Он посмотрел на комиссара дивизии и начальника штаба, пальцем почесал лоб, как бы размышляя, продолжал:
— В общем, проведете туда уполномоченного, посмотрите, как там дела, а в случае чего — помогите Планидину.
До КП полка мы не дошли. На участке второго батальона заметили три немецких танка. Используя лощинное место, они двигались на ближайшие окопы, где находились мы с Проценюком. Из окопов выглядывали бойцы.
— Рота, приготовить гранаты, — закричал Проценюк. Обратившись ко мне, приказал:
— Принимай командование в соседней роте.
Мне подумалось, что возникшая ситуация была самой обыкновенной. Приняв на себя командование батальоном, мы захватили бутылки с горючей смесью и в общей массе бойцов бросились на фланги, к танкам. Казалось, бойцы не замечали, что из танков выплескиваются пулеметные очереди. Первая машина оказалась в кольце наших бойцов. На ней запрыгали огоньки, и вскоре пламя охватило вега машину. Остальные танки, следовавшие сзади, развернулись и на большой скорости устремились за пригорок.
Экипаж одного из вражеских танков был взят в плеч.
— Ну как? — со спадающим возбуждением спросил я Проценюка.
— Да вот так, из огня да в полымя, — смеясь заметил он. — Идем искать командование батальона, а затем — полка.
Это случилось примерно в 11 часов утра. А вечером на этом участке фашисты дважды бросались в атаку, но каждый раз были отбиты. Я вспомнил слова комдива: правильно он оценил обстановку на участке 778‑го полка.
Когда стемнело, гитлеровцы пошли в третье наступление, сопровождая его артогнем. Блиндаж А. И. Планидина был за каменной стеной разрушенного сарая, как бы за двойным прикрытием. Передний край обороны в результате беспрерывных боев уже приблизился к КП полка почти вплотную.
Батальонный комиссар А. К. Хаенко и майор Н. И. Проценюк, понимая создавшееся положение, пошли в окопы к бойцам. Мы с Планидиным обменялись мнениями в его блиндаже. Говорить было трудно, так как пулеметная стрельба раздавалась совсем рядом, казалось за дверью нашего блиндажа. Вдруг грохнул сильный взрыв, земля задрожала, стена блиндажа со стороны огневой линии пошатнулась и поползла на нас. Мы прижались к противоположной стороне. Лампа погасла.
— Товарищ подполковник, телефон не работает, — отозвался из передней связист.
Мы бросились к выходу, но он был закрыт сдвинувшейся стеной.
— И надо же такому случиться, — с досадой проговорил Планидин.
Тем временем с внешней стороны автоматная стрельба и топот бегущих людей раздавались все ближе и ближе.
— Наверное, оставили окопы, отходят… — послышался голос в темноте.
Мы шарили по полу, пытаясь найти хоть какой–нибудь инструмент, но увы! Попасть в лапы фашистов в зава–ленном блиндаже, что может быть хуже. Но вот там, где должен был находиться вход в блиндаж, послышалось звяканье кирок, лопат.
Мы выбрались из завала, когда последние бойцы отходили, оставляя окопы. У блиндажа, ожидая нашего выхода, стоял Хаенко.
Не везло мне с посещением этого полка. Однажды со старшим лейтенантом Н. Порохней мы возглавили группу бойцов, которая ночью на участке пересечения дорог Балаклава–Камары должна была сменить другое подразделение. И вот мы с Порохней первыми спрыгнули в окопы, не зная того, что они уже заняты немцами… Спасли нас неожиданность, с которой мы появились перед фашистами, ночная мгла и самообладание…
Саша Чумакова, наша медсестра, тоненькая, стройная девушка, которую все у нас называли Березкой, привезла меня с ранеными в «ловушку» — медсанбат 388‑й стрелковой дивизии. Девушка успокаивала меня:
— Легко отделались: нога изуродована, но перелома, видимо, нет.
Пока Саша помогала раненым спуститься по «чертовой лестнице» — крутой каменистой тропе — в медсанбат, я лежал на земле, молча осматриваясь по сторонам. Под ногами выжженный, словно шкура верблюда, берег, а под обрывом на уступах скалы дикие кустарники, карагач, дуб, дальше — остатки заброшенного сада, Окруженный тополями, стоит, прижавшись к скале, молодой кипарис. Здесь и расположился медсанбат. Ветерок доносит терпкий запах йода и эфира. Слышатся стоны.
О нашей медсестре мы знали почти все. Студентка последнего курса мединститута, она пришла в Чапаевскую дивизию добровольно, участвовала в обороне Одессы, за отвагу и мужество, проявленные в боях за Севастополь, награждена орденом Красной Звезды. После первого ранения ее пытались перевести в медсанбат, но она категорически отказалась, осталась на передовой. И вот теперь я второй раз не без участия Березки попадаю под опеку медиков.
Я лежу на плащ–палатке под небольшим дубком. Сквозь листву просвечивается пылающее зарево востока. Над головой отвесные скалы, в их расщелинах сизоватой дымкой клубятся клочья тумана. На безбрежной глади моря пустынно, ни суденышка. Небо чистое, голубое, бездонное. От воды тянет прохладой. Но вот солнце зарумянило обрывистый берег. Над скалами, вспугнув тишину, появились крикливые чайки. За кустами у кухни загромыхали ведрами, кто–то надрывно кашлял, кто–то тяжело стонал. Откуда–то из–за скалы донеслось прерывистое гудение, и через минуту со стороны города раздались глухие, сотрясающие землю разрывы.
— Начался денек, разрази его! — послышалось из–за куста.
— Значит, пять часов… Фрицы пунктуальны.
В медсанбате лежало несколько сот раненых и больных. Большинство размещалось под открытым небом, на вытоптанной и пожелтевшей от зноя траве. Ходячие бродили с места на место, прятались от солнцепека в тени дубков и карагачей, ветками отбивались от назойливых мух, без конца пили воду и мечтали, как бы скорее вырваться из этой «ловушки».
Ночью здесь гуляет холодный ветер, днем подстерегает опасность в любую минуту быть накрытым вражеским снарядом. Вряд ли противник знал, какая часть расположена под скалой, но немцы методически обстреливали из орудий этот участок нашего тыла. Снаряды падали вокруг «ловушки», и каждый взрыв вырывал из наших рядов Есе новые и новые жертвы. Расположение этого медсанбата отличалось от передовой только тем, что нас пока не забрасывали минами и не обстреливали из автоматов.
Вечером в «ловушку» пришли начальник политотдела и начальник санитарной службы дивизии.
— Здорово, Рындин, — Митогуз осторожно притронулся к моему локтю и уселся рядом на траве, прикрывая ладонью светлячок папиросы, — как живешь–можешь, на обе ноги подкованный воин?
— Только на одну, — ответил я.
Подошел главный врач медсанбата. Его спросили:
— Ну, как вы лечите нашего комиссара?
— Лечим… Только вышел из госпиталя и снова. Руку лечить будем после войны, а нога, думаем, здесь поправится, правда, контузия…
— Вот что, — перешел на официальный тон мой старый приятель, — мы с начальником санитарной службы решили: поскольку в медсанбате нет комиссара, им будешь ты.
Это решение меня обидело.
— В такие напряженные дни я буду здесь отсиживаться?
— Вот именно, в такие напряженные, — возразил начальник политотдела, — и о раненых нужно думать не меньше, чем о здоровых. Да и спорить на эту тему излишне. Это согласовано с командованием дивизии.
Кузьма Тихонович и врачи ушли. Мысли мои были тревожными. Сообщение начальника политотдела заставило передумать о многом.
МЫС ХЕРСОНЕС
30 июня наш медсанбат перестал быть тылом. Четко доносилась стрельба из автоматов, и над нами начали взрываться мины. Прибывающие раненые сообщали, что отдельные части с боями отходят к Максимовой даче и далее к хутору Дергачи. Вечером был оставлен Георгиевский монастырь, взорвана 18‑я береговая батарея, в километре от нас горели склады 35‑й.
Неожиданно в медсанбате появился инструктор политотдела, молодой, с смугловатым лицом батальонный комиссар. Он отозвал меня в сторону и сказал:
— Я с устным приказом начальника политотдела. Тебе надлежит сейчас же прибыть в Казачью бухту для звакуации на Большую землю. Подводная лодка уже загружается…
Значительно позже я узнал, что с разрешения Верховного командования тогда началась эвакуация основных средств обороны Севастополя и людей на Большую землю.
Инструктор ждал ответа. Видя мое колебание, он настойчиво добавил:
— Времени мало, торопись…
Где–то наверху, за скалами, трещали автоматы. Я молча кивнул головой, но ответил:
— Доложите начальнику, что без письменного приказания раненых не оставлю.
— В такой обстановке не до письменных приказов… Если надумаешь — ищи подводную лодку Щ-209.
Ночью ко мне пришли главврач и начсандив. Они рассказали о сложившейся обстановке: фашисты занимают город. Что делать? Посоветовавшись, решили: ввиду отхода наших частей и непосредственной близости противника передислоцировать медсанбат в район при–чала 35‑й батареи. Это было решено вовремя. Действительно, в момент подачи машин для погрузки раненых и больных в расположение медсанбата начали падать вражеские мины.
От причала 35‑й батареи предполагалась эвакуация на Большую землю. Успеем ли? Это беспокоило всех. И я, и врачи, и раненые знали, что дальше отступать некуда…
Берег, заваленный каменными глыбами, имел множество скалистых выступов и небольших заливов. Теперь он казался надежным убежищем от налетов авиации и артиллерийских обстрелов.
Здесь же скопились медсанбаты других соединений, госпитали, раненые, доставленные прямо с передовой. Все ждали эвакуации. Но море было пустынно — ни военного корабля, ни буксира, ни самого захудалого баркаса.
А вот и тяжелое нагромождение под маскировочной сеткой 35‑й береговой батареи. Орудия сейчас молчат. В поле зрения — ни вражеских кораблей в море, ни пехоты на земле.
На первый взгляд батарея безмолвствует. Но в ее бункерах — многоэтажных подземных сооружениях — склады боеприпасов, пищеблок, жилые казематы. Команда настроена по–боевому. Здесь расположен резервный командный пункт СОРа[4]. Здесь принимаются меры сдерживания противника, функционирует связь с Большой землей. Сюда беспрерывно поступают сведения от командиров частей и боевых групп, отсюда идут приказы и указания, поддерживается радиосвязь с кораблями флота, со Ставкой, представителем Государственного Комитета Обороны в Краснодаре. Здесь с трепетом и волнением ожидаются обнадеживающие указания о помощи с Большой земли, отсюда летят в эфир настойчивые просьбы о вывозе оставшихся защитников Севастополя…
В 5 часов утра над берегом пролетела «рама» — вражеский разведывательный самолет «Фокке–Вульф‑187», и вскоре над берегом появились вражеские истребители. На измученных от бессонницы, с ввалившимися глазами лицах раненых застыла тревога. Многих душила обида от сознания бессилия и невозможности воздать врагу по заслугам.
Здесь во всю остроту встала еще одна проблема: на побережье не было пресной воды. Я с трудом добрался к плескавшейся между камнями воде, чтобы утолить жажду. Видел, как другие раненые черпали ее ладонями, судорожно глотали, затем выплевывали соленую горечь и… снова приникали к ней высохшими губами.
— Товарищ комиссар, — переступая через носилки с ранеными и улыбаясь, ко мне шел мой связной Николай Мохов. За ним следовал старший лейтенант Федор Мороз.
— Мы со вчерашнего дня ищем вас… и вот! — радуется Мохов.
— Откуда вы взялись? — спрашиваю однополчан.
Мохов, очевидно не ожидавший такого вопроса, молча посмотрел на меня.
— Начштаба майор Шейкин приказал найти вас…
— А где сейчас полк?
— Вел бои на Сапун–горе… Мало людей осталось, товарищ комиссар, совсем мало.
— А где твои врачи, санитары? — озираясь по сторонам, спросил Мороз.
— Не знаю… Где–то здесь.
Двадцатичетырехлетний Николай Мохов–старшина второй статьи из морской пехоты с самых Мекензиевых Гор неустанно делил со мной все тяготы фронта. Ф. А. Мороза я знал еще до войны. Он мой земляк, участник гражданской войны. В Краснодаре был заведующим одним из отделений госбанка. Я смотрел на грязные бинты на его седеющей голове и видел в голубых ласковых глазах немой вопрос: «Что делать?» Но спросил у земляка о другом:
— Федя, как ты сюда попал?
— Подразделение наше под городом растрепали, правда, и фрицев немало положили, но мы отошли… А больных направили на Херсонес… Вот я и здесь — не очень весело ответил мой земляк, ни слова не сказав, почему у него на голове окровавленная повязка.
Пока мы беседовали с Федором, Мохов принес полбутылки теплой воды. Трудно было догадаться, где он достал ее, ведь в районе 35‑й батареи никаких источников не было.
— Пейте, а к вечеру достанем еще и еды. Попили? — довольным тоном продолжал он с какой–то хитринкой в глазах, — а теперь вам на закусочку еще одно «блюдо». — Он вытащил из кармана аккуратно сложенную газету и подал мне: — Читайте. Статья о вас!
На развороте листа бросились в глаза две колонки с заголовком: «Сила примера коммуниста»[5]. Статья с некоторыми подробностями описывала боевые эпизоды взятия высоты 157,5. Внизу статьи стояла подпись: И. Маслов.
— Кто такой Маслов? — спросил я Николая.
— Не знаю, товарищ комиссар, кто–то из политотдела приходил в полк, беседовал с бойцами…
— Какие еще новости в полку? — обратился я к Николаю.
Мохов смахнул пепел с сигареты, посмотрел на Мороза, как бы советуясь:
— Новости? Майор Субботин возвратился в полк, вылечился… Онилову представили к званию Героя Советского Союза, убит комроты Соляник…
Я не дослушал Николая — в голове пронеслись и перемешались мысли: радостные — о награде Ониловой, печальные — о смерти Соляника. Последнее сообщение особенно расстроило меня: я как наяву видел перед собой розовощекого, жизнерадостного, с пухлыми губами Соляника. В памяти возникли все, кого уже не было в живых: Беда, Паскудин, оружейный мастер полка лейтенант Гагуля, Онилова, Коваль… Я отгонял мысль о том, что еще ждет защитников Севастополя до конца сегодняшнего дня, завтра… Прижатые к этому маленькому кусочку берега, мы жили надеждой на подкрепление, на ответный удар по врагу…
Я смотрел на загорелую широкую грудь старшины, лихо выбивавшуюся из–под бескозырки черную прядь волос, улыбающиеся с мальчишечьим задором глаза и немного позавидовал ему: здоровый, красивый — впереди не жизнь, а сплошное радостное счастье…
— Николай, после войны что будешь делать?
— В морское училище пойдет и… до седых волос, — поторопился ответить за друга Мороз.
— Нет, моряков и без меня хватит. Пойду учиться на художника.
Я вопросительно посмотрел в глаза старшины.
— Знаете, хочется изобразить развалины Севастополя, горы трупов, взрывы снарядов, пламя и дым над городом, падающие самолеты и как… мы брали высоту 157,5…
— Как же это ты на одной картине уместишь? — нетерпеливо заметил Мороз.
— Так не в одной…
— Значит, решил? Но что–то картины у тебя получаются какие–то мрачные, — заметил я.
— Товарищ комиссар, я так и хочу — мрачные и страшные, чтоб люди боялись войны и не затевали ее.
Беседа была прервана — все подняли головы: со стороны моря «рама» вела прямо на нас пикировщиков.
— Ложитесь! — вдруг крикнул Мохов и свалился на меня.
В ту же секунду раздались взрывы и на нас посыпался каменный дождь. Мороз, стряхивая пыль с гимнастерки, будто ничего не случилось, заметил:
— Опять выпачкался. И до каких пор ходить грязным? А что, комиссар, может, освежимся? Вода теплая.
Предложение было заманчивым. Вода привлекала не столько своей теплотой, сколько прохладой.
— Отмочите повязки морской водой, — посоветовал Мохов. — Вода йодистая, раны быстро заживут.
Мы с Морозом разделись, осторожно спустились по острым камням под навес скалы.
— Вспомни, Алексей, Краснодар, — заговорил Федор, осторожно плеская на свои худые ноги воду, — какая теплая водичка на Старой Кубани… Роскошные лодочки, тысячи загорающих. А на Затоне — вода прохладная, тополя, детский пляж, а за рекой — лес, — убаюкивающим голосом перечислял местные достопримечательности Федор.
— Только некогда было ими пользоваться, все были заняты.
— Да и это — правда.
И вдруг раздался предостерегающий голос Мохова:
— Опять летят!
Самолеты, залетая со стороны моря, один за другим ринулись в пике. Вдоль берега заухали тяжелые взрывы. Одна, две… десять, одиннадцать… Через наши головы, словно выпущенные из гигантской пращи, летели в море камни. В сплошной пелене пыли и дыма слышались крики, стоны.
Когда самолеты ушли, мы не торопясь вылезли из воды. На берегу суматошно бегали, кричали раненые, лежали убитые, зловонно–кислый дым постепенно сползал к воде. Не узнали мы и того места, где раздевались.
— Николай убит! — крикнул Федор.
Мохов лежал ничком. Из темени его сочилась кровь. Долго и безмолвно мы смотрели на боевого товарища.
Под небритым подбородком Федора судорожно перекатывался кадык, крупные градинки слез скатывались по щекам. Я смотрел на Мороза, склонившегося над телом убитого, и вспомнил, как во время февральских боев Федор взрывной волной был опрокинут, потерял сознание. Тогда Мохов, отстав от меня, бросился к другу и вынес его из опасного места.
Словно очнувшись от тяжелого кошмара, Мороз хрипло проговорил:
— Дорогой мой художник! Друг! Надо похоронить его по–морскому. Николай любил море…
Федор вытащил из кармана перочинный нож, спорол с бескозырки Мохова ленту, разрезал пополам:
— Давай, Алеша, оставим себе на память… — и спрятал свою долю в нагрудный карман.
Давило какое–то ощущение невозвратного. Физическая слабость, мятущаяся толпа, люди в окровавленных повязках, стоны, оторванность от своей части, неожиданная гибель товарища — все это болезненно сжало сердце. Раненые, ожидая следующего налета самолетов, жались к скале. Воздух, насыщенный пороховым дымом, резал глаза, вызывал тошноту…
…Отдельные части, упорно сопротивляясь, постепенно отходили к югу. Уличные бои за Корабельную слободу закончились еще 1 июля, а на следующий день отряды прикрытия отдельными группами продолжали уличные бои в центре города, остальные отходили на Херсонес. Теперь уже в качестве боевых заслонов здесь оставались лишь отдельные разрозненные отряды.
Мы с Федором, как и многие, бродили среди раненых в поисках ответа на главный вопрос: где взять воду и пищу, чтобы придать новые силы бойцам? Никто не знал, вывезут ли нас на Большую землю, помогут ли оружием. Враг находился рядом, огонь его орудий уже достигал нашего убежища.
БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
2 июля 1942 года на исходе дня был объявлен приказ старшего начальника Севастопольского гарнизона генерал–майора П. Г. Новикова об организации боевых групп из легкораненых для удержания последних рубежей[6].
Проверив у всех оружие, как старший по званию, я взял на себя командование группой. Надо было собрать людей, а также собрать среди раненых боеприпасы. Не успели мы сделать и сотни шагов, как сзади нас упал снаряд. Вихрь взрыва поднял в воздух доски, щебень, клочья одежды.
— Бьют, сволочи. Надо скорее выходить на позиции, — глухо проговорил Мороз.
В одном из гротов укрывались десятка два раненых, мы обратились к ним с призывом занять оборону и держать ее.
Было собрано восемь автоматов с полными дисками. К нам присоединились два офицера. Следующий грот оказался более щедрым. Всего было собрано более десятка автоматов, полмешка патронов и несколько гранат. Вскоре выяснилось, что не одному мне пришла мысль добыть оружие и боеприпасы таким способом.
Через час наша группа, около тридцати человек, нагруженная автоматами и патронами, пробиралась к причалу, откуда был выход на рубеж обороны. Внезапно над местом, где располагалась 35‑я береговая батарея, в воздух поднялось оранжевое пламя, под ногами дрогнула земля. Затем последовал второй, третий — целая серия взрывов.
— Прощай, тридцать пятая! — выкрикнул кто–то из наших. — Кончилась твоя боевая жизнь.
Батарея за отсутствием снарядов и в связи с угрозой захвата врагом была уничтожена.
Восемь часов утра. Мы лежим в своих окопчиках и ждем очередной вылазки противника. Два вражеских танка, занявшие огневую позицию на бугре выше ложной батареи, молчат.
— Фрицы думают, что мы сдадимся без боя, — оживился Мороз, — они знают, что у нас ни оружия, ни патронов нет… Блокада!
Вдруг орудие одного из танков выстрелило. Снаряд просвистел над нашими головами и упал в море, подняв столб воды. Странно, ведь на море не то что судна — щепки не видно…
— Смотрите, смотрите, люди, — показал рукой Мороз.
И в самом деле, приглядевшись, мы различили в полукилометре от берега на волнах две черные точки.
— Пытаются уплыть. Бьют по ним, — высказал догадку Разумов, комиссар одного из наших полков.
Так оно и было. Кто–то еще затемно рискнул на досках уйти в море. Огонь открыли оба танка. В зоне падения снарядов две головы то скрывались за волнами, то снова появлялись. Снаряды все падали и падали. Прошло минут десять. Мороз, прикусив губу до крови, считал выстрелы. После тридцатого выстрела он огорченно заметил:
— Один остался.
— Попали, сволочи! — подтвердили товарищи.
Было хорошо видно, что на поверхности моря еще держался один человек. Убийцы не жалели снарядов: Мороз насчитал около ста выстрелов. Голова человека долго ныряла в волнах и наконец исчезла. Мы сняли пилотки.
— Мерзавцы, безоружных расстреливают…
Тем временем где–то у Казачьей бухты разгорался бой. Ухали орудия, трещали пулеметы, в небе над бухтой, сбрасывая бомбы, кружили «юнкерсы».
Бойцы вполголоса переговаривались:
— Скоро и над нами стервятники появятся…
Мороз, усаживаясь около меня, высказал свои предположения:
— А я, товарищи, думаю, что не зря немец на нашем участке молчит, измором хочет взять. Что ему на нас снаряды тратить, — он облизал сухие губы и замолчал.
— Тратить? Вон на двух человек сто снарядов выпустил, — возмутился Разумов, — теперь они полные хозяева над мысом.
— Сейчас ночи короткие, всего четыре–пять часов, за это время наши корабли не сумеют пройти от Новороссийска до Севастополя. А если и пройдут, то погру–зить людей до рассвета невозможно. Будь я командующим…
— К чему клонишь, земляк? — рассеянно спросил я, наблюдая за двумя «юнкерсами», появившимися со стороны моря.
— К тому, что враг фактически уже занял город. Перспектива ясная…
— А для меня она не ясна! — в свою очередь возразил Мороз.
— Город оставлен нашими войсками, я сам слушал сводку Совинформбюро, — сказал старший лейтенант, который присоединился к нашей группе ночью.
— Как там сказано, не помнишь? — недоверчиво спросил Мороз.
— Как же не помню? «По приказу Верховного командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь…»[7].
Вечер наступал быстро. Над нами выстелилось темное южное небо, со всех сторон обступила полная неожиданностей ночь. Люди примолкли.
Прислонившись спиной к стене кювета и запрокинув голову к черному небу, я смотрел на серебристую россыпь звезд. В голове роились обрывки дневных разговоров раненых: все собирались на ночной прорыв. Моя группа целиком поддержала это настроение.
С бруствера посыпалась земля и послышался приглушенный голос:
— Где комиссар?
Это был связной, посланный мной на розыски штаба какой–либо оставшейся в обороне части. Необходимо было во что бы то ни стало наладить связь с соседом.
— Разрешите, — присаживаясь возле меня, начал связной. — Нашел я штаб 79‑й бригады, разговаривал с капитаном третьего ранга Никульшиным и, как вы наказывали, доложил обстановку, мол, группа раненых бойцов и командиров… оружия мало, патронов нет… Товарищ Никульшин приказал объединиться с моряками 9‑й бригады и прорываться из окружения.
Легко сказать «объединиться», но как это сделать с горсткой почти безоружных бойцов?
Внезапно над нами взвилась красная ракета. Со стороны гитлеровцев началась учащенная стрельба.
— К прорыву!
Бойцы стремительно выскакивали из кювета и исчезали в темноте.
— Вперед, за Родину!
— Ура–а–а! — кричали на флангах.
Мы бежали вперед, натыкаясь друг на друга. Гремели разрывы гранат. В ночной темноте трудно было управлять боем. Но, очевидно, бойцов толкало вперед неудержимое желание смять врага, прорваться. Они сами знали, что делать.
— Даешь, товарищи, прорыв! — кричали справа от меня.
— Смерть фашистам! — слышалось слева. Мы падали и снова поднимались, бежали в самое пекло боя, где неумолчно трещали автоматы и пулеметы.
Вдруг впереди раздался взрыв. Еще один, еще. Меня швырнуло на землю. Я услышал: «Минное поле, товарищи!».
Очнувшись, увидел: прямо на меня бежали люди, а впереди сплошной стеной вспыхивали огоньки выстрелов. Эти вспышки слепили глаза, я попытался подняться, но кто–то силой придавил меня к земле.
— Ложись! Видишь, сплошной заградительный…
— Отходят! — негромко заметил другой голос.
Позади нас грохотали разрывы вражеских снарядов.
Танки огненной стеной опоясали поле.
Кто–то упал рядом.
— Прорваться невозможно, — прохрипел он. В горле у него клокотало-—Майор убит, передайте, что я ранен…
— Товарищи, отходите! — скомандовали справа.
По спине поползла теплая струйка. «Наверно, лопнул шов незажившей раны», — мелькнула мысль. Кружилась голова. К горлу подступила тошнота. Сказывалось крайнее напряжение, голод, бессонные ночи…
Я все же добрался до берега и свалился, щека коснулась влажного песка. Это было последнее мое ощущение.
Толчок в голову заставил меня открыть глаза и сесть. «Неужели уснул?» — подумал я и посмотрел на часы. Было шесть утра. Значит, я пролежал несколько часов на мокром утоптанном песке. Кругом лежали и стояли люди, стонали раненые. Где же моя группа?
Необычной была эта мертвая тишина на берегу. Ни одного выстрела. Не слышно и шума самолетов. Изредка доносились возбужденные голоса:
— Попали в мышеловку.
— Теперь не уйти отсюда…
— Смотрите, немцы!
Последний возглас, изумленный и тревожный, заставил меня вскочить на ноги. Через толпившихся раненых, наступая на лежащих, я вышел за выступ скалы и увидел на той стороне залива над краем обрыва — немецкого офицера. Он стоял, широко расставив ноги, одной рукой упирался в бедро, а другой вертел трость. В нескольких шагах от него солдаты в касках 'и с автоматами на груди равнодушно разглядывали советских солдат, толпившихся под скалой. На розовато–голубом фоне утреннего неба черные фигуры фашистов казались особенно зловещими.
Шатаясь от слабости и головокружения, я брел от одной группы бойцов к другой. И тут вдруг увидел Федора Мороза. Сначала мне показалось, что он сошел с ума. Наклонившись, он резким движением перочинного ножа полоснул по голенищу сапога. Не успел я окликнуть его, как он сорвал с руки часы и ударил их о камень.
— Вот вам пожива, сволочи!
— Федя, ты что? — я схватил друга за руку и, насколько позволяли силы, сжал запястье.
— Алеша, жив? — с изумлением воскликнул Мороз и бросился обнимать меня.
— Ты чего бесишься? — я кивнул на разрезанное голенище.
Федор угрюмо насупился.
— А что, фрицам оставлять? Пусть голым берут.
— Ты что, собрался умирать?
Я посмотрел на него. Глаза покраснели и припухли, из–под изорванной гимнастерки видна была волосатая грудь. Лицо землистого цвета, небритое, на седой голове — помятая пилотка, на шее — грязный бинт. Конечно, после четырехсуточных напряженных боев, без воды и пищи… Но ведь Федор командир, а по командиру равняются бойцы. И вот эта грудь и рваное голенище.
— Федя, я тебе ни комиссар, ни командир, — тихо, но достаточно настойчиво сказал я. — Приведи себя в порядок и помоги мне собрать остальных наших людей.
— И… опять туда? — кивком головы показал он на скалу. — А сколько их вернулось вчера — считал? В том–то и дело, — он посмотрел на меня скорбными глазами.
Мы разыскали еще нескольких командиров. Оказалось, что многие уже успели уничтожить документы: море поглотило полевые сумки с привязанными к ним камнями.
Подошел Разумов.
— Ну, коллега, что будем делать? — с горькой усмешкой спросил он, показывая взглядом на желтую скалистую гряду. — Севастополь в развалинах… Дымится.
Мороз посмотрел ему прямо в глаза.
— Наверху еще держатся наши, просят помочь оружием, патронами…
Предложение Мороза поддержали все. Вскоре было собрано все, что могло пригодиться для обороны. Патроны,' несколько гранат отнесли наверх скалы и сложили у стоявшей здесь сторожевой будки. В нашей группе уже находилось более десятка бойцов. Мы уже собрались распределить собранное оружие, как вдруг вражеские танки открыли огонь по кромке берега. Вниз полетели осколки камней, у сторожевой будки заполыхало белое пламя. Что–то затрещало.
— Патроны, патроны! — испуганным голосом крикнул Мороз.
— Ах, растуды их… — выругался Разумов.
Наверху послышалась стрельба из автоматов, взрывы гранат. Гитлеровцы, маячившие на скале, исчезли.
Берег гудел от взрывов. Коричневый дым, цепляясь за щербатые скалы, медленно полз к воде. Раненых доставляли и спускали с отвесной скалы на прибрежную полосу по специально закрепленному тросу.
В нашей группе заканчивалась чистка собранных под ногами патронов, Их теперь выносили на передовую с другой стороны.
— Смотрите, смотрите! — послышался чей–то удивленный голос.
Взоры раненых обратились на вершину скалы. У самого края обрыва стояла девушка с окровавленной повязкой на голове. Забинтованная кисть руки была прижата к груди. Русые локоны то падали на бинт, то закрывали лицо. И казалось, что вот–вот за ее плечами появятся крылья и она взлетит.
— Это Березка! — крикнул изумленный Мороз.
Да, это была она.
Медсестра подняла в правой руке автомат и громким голосом крикнула вниз:
— Товарищи раненые! — ветерок срывал ее голос. — Тут ваши друзья истекают кровью… У кого есть совесть — поднимайтесь, берите оружие, патроны… — Налетевшая туча дыма скрыла ее от нас, но голос еще был слышен. Бойцы и командиры стояли, подняв головы.
— Товарищи! — послышался громкий голос Федора Мороза. — У кого руки и ноги целы — пошли к тросу!
Масса людей под скалой зашевелилась. Раненые в окровавленных повязках, прихрамывая, опираясь на плечи товарищей, шли к тросу. Начался трудный, немыслимый в иной обстановке подъем на высокий скалистый берег.
Моя группа заняла позицию на правом фланге. До 6 часов вечера на нашем участке гитлеровцы трижды переходили в атаку, но каждый раз мы их встречали яростным огнем. Самолеты беспрерывно заходили со стороны моря и бомбили линию обороны. Передовая частично проходила по кювету так называемого Турецкого вала, а затем по голому с редким кустарником полю.
В конце дня противник открыл по нашим позициям сильный минометный огонь. На возвышенности снова появились танки и начали обстрел береговой полосы, где укрепилось подразделение морской пехоты. Затем стрельба стала перемещаться влево. Стойкость обороняющихся заколебалась. Два танка, не прекращая стрельбы, пошли на стык между нашей группой и отрядом морской пехоты. Образовался прорыв. Моряки оказались прижатыми к стометровому обрыву. Автоматчики противника под прикрытием танков вели сильный огонь, но моряки отчаянно защищались.
Нельзя было спокойно наблюдать эту драматическую картину.
Бойцы рвались в бой на помощь морской пехоте. Командир батальона Михаил Жуковский с небольшой группой устремился к танкам, за ним бросились остальные бойцы. Полетели связки гранат, два танка задымились, вражеские автоматчики метались между горящими машинами.
В стороне я заметил Мороза. Вцепившись в волосы толстого гитлеровца, он бил его головой о выступ камня и кричал:
— За Севастополь! За Мохова!
Кругом слышались ликующие и озлобленные голоса. Многие выкрики слились в одно слово:
— Бей!
Моряки, вырвавшись из окружения, смешались с нашими бойцами.
Бой длился минут двадцать. Оставшиеся в живых гитлеровцы отошли на возвышенность. Стрельба прекратилась. Цепь обороны пестрела серыми от пота гимнастерками и полосатыми тельняшками. На занятом нами рубеже все еще горели два подбитых вражеских танка. У одного из них, привалившись головой к разорванной гусенице, лежал мой знакомый моряк. Возле него хлопотала Березка, опустившись на колени, она нарочито серьезно приказала:
— Назовите вашу фамилию!
Моряк обессиленно склонил голову и тихо, не открывая глаз, ответил:
— Королев. Саша Королев. Из потаповской бригады…
— Знаю. Потаповцы — орлы! Наши соседи на Мекензиевых Горах… Выручили вас чапаевцы.
— А вы из какой части? — с еле заметной улыбкой спросил Королев.
— Я тоже из Чапаевской дивизии…
Над огненно–золотым горизонтом плыли глыбы туч, а под ними неудержимо быстро тонуло в море кровавое солнце. Последние его лучи падали на холмы, на исковерканную снарядами, обожженную огнем и усеянную трупами землю.
И ЕЩЕ ОДИН ПРОРЫВ
Наша группа залегла на фланге ложной батареи.
В 23 часа группа офицеров собралась в одном из окопов, чтобы решить, как выполнить главную задачу — прорвать кольцо окружения.
Никуда нельзя было уйти от жестокой правды, невозможно было закрыть на нее глаза. Наша дальнейшая судьба, наша жизнь зависели только от нас самих, и никто, никакое вышестоящее командование уже не могло нам помочь: время и место определили исход окружения. Более того, нет сейчас в Севастопольском оборонительном районе дивизий, бригад, полков, батальонов и рот с артиллерией, связью, тыловыми службами, штабами. Есть лишь сборные подразделения и отряды с такими же, как «и я, командирами, взявшими на себя командование по старшинству звания, по личной инициативе.
Нужно было решить: остаться тут до утра и дать врагу последний бой, сражаясь до последнего патрона, или, нащупав слабое место в обороне противника, попытаться вырваться из окружения. Конечно, шансы на успех были невелики. Прорыв приведет к большим потерям.
Мы распределили обязанности — кому что делать в самый критический момент боя, — проверили оружие, разделили между собой гранаты и патроны. Жуковскому было поручено возглавить группу прорыва, которую вооружили автоматами. Через связных сообщили соседям о своем решении.
Было около двенадцати, когда наша группа двинулась вперед. Ползли по–пластунски, цепочкой. Жуковский получил приказ: если противник обнаружит группу непосредственно у места засады в зоне обстрела, с ходу забросать вражескую линию гранатами и вступить в бой, дав остальным возможность быстро форсировать опасное пространство.
По расчетам, через 10–15 минут перед нами должен быть передний край противника. Вдруг слева застрочил автомат, затем раздалась пулеметная очередь. Разноцветный пунктир трассирующих пуль прижал нас к земле. Всех захватило одно желание: скорее достичь рубежа, сделать решительный бросок через вражескую линию. Рука судорожно сжала пистолет с тремя патронами. Ползем беззвучно, даже сухая трава не шуршит. Неожиданно через мою голову в сторону противника полетела граната, раздался взрыв.
— Кто посмел? Кто нарушил приказ? — я злобно выругался. Демаскировать группу, подвести товарищей мог либо предатель, либо человек, потерявший от страха голову.
В ответ на взрыв гранаты засверкали желтые вспышки пулеметов. Теперь противник вел прицельный огонь. Мы были обнаружены…
— Вперед, товарищи! — выкрикнул кто–то сзади.
В то же мгновение трое смельчаков бросились вперед и тут же были скошены очередью.
Фашисты усилили заградительный огонь. Оставаться под обстрелом было глупо. Мы ринулись вниз по склону, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь. Добежали и упали на дно какой–то канавы.
Над головами тонко вызванивали пули. Отсиживаться в канаве не имело смысла, надо было снова собирать людей.
Вскоре в новой группе было уже человек пятнадцать. Припав к земле, все тревожно думали о неудаче. Мы не успели принять какое–либо решение, как в воздухе лросвистела граната и на краю канавы брызнуло пламя. Кто–то вскрикнул.
Сквозь едкий дым ко мне подполз Мороз и попросил перевязать рану. Струйки крови струились по его лицу.
За одним из поворотов канавы, в пяти метрах от нас, возникла фигура человека и раздался громкий окрик:
— Хальт!
Фашист! Я разрядил в него последние три патрона. Человек упал, но на его месте появился второй, третий… Теперь вся канава простреливалась. Я видел, как Жуковский поднялся, замахнулся гранатой, на миг застыл в этой позе и рухнул на землю.
Завязалась рукопашная схватка. Наши люди смешались с боевым охранением гитлеровцев. Меня сбили с ног, чьи–то кованые сапоги прошлись по моим плечам и рукам. Передо мной оказалась широкая спина, на которой болтался немецкий противогаз. Я поднялся на ноги и рукояткой пистолета ударил по голове фашиста.
Превозмогая удушье, тяжелую головную боль, я как мог громко подал команду:
— За мной, вперед!
Мы выбрались из канавы и побежали в сторону кустарника. На месте стычки стрельба постепенно утихла, теперь уже автоматы трещали где–то в стороне, слева от нас.
Нас осталось совсем немного.
— Девять человек, — доложил Мороз. — Из них пятеро без оружия и один тяжело ранен. — Он протянул мне две гранаты Ф-1 и стянутые резинкой документы. — Это политрука Азнарашвили, просил передать тебе… Он умер у меня на руках.
Я знал, что остальные, и среди них капитан Жуковский, остались на поле боя… Нужно уходить, уходить! Еще одно столкновение с врагом, и кто знает, сколько нас останется?
Местами ползли по–пластунски. То и дело приходилось останавливаться, поджидая отставших. Всех мучила жажда. Темные силуэты деревьев мы зачастую принимали за людей, глаза слипались от усталости. Силы покинули меня, я припал к земле и, теряя сознание, ощутил на своем плече чью–то тяжелую руку.
— Алеша, друг… что же делать? — узнал я голос Мороза.
ПЛЕН
…Очнулся от яркого света, бьющего в глаза. Луч фонаря скользнул по лицу, выхватил из темноты группу бойцов, переминавшихся с ноги на ногу.
— Стоять смирно! — по–русски крикнул один из гитлеровцев.
«Что это, бред?» — мелькнула мысль. Но сильный толчок сапогом в плечо не оставил никаких сомнений.
— Вставай, рус! Вставай, пух, пух! — Чья–то сильная рука ухватила меня за воротник и подняла на ноги.
Окружив тесным кольцом, гитлеровцы вели нас по голому взгорью, подталкивая автоматами.
Хотя уже рассвело, но мы шли как слепые, то и дело спотыкаясь о камни, путаясь в низкорослом боярышнике. Впереди и позади то появлялись, то гасли яркие вспышки фонарей.
Я напрягал все силы, чтобы не упасть. Засохшая кровь терлась о белье, от этого, казалось, раны горели, и каждый шаг был мучительным. Чтобы не застонать, я до онемения сжимал челюсти. Мороз поддерживал меня под руку, стараясь идти в ногу. Но и сам он двигался, качаясь из стороны в сторону.
Страшно! Не хотелось думать, но лишь одна мысль сверлила мозг: плен, плен, плен.
«Насколько я помню, — размышлял я, пистолет выпал у меня из рук еще там, у дерева…» И тут рука лихорадочно скользнула в карман гимнастерки. Я невольно ахнул и замедлил шаг.
— Вас обыскивали? — спросил товарищей.
— Тебя дважды: первый раз я, потом немцы, — ответил шепотом Мороз.
— И что же? Где?
— Не волнуйся, — успокоил Мороз, поняв, что меня тревожит, — уничтожил все, извини…
— Нихт шпрехен! Ком, ком! — подтолкнули нас б спину автоматчики.
За редкими деревьями показались строения. Во дворе заброшенной усадьбы стояла группа гитлеровцев. С холодным безразличием они смотрели на людей в окровавленных повязках.
Открылась дверь, и нас поглотила темнота. Сарай оказался уже заселенным. Я опустился на пол и тут же услышал чей–то злой возглас:
— Осторожней, дьявол, раздавишь…
— Из какой части? — поинтересовался кто–то из темноты.
— А вас где взяли? — раздалось из угла.
— Хотели прорваться в горы, — сказал один из наших бойцов, — только не удалось…
— И мы… На нас автоматчики навалились под самый вечер. И ушли бы, если бы патроны не кончились, а одной железякой много ли навоюешь! Вот и зацапали… Наших морячков, часом, нет среди вас? Мы из морской…
— Нет, — ответили мы словоохотливому морячку и в свою очередь спросили: — А где мы находимся?
— Хозяйственный двор тридцать пятой береговой… Теперь фашистам вроде пересыльного пункта служит.
После двух–трех фраз в сарае воцарилась тишина, изредка нарушаемая тяжелым вздохом или стоном.
Часов в семь утра дверь распахнулась и в густой мрак сарая хлынуло золото солнечных лучей. Пленные, жмурясь и протирая глаза, зашевелились. Перед нами стояли вражеские автоматчики в касках, мундирах и сапогах с короткими широкими голенищами.
В просвете, образовавшемся между одним из автоматчиков и дверным косяком, мы увидели большую колонну пленных. Мелькнуло несколько знакомых лиц. Врачи, медсестра, еще врачи. Наш медсанбат…
В сопровождении охраны в сарай вошел пожилой офицер с эсэсовскими значками в петлицах. Он кивнул солдатам, и те, приказав нам снять головные уборы, стали вглядываться в лица, в обмундирование: те, у кого гимнастерки были из тонкого сукна, кто был обут в хромовые сапоги и не стрижен под нулевку, отходили налево. Остальных вывели из сарая и присоединили к красноармейской колонне. Автоматчики ушли, и дверь осталась открытой.
Вскоре все вышли во двор и устроились кто на разбросанных непиленых колодах дров, кто на земле. Говорить не хотелось. Каждого одолевали невеселые думы.
Мысли прервал вышедший из колонны пленных Борис Хмара, командир заградбатальона^ нашей дивизии. После взаимных приветствий последовал главный вопрос:
— Что делать? Как будем жить под фашистской пятой?
Удивительное дело! Несколько минут назад мрачные мысли лезли в голову, а теперь стоило появиться Хмаре, задать практический вопрос — и я ожил, почувствовал себя не обреченным на смерть, а временно выведенным из строя. Именно временно!
— Нужно бежать. Куда? Ноги сами найдут дорогу.
— Тебе известно, что меньше часа назад эсэсовцы расстреляли Ващука и Козлова? — вдруг перебил меня Хмара.
— То есть как расстреляли? — Я почувствовал, как у меня сдавило горло. Первый был заместителем начподива, второй — помощником по комсомолу. Хорошие работники политотдела.
Заикаясь от волнения, Хмара рассказал:
— Когда их поставили у оврага, они запели «Интернационал». Знаешь, мне их мучительно жалко: это ж были такие большевики! — закончил он и как–то значительно посмотрел на меня. Я видел в его глазах грусть и сочувствие и молча сжал руку товарища.
Тем временем от моря продолжали подходить колонны пленных. Бойцы, захваченные утром, рассказывали, что из–за отсутствия боеприпасов на участке 35‑й батареи оборона подавлена.
Сразу представилась картина вчерашнего общего состояния у 35‑й. Там, где ранее высилось сооружение батареи, остались лишь каменные и железобетонные груды развалин, внизу изуродованный взрывом деревянный причал, а кругом группы раненых и потерявших свои части бойцов и командиров.
За скалой, на равнине, идет беспрерывная перестрелка, слышны взрывы — это те, у кого еще в подсумках и карманах остались патроны и гранаты, до последнего вздоха ведут оборонительные бои и даже бросаются в контратаки, некоторые находят мужество и силы, чтобы швырнуть последнюю гранату под вражеский танк. От берега хорошо видно: в лощине, склонившись набок, намертво застыли несколько вражеских машин.
Это нас воодушевляло, вливало уверенность, что окружение — дело временное, нас освободят, впереди — победа.
…Нещадно палит солнце, всех мучит духота, жажда. Один из бойцов с запекшимися губами подошел к часовому и объяснил, что хочет пить. Эта простая просьба ему дорого обошлась. Фашист размахнулся и ударил солдата дубинкой в живот, затем уже лежачего продолжал топтать коваными сапогами, выкрикивая:
— Вассер найн! Вассер найн!
Боец корчился, обливаясь кровью. Гитлеровец отбросил дубинку лишь тогда, когда к сараю подошли два офицера–гестаповца с группой автоматчиков и какой–то тип в поношенном костюме.
Человек в штатском двигался вдоль шеренги, зорко вглядывался в лица пленных своими блекло–голубыми глазами и, тыча пальцем то в одного, то в другого, выкрикивал:
— Комиссар… политрук… еврей…
Гестаповцы хватали людей, указанных этим типом, сбивали с них головные уборы и отводили в сторону. Вскоре против нас уже стояло около тридцати обреченных…
Когда первая «фильтрация» кончилась, предателя в поношенном костюме сменил эсэсовец, отлично говоривший по–русски.
— Кто еще остался из политработников, выходи! Все равно мы узнаем, никуда вы не скроетесь…
Было ясно, что ждет тех, кто откликнется на этот призыв. Из нашей группы вышло восемь человек. Гестаповец продолжал:
— Для вас будет лучше, если вы выдадите комиссаров и политработников.
Ответом было молчание и выражение непроницаемого упорства и замкнутости в глазах.
— Ну вот ты скажи, где твой комиссар, политрук? — обратился офицер наугад к одному из бойцов.
— Комиссар убит, политрука не видел, — последовал хмурый ответ.
— А твой? — спросил эсэсовец другого.
Около десятка человек ответили одно и то же: «убит», «не знаю», «погиб». Никто не назвал ни одного имени.
Нас снова загнали в сарай. Как только захлопнулась дверь, несколько человек прильнули к щелям.
— Повели за усадьбу, в лощину.
Люди глухо шумели, в бессильной злобе сжимая кулаки. Через несколько минут до нас донеслась беспорядочная стрельба из автоматов. Мы сняли пилотки:
— Прощайте, товарищи! Будь проклят фашизм!
Волнение в сарае долго не унималось.
— Убийцы возвращаются! — сообщил один из наблюдателей.
Дверь резко распахнулась. Приземистый, с отвислыми бритыми щеками эсэсовец приказал всем присесть на корточки. Затем, тыча тростью то в одного, то в другого, резко вьжрикнул:
— Раус! Раус!
Один за другим поднимались с земли отмеченные тростью и выходили в просвет двери.
— Ду, блондер раус! Ду, ферфлюхтер монголе, аух![8] — продолжал тыкать тростью немец.
Происходило что–то непонятное. Фашист выбирал жертвы по какому–то лишь ему одному известному признаку. И все же я успел заметить, что трость выбирает из группы пленных лишь тех, кто был физически покрепче.
Между тем трость нацелилась на меня:
— Раус!
Я поднялся, ощущая на себе сочувствующие взгляды товарищей, увидел, как сжал кулаки, опустив голову на грудь, Мороз. Нас было уже восемь человек, поднялся еще один, девятый, когда к сараю подошел офицер в щегольском мундире, с холеным, сытым лицом. Эсэсовец и его подручные, как по команде, обернулись, вытянулись, вздернули подбородки. Тот, кто тыкал в нас тростью, выбросил руку вперед, гаркнул:
— Хайль Гитлер!
Офицер, по–видимому, из больших начальников, вяло отмахнулся рукой, что–то буркнул эсэсовцам, мельком, как на скотину, глянул на нас, повернулся и ушел.
Палач минуты три стоял молча, растерянно глядя то на нас, то на удалявшегося офицера, затем на ломаном русском языке скомандовал:
— О-ставит!
Нас опять загнали в сарай, кто–то позади меня заметил:
— Пронесло!
На шоссе строили колонну. Дверь распахнулась, раздалась отрывистая команда:
— Встать!
Солнцепек стал невыносим, казалось, еще немного тепла — и листва пожухнет, свернется в трубочки, огонь зазмеится на ветках, под ногами начнет трескаться раскаленный камень. Соленый, едкий пот слепит глаза, стекает за воротник. Колонна быстрым шагом движется в сторону города, конвоиры идут по обочине, беспрестанно подгоняя нас выкриками:
— Шнель, шнель, шнель!
Иногда они врываются в строй, выталкивают кого–нибудь на обочину, снимают белье, сапоги, роются в карманах, вещевых мешках. Шестеро пленных, пытавшихся протестовать, тут же были расстреляны. Трое тяжелораненых солдат замедлили шаг, нарушив строй, отстали от колонны, и конвоиры размозжили им головы прикладами автоматов. Та же участь постигла и тех, кто пытался поддержать падающего от слабости и усталости товарища.
Только на берегу Рыбачьей бухты пленным дали наконец отдых. Видимо, конвоиры и сами выбились из сил. Всех загнали на огород, обнесенный каменной изгородью. Духота и усталость свалили нас с ног. Но пуще всего одолевала жажда.
Повторилась та же история, что и во дворе 35‑й батареи. Здесь водокачка была исправна, но пленных к воде не допускали. Молодой моряк в тельняшке и с повязкой на голове поднес ко рту ладони, изображая пьющего человека, крикнул:
— Эй, охрана, вассер давай!
На крик сбежалось несколько автоматчиков. Один из охранников, стоявший у ограды, указал на того, кто просил воды. Рослый гитлеровец с нашивками унтера не спеша снял с плеча автомат и короткой очередью свалил моряка… Убитый лежал рядом на твердой, как камень, высохшей земле, неестественно откинув в сторону руку, и мы даже не могли его похоронить.
Привал был коротким. И опять — тучи едкой пыли на шоссе, шуршащая под ногами щебенка. Дорога казалась нескончаемой, будто мы шли вокруг земного шара… А по обеим сторонам дороги лежали убитые.
К концу дня нас подогнали к Херсонесскому монастырю. Из уцелевших от бомбежек и артиллерийских снарядов домиков высыпали женщины, дети. Они с грустью всматривались в наши худые, почерневшие лица, сокрушенно качали головами, плакали…
У еврейского кладбища мы снова увидели трупы мужчин и женщин, поперек кювета лежал мальчик лет семи, а рядом валялся его ботиночек. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, когда я увидел этот ботиночек. Точно такие же, коричневые, я купил в мае прошлого года своему Вовке.
…В тяжелом молчании прошли мы вдоль каменной ограды кладбища Коммунаров. Здесь 8 марта мы похоронили нашу прославленную пулеметчицу Нину Онилову. Остались позади здания тюрьмы, больницы, бани, пекарни. Вот и Херсонесский мост, улица Карла Маркса. Куда ни кинешь взор, всюду развалины, кучи кирпича, торчащие над ними печные трубы.
Наконец мы вышли к Историческому бульвару, где высилась обезображенная бронзовая фигура героя Крымской войны 1853–1856 годов Э. И. Тотлебена.
На том месте, где раньше стояло здание военкомата, из–под груды камня, растекаясь по улице, сочилась вода. Тоненькая струйка как магнит притягивала усталых, измученных жаждой людей. Позабыв об опасности, пленные выбегали из колонны, падали ничком, приникали сухими губами к бурой, мокрой кашице… и оставались неподвижно лежать на земле. Их кровь смешалась с водой.
К вечеру, миновав поселок Рудольфова, мы очутились за городом, на виноградниках.
НЕИЗВЕСТНОСТЬ
На иссиня–черном небе ярко горели звезды. Между рядов виноградных лоз и плодовых деревьев вповалку лежали измученные голодом и дневным переходом люди.
Мы с Федором Морозом расположились под густой кроной абрикоса. Сон не в силах смежить мои воспаленные веки — слишком остры были впечатления прошедшего дня. Перед глазами, как в калейдоскопе, мелькали, чередуясь, лица товарищей, залитый солнцем двор усадьбы 35‑й, убитый моряк, мальчик в кювете и фашисты, фашисты, фашисты…
— Он где–то здесь, — услышал я знакомый голос. Повернув голову, увидел две фигуры, пробиравшиеся к нам.
— Вот он!
Я узнал Бориса Хмару и его спутницу — медсестру Березку.
— Товарищ комиссар, — взволнованным шепотом заговорила она, — как мне сказали, что и вас… — она запнулась, ища подходящее слово, — что и вы с нами. Я все глаза просмотрела, вас искала.
Перебросившись парой фраз, Хмара поднялся:
— Меня ждут, я позже приду.
Пока Березка меняла бинты, я рассказал о неудачном ночном прорыве и тут заметил, что медсестра сама нуждается в медицинской помощи. Повязка, наложенная на лоб, была в пятнах крови, рука выше кисти забинтована.
— Где это тебя? — спросил я.
— Третьего дня у тридцать пятой батареи осколком гранаты. Пустяки, отделалась двумя царапинами. До свадьбы заживет, — и поспешно спросила: — Вы знаете, почему я вас искала? Пришла посоветоваться, как быть, что делать дальше?
— Тебя не стоит убеждать в том, что, как только появится возможность — нужно бежать. В этой обстановке, как нигде, требуется мужество — сохраняй его, не делай ничего опрометчиво, сгоряча. Помни, что находишься в руках жестокого врага. Меньше откровенничай, знай, кому довериться, не ошибайся в выборе спутников для побега. Одна не рискуй — погибнешь…
Березка, вздохнув, ладонью коснулась моей небритой щеки.
— Надеюсь, еще увидимся. Счастливо оставаться, — шепотом сказала она и, вскочив на ноги, исчезла за темными виноградными кустами.
Я долго не мог уснуть, лежал в каком–то оцепенении, прислонившись к стволу дерева. На востоке небо начало бледнеть, из темноты стали проступать очертания построек, верхушка башни…
Зашевелился Мороз. Он вытянул занемевшие ноги и тихо, чтобы не разбудить товарищей, сказал:
— Не спишь, Алеша? Зябко… На душе зябко, понимаешь? Все никак не могу привыкнуть к мысли: нет больше Севастопольской обороны, фрицы разгуливают по Приморскому бульвару, они в Ушаковой балке, на Корабельной слободе… Помнишь высеченные на памятнике Корнилову слова: «Отстаивайте же Севастополь!»? Вот и отстояли. Фашисты в городе, а мы в плену… Позор!
— Разве мы сидели сложа руки, Федя, дожидались, пока враг ступит своими сапожищами на гранит севастопольской набережной? Ты можешь сказать такое о себе? Кого же ты обвиняешь?
— Но Севастополь–то пал! Объясни мне, как это случилось? Зачем мы его тогда держали восемь месяцев, с неимоверным усилием цеплялись за каждую высотку, балочку, прибрежный камень? К чему такие жертвы? Кто нам вернет Колю Мохова, Нину Онилову, героев–батарейцев?
Мороз, волнуясь, ждал моего ответа. Я же сам был «стратегом» не выше масштаба полка, действовавшего на небольшом боевом участке. Я по–своему представлял стратегические и тактические планы обороны Севастополя.
В одном я был абсолютно уверен: оборона Севастополя показала всему миру, что Гитлер не может выиграть войну. Привыкшие к стремительным победам в Европе, фашисты обломали свои зубы о скалистый крымский берег. 250 дней они безуспешно пытались подавить дух защитников Севастополя, неся огромные потери. Сковав упорной обороной значительные силы врага на столь продолжительный срок, севастопольцы дали возможность накопить резервы советских войск для успешных ударов на других фронтах. В декабре 1941 года враг стоял под Москвой, хвастал, что видит в бинокль башни и зубчатые стены Кремля. А где теперь эти «подмосковные» фрицы? Придет время, и оккупанты будут изгнаны не только из Севастополя, но и из других наших городов.
Вот это я и сказал Федору в ответ на его вопрос.
То, что он услышал от меня, конечно, было ему известно, но эти факты, воспоминания о подвигах товарищей, о сгоревших желто–черных танках, о «юнкерсах», сбитых над морем, возвращали твердость, бодрость духа, укрепляли веру в то, что 4 июля, когда нас взяли в плен, истребление ненавистного врага не кончается, что, будем мы живы или нет, в конечном счете гитлеровским планам не суждено сбыться, враг будет разбит.
Стало совсем светло. Из–за ограды послышался громкий говор, который сменили звуки губной гармоники.
Солнце еще не показалось из–за Ай–Петри, но теплое утро предвещало изнурительно жаркий день.
Охране не нужно было подгонять нас. Все быстро поднялись и молча выстроились в колонну. Лишь изредка возникали и быстро таяли разговоры идущих под дулами автоматов людей. Каждый думал, что скоро все определится, каждый надеялся на удачную минуту побега.
Вдали показались Сапун–гора, Балаклавские высоты. От шоссе дорога вела на Максимову дачу. Этот путь нам был хорошо знаком. Он связывал–город с Мекензиевыми Горами, с Инкерманом, Бельбеком на севере и Балаклавой на юге. В течение восьми месяцев враг изо дня в день засыпал этот участок снарядами. Воронки, опаленные огнем деревья, развалины и почерневшие скелеты зданий напоминали нам о жарких зимних и летних боях.
Рядом со мной неотступно находился Федор Мороз. Накануне мы дали друг другу слово, пока это возможно не разлучаться, делить трудности плена и, если удастся, вместе бежать.
Вот и Инкерман. Внизу, в ущелье, видны заваленные каменными глыбами штольни, в которых совсем недавно размещался наш медсанбат. Теперь там безлюдно.
А вот и Северная бухта. Мертво и тихо на ее берегах.
Далеко в открытом море сиротливо торчат из воды мачты потопленных кораблей. Высокое здание электростанции слепо смотрит на нас черными глазницами пробоин. Недалеко от нее — развороченные бензобаки. Дорога, ведущая в Мартыновский овраг, усеяна глубокими воронками, а выше… Мекензиевы позиции, наши блиндажи…
Не сговариваясь, мы с Федором обернулись, чтобы еще раз глянуть на Сапун–гору, на все, что осталось от Графской пристани, на памятник затопленным кораблям.
Федор с затуманенными от слез глазами произнес:
— До свидания, Севастополь! Мы непременно вернемся…
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В ПУТИ
После Севастополя начались мытарства по различным концентрационным лагерям. И это длилось долгих шесть месяцев, полных драматизма и духозной стойкости многих наших людей.
Лагерь в Бахчисарае стал еще одним свидетельством звериной ненависти фашистов к советским военнопленным. Если среди нас и были еще те, кто лелеял какие–то надежды на «западную цивилизацию», то они вскоре смогли убедиться, что фашизм — это вандализм, безграничная жестокость и слепая ненависть ко всему советскому.
…После Бахчисарая вторым пунктом остановки оказался Симферополь, вернее, тюрьма, которая приняла нас как каторжан. Здесь нашу. дневку фашисты использовали не только для учетной регистрации, но и пытались выявить, какими специальностями владеют пленные.. Видимо, предполагалось использовать нас в качестве даровой рабочей силы, но отбор на работы не состоялся.
Однако пребывание нашей колонны в Симферополе^ запомнилось еще и тем, что на станции перед погрузкой в товарные вагоны у нас отобрали пояса и верхнюю одежду. Очевидно, мера эта была придумана фашистами или для предупреждения побегов, или чтобы еще раз морально воздействовать на нас. Начались разговоры об угоне в Германию. Страх расставания с родной землей,, рухнувшие надежды на свободу заполнили все наши мысли: об этом каждый думал уже под стук вагонных колес.
После недолгого издевательства в Уманском лагере у нас отобрали обувь, перочинные ножи, полотенца, мыло, расчески и прочую мелочь. Все эти изъятия проводились при плотном окружении автоматчиков, с таинственными знаками. Разыгралась инсценировка массового расстрела, но, к счастью, фашисты этим и ограничились, хотя в первую военную зиму именно в этом лагере ими было уничтожено более 70 тысяч советских военнопленных. Враг рассчитывал сломить волю наших людей, сделать их рабски покорными, запугать.
И опять раскачиваются вагоны и стучат колеса. Куда нас везут? Неужели в Германию? А это значит — смерть в рабстве, это значит — возможность возврата на Родину будет ничтожно мала. Очередным испытанием для пленных стал Владимиро–Волынский лагерь. Этот стационарный комбинат смерти уже поглотил десятки тысяч военнопленных. Бежать отсюда было практически невозможно. Палачи предусмотрели немало всяческих ухищрений для охраны и уничтожения ни в чем не повинных людей. В сутки нам выдавали 10 граммов могара с теплой водой и 100 граммов «хлеба» с опилками.
Прошло всего два месяца пребывания в плену, а многие наши бойцы стали походить на бродячие скелеты. При взвешивании вместо недавних 80 килограммов у меня осталось всего 54.
Именно по этой причине большинство заключенных и днем и ночью лежали на нарах, не имея сил подняться, выйти во двор. Их клонило ко сну, они утратили интерес к окружающему. Во всей остроте встала проблема сохранения тепла. Единственная одежда — брюки и гимнастерка — уже не могла удовлетворить людей. Еще не было сильных холодов, но, лежа на нарах, я сворачивался калачиком, натягивал воротник гимнастерки на голову и согревался дыханием. Зима приближалась с каждым днем. А пленным неминуемо придется выходить на поверку, за пищей, на работу… У дровяного склада я украл две чурки мягкой древесины и начал выстругивать сандалии. Изготовлением обуви занимались и другие пленные.
П. Г. Новиков
И. Д. Пляко
Кусок железа от старого обруча я старательно отточил на камне и, несмотря на слабость, отдавал этому занятию все свое время. На руках появились мозоли, ссадины. И вот однажды, когда изготовление обуви подходило к концу, в бараке появилась какая–то комиссия.
Увидев мое изделие, фашисты схватили его, дали несколько зуботычин и строго предупредили, что при повторной попытке хищения древесины последует более суровое наказание.
Здесь, во Владимиро–Волынском лагере погибли многие мои товарищи, в том числе и мой земляк, школьный друг, отважный боец Павел Букреев. Он был умерщвлен в фашистском лазарете во время какого–то опыта.
За короткое время пребывания в лагере многим стало ясно, что отсюда нам уже не вырваться. Некоторые с этим смирились и стали безропотно ждать своего конца. Гимнастерка и брюки в наступающую дождливую осень не давали никакой возможности спастись.
В основной массе военнопленных дерзость и сопротивление врагу никогда не иссякали. Советские люди продолжали борьбу и тогда, когда из их рук вырвали оружие.
Примером высокой стойкости, верности воинской присяге и своему гражданскому долгу перед Родиной стало поведение пленных генералов П. Г. Новикова — заместителя командующего Севастопольским оборонительным районом, Н. Н. Понеделина — командующего 12‑й армией и Г. Г. Кулиша. Все трое содержались в строгой изоляции от основной массы пленных.
Петра Георгиевича Новикова я хорошо знал. Старый большевик, участник гражданской войны и боев за республиканскую Испанию, он стал душой обороны Одессы и Севастополя. В трудные для города дни он был некоторое время моим начальником. В тот вечер, когда на Херсонесском мысу взорвали 35‑ю береговую батарею, к причалу подошли два катера для погрузки раненых. В их числе был генерал П. Г. Новиков и бригадный комиссар А. Д. Хацкевич…
Только на третий день, уже в симферопольской тюрьме, мы узнали, что катер с Новиковым и Хацкевичем был обнаружен гитлеровцами на траверзе Ялты, обстрелян и пленен. Новикова потом видели в симферопольской тюрьме, а Хацкевич был расстрелян еще в Ялте. Теперь Новиков оказался вместе с нами во Владимиро–Волынске, куда была доставлена большая группа севастопольцев.
В один из августовских дней, когда на плацу лагеря собралось много узников, в воротах появился немецкий офицер с охраной и человек в форме советского генерала. Судя по манерам и той фамильярности, с какой он разговаривал с гитлеровцами, можно было судить, что генерал не был пленным. И это насторожило всех. Через несколько минут из тюремных казематов вывели генералов Новикова, Понеделина и Кулиша.
— Сообщите советским генералам, — приказал немецкий офицер переводчику, — что господин генерал, — последовал кивок в сторону пришедшего, — по поручению главнокомандующего «Русской освободительной армией» генерала Власова желает говорить с бывшими советскими генералами…
Новиков, очевидно понимавший, о чем идет речь, незамедлительно отпарировал:
— Мы не «бывшие», а настоящие советские генералы… Нас никто еще не лишал этого звания.
Власовец, пристально наблюдавший за Новиковым, положил руки на бедра, бросил настороженный взгляд на стоявших рядом военнопленных и заговорил:
— Господа, я надеюсь, что мы с вами проведем беседу мирно… Мы понимаем ваше положение. Генерал Власов, желая облегчить вашу участь, предлагает вам перейти на службу в армию под его командованием. Этого будет вполне достаточно, чтобы реабилитировать вас за службу в рядах Красной Армии…
Новиков, терпеливо слушавший заявление власовца, вдруг подался вперед. Лицо его побледнело, он еле дышал. Прервав говорившего, он резко бросил:
— Позвольте, а кто вас будет реабилитировать за измену Родине и за службу в так называемой РОА?
Власовец, видя, что кольцо любопытных все ближе и ближе смыкается вокруг него, решил предупредить угрозу со стороны пленных.
— Минуточку, минуточку, не волнуйтесь. Я сейчас закончу. Мы не каждого принимаем в свою армию. По поручению генерала Власова я был во Франции…
— Ого, куда его черт занес! — удивился кто–то в толпе.
— Бездомная собака в чужих дворах кормится, — в унисон первому отозвался другой голос.
— В Париже я имел возможность, — продолжал власовец, — видеться со многими русскими белоэмигрантами… Я знал, что некоторые из них имели положительное стремление служить в РОА для борьбы против коммунистической России. Но генерал Власов и я, в частности, отнеслись к этому предубедительно. Вы спросите почему? Я поясню. Штабу РОА стало известно, что так называемые «белоэмигранты» за границей, в том числе и во Франции, как это ни странно, проводят сбор франков, долларов, фунтов и тэдэ и эти средства передают в Москву.
— Значит, не по адресу направляют? Бедный Власов! — бросил реплику Новиков. В толпе грохнул откровенный хохот.
— Подумайте, ведь это против германской армии, против РОА, — возмущался власовец, — они оказались дважды изменниками родины. Мы отказались от работы с белоэмигрантами.
— Правильно сделали! — послышалось в толпе.
Новиков ответил:
— Нет, господа из РОА, служить вам с нами не придется. Я лично был солдатом Красной Армии, им и останусь!
Власовец пытался еще что–то говорить, но Новиков кивнул немецкому офицеру, демонстративно повернулся, заложил руки за спину и пошел прочь. За ним последовали Понеделин и Кулиш.
Этот эпизод у гитлеровского командования вызвал не только озлобление, но, очевидно, и намерение отомстить советскому генералу. Фашисты решили скомпрометировать Петра Георгиевича. Они ничего другого не придумали, как устроить генералу Новикову «очную ставку» с бойцами и командирами — участниками обороны Севастополя.
В один из пасмурных дней пленные были выстроены на лагерном плацу. Прохаживаясь перед измученными холодом и голодом узниками, комендант через переводчика говорил:
— Я сейчас вызову сюда генерала Новикова. Этот генерал так командовал вами и так оборонял Севастополь, что и город, и вас, верно ему служивших, сдал великой германской армии. Вы можете считать его или плохим командующим, или предателем. Я хочу, чтобы, генерал Новиков здесь же перед вами признался в своей вине и рассказал, как он довел русскую армию до плена. — Комендант сделал несколько шагов назад, самодовольно улыбнулся и приказал стоявшему с ним офицеру привести ничего не подозревавшего Новикова.
В строю узников зашелестел шепот, потом выкрики:
— Провокация!
— Фашисты!
— На пушку берут…
— Не выйдет. Мы генералу не судьи…
Комендант вел беззаботную беседу со своим окружением. В это время из маленького домика, расположенного в углу двора, в сопровождении немецкого офицера показался Новиков. Он шел спокойно, заложив руки назад. И вдруг, когда до шумевшей толпы оставалось полсотни метров, кто–то из узников командирским голосом прокричал:
— Смирно, товарищи севастопольцы! Равнение налево!
Новиков этого, очевидно, не ожидал. Он мгновенно пришел в себя, подтянулся, руки легли по швам. Четким шагом пройдя оставшееся расстояние, остановился перед неровными рядами соотечественников, в мертвой тишине смотревших в его сторону.
Удивленно и растерянно взирали комендант и его свита на эту демонстрацию единства и сплоченности советских воинов. Не было ни выкриков упрека в адрес советского генерала, ни самосуда. Развлечение у фашистов не получилось.
В 50‑е годы, встретившись в Министерстве обороны Союза ССР с бывшим командующим Приморской армией генералом И. Е. Петровым мы вспомнили Севастополь, Херсонес… Я рассказал ему, как в мрачные дни плена во Владимиро–Волынском лагере состоялась встреча с генералом Новиковым[9]. Иван Ефимович, одобрительно покачав головой, сказал:
— Петр Георгиевич вел большую работу среди военнопленных в лагере Флесенбург, был одним из руководителей патриотической организации «Братское содружество военнопленных». Гитлеровцы казнили его. Как генерал и советский человек он служил Родине честно и умер достойно.
…Нашу группу в 1500 человек спасла от гибели переброска в другой лагерь. Под Ченстоховом их было два: северный и южный. В северном мы отбыли карантин. Здесь нас целыми днями переписывали и пересчитывали. В конце сентября выдали вместо обуви деревянные колодки, потом гестаповцы отобрали из нашей колонны около двадцати евреев и политработников и расстреляли.
Так называемый южный лагерь представлял собой огромную площадь, разбитую на небольшие клетку из колючей проволоки со стационарными бараками в центре. Здесь постоянно содержалось более 20 тысяч военнопленных, жили они по существу в камерах смертников.
Спасаясь от холодных восточных ветров, утренних заморозков, люди сбивались в кучи. И только в сильные октябрьские холода, когда началась повальная смертность, нам выдали отрепанные, уже побывавшие в ходу советские шинели со следами окровавленных пулевых пробоин.
В эти дни трое наших товарищей попытались бежать из этого проволочного ада, но были пойманы. Раздев беглецов донаг. а, фашисты загнали их в проволочную клетку и оставили там на ночь. Утром их обнаружили мертвыми. Замерзли. Накануне этого неудавшегося побега вторая тройка претендентов на облюбованный «проход под проволоку»: подполковник И. Пляко, капитан Ф. Любанский и автор этих строк — готовилась вырваться на свободу.
Подполковнику И. А. Пляко было лет под сорок. Сутуловатость несколько скрадывала его высокий рост. Неторопливый в суждениях, осторожный и настойчивый, не знаю, по чьей рекомендации, он сблизился со мной, а вскоре познакомил с худым и смуглым Любанским и немногословным Белоусовым. Готовясь к побегу из лагеря, они настойчиво предлагали мне включиться в их группу.
Теперь, после гибели первой тройки, подполковник Пляко возмущался:
— Не знаю, как эта тройка попалась… Если бы мы были первыми, уверен-—ушли!
— Или бы, как этих несчастных, вытащили из загородки закоченевшими, — возразил Любанский.
Иван Денисов подошел ко мне:
— Ты, Леня, напрасно с такими ногами думаешь о побеге… Мы–то уйдем, у нас ноги еще ходят.
— Не уйдет — мы его на руках унесем, — бодрился Федор Мороз.
Такие разговоры возникали часто, когда мы собирались за тыльной стороной барака на скупом осеннем солнышке и смотрели на черную стену леса, начинавшегося в двух километрах от лагеря.
В конце ноября нашу колонну вели на вокзал через пустынный город.
И вот среди этих мертвых кварталов, в плотном кольце автоматчиков, в звенящей тишине вдруг вспыхнуло как пламя:
— Москва моя любимая!..
Казалось, дрогнула земля, рассеялись дождевые тучи, и впереди колонны кто–то подхватил:
— Никем непобедимая…
Девятьсот ослабевших и простуженных голосов подхватили любимую советскую песню, не сговариваясь, открыто и дерзко заявив этим свой протест.
Впереди меня шагал Федор Мороз. Это он запевал в нашем отделении. Ноги его скользили по камням, из разбитой колодки размотавшаяся портянка тащилась по грязи, хлесталась, путалась, но он не замечал этого. Из глубины сердца рвались наружу, звали к победе слова, знакомые с довоенной поры. Моросил дождь, а на лицах цвели улыбки, в глазах горел свет. Свет надежды.
Странно: ни один выстрел не прервал песню, не было слышно и выкриков конвоиров. Охрана видела, как с песней выравнялся строй колонны, слышала, как звучал ритм шага. Любители маршировать в побежденных городах Европы, гитлеровцы молча наблюдали за нашим строем, не понимая, что означает для узников эта любимая всеми мелодия.
НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ
Эшелон шел в Карпаты, к чехословацким зеленым долинам. В горах, в бескрайней синеве лесов, чувствовался дух партизанской вольницы, казалось, и грудь легче дышит. Нас везли в Румынию.
Бывший гитлеровский Слобозиевский коррекционный лагерь, расположенный на реке Яломице, на окраине небольшого городка, сохранил все порядки и режим, установленные немецким командованием.
Нашу колонну разместили в помещении бывшего табачного склада, крыша которого состояла из такого количества дыр, что их невозможно было пересчитать. Тут же мы познакомились с палкой — орудием наведения «порядка»: ею пользовались фашистски настроенные, отобранные из кулацкой среды румынские солдаты и офицеры.
В конце декабря 1942 года погода в Румынии оказалась на редкость суровой: морозы доходили до 30 градусов. Земля покрылась глубоким снегом, дул холодный, пронизывающий ветер. Нас, босых и полураздетых, снова погрузили в товарные вагоны для отправки в город Тимишоару, в другой концентрационный лагерь.
Как ни тяжелы были эти переезды, многим казалось, что каждый из них отдаляет от того рокового исхода, о котором не хотелось думать. Потому, въезжая в новый лагерь, мы ждали избавления от всевозможных мучений, надеялись на побег.
Неоднократные попытки организовать побег из Владимиро–Волынска и Ченстохова не увенчались успехом. Сорвались они и в Слобозии. Физическое бессилие дошло до предела. Я уже не мог сойти с нар, все чаще и чаще впадая в забытье. Пищу и воду мне приносили товарищи. От истощения умирали, как правило, без стонов и в полном сознании.
В один из этих, полных тоски и безысходности дней я лежал, сложив руки на груди. И вдруг услышал:
— Федя, — обратился Шевченко к Морозу, — посмотри, как там Алексей?..
Мороз наклонился надо мной, приложил ухо к груди, проверил пульс.
— Живой еще, дышит, — отозвался он.
Я открыл глаза:
— В чем дело?
— Да это мы так, Леня, спи!
Между тем группа советских патриотов, состоящая из двух десятков военнопленных, продолжала действовать. Они доставали газеты, фронтовые' сводки, организовывали побеги, оказывали помощь слабым, вели борьбу против фашистской пропаганды, власовцев, буржуазных националистов. Среди активистов особо выделялись севастопольцы: старший лейтенант Н. А. Шевченко, подполковник И. А. Пляко, военный журналист капитан И. Д. Денисов, старший лейтенант Ф. А. Мороз, инженер–связист В. М. Клименко, политработник В. М. Володаренко и другие. Они имели некоторый опыт массово–политической работы в лагерях, поэтому их инициатива находила горячую поддержку у большинства военнопленных.
С Никитой Алексеевичем Шевченко я познакомился в Слобозиевском лагере. Он был моим соседом по нарам. Высокий, синеглазый, лет пятидесяти, он много курил, все время покашливая. Первый разговор с ним подсказал мне, что он бывший партийный работник. Его не нужно было агитировать, что должен делать коммунист в условиях плена, он сам был отменным агитатором.
Не менее четко определился облик и второго активного пропагандиста. На него Я обратил внимание еще во дворе симферопольской тюрьмы, находясь в толпе пленных, собравшихся у вывешенной фашистской газеты на русском языке.
Газетка вещала победные дифирамбы генералу Манштейну и его головорезам, вступившим в Севастополь. Высокий блондин, окинув взглядом серый листок бумаги, язвительно бросил:
— Нашли чему верить! Фашистское вранье! — и, посмотрев на стоявших товарищей, закончил: — О том, как мы защищали Севастополь, чего это стоило фашистам, каждый хорошо знает… Они даже грамотно не могут написать свою брехню. Расходитесь.
Это был военный журналист Иван Дмитриевич Денисов, сотрудник нашей армейской газеты.
Что касается «власовцев», то их было лишь несколько человек. Эта почти незаметная в общей массе группа отщепенцев еще пока не служила у генерала–изменника. Окрестили их так потому, что эти люди, поддавшись вражеской пропаганде, агитировали и нас добровольно вступить в гитлеровскую или румынскую армии, пытаясь тем самым спасти свою шкуру.
КАКИЕ МЫ ЛЮДИ…
С самого утра погода неожиданно изменилась: гром откатился куда–то в сторону, но над лагерем клубились черные тучи. По стеклам окон вдруг забарабанили обильные струи дождя. На крышу словно обрушился водопад, шум его заглушил гомон четырехсот узников. Дождь был долгим. За стеной вода журчала и пела, наполняя барак усыпляющими звуками. Темень окутала нары, укрыла углы барака, расползлась по проходам.
Хорошо или плохо, что нас привезли в Румынию, мы пока еще не знали. Известно было только одно: там, где мы находились недавно, над нами постоянно висела угроза расправы со стороны автоматчиков, эсэсовцев, гестапо, овчарок, опыты в «бане» или «шпитале», откуда мало кто возвращался живым. И в Слобозиевском лагере, и здесь, в Тимишоаре, мы были во власти фашистов, голода и холода.
С третьего яруса нар хорошо видны плавающие в табачном дыму и в испарениях серые силуэты людей. Видно и чем они заняты. «Хозяйственно» настроенные, предвидя неотразимые январские холода, штопают дыры на одежде, сучат нитки из прогнивших портянок. Нашлись даже мастера, которые искусно вытачивают иглы. Один из них, называющий себя капитаном, усердно мастерит из обрезков сухой акации мундштуки и портсигары. У окна перед кусочком зеркала крутится молодой лейтенант, пытаясь осколком стекла сбрить с бороды отросший пушок.
Совершенно невозмутимо поведение моего соседа по нарам — инженера–горняка Сухаревского. Он целыми днями на клочках от сигаретных коробок огрызком карандаша выводит какие–то формулы. А «вот человек с одутловатым, землисто–серым лицом. Сложив ноги калачиком, он сидит на втором ярусе, недалеко от входной двери. Перед ним на грязной тряпочке разложены кусок сухой, потрескавшейся мамалыги, моточек сученых ниток, две папиросы–самокрутки, несколько пуговиц военного образца и один конверт с надписью на румынском языке. «Вот попробуй улыбнись, когда грусть хватает за горло», — вспомнил я афоризм И. Д. Денисова.
— Алеша, — услышал я вдруг свое имя.
Из–за нар показались худые, коричневые руки, а затем голова Никиты Алексеевича Шевченко, моего соседа. Он с трудом взобрался на нары и присел рядом.
— Что случилось? В чем дело? — спросил я, предполагая, что с ним что–то произошло, так как руки его дрожали, покрасневшие глаза слезились, страдальчески исказилось заросшее неровными клочьями бороды лицо.
— Да нет, Леня, я просто устал, — ответил он слабым голосом. Но я продолжал испытующе смотреть на него. Не выдержав моего взгляда, он ободряюще улыбнулся. — Я сейчас видел комиссию. Они мне сказали, что ты внесен в список «доходяг»… Будешь три раза в неделю получать по полтораста граммов лошадиной крови.
Сообщение это меня обрадовало и не обрадовало. Дело в том, что последнее время ноги в коленях так ослабли, что я уже не мог подняться на нары. На кухню за пищей для меня ходил Никита Алексеевич, да и обуви у меня не было, ноги обматывал тряпками. Я относился к той группе узников, которые еще во Владимиро–Волынске и Ченстохове растеряли свое здоровье и силы.
Во Владимиро–Волынске фашисты проводили с пленными ежедневную утреннюю «физзарядку». Это–десять минут бешеного сердцебиения, мучительной одышки, ломкой боли в суставах. После второго приседания я падал на спину и уже не мог подняться. Кожа светилась блеском рыбьей чешуи. Просвечивая ладонь на солнце, я четко пересчитывал фаланги пальцев со всеми их изгибами. Две старые раны на бедре сочились розовой водицей, а из обрезанного банкой пальца уже не текла кровь.
В Тимишоаре смертность значительно возросла. Вот тогда созданная из военнопленных комиссия добилась от коменданта лагеря отпуска «доходягам» лошадиной крови.
—Я видел, — снова заговорил Шевченко, — как четверо пленных красноармейцев тащили сегодня на бойню клячу, поддерживая ее досками, пятый вел под уздцы, а шестой подгонял веткой. Дохляка никак на это не реагировала. — Мой приятель пытался захохотать, но только отрывисто прохрипел: — Придется, Леня, пить, Кровь полезна… Жить–то хочешь?
На бойню я доплелся одним из последних. В сарайчике убитой животины уже не застал, ее забрали на кухню. На грязном дощатом полу ползал на коленях такой же, как и я, «доходяга» и пригоршнями собирал маленькие лужицы черно–грязной крови, сливая эту массу в свою посудину.
Относиться к числу «доходяг» мне не хотелось, ни в прямолл (это значило, что человек от истощения организма, болезни, холода оказался в безнадежном состоянии), ни в переносном смысле (к этой категории «доходяг» относились те, кто в силу душевной депрессии уже был не способен восстановить свое моральное достоинство).
На последних пагубно влиял не только сам факт пленения, но еще более устрашающее — голод, холод, репрессии, расстрелы.
Этих физически и духовно полумертвых людей относили ко второй категории «доходяг». Они как тени маячили в общей толпе пленных. Обычно молчаливые, они замыкались в себе, ни с кем не сближаясь.
С другой стороны, эти живые «отшельники» были способны, вымаливая жизнь, стать перед сильным на колени, а в критический момент оказаться предателями. Вот почему к ним относились и с сожалением, и в то же время с отвращением.
Однажды я заметил, как человек с дубинкой в руке разговаривает по–русски о чем–то с пленным. Я подошел к полицаю.
— Земляк, из какой области? — спросил я его.
«Земляк» внимательно осмотрел меня, кинул взгляд вокруг и равнодушно ответил:
— Я с Кубани…
Меня это заинтересовало.
— А какой станицы?
— Урупской…
Я еще хорошо помнил 30‑е годы на Кубани, кулацкие мятежи, кровавые налеты белогвардейских банд. Кулаки из–за угла или темными ночами стреляли из обрезов по коммунистам, комсомольцам и советским работникам, вырезали семьи активистов, поджигали дома, общественные постройки, травили скот, всячески срывали мероприятия по организации колхозов. Диверсии были одна злее другой. Люди потеряли веру в спокойную жизнь. И тогда Советская власть приняла суровые меры.
— Думаешь возвратиться в станицу?
— Конечно. Кое–что есть там и мое. Только станицу я почти не помню. Семью выслали на север, когда я был еще мал.
«Вернуться в станицу после полицейской службы сможешь только при новых, фашистских порядках. А им не бывать», — подумал я.
Интерес к полицаю пропал. Все было ясно. Яблочко упало недалеко от яблони.
На одних нарах, недалеко от меня, лежит капитан–лейтенант А. Приваленков. Сын дворянина, офицера флота, какое он получил воспитание в семье, сохранившей старые традиции и уклад жизни петербургского чиновника, мы могли только догадываться.
Приваленков служил в Военно–Морском Флоте, а затем учился в военно–морской академии. Молодой капитан рассуждал вслух:
— Говорить об истории военно–морского флота — это говорить в первую очередь об английском флоте, его прошлых и нынешних преимуществах, традициях. Остальное — ничто! Советский флот несовершенен. Международных норм в боевых сражениях никогда не соблюдал. У русского флота нет эпической истории, у него нечему учиться. Личный состав офицерского корпуса невзрачен, он обедняет высокий образ моряка…
После неоднократных бесед с Приваленковым я сделал вывод, что это пренебрежительное отношение к советскому Военно–Морскому Флоту и его людям не плод фантазии или итог пребывания в лагерях, а выношенное ранее и подготовленное к случаю желание лягнуть ненавистную для него родину в отместку за утраченное в 1917 году.
Подполковник Иван Антонович Пляко, выслушав мою гневную тираду в адрес кубанского полицая и дворянского офицера, заметил:
— Вот от них и идет ненависть ко всему советскому, неверие в силу Красной Армии. Они толкают слабодушных в объятия гитлеровской и власовской агентуры. Это они за лишний кусок мамалыги становятся подручными фашистов.
И. Д. Денисов
К. Г. Рахманов
Такая ситуация в лагере стала весьма очевидной. Она выдвигала неотложную задачу перед всеми коммунистами, перед теми беспартийными патриотами, кто не утратил чувства долга: восстановить нормы поведения советских людей во вражеских застенках. Предстояло предостеречь «доходяг» от окончательного падения, вырвать их из мрака страха перед голодом, холодом смертью. Ступившим же на путь предательства было решено объявить беспощадную борьбу.
Были настоящие советские люди, коммунисты, верящие в неизбежную победу Красной Армии, с тяжелой горечью переживающие свое пленение, но были и такие, которые считали, что из плена один путь — в тюрьму…
— Патриотическая работа в лагерях никому не нужна, — говорили они.
— Мы теперь не бойцы и не командиры Красной Армии, тем более не коммунисты…
С этой охлаждающей душу «философией» необходимо было бороться. Я видел, как мои друзья: И. Д. Денисов, В. М. Клименко, И. А. Пляко, Н. А. Шевченко, Ф. П. Псел, В. М. Володаренко и другие, такие же голодные и обиженные судьбой люди, повседневно, терпеливо и скрупулезно вели пропаганду среди пленных, вселяли в них веру в победу советского народа, призывали к борьбе с фашизмом, готовили побеги из лагерей. Движущей силой этой самоотверженной, диктуемой чувством долга работы была ненависть к врагу.
В этот день я ждал прихода Денисова. Ивана Дмитриевича я знал еще с Севастополя. Он принадлежал к той группе военнопленных, которые с самого начала лагерной жизни ухитрялись доставать сведения о положении на фронтах, приносить румынские газеты, вести разъяснительную работу среди товарищей.
С Денисовым и Шевченко у нас предстоял разговор о подборе кандидатур для участия в специальном совещании.
Ожидая прихода товарищей, я размышлял о ночном событии в бараке. А произошло вот что: примерно в час ночи, когда люди угомонились и забылись в тревожном сне, в наступившей тишине до моего слуха донесся чей–то пренебрежительный голос:
— Только и слышали о социализме… Пришлось натерпеться от Советов…
«Вот где раскрывается душа человека», — подумал я. Дремоту как рукой сняло.
— Если бы ты знал, сколько я пережил, — отвечал кто–то другой. — В тридцатом году у отца забрали мельницу, а сколько скота, сельхозинвентаря… Хватило бы на два колхоза… До конца жизни не прощу. — Реплика закончилась озлобленным ругательством.
— А я, знаешь, когда сбежал с Соловков, схитрил, даже в Ростовский пединститут поступил, — продолжал первый. — Окончил, а тут на тебе: «Езжай в деревню отрабатывать…» Шиш, думаю…
Но фразу не закончил. Случилось то, что и должно было случиться.
— Ах ты, гад! Советская власть учила тебя, поверила, что человеком будешь, так ты вместо благодарности грязью мажешь? — Это был голос лейтенанта Сучкова, лежавшего, видимо, рядом. — Теперь ясно, почему ты здесь оказался.
— Тихо, комиссарчик! — зло отозвался «соловковец». — У меня родина была, пока отца не расстреляли, а отцовскую родину в семнадцатом году большевики закрыли.
— Мерзавец! — дрожащим голосом отозвался Сучков. В темноте послышалась возня и один за другим несколько глухих ударов.
— За что бьешь? — послышался хныкающий голос.
— За Советскую власть, за предательство! — прерывающимся голосом «разъяснял» Сучков.
— Бей сволочь! — выкрикнул кто–то из темноты.
— Души гадину! — поддержал другой голос.
Слышно было, как Сучков, тяжело дыша, усаживался на свое место:
— Я тебе дам «родину семнадцатого года», а за комиссарчиков, подлюга кулацкая, еще получишь, если язык не прикусишь…
Проснувшиеся от шума соседи загомонили: одни требовали подвесить предателей к перекладине, другие предлагали сделать растяжку за ноги. Шевченко, разобравшись, в чем дело, заметил:
— Молодец, Ваня, поддержал честь Советской власти.
Встревоженный случившимся, я заснул только под утро. Сон был неспокойным: тысячи иголок кололи простуженные ноги, болела спина, ломило искалеченную руку.
Утром, едва проснувшись, заметил, что вчерашних соседей Сучкова на месте не было. Не было и его.
…Денисов пришел вместе с Шевченко. Они взобрались ко мне на нары.
— Никита Алексеевич рассказал мне о вашем ночном происшествии, — заговорил Денисов.
— Да, этот случай еще раз помог нам выявить, кто наш враг, а кто друг. Сучков — крепкий парень.
Шевченко, посмотрел на меня слезящимися, покрасневшими глазами:
— А сколько таких, как он, в лагере!
— А я вам, товарищи, скажу, — отозвался Денисов. — По моим наблюдениям, в каждом бараке десятки товарищей выступают с советской пропагандой, притом делают это самостоятельно. А если создадим центр, всех «добровольцев» можно будет объединить в мощный кулак. — Денисов вопросительно посмотрел на меня.
— Так мы же, Ваня, об этом и толкуем. Давай твои предложения!
Денисов вынул из–за отворота пилотки клочок бумаги и начал читать. По списку было оглашено более десятка фамилий. Характеризуя этих людей, Иван Дмитриевич говорил и о их поведении среди пленных, и о патриотической работе, и о партийной стойкости, сообщил краткие биографические данные. Выяснилось, что все они из разных бараков. Это было очень важно.
— Эти товарищи, конечно, будут нашим резервом и основой для создания в бараках более широкого актива, — заметил я, — а на совещание надо пригласить тех, кого мы хорошо знаем.
5 января 1943 года, в пасмурный и дождливый день, в заброшенной летней кухне, расположенной вдали от жилых бараков, в истрепанной одежде, полубосые, с худыми желтыми лицами, собрались семь узников. Не все они знали друг друга, были ранее знакомы, нельзя было не заметить выражения подозрительности, недоверия, неуверенности и сомнения на некоторых лицах.
Шевченко, как старший по возрасту, внес предложение:
— Первое слово предоставим Алексею.
Рассказав коротко о себе, я задал несколько вопросов присутствующим.
Это не было простым любопытством. Предстояло вести борьбу в тылу врага, сталкиваясь с ним ежедневно лицом к лицу. Познакомившись, мы стали обсуждать первостепенные дела. Важнейшей проблемой оставалась работа с «доходягами». Надо было суметь поднять настроение пленных, вызвать силы к сопротивлению. Требовалось начать активную борьбу со всевозможными клеветническими, антисоветскими слухами, разъяснять сущность фашистской идеологии, вести подготовку к массовому побегу, всячески и беспощадно бороться с вражеской пропагандой, внушать уверенность в безусловную победу Красной Армии.
После тщательного обсуждения решили, что руководство патриотической работой в лагере возглавит подпольный комитет, в состав которого войдут И. Д. Денисов, И. А. Пляко, А. М. Федорович, В. М. Клименко, Н. А. Шевченко, Ф. П. Псел, присутствующие на собрании. Во главе «семерки» утвердили меня.
Расходились по одному.
Придя в барак, я с трудом забрался на верхние нары, вернул колодки своему соседу и, несмотря на то, что было рано и что теперь на мне лежала большая ответственность за жизнь многих моих товарищей, моментально уснул.
СИЛЫ ПОДПОЛЬЯ
Красноармейцы, работавшие в городе, принесли радостную новость: советские войска разгромили гитлеровцев под Сталинградом и гонят их на запад. Стало известно и о том, что в связи с этой катастрофой Гитлер объявил траур по всей Германии. В тот же вечер в бараке старшего комсостава состоялся доклад.
Весть о поражении фашистов была для нас неожиданной. В декабре румынская газета «Тимпул» опубликовала сводку о положении на Сталинградском фронте. По ней можно было судить, что немецко–румынские войска уже давно форсировали Волгу, окружили Сталинград и теперь там полные хозяева. А советские войска в этом районе почти разгромлены.
Узники лагерей, конечно, не верили этим «сводкам», однако каждого из нас охватывала тревога.
Некоторые убеждали товарищей: «Не падайте духом — у нас есть еще Сибирь, тайга, горы… За нашей спиной тысячи и тысячи неодолимых троп, живой дух русских богатырей. Фашистам никогда не быть хозяевами нашей земли…» И в глазах людей снова искрился свет надежды и вера в победу советского оружия. Доставленную из города газету наши переводчики настолько тщательно изучили, что скоро она превратилась в тряпку. Но все эти разрозненные данные о фронтах не удавалось свести в общую картину, из которой бы четко просматривалось истинное положение вещей.
В эти дни ко мне подошел один из офицеров. Он не назвал ни своей фамилии, ни звания. Позже я узнал, что это был Тимофей Ефимович Шамов, что в тяжелые дни боев под Керчью он командовал полком. Его насупленные светлые брови производили впечатление суровой замкнутости. Среднего роста, полный и немного сутуловатый, он даже в условиях плена находил возможность пошутить, приободрить товарища. Эти качества вызывали к нему особую расположенность и доверие.
Интересно и умно он проанализировал создавшееся положение под Сталинградом. Его военная грамотность, глубокие суждения о тактике и стратегии в нынешнюю войну произвели на меня большое впечатление. «Вот такой товарищ нам и нужен», — мелькнула мысль. Комитет решил доверить Шамову время от времени выступать с анализом положения на фронтах. Тут же ему было поручено подготовить доклад о сталинградском поражении гитлеровцев и выступить с ним в бараках.
Тогда же мы утвердили постоянного переводчика Леонида Мельника, которого хорошо знал И. Д. Денисов. Л. Мельник, высокий, широкоплечий, с опущенными русыми усами, с ласковыми голубыми глазами, много лет прослужил в пограничных войсках и отлично говорил на румынском языке.
Незадолго до этого нам удалось установить контакт с одним из румын, работающих в санчасти лагеря, — Тудором Думитреску. Теперь Леонид Мельник при каждом удобном случае встречался с Тудором, узнавал о событиях на фронте, получал от него румынские газеты.
Было решено подготовить и провести настоящую лекцию. Тему подобрали такую, которая противостояла вражеской пропаганде: «О чести, гордости и силе советского человека».
Еще только начали сгущаться сумерки, а в один из бараков стали собираться военнопленные. Их было немного, так как условия лагерной жизни требовали осторожности. Приходили оборванные, но с какой–то веселой лукавинкой в глазах, присаживались на нары, доставали тощие кисеты, закуривали.
А когда за окнами совсем стемнело и в бараке все погрузилось в непроглядную тьму, из угла донесся глухой баритон:
— Товарищи, кто желает послушать, прошу сюда поближе. — И говоривший назвал тему лекции. Это вызвало всеобщий смех.
— Какая может быть гордость, когда мы человеческий облик потеряли! — раздалось из темноты.
— А ты слушай, да помалкивай, — перебили его. — Если есть на плечах голова, не потеряешь и этот облик.
— Тихо, товарищи!
Голос лектора звучал отчетливо, и каждое его слово было хорошо слышно даже в дальних углах.
— Вот только сейчас, товарищи, вы слышали чью–то реплику относительно нашего облика, дескать, ничего человеческого у нас не осталось: ходим рваные, голодные, мерзнем. Но разве в этом заключается суть дела?
Я стоял недалеко от выступавшего и вдруг услышал шепот:
— Кто говорит?
— Не знаю… Голос незнакомый, наверное, не из нашего барака.
Только немногим было известно, что с первой лекцией в этот вечер выступал И. Д. Денисов.
И вдруг шепот стих. В темноту спокойно падали слова: «Победа наших войск под Сталинградом объясняется тем, что мощь Советских Вооруженных Сил с каждым днем растет, приобретается боевой опыт у командиров и политработников, опыт в управлении войсками, в то время как враг с каждым днем истощается, а ресурсов для возмещения потерь у него нет. Мы теперь имеем перевес не только в живой силе, но не уступаем врагу и в технике…
— Здорово! — раздалось в бараке.
— Удачные боевые операции под Москвой и Сталинградом, — продолжал оратор, — свидетельствуют не только о нашей высокой стратегии и тактике, но и о твердости патриотического духа советского человека, о его вере в победу. Мы теперь знаем, где проходит главная линия борьбы на советско–германском фронте…
На следующий день ко мне зашел В. Клименко.
— Лекция заинтересовала всех, — начал он. — Наши люди рассказывают, что «власовцы» точно язык проглотили, молчат, отсиживаясь на нарах. Даже церковные певчие притихли — боятся открыто выступать. А вчера нЬчью в третьем бараке избили власовского агента.
Так с каждым днем росла подпольная группа, становясь крепче, организованней. В работу включились Мороз, Сухаревский, Сироткин, Гармаш, Рахманов и, другие. Теперь стало возможным вести пропагандистскую работу во всех бараках, индивидуально выявлять более стойких сторонников патриотического движения.
Однажды, когда я приплелся на кухню за обедом, ко мне подошел дежурный повар из числа красноармейцев и, нагнувшись ко мне, прошептал:
— Я вас узнал. Вы комиссар, — он назвал мою фамилию и добавил: — А я боец пятой роты, Говенников…
— Вы, очевидно, ошиблись, — ответил я, всматриваясь в его лицо.
— Я понимаю… По внешности вас трудно узнать — худой вы очень. Я сейчас дежурю. Освобожусь — поговорим. — Он быстро пожал мне руку и отошел.
Через полчаса, увидев Б. Хмару, бывшего командира батальона, я сообщил ему о встрече на кухне. Борис задумался, что–то вспоминая, затем сообщил, что В. Г. Говенников — бывший политбоец, коммунист, из рабочих…
В тот же день, к вечеру, Говенников нашел меня. Он сообщил, что в бараках, где содержатся рядовые красноармейцы, много коммунистов, готовых на любое дело. Показывая изувеченную во время неудачного побега из лагеря руку, Говенников рассказал, что его товарищем по неудавшемуся побегу был Василий Могилев, тоже коммунист, ныне работающий, как и он, поваром.
Вскоре я познакомился с В. И. Могилевым. Это был человек невысокого роста, плотный, с круглым добродушным лицом. Взгляд его зеленоватых глаз открытый, прямой. Когда Могилев сообщил мне, что ему часто приходится бывать в городе и что он имеет там кое–какие знакомства, я спросил:
— А нельзя ли найти среди этих знакомых надежного человека, чтобы устроить у него конспиративную квартиру, если она нам понадобится.
Могилев, прищурив глаза, некоторое время перебирал в памяти своих знакомых и наконец сказал:
— Можно найти, есть у меня надежный человек. Рабочий.
— Вот и замечательно! Вам следует поговорить с ним.
— Попробую. Думаю, что не откажет.
Могилев слово сдержал — конспиративная квартира была найдена.
Спустя несколько дней в летней кухне снова собралась «семерка». После взаимных приветствий разговор коснулся того, что давно не давало мне покоя.
-— Считаю, товарищи, что нам необходимо связаться с командованием одного из советских фронтов. Надо сообщить о существовании подпольной организации в лагере и получить необходимые указания о работе в тылу врага.
— Мысль интересная, — поддержал меня Н. А. Шевченко, но тут же усомнился: — А реальное ли это дело?
Во–первых, надо кому–то выбраться из лагеря, во–вторых, пересечь всю Румынию, в-третьих, перейти линию фронта…
— Реальное. Но нужно все тщательно обдумать.
Разговор зашел об организации побега, об использовании конспиративной квартиры, которая теперь у нас имелась в городе. Осталось только подобрать человека, которому можно было поручить это ответственное дело.
— Может, Сироткину? — высказал предположение Н. А. Шевченко.
Федор Сироткин — старший лейтенант. На фронте был связистом, затем танкистом. Отлично владеет румынским и немецким языками. Физически еще достаточно крепок, чтобы совершить этот продолжительный переход.
Через несколько дней (это было в последних числах января 1943 года) мы встретились с Сироткиным в углу лагерного двора. Выслушав меня, Федор разволновался. Его глаза заблестели золотыми искорками, он с трудом сдерживал радостную улыбку.
— Все должен запомнить наизусть. Никаких письменных сообщений мы дать не можем.
— Ясно, — кивнул он головой.
— От того, как тебе удастся добраться до наших, зависит многое. Люди будут ждать.
— Понятно.
Мы еще долго уточняли разные варианты «экспедиции», учитывая все плюсы и минусы. Наконец Федор сказал:
— Все ясно, товарищ майор. Только бы мне выбраться отсюда.
Он широко улыбнулся белозубым ртом, провел пальцами по лихо закрученным светлым усам.
— Ну что ж, Федя, не подведешь?
Вместо ответа Сироткин красивым тенорком запел какую–то веселую мелодию.
Двадцать пять лет — возраст, когда сила человека перерастает в зрелую независимость. Казалось, что мой собеседник пренебрегает необходимой осторожностью.
О чем думал Федор Сироткин, получив ответственное задание подпольного комитета? Буйная фантазия, молодость, тоска по Родине, семье, стремление вырваться на свободу, увидеть милые сердцу луга далекой Костромщины, утолить жгучую боль сердца по любимой… Все эти, безусловно, важные обстоятельства, возможно, укрепят его уверенность в благополучном исходе операции.
Перестав петь, Федор, с веселой хитринкой в глазах и улыбкой неунывающего человека, решительно заявил:
— Все будет выполнено на отлично. Заверяю вас, товарищ майор.
С Сироткиным уходили лейтенанты А. Черненко и И. Григорьев. Теперь оставалось главное — выход за колючую проволоку.
Спустя неделю из лагеря на работы отправлялась большая группа красноармейцев. Накануне вечером Ф. Сироткин и два других командира были переправлены в красноармейскую секцию, где о них должны были позаботиться Говенников и Могилев. Рано утром тройка беглецов была поставлена в колонну красноармейцев. Перекличка и выход за ворота прошли благополучно. Но исчезновение трех узников не осталось незамеченным.
Румынский комендант Чокан вызвал к себе внутреннего дежурного по лагерю полковника Хазановича. Мы ожидали, что все беды обрушатся на его голову. Поэтому, когда Хазанович вышел из штаба и появился во дворе лагеря, его окружила толпа.
Это был высокий, стройный мужчина, с преждевременной сединой на висках. Взгляд его карих глаз показался мне несколько высокомерным. Одет он был в сильно изношенные сапоги неказенного образца, шинель и фуражку.
В. В. Хазанович, заметив уставленные на него вопросительные взгляды пленных, твердо, не подлежащим сомнению голосом заявил:
— За побег из лагеря я не отвечаю. Это же сказал и коменданту.
Уже более двух месяцев действовала наша подпольная организация. Готовилась к уходу из лагеря вторая группа офицеров. Для них чинили обувь, одежду, собирали иголки, ножи, спички, продукты и даже топографические карты. Во главе отобранных для побега людей стоял подполковник Н. Н. Таран, строгий на вид, но душевно добрый человек, и капитан второго ранга А. Тухов.
В первой половине 1942 года майор Н. Н. Таран командовал 2‑м Перекопским полком морской пехоты и вместе с нашей 25‑й Чапаевской дивизией (я в то время замещал комиссара сбседнего с ним полка и отлично знал этого командира) участвовал в боях за Севастополь. Таран в служебных отношениях был довольно щепетилен, в боевой обстановке требователен, никогда и никому не давал повода унижать достоинство моряка.
В лагере мы с ним вспомнили своих однополчан, тяжелые дни обороны на Мекензиевых Горах. Я заметил, что и в тяжелых условиях лагерной жизни майор остается таким же настойчивым и целеустремленным. Узнав, что ноги у меня по–прежнему болят и я не могу даже нормально ходить, он зло сжал поднятую руку.
На другой день познакомил меня с А. Туховым, бывшим командиром лидера «Москва» Черноморского флота, подорвавшегося где–то у Констанцы. Вместе мы обсудили план их побега.
Из барака, вплотную примыкавшего к колючей проволоке, они уже вторую неделю рыли тоннель, через который можно было выбраться на свободу.
Побег едва не сорвался. Когда подкоп был готов и в назначенный вечер люди собрали свои походные пожитки и доски пола уже были вскрыты, в барак вошли два вооруженных сантинела[10]. От неожиданности лицо Н. Н. Тарана побледнело, какую–то долю секунды люди растеряно смотрели друг на друга и на чернеющую в полу дыру. Не успели охранники оглядеться и сообразить, почему вскрыты доски пола, как Н. Н. Таран принял решение. Он выпрямился и скомандовал:
— Обезоружить!
Понадобилось одно лишь мгновение, чтобы сантинелы были повержены. Оказавшись без винтовок, они покорно подняли руки. Входная дверь захлопнулась.
— Если пикните, — майор приложил палец к губам и многозначительно чиркнул по своему горлу. — Поняли?
Румыны молча закивали головами.
— Быстрее, товарищи! — шепотом скомандовал майор.
Двести человек хранили гробовое молчание, еще не зная, чем кончится вся эта сцена.
Таран спустился в подполье последним, унося с собой винтовки сантинелов. И уже из глубины подземелья послышался его глухой голос:
— Винтовки оставим за проволокой.
Один из пленных перевел эти слова сантинелам. Переглянувшись, они радостно закивали головами.
Через пять минут после освобождения охранников в лагере поднялась тревога, но это ни к чему не привело: беглецы исчезли бесследно.
Местные газеты с их лживой осведомленностью не могли удовлетворить наш постоянный интерес к событиям на фронте. На одной из встреч «семерки» возник разговор о радиоприемнике. Все понимали, что только из сводок Совинформбюро можно было почерпнуть важнейшие сведения о ходе войны. Было принято решение сделать свой, на первый раз детекторный приемник. Мысль эту подогревало и то обстоятельство, что член «семерки» Владимир Михайлович Клименко сдружился с лейтенантом Ковальчуком, тоже связистом.
Ковальчук обратил на себя внимание тем, что постоянно собирал какие–то мелкие детали, гвозди, всякие деревяшки и умудрялся из них что–то конструировать.
— Человек дела! — говорил о нем Владимир Михайлович.
Клименко без колебания одобрил нашу затею и заверил, что детекторный приемник они смастерят, если будут соответствующие материалы.
Вскоре наш уполномоченный нашел общий язык с ефрейтором лагерной охраны. Петро Стево сочувствовал Советскому Союзу и горел желанием чем–то помочь военнопленным. Он–то и согласился достать необходимые материалы.
К тому времени окрепла связь с городом. Начали поступать денежные передачи, а для некоторых больных и лекарства. Здесь активно проявил себя Т. Думитреску и врач санчасти лагеря Э. Гельденберг. Последний являлся собственником аптечного магазина в городе и поэтому, желая быть полезным советским людям, деятельно помогал комитету.
Некоторые пленные наивно полагали, что после поражения фашистов на Волге режим в лагере смягчится. Однако усиление его внешней и внутренней охраны свидетельствовало об обратном. Именно в эти дни Гельденберг сообщил нам, что на многих промышленных предприятиях в Тимишоаре прошли мощные забастовки рабочих. Они вылились в многолюдную демонстрацию против клики Антонеску. Демонстранты несли плакаты и транспаранты, на которых были начерчены их требования: «Хлеба!», «Повысить оплату труда!», «Долой войну!». Это сообщение подняло наше настроение: значит, заколебался фашистский строй, в стране намечается кризис.
Вместе с тем в лагерь поступали и тревожные вести: разъяренные фашисты, которых было немало в городе, ле раз грозились сровнять с землей лагерь советских военнопленных, в отместку за сталинградское поражение учинить над ними кровавую расправу.
Оживились и сторонники Власова. Некоторые из них открыто шли в канцелярию лагеря, к самому коменданту. Цель их посещения оставалась неизвестной, хотя среди актива никто не сомневался, что они работают на сигуранцу. Тем не менее нам казалось, что наша группа хорошо законспирирована и ей ничто не грозит.
Однако первый удар по подпольной организации был нанесен внезапно. В конце марта у нашего барака появились комендант лагеря, начальник сигуранцы, дежурный офицер и мажор[11] с солдатами. Было приказано всем обитателям барака немедленно построиться с вещами во дворе.
Всех охватила догадка: перемещение в другой барак или отправка из лагеря… Но в таком случае отправляемые пропускались через баню, предусматривались и другие процедуры сбора, а тут как–то таинственно, к тому же выставлен большой наряд солдат.
— Будет повальный обыск в бараке, — предположил кто–то.
— Вот вам лекции и доклады, — отозвался другой.
Пасмурный зимний день клонился к закату. Под ногами похрустывал подмерзший снег. Лагерное начальство угрюмо смотрело на выливавшийся из узкой двери барака серый поток пленных.
Люди становились в строй и молча ждали дальнейшего хода событий. Но как только начальник сигуранцы, глядя в листок, стал выкрикивать фамилии и ставить отобранных в отдельную шеренгу, многое стало понятным. Список состоял из лиц, в той или иной мере причастных к патриотической работе. Я был вызван одним из первых.
Группу, человек тридцать, без всякого объяснения выгнали из общего двора и направили в крайнюю нежилую секцию лагеря, где и заперли в отдельном пустом бараке. Вокруг него был выставлен усиленный караул, со всех сторон установлено освещение. Замусоренный и холодный, на закате зимнего дня барак казался оторванным от всего мира.
Из «семерки» в числе арестованных оказались только А. Федорович и я. Из наших ближайших помощников по подпольной работе — майор П. И. Литвин, Т. Е. Шамов, В. М. Сухаревский и С. В. Железный, в том числе и старший по лагерю полковник В. В. Хазанович. Успокаивало то, что осталась нетронутой большая часть комитета, а также актив, работающий по его заданию.
Конечно, для всех нас оставалось загадкой, что же последует за арестом. Причиной ареста все считали распространившуюся в лагере большевистскую пропаганду и два групповых побега.
На нарах рядом со мной оказались А. Федорович и С. Железный.
— Может, нас будет судить военно–полевой суд? — раздумывая, проговорил Федорович.
«Кто же предал, — думал между тем я, — кто собирал сведения для коменданта лагеря и начальника сигуранцы, поименно отбирал людей? Один или целая группа предателей живет среди нас, работает на врага!»
Примерно на третьи сутки после нашей изоляции В. М. Клименко, работающий в санчасти, которая одной стороной примыкала к изолятору, через проволоку передал весточку о том, что, кроме смещенного старшего лагеря полковника Хазановича, в бараках сменили всех взводных и на их места назначали в основном «власовцев» и лиц, сотрудничавших с сигуранцей.
Первая стадия нашей изоляции усложнялась тем, что мне как руководителю подполья, оказавшемуся оторванным от остального актива, пришлось единолично решать отдельные вопросы и через Клименко поддерживать связь с комитетом. Сделать это было не просто. В первой записке, переданной товарищам, я напомнил о необходимости как можно глубже законспирировать работу в бараках.
Несмотря на открыто жесткий режим, установленный в лагере, пропагандистская работа не только не утихла, но даже оживилась. Теперь она была направлена на срыв мероприятий, разработанных пособниками врага.
Сигуранца обратила внимание на бессилие «власовцев» погасить продолжающуюся большевистскую пропаганду и обрушилась на своих лакеев, обвинив их в карьеризме. Некоторые прихлебатели были избиты и отстранены от работы. Этот случай послужил поводом для едких шуток и насмешек в адрес ретивых прислужников фашистов.
Такой оборот дела вызвал у них ответную реакцию. «Власовцы» подсунули коменданту лагеря провокационную листовку, что в лагере якобы готовится вооруженное восстание. Последовал дополнительный арест 36 активистов.
Вскоре после перевода в изолятор второй группы пленных активисты собрались на совет.
— У нас складывается два положения: либо пассивно ждать, когда немецкие или румынские фашисты уничтожат весь лагерь, либо организовать побег всех пленных, — решительно заявил я. Меня поддержал Федор Псел:
— Конечно, нужно освободить всех.
Предложение о массовом побеге особенно отстаивал Федорович. С ним согласились все. Тут же обсудили способы освобождения из лагеря и направления дальнейшего пути. В одном из вариантов предполагалось захватить оружие охраны, разрушить проволочное заграждение и идти к Дунаю. Затем предстояло овладеть плавсредствами на пристани, переправиться в Югославию и соединиться с партизанами. Было и другое предложение: разоружить охрану и через Карпаты пробиваться на Украину. Остановились на последнем варианте.
Практически эта задача могла быть решена при условии удачного захвата оружия, подготовки из заключенных боевых подразделений, командного состава, наличии карт местности и сведений о дорогах, мостах, реках, перевалах, состоянии гарнизонов, транспорта противника на пути следования.
Для составления плана вооруженного восстания следовало подобрать опытных людей. Здесь, безусловно, кроме политического руководства, активную роль должен играть человек, знающий военное дело, имеющий опыт и способный своим авторитетом подчинить себе массы. В лагере находились офицеры. Наиболее авторитетными среди них был полковник Хазанович, исполняющий обязанности старшего по лагерю.
Подпольная группа поручила мне переговорить с Хазановичем. В один из теплых майских дней мы встретились с ним на зеленой лужайке в некотором отдалении от бараков. Полковник восторженно проговорил:
— Весна!
— Да, природа берет свое, — ответил я.
Присев, заметил, как полковник, задев сапогом сверкающие огненно–желтые лепестки одуванчика, отдернул ногу.
— Любите цветы?
— Да. В других условиях эти цветы, — кивнув головой в сторону яркой россыпи одуванчиков, заметил Хазанович, — мы считали обычной травой. На днях смотрю: что это народ столпился у окна и внимательно что–то рассматривает. И что вы думаете? На изгороди сидела галка, простая галка! Что значит из–за колючей проволоки смотреть на окружающий мир…
Я сразу изложил Хазановичу соображения «семерки» о возможности массового ухода из лагеря. Выслушав меня, полковник заявил, что он не против этой идеи, и обещал все детально обдумать, а уж потом сообщить о своих выводах.
В начале войны Хазанович был штабным работником одного из крупных войсковых соединений. Под Минском его ранило в ногу. Отходил с бойцами, но попал в окружение. Попытка прорваться кончилась неудачно. Израсходовав все патроны, полковник и семь бойцов пытались пробить дорогу прикладами, но были схвачены.
— Связали руки, били, называли бандитом, — рассказывал полковник. — Затем бросили в лагерь, где не было никаких построек. Голая степь, огороженная колючей проволокой, и небо над головой. Когда начались ноябрьские морозы, мы попросили у лагерного начальства разрешения копать землянки. За эту простую просьбу повесили десять человек. В декабре выдали полотняные палатки. За требование дать дрова для костров и подогрева воды расстреляли двадцать человек. Нашлись три смельчака, которые решили переговорить с немецким генералом, приехавшим в лагерь. Генерал заявил: «От горячей воды русские будут простуживаться и болеть. Не рекомендую». А в конце дня построили пленных, вывели из строя каждого десятого, к ним присоединили троих смельчаков и расстреляли. Вечером перекрестным огнем из пулеметов обстреляли наши палатки. Утром мы похоронили еще двести человек.
— И что вы решили делать? — спросил я.
— Решил бежать. Я был в числе инициаторов побега. Сделали чучело, набив гимнастерку и брюки бурьяном,, ночью подвесили его к проволоке забора и протянули веревку к палатке. Когда начали дергать чучело, поднялась тревога, вся охрана бежала к чучелу и расстреливала его, а пленные бросились в противоположную сторону, свалили ограду. Ушло в лес человек семьсот.
— Молодцы, хорошо придумали, — заметил я.
— А я не успел. Утром фашисты расстреляли человек двадцать. — Хазанович замолчал, рассматривая сорванный стебель травы, затем продолжал: — В январе перевели в Карпаты. Есть там древняя крепость Кресты. Сидели в каменных мешках. Сколько умерло — трудно сказать. Знаю, что летом сорок второго года оставшихся — всего несколько человек — вывели из крепости и отправили в Румынию.
Хазанович замолчал, устремив взгляд на ограду, где Под проволокой пышно росла молодая зелень, осторожно колыхались пушистые одуванчики.
— Вот так, товарищ майор, — после паузы закончил полковник.
Мы встали и молча направились к бараку. Хазанович был с нами, и это меня обрадовало.
Наступили теплые дни. Горячие лучи солнца щедро ласкали землю. Лагерь заметно оживился. Теперь уже редко кого можно было застать в бараках. Обычно с утра пленные разбредались по широкому двору, располагались кто на зеленой, уже примятой траве, кто под стенами бараков, подставляя солнцу свои истосковавшиеся по теплу худые тела.
Еще до изоляции два молодых командира настойчиво пытались уговорить меня бежать вместе с ними из лагеря. И вот теперь, пробравшись через санчасть, они пришли снова ко мне доложить, что кусачки готовы, имеются табак, спички, соль, можно уходить, погода благоприятствует намеченному.
Три недели тому назад при такой же встрече с ними я показал место за общей уборной, где ограда проходила через кювет, а нижний ярус проволоки можно было* поднимать и тогда открывался проход за ограду. За нею было широкое поле, тоже огороженное проволокой, но неохраняемое.
План побега из изолятора возник у меня совершенно случайно. Рассказал о нем члену комитета майору Федоровичу, и он ушел. Дело в том, что Федорович не разделял наших намерений о расширении массовой работы среди пленных. Он был за то, чтобы каждый в отдельности самостоятельно боролся за свою жизнь.
Однако командование лагеря, словно догадавшись о наших планах, приняло меры к усилению ночной охраны. И тут нашлись смельчаки, которые изумили своею дерзостью не только румын, но и всех нас.
В один из теплых воскресных дней, когда пленные под дулами автоматов прогуливались по кругу двора, два молодых офицера — С. Н. Зобнев и Б. И. Савинов — рванулись из толпы и мигом, с одного прыжка, перемахнули через проволочный забор, затем вторым прыжком преодолели второй ярус и скрылись в зарослях кукурузы. Боевая тревога в лагере запоздала, беглецы стремительно уходили в поле, к лесу…
Но радость наша скоро омрачилась. В лагерь под конвоем привели Федоровича, совершившего несколько дней назад побег вместе с двумя товарищами. Во время поимки их жестоко избили, а затем руки приложили еще немецкие уполномоченные при лагере.
Солдат румынской армии Петро Стево, сочувствующий русским, рассказал нам, что Антонеску издал приказ: «За поимку советского солдата поймавший награждается одним гектаром земли, за поимку офицера — тремя». Только поэтому беглецов быстро нашли.
Из румынской газеты «Тимпул» мы узнали, что после разгрома под Сталинградом немцы отступают, терпят поражение и на Кубани, что идут бои за освобождение Севастополя. «Жаль, что без нашего участия», — думал каждый из нас. Сколько раз я в эти минуты вспоминал последние, полные героизма и самопожертвования дни обороны Севастополя.
Быстро катилось лето. И вдруг нас неожиданно погрузили в эшелон. Куда, почему? Мы ничего не знали.
Именно в это время до нас донеслась радостная весть: под Курском и Орлом Советская Армия разгромила большую вражескую группировку. Восторгу и радостям не было предела.
Заканчивались последние часы нашего пребывания в Тимишоаре. На всю жизнь мы запомнили эти дни, дни борьбы и надежд за колючей проволокой.
В книге «Советские люди в европейском Сопротивлении», выпущенной издательством «Наука» в 1970 году, есть такие строки:
«…В лагере советских военнопленных, находившемся в Румынии, близ г. Слобозия, восточнее Бухареста, в конце 1942 г. советские военнопленные А. Е. Рындин, В. М. Клименко, И. Д. Денисов, И. А. Пляко, В. М. Володаренко и другие создали сплоченную подпольную патриотическую группу. В декабре 1942 г. военнопленных перевели в г. Тимишоара, где работа группы еще более активизировалась. Подпольный актив вырос до нескольких десятков человек. Были созданы группы как в офицерских бараках, где находилось 2400 человек, так и солдатских, где было 17 тыс. человек. В январе 1943 г. на собрании подпольщиков офицерских бараков было решено оформить патриотическую организацию».
ЛАГЕРЬ НА БЕРЕГУ ДУНАЯ
Ночь кончилась. Теперь уже далеко позади остался город Тимишоара. В перестук колес вагона вдруг вмешался какой–то всеохватывающий, словно водопад, шум. Разговор проснувшихся соседей притих, вернее, он был поглощен этим ворвавшимся в вагон непонятным шумом.
— Дунай, товарищи! — раздался возглас.
Открыв глаза, я сразу увидел голубеющий мрак в вагоне, густую зелень деревьев за окнами, в просветах — блики утреннего солнца.
— Вставай, посмотри — Дунай, — расталкивал меня Шевченко.
С верхних нар мне хорошо была видна широкая даль бурлящей реки. Временами на той стороне, у подножия гор, мелькали то маленькие селения, то отдельные, похожие один на другой домики. «Пограничники», — подумал я. Еще в Тимишоаре при обсуждении маршрута следования после побега было установлено, что область Банат имеет на юге границу с Югославией Ло Дунаю.
Шевченко отошел от окна.
— Алексей, а ведь это пороги Железных Ворот. Здесь Дунай отделяет южные отроги Карпат от Балканской гряды.
Друг мой о чем–то задумался и затем продолжал:
— Вот бы махнуть на ту сторону, к югославам. Несомненно, в горах есть партизаны. Во всяком случае, можно было бы скрыться… Представь, на недоступной зершине или в ущелье, а может, в густых зарослях леса сейчас сидят у костра партизаны. Эх, вот нам бы туда…
Эшелон еще долго и медленно полз под покровами вековых кедров, дубов и нависших над дорогой скал. Лес расступился неожиданно, и вдали в дрожащем горячем воздухе заголубели мелкие изломы гор.
В середине дня мы проехали большие станции Турну–Северин, а затем Крайову. Достигнув равнины, поезд устремился на юг. Здесь распростерлись зеленые поля кукурузы, у небольших хуторков и полустанков попадались плантации виноградников. Чем ближе поезд подходил к южной границе Румынского королевства, тем заметнее становилась гряда Балканских гор, темной стеной идущих с запада на восток.
Город Калафат стоял на самой излучине Дуная, где река круто поворачивала в сторону моря. Здесь была небольшая пристань, к которой подходила узкая полоса железной дороги.
Пока военная администрация решала нашу дальнейшую судьбу, мы узнали, что в городе размещается штаб румынского артиллерийского полка и немецкий саперный батальон. К нашему вагону подошел портовый рабочий. Широко улыбаясь, он заговорил на чистом русском языке. Как выяснилось, это был русский солдат, попавший в 1914 году в плен и оставшийся здесь, в Румынии, навсегда.
— Слушай, земляк, — обратился к нему Шевченко — а что тебе известно о коменданте лагеря?
«Земляк» посмотрел на Шевченко, не торопясь закурил сигарету и заговорил:
— Комендант лагеря — шкура, если говорить по–солдатски. Подполковник, сын жандармского полковника, от фронта увиливает, жена — дочь крупного землевладельца–грека. Его считают службистом, самодуром. От него стонут подчиненные… Так–что учтите…
— А что это за город на той стороне Дуная? — спросили из другого вагона.
Соотечественник и на этот вопрос ответил охотно:
— Это болгарский город Зидин. Очень старый. Построен еще римскими завоевателями. Известен как революционный город Болгарии.
Бывший русский солдат любезно поклонился нам и ушел.
Утром нас построили в колонну и повели через город. На северной его стороне мы увидели такой же большой лагерь, как и в Тимишоаре. В ста метрах от лагеря за высоким обрывом берега шумел Дунай. Здесь он казался еще более многоводным и каким–то тяжелым, медлительным. Противоположный берег был так далек, что на нем едва просматривались человеческие фигуры. «Отсюда не убежишь, волны догонят», — подумал я.
— Девятнадцать бараков, — сказал Денисов, трогая меня за плечо, когда колонна влилась в обширный двор лагеря, — вот теперь и предполагай на сколько взводов будем распределены.
Пока мы с Денисовым осматривались, румынские солдаты принесли стол и скамейки. Около них суетились писари.
Вдруг рядом раздался выкрик:
— Аша, домнуле колонел! [12]
— Господин полковник появился, — не удержавшись от саркастической улыбки, пояснил Денисов.
Действительно, от ворот быстро шел толстенький румяный человек. На его голове красовалась большая форменная фуражка, через правое плечо свисали яркие аксельбанты, рука сжимала инкрустированный стек. Когда комендант приблизился к нашей группе, мы рассмотрели крупные, черные беспокойно бегающие глаза. Наконец он остановился и, приподнимаясь на носки, напряженным голосом прокричал:
— Я есть комендант лагеря, колонел Попович. Требую лагерной дисциплины, выполнять мои приказы… Я ненавижу большевиков, никакой пропаганды не допущу. Буду наказывать карцером и расстрелом…
— Вот и познакомились! — отозвался кто–то в колонне.
Комендант повернулся и быстро ушел. Вслед ему посыпались колкие смешки и даже свист.
На третий день нашего пребывания в новом лагере я собрал надежных товарищей и предложил избрать подпольный комитет. В его состав вошли: Шевченко, Денисов, Клименко, Пляко, Володаренко, Псел и я. Кроме новой «семерки», во все бараки были назначены пропагандисты.
Мне было разрешено встретиться с каждым из введенных в руководящую группу товарищей.
Подполковник Иван Антонович Пляко, старый мой знакомый еще с Ченстохова, бывший работник армейского штаба, с настойчивым характером, но сдержанный, ответил на мое сообщение о включении его в состав комитета:
— Готов и здесь служить Родине!
Капитана Виктора Михайловича Володаренко мы узнали тоже в Ченстохове, когда готовились к побегу, а сблизились с ним в трагические минуты. Гестаповцы производили тщательный отбор евреев и политработников для уничтожения. В ченстоховских лагерях по каким–то непонятным правилам нас весь день строили, перестраивали, подсчитывали, фотографировали и снова пересчитывали. И наконец в один из пасмурных дней в загоне появилась группа эсэсовцев с «врачами». Они проходили между рядами и каждого пленного рассматривали в профиль, заглядывали в глаза, прощупывали затылок. Из рядов то и дело выталкивали людей с явным обликом евреев, по спискам называли отдельные фамилии.
Рядом со мной стоял В. М. Володаренко. Я с трево< гой ожидал подхода «врачей». Виктор среднего роста, плотный, по чертам лица скорее похож на кавказца. Но «врачи» находят какие–то особые расовые признаки и этим решают судьбу человека. Володаренко внешне был спокоен, но его рука, касавшаяся меня, дрожала.
Он и я с одинаковой пунктуальностью были подвергнуты унизительной, никаким законом в обществе не предусмотренной экспертизе на «качество человека». В этот день его, еврея, а меня, политработника, жестокая участь миновала.
До войны Володаренко читал курс диалектического материализма в одном из украинских университетов. В лагере проявил себя как неутомимый пропагандист и организатор. После моего сообщения, что ему придется руководить лекторской работой, он попросил прикрепить к нему Василия Михайловича Сухаревского, беспартийного инженера, широко эрудированного, энергичного человека. Мы согласились с его просьбой и не ошиблись: Сухаревский отлично справился с заданием подпольного комитета.
Ф. Ф. Коршунов
В. М. Клименко
Товарищи, опрошенные мною, дали согласие выполнять поручения «семерки». Согласились без колебаний, с полной готовностью. Это означало, что наш комитет правильно сориентировался, верно оценил настроение большинства военнопленных.
В начале сентября в лагерь прибыла новая группа узников — около двухсот офицеров. «Семерка» вскоре выявила, что в лагере Майя, откуда прибыла группа, на протяжении длительного времени усиленно велась враждебная пропаганда, целью которой было моральное разложение советских военнопленных. Зимой 1942 года многие пленные в Майе умерли от холода, голода и побоев. Фашисты специально создавали такие условия, чтобы заставить узников решиться идти на службу в РОА. Нашлись «добровольцы», но были и такие, которые не поддались вражеской провокации. Часть их была уничтожена, часть распределена по разным лагерям.
Один из прибывших сразу сообщил нам:
— Москва и Сталинград в руках немцев… Красная Армия отступает в Сибирь.
Мы рассмеялись. А потом, убедившись, что вражеская пропаганда и методы обработки людей оказались страшными, задумались. Перед нами встала неотложная задача: как можно скорее вывести этих людей из заблуждения. Было ясно, что это не власовцы, враждебно настроенные к советскому строю, не буржуазные националисты, а просто духовные «доходяги».
И все же среди прибывших оказалось немало советских патриотов, не поддавшихся вражеской пропаганде. Была создана группа, возглавить которую комитет поручил старшему политруку Федору Федоровичу Коршунову.
Коршунова доставили в лагерь позже всех, так как некоторое время он находился в госпитале в городе Крайова. К нам попал в довольно тяжелом состоянии.
Пребывание Коршунова р госпитале оказалось полезным вдвойне. Врач госпиталя, лысый, розовощекий, с тонкими чертами лица, сочувствовал больному советскому офицеру. Время от времени он приносил ему иностранные иллюстрированные журналы, пытался завязать с ним беседу. Коршунов снисходительно улыбался, рассматривая иллюстрации, пытался прочесть подписи под ними.
Однажды врач, подойдя к его постели, извлек из–под халата книгу и протянул ее Коршунову.
— Спрячьте, — по–русски шепнул он.
Коршунов взглянул на плотный картонный переплет и от неожиданности ахнул. Перед ним был «Краткий курс истории ВКП(б)». Он обрадовался, протянул руку, но тут же отдернул ее, спохватился: «Не провокация ли?».
— Спрячьте, — настойчиво повторил врач и, улыбнувшись, сунул ему в руку книгу.
С нею он и приехал к нам в лагерь. Долго крепился, прятал ее, а когда понял, что новым товарищам можно доверять, отдал книгу комитету. Впоследствии мы пользовались ею при подготовке к докладам и лекциям, в революционные праздники.
В. М. Володаренко по поручению комитета отвечал за пропагандистскую работу в лагере. Вместе с В. М. Сухаревским он часто выступал в бараках, информировал нас о проделанном.
Через несколько дней после прибытия пленных из лагеря Майя ко мне прибежал посыльный от Володаренко и Коршунова с просьбой сейчас же прийти в один из бараков.
Я пошел. У двери стоял наш патруль. Барак был битком набит людьми.
— Полковник проводит беседу, — предупредили меня.
Уже у входа я услышал басистый, твердый голос старшего в лагере.
—…Вы забываете, что живете среди товарищей по оружию, настоящих патриотов своей страны. А среди вас есть такие, которые готовы смалодушничать перед врагом, предать Родину, предать своих матерей, совесть, предать за фашистскую похлебку…
Хазанович, обращаясь к майцам, продолжал:
— Не трусов я хочу видеть перед собой, а твердых, решивших бороться до конца с врагом бойцов. Вместо слабодушных людей, готовых верить каждому слову хитрого врага, я хочу стоять в строю с теми, кто готов с оружием в руках освободить себя, вернуть доверие Родины. Кто настоящий патриот? Поднимите руки!
Этот вопрос был столь неожиданным, сколь и ответ на него. Как по команде, над головами возник лес рук. Хазанович, Коршунов и Володаренко удивленными глазами глядели на стоящих перед ними людей.
— Все подняли! Значит, все патриоты? — полковник улыбнулся и уже спокойным тоном добавил: — Так почему же вы молчали? Я вас ругаю, а вы молчите.
— Виноваты, товарищ, полковник, — отозвался кто–то, — все виноваты, ошиблись…
— Сбили нас с толку власовские прихвостни…
— Прошу слова, товарищ полковник, — крикнул незнакомый голос.
— Давай выходи, — отозвался Володаренко.
На скамью поднялся высокий, изможденный голодом и непосильной работой человек. Смело глядя в толпу, он тихо заговорил:
— Товарищи! Я обращаюсь к майцам. Правильно говорил здесь старший по лагерю. Смалодушничали мы,' подписали заявление! Боялись голодной смерти! Боялись холода! Много наших товарищей погибло. Но мы не подумали о том, что будет завтра… Это не оправдание, что мы якобы хотели обмануть лагерное начальство, а потом бежать. Просто побоялись смерти, нарушили свой долг перед Родиной. Я предлагаю просить прощения у наших собратьев по несчастью. Мы даем клятву, товарищ полковник, — обратился он к Хазановичу, — что тяжкую свою вину искупим на поле боя…
— Искупим! — раздались голоса.
— Свободу узникам!
— Долой изменников!
— Надо отказаться от своих заявлений! — сквозь шум выкрикнул оратор.
— Взять обратно!
— Отказаться!
Володаренко и Коршунова тесно окружила толпа. Она гудела, расходилась. У выхода из барака ко мне подошли Хазанович, Володаренко и Коршунов.
— Вы понимаете, зашли мы сюда с Коршуновым, а они потребовали откровенной беседы. Вот и побеседовали… — объяснил полковник.
ДАЛЕКИЙ ГОЛОС МОСКВЫ
Первый вариант детекторного приемника, смонтированного еще в Тимишоаре, оказался несовершенным. Он ловил только некоторые станции на Балканах и в Турции, но Москву не принимал. Сейчас Клименко со своим подручным готовили новый. Мне захотелось самому посмотреть, в какой стадии находится эта работа, и я направился в барак к Клименко.
— Свои! — услышал я, открывая дверь. У порога меня встретил, дружески взяв под руку, Саша Королев. В бараке шла лекция.
— Стою на часах, товарищ майор.
— Неудачного часового выбрали, — улыбнулся я.
— Почему, товарищ майор? — удивился Королев.
— Как почему? В Севастополе, у тридцать пятой береговой, тебя немцы били, в Слабозии пороли, — подзадоривал я Сашу.
Здоровенный кулак Королева поднялся к моему лицу:
— Да я их… Дайте только срок, я им всем покажу. Сашку Королева они еще узнают!
— Что это, Саша? — указал я на розовый шрам у переносицы.
— Это на Мекензиевых Горах. Взял бы снайпер чуть влево, и была бы мне хана. — И затем уже тихо добавил: — Вы меня извините, товарищ майор, я вам все–таки очень благодарен за то, что вы тогда, у тридцать пятой, помогли. Крышка бы нам была. Разрешите задать вопрос: когда же будем уходить из лагеря?
— Если сумеем — хоть сейчас. Ты же сам говорил, что ходить не можешь, — решил я проверить Александра.
— Да, ноги действительно ни к черту не годятся. А руками хоть сейчас могу разодрать Поповича, как таранку.
Таков Саша Королев. Мне вспомнился один случайно услышанный разговор. Было это в лагере Слабозии. Приглушенно говорили двое.
— Ну что, Миша, как себя чувствуешь?
— Ты же видишь, ходить не могу.
— Скоро весна. Надо тренироваться…
— Но ты же меня под руки не будешь водить. Сам доходяга:
— Подсохнет — буду водить. А если уйдем за проволоку, на плечах унесу.
Миша хмыкнул:
— Я тебе и так уже дорого обошелся…
Сквозь шум в бараке я узнал голоса. Разговаривали Александр Королев и его друг Михаил Горячий. Они лежали в самом углу наших нар, на третьем ярусе.
«Значит, оживает», — подумал я, вспоминая жуткую экзекуцию, устроенную две недели назад комендантом лагеря.
…В декабрьское морозное утро падал сне>Кок. На плацу в каре построили военнопленных. На середину вражеские солдаты вывели почти голого человека. Это был старший лейтенант Александр Королев. «Адамово» одеяние Королева никого не удивило: многие знали, что Королев, заботясь о здоровье своего фронтового товарища Михаила Горячего, тоже старшего лейтенанта, постепенно все свое «обмундирование» вещь за вещью выменял румынским солдатам на хлеб, мамалыгу, мясо.
Королев, рослый, мускулистый, со светлым чубом, крупными серыми глазами, спокойно смотрел на окружающих. Думал ли он в эту минуту, что эта унизительная процедура может стоить ему жизни? Он знал наверняка, что товарищи верят в его стойкость.
Королева поставили босыми ногами в покрывшуюся ледком лужу. Комендант лагеря, толстенький, пучеглазый, вышел немного вперед и через переводчика объявил:
— Этот военнопленный продал свое обмундирование… Нет культуры… — Комендант подал команду: — Экзекуция!
Солдат лагерной охраны встал спиной к дрожащему от холода Королеву и, закинув его руки на свои плечи, нагнулся так, что Королев повис на его спине. Два солдата с обеих сторон взмахнули ремнями и начали избивать военнопленного. Голова Королева откинулась назад, блеснули стиснутые зубы, плотно прикрылись глаза. Ремни со свистом впивались в посиневшее от холода тело. Спина быстро вздувалась красно–бурыми рубцами, потом рубцы начали лопаться…
По рядам пленных как будто прошел электрический ток. Строй зашевелился, нарастающий гул возмущения заглушил удары ремней, но палачи продолжали свое’ дело.
Тело Королева вначале как бы пружинилось, он не издал ни одного стона, потом оно обмякло и повисло, голова склонилась на плечо.
— Довольно, палачи! — раздалось из толпы.
— Мерзавцы!
— Кровопийцы!
— Фашисты!
У одного из палачей»лопнул ремень, и конец его отлетел к ногам коменданта. Тот метнул взгляд в сторону охранника и прокричал:
— Экзекуция, экзекуция! — давая понять пленным, что его воля непреклонна. Но видя, что строй пленных смешался, шум и крики усилились и могло случиться непредвиденное, приказал:
— Гата!
…И вот теперь, слушая разговор Королева о подготовке к побегу, я невольно восхищался его физической и духовной силой. Плен, голод, холод, издевательства не сломили его.
Из беседы двух друзей я узнал еще одну тайну.
— А как ты познакомился с Березкой? — спросил Горячий.
— Да там же, на Херсонесе, — ответил Королев — На третьи сутки боев у тридцать пятой батареи нашу группу морской пехоты прижали к берегу. Отрезали… — Королев на мгновение умолк. Сейчас они, эти вспышки автоматного огня, треск гранат, как бы возникли снова, как бы коснулись его груди, и Королев вздрогнул.
Горячий понимал, что воспоминания о пережитом волнуют Александра, друг даже будто забыл о нем.
— А дальше, дальше что? — не выдержав, переспросил старший лейтенант.
Королев посмотрел на него и продолжал:
— Да я и забыл, как познакомился. Я, наверное, тогда действительно много крови потерял. Как свалился у танка, и сам не помню. Почувствовал боль в плече и что кто–то рвет на мне тельняшку. Открыл глаза, а это медсестра. «Вы же командир, сколько крови потеряли, а молчите, — с упреком говорит она мне и спрашивает: — Как ваша фамилия?» Знаешь, когда девушки задумают какое–нибудь коварство, обязательно начинают с фамилии… Да, точно. А я смотрю в ее карие глаза и не пойму, от чего голова кружится: то ли от потерянной крови, то ли от близости медсестры. Вижу, как из ее глаз сыплются зеленые искорки, а на душе музыка играет.
— Это у тебя от малокровия, — усмехнулся Горячий.
— Да какое там малокровие! Просто сразу втюхался. Смотрю на нее и не пойму — улыбается она или от природы такая? А она опять: «Как ваша фамилия, моряк?» А я просто онемел. Я никогда не видел близко таких глаз. Она, брат, нашенская…
— Ну, а потом? — торопил друга Михаил.
— Не знаю, — Миша. Она тоже где–то тут, в плену…
Вот такой разговор я услышал тогда и вспомнил о нем сейчас. Да и как забыть искренние слова молодых друзей о твердости, суровости, решимости, надежде, любви, нежности.
Было это сравнительно давно. А сейчас я входил в барак. Пленные после трудного дня работы на карьере расположились почти у дверей: кто на нарах, кто на полу. Люди сидели тихо, покуривали самокрутки и внимательно слушали.
Федор Псел стоял у нар и глухим тенорком рассказывал о Чудском озере, где русские богатыри разгромили немецких псов–рыцарей. Увидев меня, он улыбнулся, приветливо кивнул головой, но беседы не прервал. Я осторожно, чтобы не шуметь, пробрался сквозь плотное кольцо слушателей и направился в другой конец барака, где у высокой железной печки «колдовали» Клименко и Ковальчук. От жаркого огня лица их были потными и раскрасневшимися. Поздоровавшись, я спросил Клименко:
— Почему вдруг лекция, люди умаялись, хотят отдохнуть…
— Стараемся другой план выполнить к сроку… Приемник мастерим. А чтобы никто не мешал, Володаренко прислал Псела с лекцией, — улыбнулся Клименко и вытащил из нагрудного кармана маленькую стеклянную ампулу. — Смотри, один кристалл уже готов, медный. Попутно с ламповым подумаем все же наладить и детекторный.
Передо мной была обыкновенная, но только укороченная и запаянная пробирка, наполовину наполненная серо–желтым сплавом.
— А сейчас начнем снаряжать другой, свинцовый. — Клименко развернул бумажку с мелкой блестящей стружкой и начал осторожно высыпать его в подставленную Ковальчуком пробирку, уплотняя смесь маленькой щеточкой. — Это для того, чтобы запаять без доступа воздуха.
Через два дня Клименко доложил, что детекторный приемник готов. Уже слышали Софию и Анкару, но Москвы слышно не было.
— Надо все–таки делать ламповый, — с грустью, но твердо заявил инженер.
Желание услышать голос далекой, но теперь особенно близкой Москвы не давало нам покоя.
Правда, надежными информаторами по–прежнему были работники кухни и санчасти. Они регулярно встречались с Тудором Думитреску, врачом Гельденбергом и красноармейцами, работавшими в городе, от которых получали кое–какие сведения. Эту информацию кратко записывали на клочках бумаги, записки пристраивали ко дну кадушек с мамалыгой, прятали в картофельные клубни, зашивали в парусину госпитальных носилок и доставляли в лагерь. Наконец из ржавой жести был изготовлен цилиндр, что–то вроде звена водосточной трубы. Его начиняли вырезками из газет и незаметно перебрасывали через колючую проволоку в нашу секцию.
Использовался нами и такой канал связи. Чтобы сэкономить топливо, начальство лагеря разрешало пленным купаться в Дунае. При этом офицерский состав пленных располагался на почтительном расстоянии от красноармейского, находившегося обычно выше по течению. В таких случаях красноармейцы прятали свою корреспонденцию в доски и, привязав их к обрубкам бревен, пускали вниз по течению. «Почта» благополучно поступала по назначению.
Но такой способ поступления сведений зависел от случая. Вот тогда и было решено создать одноламповый приемник. Но как и где достать материалы? В экстренном порядке провели совещание. Радиоприемник должен быть малогабаритным и в случае необходимости быстро разбираться на отдельные части.
Надежда была только на В. М. Клименко.
В Ченстохове мы едва не потеряли Володю Клименко — рослый брюнет с довольно смуглым лицом выдавал себя за природного одессита, И это его чуть не погубило.
Во время очередной фильтрации Клименко вытолкнули из строя. Более тридцати человек были отведены к канцелярии лагеря. Один из полицаев развязно посоветовал нам:
— Попрощайтесь, они не вернутся…
Кому приходилось переживать тягостные, безысходные дни в заключении, жить с сознанием того, что каждая минута может быть в твоей судьбе последней, тот понимает, как в этих условиях сближаются и роднятся одинаково обреченные люди. Клименко был одним из таких близких, преданных товарищей, его судьба была подобна нашим. И вот его увели. Мы знали, что оттуда, куда уводят гестаповцы нашего брата, назад не возвращаются. Сердце сжимали боль и жалость, гнев и ненависть.
Прошло более часа, и вдруг раздался крик:
— Идет! Клименко идет!
Онемевшие от неожиданности, охваченные радостью, затаив дыхание, мы ждали, пока он подойдет к нашей группе. Лицо его было бледным, видимо чудом оставшийся в живых, он еще не отошел от нервного потрясения.
— Спасибо врачу из военнопленных: он доказал, что я настоящий украинец, — начал рассказывать Клименко, — — проверили со всей тщательностью мою анатомию и по каким–то признакам оставили в живых.
В ту ночь мы долго не спали. Доброта, общительность, трудолюбие — главные черты характера Клименко. Он не раз рассказывал, как еще пареньком убежал в военное училище, стал летчиком, служил на Дальнем Востоке и наконец стал инженером связи. Там же, на Дальнем Востоке женился на одной из прославленных хетагуровок. Крепкую любовь к жене не скрывал от товарищей.
Петро Стево купил в городе необходимую радиолампу, добыл телефонный наушник и гитарные струны, которые шли для изготовления катушек. С целью изоляции проволоки мастера применили смолу, снятую с толя, которым была укрыта крыша барака. Для антенны раздобыли оцинкованную проволоку и укрепили ее на крыше барака. Сложнее оказалось с питанием. Вначале несколько батареек было похищено из карманного фонаря офицера лагерной охраны. Эту «операцию» ловко проделал Саша Королев.
Батарею пришлось делать самим. Из пожертвованных пленными котелков было вырезано сорок медных и столько же цинковых пластин. Их переложили плотной бумагой, смоченной в растворе нашатыря и соли. Батарея оказалась громоздкой, и ее пришлось установить между наружной и внутренней досками обшивки стены.
Наконец труды, вложенные в это дело, окупили себя. До сих пор отчетливо помню глубокую осеннюю ночь в бараке. Пленные, скованные тяжелым сном, отдыхали. В окна вливался лунный свет, словно сизый папиросный дымок, а на верхних нарах, куда мы забрались, царил мрак.
Клименко, держа у самого уха наушники, настраивал приемник. А мы, сгрудившись полукругом, с нетерпением следили за каждым его движением.
И вот он вздрогнул, затем еле слышно выдавил:
— Есть. Москва!
Я выхватил у него наушник. В нем что–то потрескивало, слышался далекий голос. Вот он стал яснее. «Говорит Москва». Знакомый голос Левитана.
В ту ночь мы долго сидели на верхних нарах. Наушники переходили из рук в руки. Я слышал возбужденное дыхание товарищей, их радостные восклицания.
В этот вечер мы поняли, Что оказались еще перед одной преградой. Для того чтобы записывать содержание важнейших передач из Москвы, был нужен свет. Но и тут изобретательная мысль Клименко и Ковальчука нашла выход. За бараком стоял керосиновый фонарь, освещавший проволочную изгородь. Луч от фонаря падал на потолок барака, как раз туда, где находилась постель Клименко. На это место потолка он прикрепил кусок зеркала под таким углом, что луч, отражаясь, падал на его подушку. Теперь можно было писать.
Когда на следующий день Клименко и его помощник докладывали подпольному комитету о досрочном выполнении задания, мы смотрели на их торжественно–радостные лица и понимали, что конструкторы и сами откровенно изумлены итогами своей работы.
ПОИСКИ СВЯЗИ
В наш барак часто заходил, особенно ночью, дежурный по лагерю румынский солдат Иванеску. Это был высокий, худой человек, с плохо заправленной за пояс гимнастеркой, постоянно небритый.
Под предлогом закурить, а во время холодов — погреться он обычно заходил в барак и с любопытством осматривал нары, на которых пленные укладывались спать. Взгляд его темных, глубоко запавших глаз в полумраке казался робким и застенчивым. Иногда сквозь сон я слышал разговор пленных с этим румынским солдатом. И тогда просыпался, сползал со второго яруса и присоединялся к собеседникам.
Иванеску плохо говорил по–русски, но понимал все, о чем ему рассказывали. Румынский солдат интересовался жизнью в Советском Союзе, расспрашивал о семьях военнопленных. Но больше всего его волновал вопрос: когда кончится война.
— У меня дома остались мать и дочка, — говорил сидевший на нижних нарах молодой пленный с острым, как у покойника, лицом, — жена погибла во время бомбежки в первые дни войны, когда я еще был дома…
— Плохо, — кивал головой Иванеску, — у меня тоже плохо, все плохо! Дома бояр мучил, здесь офицер мучил… Там горько, здесь горько. Война есть плохо: и вам, и нам…
Спустя несколько дней Иванеску зашел в барак с незнакомыми нам румынскими солдатами, потом к нам стали наведываться и другие сантинелы. Все они робко, но откровенно высказывали свои взгляды на войну, жаловались на тяжелую службу, на бесправие крестьян, проклинали бояр, зло отзывались о духовенстве. Такие беседы позволяли выяснить настроения солдат. А это было особенно важно сейчас, когда мы готовились к массовому побегу.
И все же с появлением каждого нового солдата в нашем бараке мы настораживались, прерывали разговор. Иванеску понимающе похлопывал кого–либо из пленных по плечу, ободряюще кивал головой:
— Это хороший солдат. Говори…
Солдат же устремлял взгляд на переборку барака, из–за которой неслась грустная, непонятная ему песня.
Когда Черное море бурлило И на скалы взбегал грозный вал…К песне прислушивался и Иванеску, покачивал одобрительно головой и обращался к своему напарнику:
— Музыка Советы бун, бун…
Впоследствии мы подобрали группу солдат, на которых можно было положиться, и стали проводить с ними беседы. Причем спрашивали у Иванеску, что больше всего интересует его товарищей, устанавливали дни новых встреч. Иванеску был примерным слушателем, никогда не опаздывал и всегда проявлял повышенный интерес к жизни в Советском Союзе. Его, как крестьянина, особенно интересовали колхозы.
Для бесед мы выделили специальных товарищей, которые неплохо владели румынским языком. А таких у нас нашлось несколько человек, преимущественно это были жители областей смежных с румынской Границей.
После каждой встречи лектор отчитывался перед «семеркой», часто сообщая интересные факты, выявленные в беседах с сантинелами.
Нередко во время разговора румыны бросали реплики:
— Бояр надо пух–пух…
— Земля надо крестьянам…
— Батюшку пух–пух…
— Антонеску зива, — сантинел, улыбаясь, изображал, как он будет вешать диктатора.
— Война надо гата!
— Русештэ офицер бун!
— Русештэ культура май маре…
К новичкам наши пропагандисты искали особый подход.
Румынские солдаты изумлялись, как это советские офицеры запросто общаются с рядовыми солдатами. Но убедившись, что красные командиры — это и есть крестьяне и рабочие, доверчиво открывали перед ними свою душу и, уходя из барака, жали руки пленных.
Развитие этих отношений, очевидно, натолкнуло румын на мысль, что пропаганда русских — дело опасное. Сантинелы стали предупреждать нас о том, что не всякому солдату следует доверяться, так как среди них имеются и сыновья кулаков.
Интерес к беседам охватывал все большее число румын. Сантинелы в свою очередь рассказывали об услышанном своим близким. Контакты с румынскими солдатами укреплялись.
Однако попытки через наших слушателей узнать что–нибудь о румынских коммунистах ни к чему не привели. Тогда эту задачу мы поставили перед красноармейцами, работавшими на хоздворе и по различным причинам бывавшими в городе. Необходимо было установить связь с коммунистами. А сделать это можно было только через надежного человека.
Им стал капитан Б. А. Аветисян. Я познакомился с ним еще в период отбора актива для подпольной работы. Бабкен Алексеевич Аветисян оказался моим старым сослуживцем по 22‑й Краснодарской дивизии, к тому же земляком — жителем города Сочи.
Вызвали его на переговоры. Выслушав предложение «семерки», Бабкен улыбнулся. Нервно перебирая пальцы рук, он вдруг поднялся.
— По–моему, надо заболеть менингитом, — решительно заявил он, сверкнув черными глазами.
— Как «заболеть»? — удивились мы.
— А это уж моя забота… Нужно попасть в бухарестский госпиталь…
Аветисян ушел, оставив нас в недоумении. Но вскоре мы поняли, что задумал наш доверенный. Он решил изучить симптомы менингита и симулировать болезнь.
Через некоторое время Аветисян «серьезно заболел». В течение многих дней он валялся на нарах, стонал, отказывался от пищи и вскоре настолько отощал, что врачи были вынуждены положить его в санчасть, где за ним присматривал вовремя предупрежденный нами врач из числа пленных. Два консилиума специалистов подтвердили наличие менингита и нашли необходимым отправить больного на лечение в Бухарест.
Но об отправке в столицу «больного менингитом» узнал один из пленных, люто ненавидевший Бабкена Алексеевича. Наш человек при штабе лагеря сообщал, что на имя коменданта Поповича поступил донос, в котором говорилось, что Аветисян пытается использовать отправку в Бухарест для побега в Советский Союз. Подчеркивалось, что Аветисян — активный пропагандист большевизма в лагере.
Обо всем этом мы успели предупредить Бабкена Алексеевича, но было поздно. Сигуранца арестовала больного и из санчасти перевела в карцер на бессрочное заключение.
Этот провал мы восприняли очень болезненно и сейчас же приняли меры. Обратились к коменданту лагеря, требуя созыва нового консилиума с участием специалистов из гарнизона, врача из числа пленных и старшего лагеря. Попович консилиум созвал.
По рассказу нашего врача, Аветисян имел такой вид, что члены консилиума единодушно решили, что он уже не жилец на этом свете.
«Менингит» подтвердился, и Аветисян был отправлен в Бухарест раньше намеченного срока.
ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Стояли ветреные октябрьские дни. По плацу лагеря шелестящим роем кружились листья акации. На крышах бараков хлопал плохо прикрепленный толь. На трапеции, сколоченной из нетесаных бревен и очень похожей на виселицу, медленно раскачивались толстые канаты. Они звякали ржавыми кольцами, как бы предвещая какую–то беду. Все это нагнетало безысходную, сжимавшую душу тоску.
Раскурив четвертинку сигареты, я смотрел, как Маслов — мой сосед — тщательно подготавливает свою двухсотграммовую консервную банку для получения мункаре[13]. Он тщательно протирал ее тряпочкой, осматривал, продувал и снова тер. Спрятав тряпочку в карман, тяжело дыша астматическими легкими, посмотрел в окно. На плацу уже появились любители утренней зарядки, в основном это были те, кто упорно готовился к побегу.
Каков он человек, этот Маслов, я узнал лишь недавно. Попал в плен, когда занимал должность комиссара эвакогоспиталя. Я прибыл на фронт, имея то же воинское звание — старшего батальонного комиссара, что и он. Мы скоро нашли общий язык. Маслов не проявлял активности в подготовке к побегам, сторонился патриотической работы. Он, конечно, догадывался о моем участии в этом опасном занятии. «Значит, по состоянию здоровья не может нам помочь», — думали мы.
Однажды я предложил ему выступить с беседой. Маслов посмотрел на меня и выдавил, будто не понимая, о чем речь:
— Зачем? Я жить хочу! Да и что могут сделать ваши политбеседы!..
Через несколько дней я снова обратился к нему с тем же предложением и получил почти такой же ответ.
В барак вошел Шамов. Поздоровавшись, промолвил:
— Воронцов с товарищем бежали.
— Когда? — спросил я. — Странно, никакого шума, неужели охрана еще не обнаружила проход?
— Ушли ночью. Попович и сигуранца уже осматривают проволоку. Установили, из какого барака ушли люди.
О том, что полковник Н. М. Воронцов с товарищем собирался бежать, знала не только «семерка». Ему было уже под пятьдесят, маленького роста, с черными усами, лицо светлое, приветливое. На последней встрече со мной он похвастался своей приведенной в «порядок» шинелью и еще сносными сапогами.
— Сгодятся в походе, — уверенно заявил он, — и табачок, и иголка с ниткой…
— А как поход, выдержите? — спросил я.
— Дай только вырваться, а там силы найдутся.
…Через час после ухода Шамова на плацу появился комендант лагеря, дежурный офицер и два сантинела. Они шли прямо в помещение, где жил Воронцов. В нашем бараке горячо обсуждалось ночное происшествие, кто–то сообщил, что Попович арестовал двух соседей Воронцова по нарам и старшего по бараку за «содействие» беглецам.
От соседнего барака комендант направился к нам. Хазанович, стоявший у окна, подал команду встать.
— Буна зиуа[14], домнуле колонел, — приветствовал комендант Хазановича. — И через переводчика начал выговаривать: — Нет дисциплины, плохо работают старшие бараков, не предупреждают побегов… Русские пленные не признают моих приказов о круговой ответственности за нарушение режима. Вы тоже, старший по лагерю, потворствуете этому!
— А я лично не присягал вам на верность и не брал на себя ответственность за побеги из лагеря, — четко отшил Хазанович.
Комендант, выслушав перевод, закричал:
—. Как это не берете на себя ответственность? Вы кадрируете распоряжение администрации?
— Ваше дело охранять, а наше дело бежать, — резко ответил полковник.
Казалось, Поповича хватил паралич. Он онемел, уставив большие черные глаза на старшего лагеря.
— Следуйте за мной, — выкрикнул он и быстро направился к выходу.
В бараке поднялся гвалт. Плац опустел. Пленные, встревоженные арестом старшего лагеря, разошлись по баракам. Не прошло и двадцати минут, как со стороны административного двора затрещала пулеметная стрельба, I подошел к окну. На плацу от пуль взрывались га«М*ые султанчики, затем стрельба перешла на бараки.
Кто–то крикнул:
— Ложись! — Все бросились на пол. Затрещали пулеметы и с полевой стороны лагеря.
Шевченко, присев на нижние нары, заметил:
— Попович вошел в раж коменданта — объявил войну заключенным. Вот это и есть для него фронт…
В этот момент ко мне подбежал Маслов и, заглядывая в глаза, затараторил:
— Что, что, любуешься? Твоя работа… Заварил кашу? А люди будут за тебя расхлебывать?
Я посмотрел на этого запуганного человека, на его «шпалы» в петлицах и не сдержался:
— Кашу заварил комендант от своего бессилия и самодурства. А вот нашу «кашу», Маслов, вы еще не пробовали…
— Ты меня, Маслов, удивляешь, — заговорил Шевченко, Повернувшись в мою сторону, он продолжал: — вы оба как будто росли на одном дереве, а вот плоды получились разные…
Стрельба продолжалась минут пятнадцать. Где–то за бараком послышалось:
— Помогите! Есть убитые!
Но в это время от комендатуры уже бежали сантинелы с носилками. Оказался убитым, тбилисец капитан Григорий Гянджумчев, а раненым — капитан из Гори Александр Сегмалов.
П. Я. Собецкий
Г. А. Кухалейшвмли
Арест группы офицеров и обстрел лагеря явились для военнопленных чрезвычайным событием. Не было никакой гарантии, что не вспыхнет стихийное, опасное для сотен людей восстание. Комитет собрался, чтобы оценить обстановку и принять меры против разнуздавшегося Поповича.
Вскоре перед строем военнопленных появился комендант со своей свитой. Начальник сигуранцы Григореску начал читать приказ:
— Коршунов, выходи, Собецкий… — и пошло.
Через несколько минут в центре плаца под конвоем сантинел стояли сорок пять арестованных. Под охраной они были направлены на комендантский двор и заперты в изолятор. Из «семерки» арестованным оказался лишь я.
В штабе комендатуры царила нервозная обстановка.
Вокруг лагеря было усилено наблюдение, выставлены пулеметы, появился дополнительный патруль.
В первую ночь некоторые предлагали, пользуясь растерянностью лагерного командования, разоружить охрану и уйти в Карпаты, захватив оружие и необходимое количество продуктов. Другие говорили: «Надо учесть, что более половины людей настолько слабы и больны, что вряд ли сумеют уйти из лагеря, а оставшись здесь, погибнут от расправы. Не забывайте, что невдалеке стоит артбатарея, лагерные пулеметы нацелены на бараки. Погубить сотни людей — это неразумно».
ЕСТЬ СВОЯ ГАЗЕТА
Завихрилась снежная, с редкими солнечными днями суровая зима. По ночам за стенами бараков завывал леденящий ветер, люди вслушивались в его лютую песню, кутались в свои рваные одежды.
В эти зимние дни в бараках часто появлялись лекторы — «чужаки». В вечернем полумраке их лица трудно было рассмотреть. Закончив выступление, «чужак» обычно сообщал последнюю сводку Совинформбюро, а затем незаметно исчезал.
Слушатели расходились по своим местам и подолгу размышляли об услышанном, с трепетным волнением спрашивая себя: «Где она, родная Москва? За какими заснеженными холмами, скованными льдом реками, заиндевевшими перелесками и полями находится? Далеко Москва! Далеко Родина! Многие сотни километров отделяют узников от своей Отчизны. Между ними холодные ночи, буранные заносы, болотные ловушки, огненные линии передовых рубежей».
Однажды ко мне зашел Яков Евдокимов. «Семерке» его рекомендовал Иван Сучков, знавший Евдокимова по фронту как старшего политрука, а в прошлом — политработника.
— Пойдемте к нам, хочу кое–что показать, — сказал Евдокимов.
Мы пошли. Взобрались на третий ярус нар. В потемках он показал мне обычный фашистский плакат, один из тех, какие сигуранца щедро развешивала во всех бараках. На них изображались карикатуры на бойцов Красной Армии в таком фантастическом облике, который и буйный разум сумасшедшего не в силах придумать. Вначале пленные эти плакаты срывали и уничтожали, но после того, как за это некоторые жестоко поплатились, перестали на них обращать внимание.
— Ну, так что? — не понял я.
Евдокимов показал обратную сторону плаката, и все стало ясно. На чистой стороне листа четко выделялись два слова: «Стенная газета». Вначале шла передовая, затем три колонки шуточных рассказов, юмореска на Гитлера и Геббельса и подпись: «Редакция».
— Трое нас в редакции. Сами все и делали, — сообщил Евдокимов, видя мое изумление. — Завтра вывесим, пусть читают.
— Ну а если сигуранца пронюхает?
— А мы тогда перевернем натуральной стороной, скроем написанное, а уйдут охранники — написанное на свет…
Я посмотрел на его растрепанную, с черным отливом шевелюру, в голубые искренне радостные глаза.
— Бери газету в карман и идем к Денисову, — предложил я.
У Денисова мы застали Володаренко. Все четверо забрались на третий ярус нар. Денисов выслушал, посмотрел, прочитал и произнес:
— Молодцы, хорошея работа! Говорю как газетчик!
— Виктор Михайлович, — обратился я к Володаренко, — сейчас эту находку нужно внедрить и в другие бараки, попытаться создать там редколлегии.
— А ты, Иван Дмитриевич, — обратился я к Денисову, — подумай над созданием ежемесячного рукописного журнала. Ты журналист — тебе и карты в руки…
Потом ко мне пришел Иван Дмитриевич, и мы долго размышляли о содержании журнала, намечали, кого можно привлечь к работе над ним, определили темы материалов первого номера.
Я видел, как своим характерным угловатым почерком увлеченно писал что–то Денисов. Он чему–то улыбался, куда–то спешил, его душа была покорена этой необыкновенной идеей. Оружие журналиста — слово — опять будет разить врага. Севастопольцы, читавшие на фронте его репортажи и очерки, завтра опять прочтут статьи Ивана Денисова.
Иван Дмитриевич сидит передо мной. И я вспоминаю, как в дождливый, пасмурный день 5 января 1943 года мы с ним отправились на первое собрание подпольщиков. Он шел впереди, длинный и худой, на. голове летная пилотка с опущенными наушниками, ноги обмотаны тряпьем, деревянные колодки скользят по грязи, хлопают по воде…
Выпуском журнала были заняты все члены комитета, хотя редактором и был утвержден Денисов. Для оформления журнала нашелся и художник. В бараке старшего комсостава я давно обратил внимание на человека, который все время кропотливо занимался рисованием каких–то причудливых пейзажей, а в основном работал над странными фрагментами сооружений восточного стиля. Я заинтересовался этим увлечением узника лагеря и выяснил, что майор Георгий Лежава — грузинский архитектор, один из авторов проекта павильона Грузинской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.
Теперь, думая об оформлении журнала, я вспомнил грузинского художника. Поговорив обо всем, наконец спросил моего нового знакомого:
— А взялись бы вы оформить рукописный журнал военнопленных, который мы сейчас готовим?
Лежава оторвался от своей работы, поднял на меня темно–синие глаза, в которых искрилось недоумение. На него, видимо, ошеломляюще подействовал необычный вопрос, и он подумал: «Можно ли этому незнакомцу довериться?» И наконец решился:
— Конечно, могу. А какой журнал? — поинтересовался он.
— Журнал должен содержать политические и художественные произведения. Вот в этом–то и гвоздь. Не вызывает ли это у вас опасения? Дело в том, что в случае какой–либо неудачи лица, причастные к его выпуску, подвергнутся строгому наказанию…
— Что вы, что вы, товарищ! Я беспартийный интеллигент. Но я советский гражданин. Будьте уверены.
Никогда не забуду эти так хорошо сказанные слова. Они меня тронули. Лежава стал сотрудником журнала.
…В 50‑х годах мне довелось быть в Тбилиси на встрече со своими соратниками по подполью. Они показали мне Дворец правительства Грузинской ССР и сказали, что это монументальное сооружение построено по проекту нашего боевого друга Георгия Лежавы. Я тогда подумал: «Какую душевную силу надо иметь, чтобы после фашистской неволи, участия в боях за освобождение Будапешта, вернувшись на Родину, создать такое великолепное произведение искусства». А потом, уже из газет, узнал: Георгий Лежава разработал проект мемориальной библиотеки, названной именем одного из ученых Грузии, и безвозмездно передал его в дар городу.
Первый номер журнала вышел в свет. Он был тепло встречен всеми узниками и сыграл большую роль в патриотической работе, в объединении всех военнопленных на борьбу с врагом.
К ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ
Мы перешагнули рубеж 1944 года. Приближалась весна, а с нею и заветная цель, ради которой мы так упорно и настойчиво работали, подготавливая людей на рискованный, но единственный путь к свободе.
…В пустом, стоящем в стороне бараке собралось двенадцать человек, в том числе В. В. Хазанович. Я кратко сообщил решение подпольного комитета о начале восстания. Эти слова были встречены гробовым молчанием.
Это меня насторожило. Хотя я подробно остановился на этапах вооруженного восстания и оборонительных действиях на марше в сторону Карпат, однако не мог предусмотреть, какое место нашего плана окажется самым уязвимым.
Потом началось обсуждение. Первым выступил полковник Н. С. Скворцов, бывший командир танковой бригады:
— С планом вооруженного восстания я в основном согласен, — сказал он и повернулся ко мне: — Но хочу знать, кто будет стоять во главе нашего вооруженного отряда?
Кандидатура командира уже была обсуждена комитетом.
— Лично я считаю наиболее подходящим человеком — продолжал Скворцов, — полковника Хазановича.
— Правильно! — послышались реплики.
Выступили несколько человек. Все они поддержали идею восстания. Собрание шло оживленно. Однако не обошлось без конфуза. Последним в прениях выступил майор А. М. Федорович, который без обиняков заявил:
— План восстания поддерживаю, но я лично не буду ждать, пока подготовят тоннели за проволоку для общего ухода из лагеря. Я сам уйду, раньше намеченного плана, — и сел.
Собрание не сразу пришло в себя, услышав заявление человека, который в лагере был известен как заядлый сторонник одиночных побегов. На него сразу ополчились Скворцов, Пляко, Шамов и другие, возмущаясь тем, что несвоевременный побег Федоровича может помешать освобождению всех.
В конце концов собрание поручило «семерке» детализировать план и на всякий случай готовить тоннели за проволоку. Возглавить эту работу поручили Шамову.
Сроки выхода из лагеря отводились на середину апреля.
Особо тщательно была подобрана группа разоружения лагерной охраны.
Шла вторая половина марта. Кое–где еще лежал снег, по ночам талые лужи сковывал легкий морозец, но безудержная весна уже стояла на дворе. Пелену серых тяжелых туч все чаще разрывало солнце, у проволочного забора робко тянулись к свету и теплу зеленая полоска травы, упруго набухшие почки. Люди выползали на широкий двор, щурясь от яркого света и подставляя бледные, исхудалые лица навстречу солнцу.
Весна заставила нас от слов перейти к делу. Началась прокладка тоннелей сразу из–под шести бараков и одной заброшенной уборной. Работы велись только днем, когда в бараки не заходили сантинелы.
Какую самоотверженность, веру в успех задуманного проявляли товарищи, показывает такой пример.
Как–то к нам пришли лейтенанты Иван Сучков и Петр Андрющенко. Оба они земляки, кубанцы, белокурые, немного похожие друг на друга. Улыбаясь, один из них заявил:
— Вот решили для ускорения работы соревноваться: кто больше прокопает за день.
— Мы в разных сменах, — уточнил другой. — Я берусь сделать два метра.
— А не много ли? — спросил Шамов, удивленно посмотрев на парней.
— Много, но выполнимо! — откликнулся Сучков.
— А конспираторы вы плохие, — заметил я, сбивая с его плеча желтую глину, — увидит кто, сразу все поймет…
Пока Шамов разговаривал с ребятами, я смотрел на Андрющенко. На его круглом лице из–под пилотки к уху сползал широкий розовый рубец, а у края глаза полумесяцем выделялся другой. Я знал происхождение этих рубцов. Вспомнился путь от Ченстохова в Румынию…
У чехословацкой границы тревожным шепотом ожил наш вагон. То один, то другой протискивался к окну и долго смотрел на леса и горы, которые со всех сторон обступали полотно дороги. Лучшее место для побега и придумать было трудно.
Оживились разговоры. В голосах чувствовалась уверенность. Бежать решили всем вагоном. После непродолжительных споров распределили обязанности: кто готовит выход из вагона, устанавливает очередность, вырабатывает условные сигналы для сбора в горах после побега.
И вдруг в приглушенных разговорах, где чаще всего слышались слова «лес», «горы», «свобода», прозвучал тихий, но внятный голос:
— А я не согласен!
Все повернулись. В глубине вагона лежал человек, узнать которого в темноте было трудно.
— Дураки, — продолжал он, — вас всех, как волчат, перестреляют, в горах перемерзнете… Дома вас ждут живыми, а не мертвыми…
Это был голос Иванова. Пожилого, нелюдимого человека. Я уже не помню, не то в Умани, не то в Ченстохове мне пришлось впервые встретиться с ним. Это у него я выменял санитарную сумку за дневной паек хлеба. Начинались холода, санитарная сумка могла стать неплохим головным убором.
Теперь я и мои товарищи пытались его урезонить, доказать несостоятельность его опасений. Но из этого ничего не получилось.
Ввиду того, что выход через дверь хорошо просматривался немецкой охраной, решили прорезать два отверстия в торцовой стене, с расчетом выхода из вагона на обе стороны дороги.
Я попросил человека, ухитрившегося где–то достать бесценный для нас инструмент — стамеску, еще раз осмотреть указанное мною место.
Петр Андрющенко, тогда еще мне незнакомый, подошел и молча посмотрел на меня.
— Вы уверены, что прорез будет сделан? — спросил я.
— Будьте спокойны. Закон морской. Все будет сделано на большой. — Моряк без тени волнения улыбнулся и вынул из–под полы шинели стамеску с широким, хорошо отточенным лезвием.
— Молодец. Желаю успеха… Вам будут помогать Максимов, Сучков и Земляков, — сказал я ему.
Работа началась немедленно. А в вагоне, одолеваемые нетерпением, уже выстраивались у выхода узники.
В вечерних сумерках, когда поезд подходил к станции Треиено и замедлил ход, люди начали торопливо выбрасываться из вагона. Однако делали это суетливо, оставшиеся в вагоне нервничали, кое–кто бранился, подталкивая друг друга. И вдруг прогремели два выстрела, а затем глухо застрочили пулеметы.
— Охрана заметила, товарищи!
Но жажда свободы победила осторожность, узники лезли в дыру, бросались под откос насыпи…
Стрельба открылась по всему эшелону. Поезд остановился.
— Вон, вон бегут к лесу, к лесу… Один упал. За ними автоматчики… Темно, не видно… Ах, черт, неужели, не ушли? — переживал кто–то у окна.
— Закрывайте отверстие!
— Ну, будет дело, — грустно проговорил из своего угла Иванов.
За вагоном хлопнул пистолетный выстрел, Зашуршал щебень, загремел замок, и дверь открылась. Три офицера один за другим вскочили в вагон, за ними поднялись несколько автоматчиков и переводчик. Раздалась команда:
— Все в один угол!
Все сбились в кучу, прижимаясь друг к другу. Эсэсовцы перевернули все, разбросали узелки, посуду, ощупали стены. Перешли на другую сторону, тщательно осмотрели все щели, сорвали со стены шинели, полотенца и… на коричневом фоне стены увидели зияющие две дыры.
— Автомат! — крикнул офицер. И шесть автоматчиков взяли на прицел оборванную группу людей, толпившихся у противоположной стены вагона. Офицер, грозя пистолетом, на ломаном русском языке выкрикнул:
— Кто прорезал стену? Выдать! Говорите, или будете расстреляны все.
Толпа молчала.
— Повторяю, выдайте зачинщиков!
Ответом было молчание. Напряженные бледные лица, воспаленные, расширенные глаза выражали твердую решимость.
— Третий раз требую указать того, кто прорезал стену? Последний раз, или командую стрелять, — злобно выкрикнул офицер и что–то по–немецки пробурчал автоматчикам.
И тут Иванов, возвышающийся над всеми на целую голову, бросая по сторонам свои маленькие свинцовые глазки, нарушил тишину:
— Что ж молчите? Струсили? Выдавайте, кто резал. Из–за одного погибать всем?
— Предатель! — отозвались из задних рядов.
Толпа колыхнулась. Вперед вышел старший лейтенант Петр Андрющенко и спокойно произнес:
— Резал я! Стреляйте, гады! Прощайте, товарищи…
Широкий взмах руки, и Андрющенко, оглушенный ударом, отлетает в противоположный угол вагона. Избивали его железными прикладами автоматов. Андрющенко глухо стонал. Когда он потерял сознание, гитлеровцы подтащили его тело к ящику и бросили в нечистоты. И снова посыпались удары прикладов.
Ко мне подошел Федор Мороз и шепотом сообщил:
— Ушло одиннадцать человек… двое из них убиты…
Андрющенко выжил. На голове и лице клочья кожи были уложены на свое место и перевязаны грязным тряпьем из разорванных рубах.
…Все это мне вспомнилось сейчас, и я спросил:
— Петя, а почему ты тогда не ушел первым, ты же резал отверстие?
— Думал, что освободятся все, а потом и моя очередь наступит.
— Ну, а теперь успеешь уйти?
— Какой будет порядок.
Работа в тоннелях закончилась печально. Тоннель, который шел из закрытой уборной и был наиболее близко расположен к проволоке, проходил под вытоптанной дорожкой патруля за оградой. Румынский солдат, очевидно, от утренней стужи начал пританцовывать как раз на перекрестке подошедшего тоннеля и дорожки и провалился в подземелье.
Крик перепуганного часового привлек весь лагерь. Из административного двора прибежали солдаты с винтовками, не понимая, откуда исходит крик. Пострадавшего вытащили из провала еле живым.
Попович с комиссией тщательно изучил тоннель. На поверке он разносил Хазановича и снова грозил уничтожить «большевиче». К счастью, комендант лагеря не знал о существовании еще шести тоннелей. В начале апреля работы по их прокладке были закончены.
Особенно волновала нас судьба больных и слабых товарищей. Было ясно, что это может помешать успешному выполнению задуманной операции. Требовалось перебороть упадническое настроение этих узников, среди них были и такие, которые смирились со своей близкой смертью. В беседах с ними я рассказывал о подвиге одного советского патриота, свидетелем которого был сам.
…Владимиро–Волынск. Конец августа 1942 года. Обширный офицерский лагерь с кирпичными постройками. Целыми днями многотысячная толпа изможденных, обессилевших от недоедания людей бродила по двору, многие пленные кучками сидели на земле, обогревая солнечными лучами свои полуодетые тела. Вокруг лагеря в четыре линии недоступное колючее ограждение. Частые вышки с прожекторами и пулеметами вверху и внизу, автоматчики с рвущимися с цепи овчарками. Режим лагеря смерти. Даже незначительный проступок вел к расстрелу. Сотни людей умирали от истощения. Здесь не было надежды на спасение.
Мы видели за проволокой несколько поросших чертополохом длинных траншей. Старожилы лагеря рассказывали, что в прошлую зиму в эти траншеи было закопано двенадцать тысяч советских военнопленных.
Разговоры и думы всех узников беспрерывно сводились к тому, как отсюда вырваться, спасти свою жизнь. Но порядок и система охраны лагеря абсолютно исключали такую возможность.
Среди узников было несколько переводчиков из числа военнопленных. Подчинялись они своему начальнику — Власову, до войны работавшему преподавателем немецкого языка в одной из ленинградских школ. Сдержанный, корректный, не мозоливший глаза своим особым положением, он все время вращался среди заключенных. Его нельзя было заподозрить ни во враждебности к своим землякам, ни в особой преданности немецкому командованию. Однако пленные к нему относились, как ко всякому, кто в какой–то мере сотрудничал с врагом.
За колючей проволокой находилось картофельное поле. В 400–500 метрах возвышалась черно–зеленая стена дубового леса. Насколько далеко тянулся этот манящий соблазном массив, никто не знал. С утра до вечера дразнил он пленных своей близкой недоступностью.
Однажды утром мы увидели, как двадцать человек во главе с переводчиком Власовым под охраной четырех автоматчиков вышли за ворота лагеря и направились на картофельное поле убирать урожай. Более осведомленные говорили, что Власов сам отбирал для этой работы десятка два военнопленных. Были случаи, когда такие же группы организовывались для подвозки в лагерь дров, сена и прочего. Конечно, каждый такой выход за проволоку все связывали с возможностью побега. В лесу начиналась свобода, а за ним — путь на восток. От этих мечтаний кружилась голова, захватывало дух.
Но сейчас, когда двадцать человек с лопатами пошли на картофельное поле с «немецким служакой», о возможности побега никто не думал.
Кончался день, солнце клонилось к закату, и вдруг там, где раскинулось картофельное поле, началась автоматная стрельба…
Власов выбрал удобный момент и лопатой нанес удар в голову гитлеровца, схватил его автомат, скосил очередью еще двух фашистов, а тем временем люди с лопатами, задыхаясь, мчались к лесу.
В лагере поднялся переполох. Следом за беглецами помчались машины с автоматчиками и овчарками, мотоциклисты.
В эту ночь лагерь не спал. По углам шелестел шепот: «Молодец Власов!», «Уйдут ли?», «Поймают — конец ребятам». Тревожно было и на следующий день. Каждый в душе желал товарищам удачи. Власова уже не называли «немецким служакой». И какая же горечь охватила военнопленных, когда рано утром за проволокой вблизи бараков они увидели девять окровавленных трупов беглецов, брошенных фашистами специально для назидания пленным. «Но ведь девять! Значит, одиннадцать ушли…» Этот не вполне удачный побег все же поднял дух узников, вселил в них радость и гордость за тех, кто ушел, кто остался жив.
Прошло недели две после совершенного побега, но 10 августа, в воскресенье, в теплое солнечное утро, когда народ уже заполнил обширный двор, все увидели, как в воротах лагеря под усиленным конвоем автоматчиков показался обросший черной бородой человек со связанными за спиной руками.
Это был Власов. Его вели к высокой кирпичной стене, на площадке которой вверху размещался блекло–зеленый цветник.
Тысячи людей бросились к группе. Власову махали руками, пилотками, выкрикивали приветствия. Герою, организатору побега, человеку, который знал, чем может кончиться неудачный побег, всем хотелось пожать руки.
Власова поставили спиной к центру стены. Он улыбался, кивал головой на приветствия товарищей, видя и понимая искреннее сочувствие своих соотечественников. Педагог, коммунист, он знал, что пример его мужества удесятерит силы узников, их уверенность в победе.
Глаза Власова излучали стойкость, мужество, бесстрашие. И когда послышалась команда, Власов не дрогнул, не опустил плечи. Он поднял голову, как будто хотел что–то сказать очень важное, шагнул вперед.
— Держись, Власов!
— Мы отомстим за тебя!
— Родина и партия тебя не забудут! — кричали из толпы.
Власов приподнялся на носки и крикнул стоящей против него за автоматчиками многотысячной толпе:
— Долой Гитлера! Долой фашизм! Да здравствует Советский Союз!
Раздался треск автоматов, Власов еще стоял, но кровь уже заливала его лицо. Он пытался еще что–то сказать, силы покинули героя, и он мягко опустился на землю…
ВСТРЕЧА С БЕРЕЗКОЙ
На тыльной стороне барака пригревало солнце. Мы с Королевым, прислонившись к нагретой обшивке стены сидим уже несколько минут и молчим. Не зная, зачем он позвал меня сюда, я жду.
— Вы мне очень нужны, — наконец начал Королев. — Вы меня не ругайте, вам может это не понравиться, но мне надо передать записку. Только прежде я должен задать вопрос. Можно?
— Можно, Саша, давай!
— У вас личное чувство существует? Вы можете рассуждать не как комиссар, а просто как человек?
Я удивился такому предисловию и улыбнулся.
— Вы понимаете, что такое любовь? — продолжал Королев. — Любовь даже у черта на куличках? Любовь, которая заставляет человека рисковать своей жизнью!
— Ты о любви к женщине? Какая в лагере любовь? И кто это «рискует жизнью»?
Королев сурово посмотрел на меня и сунул маленький клочок бумаги.
«Дорогой Алексей Ефремович, — читал я, — здравствуйте! Откровенно говоря, я не сразу решилась написать вам эту записку. Пишу и задыхаюсь от волнения, меня трясет как в лихорадке… Какая радость! Мне сегодня сообщили, что вы здесь, и я на миг забыла, что нахожусь в руках врага. Я кое–что рассказала Королеву. Б.»
Прочитав записку, я повернулся и встретил горящие любопытством глаза товарища.
— Березка? — с волнением спросил я.
— Она. Случайно встретились. Определена в пекарню.
На следующий день полковник Хазанович включил меня в список больных, нуждающихся в медосмотре. С утра у небольшого дощатого здания с невысоким, в две ступеньки, крылечком уже толпились люди. Я занял очередь и с волнением стал поглядывать по сторонам в ожидании Березки.
Вскоре из узкого коридора до меня донесся знакомый девичий голосок. Я сразу узнал его — это Березка здоровалась с больными, выстроившимися в очередь.
Наконец она появилась в дверях санчасти, маленькая, похудевшая, с темными кругами под глазами. И хотя вид ее выражал усталость, на губах застыла удивительно знакомая улыбка, которую не изменили никакие невзгоды. Одета она была в старенькое, вылинявшее военное обмундирование, на ногах — изрядно потрепанные, порыжевшие сапоги, на голове — косынка.
Увидев меня, Березка наморщила высокий, отливавший кремовым загаром лоб, словно вспоминала что–то. И я понял — не узнала. Но когда я шагнул ей навстречу, она встрепенулась, спрыгнула с крыльца.
Я молча, не стесняясь товарищей, обнял девушку. Она не могла произнести ни слова, лишь смотрела мне в лицо и грустно улыбалась. Губы ее дрожали, из глаз выкатились слезы, и, чтобы скрыть свою слабость, девушка опустила голову.
Мы отошли к лежавшим в стороне толстым бревнам.
— Садись, Шурочка, — предложил я.
— Березка, — попыталась шуткой поправить она меня и тут же спросила: — Вы голодаете? Вас мучили?
— Было и то и другое…
Она покачала головой и снова заплакала. Затем, немного успокоившись, не торопясь начала рассказывать о том, где была и что делала в последние месяцы. Я с волнением слушал мягкий голос, в котором одновременно звучали и радость, и грусть.
— В Симферополе нас, женщин, погрузили в один вагон. Перед Днепропетровском ночью из двух вагонов был совершен побег. Подготовленная для этого майором — Проценюком группа успела открыть и наш вагон. Шли с одной из подружек почти два месяца. Где–то в Воронежской области перешли линию фронта. Побывала дома, в Казани. Поправилась и пошла в военкомат с просьбой отправить на фронт. Военкомат командировал в группу парашютистов. По окончании курсов десантников я стала не только медработником, но и радистом. С тех пор меня неоднократно забрасывали в тыл врага. Последний раз с группой товарищей совершила прыжок на румынской территории. Нас обнаружили, оцепили плотным кольцом. Мы долго отстреливались. Два товарища были убиты сразу, третий погиб, когда не мог уже держать оружие. За четыре часа боя мы израсходовали все патроны, но у меня еще остался один в пистолете, который я спрятала на груди. Когда жандармы пошли в атаку, бросила последнюю гранату, но сзади на меня навалились, связали, привезли в какое–то село, бросили на земляной пол в сельской мерии… Староста избивал ногами. Я почти теряла сознание. Крестьяне предложили воды, но я просила лишь об одном: развязать руки. Удалось уговорить. Староста, румынский фашист, проходя мимо, плюнул мне в лицо. Я расстегнула гимнастерку, выхватила пистолет и выстрелила в него. Меня снова били, били до тех пор, пока не потеряла сознание. — Березка сняла с головы косынку. — Вот, видите? — показала она шрамы над бровью и на скуле. — А потом отправили в Ботошани. Двадцать дней сидела там, ждала военно–полевог'о суда. Но староста выжил, и меня отправили сюда. Вот так, товарищ, комиссар, — устало закончила она свой рассказ.
— Что же ты здесь делаешь? — спросил я.
— Теперь я пекарь.
— А сколько в лагере женщин?
— Четыре.
— А в пекарне чем занята?
— Сначала поставили уборщицей. Потом я сделала сладкий пирог… по заказу локотинента[15], и тогда меня перевели пекарем.
— Ты сумеешь войти в доверие локотинента, чтобы, пользуясь хотя бы относительной свободой, завязать знакомства в городе и среди военных?
Она посмотрела мне прямо в глаза и, не задумываясь, ответила:
— Если нужно, постараюсь…
— Ты будешь выполнять задания комитета. Наши доверенные есть и среди красноармейцев, которые возят хлеб в лагерь. Познакомься с Петро Стево. Это румынский солдат, переведенный с командой из Тимишоары. Основное, что нам нужно, — связаться с румынскими коммунистами. Веди себя осторожно. Встречаться будем здесь.
— Рындин, давай сюда! — услышал я голос из перевязочной. Мы пожали друг другу руки, и я ушел.
Прошло дней девять после встречи с Березкой. И вот как–то красноармеец из административного двора передал нам записку и пачку денег—15 000 лей.
В записке говорилось: «Познакомилась с учительницей. Она сообщила о том, что заслать коммуниста в число служащих лагеря нет возможности. ЦК партии в связи с репрессиями режима Антонеску в глубоком подполье. Однако удалось установить, что коммунисты организуют боевые патриотические отряды и готовят их к восстанию. Комитет Единого рабочего фронта призывает народ к борьбе за прекращение войны против Советского Союза. В одном из обращений говорится: «Не дадим ни одной копейки взаймы Антонеску, который продолжает вести проигранную Гитлером войну». Деньги, которые передала мне учительница, собраны рабочими. Б.»
Деньги отдали на хранение Федору Пселу. Эта денежная помощь из–за проволоки вызвала одновременно какое–то смешанное чувство. С одной стороны, нас угнетали фашистские порядки в отношении к пленным в лагерях, хотя румынскую администрацию никак нельзя было сравнить с гитлеровской, а с другой стороны, нас ободряло внимание и забота тех, кто думал о нас, помогал нам. Значит, и среди румынского народа было не мало тех, кто искренне сочувствовал советским людям, верил в торжество добра и высшей справедливости.
Очевидно, к этой категории румынских граждан следует отнести постоянно оказывавшего нам помощь Петро Стево.
НАМ НАНОСЯТ УДАР
Он был нанесен неожиданно.
Раннее утро озарилось яркими красками восхода. Первые дни апреля радовали — ведь это же весна! Над Дунаем розовыми шлейфами висели тучи. Только на болгарской стороне горный хребет еще дремал в синеющей дымке. День предвиделся солнечный, теплый.
Три дня назад прошли первые весенние грозовые дожди, и кое–где еще блестели большие лужи. Люди выходили из бараков, шумно умывались, крепкие на ноги пробегали по кругу плаца.
Я стоял у окна, ожидая Володаренко со сводкой Совинформбюро. Предыдущие сообщения, принятые по нашему приемнику, говорили о том, что отдельные группы Советской Армии вышли к Днестру, Черновцам. Однако положение, складывающееся в Белоруссии, было неясным.
После того как мы отметили освобождение Киева, каждый день теперь приносил радостные вести с востока. Все с нетерпением ждали новых сообщений о победоносном наступлении Советской Армии на запад. Самой последней новостью для нас было освобождение Крыма и выход 2‑го и 3‑го Украинских фронтов к Яссам — Дубоссарам — Тирасполю. Это было как раз то, в чем видели свое спасение люди, томящиеся в фашистских лагерях.
Все ждали новостей. Сводки готовили Володаренко и Шамов. И меня, и членов «семерки» надвигающиеся события волновали не менее, чем остальных узников. Поэтому, встретившись с редактором нашего рукописного журнала И. Д. Денисовым, я попросил его поместить обзор «Конец фашистов неизбежен» в очередной номер. Договорились и о починке обуви для пятой секции.
Тру–уу, тру–уу, тру–у–у… — вдруг заиграла труба.
— Тревога, выходи!
— Строиться! — прокричал старший барака.
Захлопали доски нар, барак наполнился шумом. Люди высыпали на плац.
«Это не поверка, — подумал я. — Тревога в лагере бывает только в исключительных случаях. Значит, что–то случилось».
Возбужденный недобрым предчувствием, я выхватил из–под матраца «Краткий курс истории ВКП(б)» и бросился к заветному уголку, едва не сбив с ног румынского капрала. Через одно из отверстий сунул книгу между полом и балкой.
На плацу быстро строились. Когда умолк сигнал трубы, распахнулись ворота и из комендантского двора показался строй сантинел с винтовками наперевес. Звучно отбивая шаг, отряд вышел на плац и, быстро рассыпавшись, окружил пленных.
— Что–то случилось, — услышал я за спиной приглушенный голос.
— Обыск будет…
— Аресты начнутся, готовьтесь, товарищи, — пошло по рядам.
— А может, тоннели обнаружили? — спросил стоявший рядом Володаренко.
На плацу появился комендант лагеря Попович, начальник сигуранцы, дежурный офицер, мажор. Хазанович встал перед строем. Обычно, когда Попович появлялся в расположении лагеря, он обменивался приветствием со старшим по лагерю, но теперь, не обратив на Хазановича внимания, что–то резко приказал переводчику.
— Подайте команду: колоннам выходить за ворота. — перевел тот.
Взводы колыхнулись, направляясь к выходу. За воротами караул сопровождал пленных до входа на другой двор. В тени барака толпились вооруженные лопатами, кирками, топорами охранники и полицаи.
«Идут ломать бараки, вскрывать тоннели», — мелькнула догадка.
— Полный провал, товарищи, — сказал кто–то вслух.
Между тем колонны пленных перешли на другой двор, представляющий большой грязный огород, на котором размещалось десятка три земляных нор, покрытых сверху камышом. Осенью эти ямы заполнялись овощами, а когда в лагерь поступали новички, то на время карантина их размещали в этих уже пустых ямах, называемых по–румынски бурдеями.
Как только ямы были забиты до отказа пленными, со стороны покинутого лагеря донесся стук топоров и кирок. Солдаты охраны и лагерные фискалы громили жилые бараки.
Трудно передать всю горечь, охватившую нас. Рухнули надежды, пропал огромный труд, потраченный на подготовку тоннелей. Напрашивался вопрос: «Кто же предал? Где этот подлец? Ведь он жил где–то рядом, спал вместе с нами, «переживал» горечь нашей судьбы, поддакивал, соглашался с товарищами и… шпионил, выполняя задание сигуранцы!»
Конечно, вскрывать и закрывать доски пола не везде и не всегда удавалось без посторонних. Но кому из заключенных это мешало? Страшно и непростительно было то, что враг ходил рядом с нами.
Люди, как опущенные в воду, сдавленные бедой, поникли, замкнулись в себе. Горечь была всеобщей, погибло то, что казалось уже близким, доступным, радостным. И чтобы погасить надежду, свет завтрашнего дня, убить в нас силу и веру, потребовалось всего не более получаса. Вскоре на месте бараков возвышались лишь горы бревен и досок.
Но на войне как на войне, стоит ли поддаваться унынию из–за отдельных неудач? Люди, закаленные в боях, испытавшие весь ужас фашистских застенков, не пали духом, они еще будут бороться, пойдут на жертвы, если это потребуется.
Бурдеи темные, вымоченные зимними дождями, были лишены элементарного сходства с жильем. Люди хлюпали по воде, обваливали рыхлые стены, ища сухое место, чтобы присесть, тихо переговаривались. Но даже в такой, сдавившей сердце обстановке они шутили, успокаивали ослабших, старались не думать о только что поразившей их неудаче.
— Ничего, товарищи, переживем и это испытание. Вот погонят на соляные копи, а там куда тяжелей. Тренировочка–то и пригодится.
Шлепая по жиже, ко мне подошел Шамов.
— Ну как? — спросил он.
— Это я должен спросить тебя как «главного строителя».
Шамов посмотрел на маленький просвет в крыше, крепко выругался и сплюнул.
— Бедному жениться и ночь коротка, — проговорил он и стал закуривать.
— Начнутся допросы, аресты… А потом опять будем готовиться к побегу, — заметил я.
— Ты что, думаешь две жизни жить? — иронически ответил Шамов. — Ты вот скажи, как будем расхлебывать эту кашу?
Меня охватила тревожная мысль: как будут держать себя на допросах мои товарищи, выдержат ли жестокую расправу, которая, несомненно, обрушится на военнопленных.
Большая часть узников провела ночь на ногах. Мы не получили ни воды, ни мамалыги. Но люди молча ждали неизбежного. Шевченко сидел на крохотном выступе стены и глядел в одну точку.
— О чем думаешь, дружище? — подошел я.
Оторвавшись от своих мыслей, он качнул головой и тихо заговорил:
— Меня страшит не сегодняшнее и даже не смерть в лагере. Я сейчас думаю о том, как встретят на Родине тех, кто сумеет возвратиться живым? — Шевченко откашлялся, выпрямился и уже громче продолжал: — Я вспомнил твои слова: «Реагировать спокойно, действовать решительно…» И связал это с тем, что думают некоторые о нашей работе. Один «деятель» третьего дня мне заявил, что Рындин слишком увлекся политработой, варит кашу более года, а кому это нужно? Посмотрим, как он в случае провала будет ее расхлебывать!
— Знаю. Это слова Маслова. Но люди понимают, что в условиях плена нельзя надеяться, что все пройдет, как намечалось…
Я видел еще более пожелтевшие щеки товарища, его вздрагивающие пальцы рук и понимал, о чем он думал эти долгие часы неизвестности и отчаяния. Чтобы успокоить его, ответил:
— Нас здесь тысячи, попали мы в лапы врага не по доброму желанию. Большинство сохранило боевой дух, и если рвется к проволоке, то с одной целью: вооружиться и бить врага до полной победы.
Шевченко, раскурив сигарету, склонился к моему лицу:
— Мы с тобой собираемся после войны, засучив рукава, восстанавливать разрушенное и строить новое. Я вспоминаю двадцатые годы, сплошную коллективизацию, первые пятилетки. Нас тогда называли бойцами партии… А теперь, если мы вернемся без партбилета, кем нас назовут?
Я смотрю на худую, сутулую фигуру моего товарища, и мне до слез жалко его. Никита Алексеевич был мне незаменимым другом. Вспомнился его рассказ о своем детстве.
Еще ребенком он начал работать с отцом на Екатеринославском трубопрокатном заводе. Отец заболел и вскоре умер, Никита оказался на улице. В деревню вернуться не мог: там с кучей маленьких братьев и сестер голодала мать. Поступил поводырем к нищему, у которого в сумке всегда было много кусков белого хлеба. В гражданскую войну стал комиссаром красногвардейского отряда, через несколько лет — инженером.
— Никита Алексеевич, я понимаю: трудно вернуть партбилет, но ведь сейчас мы только формально беспартийные. Мы же на деле остаемся коммунистами, и никто у нас этого не отберет. Уверен, что, когда вернемся домой, партия разберется… Сейчас надо выжить. Не знаю, как обернется для нас этот провал…
Слушая товарища, понимая его переживания и сомнения, я не мог оторваться от тревожных мыслей: «Что же теперь стало с нашим радиоприемником, журналом, картами, компасами. Успели ли их надежно спрятать?»
В два часа дня у бурдеев появились офицеры, мажоры, сантинелы. Слышно было, как вызывают людей по спискам и строят. Открылась дверь и нашей темницы, раздался окрик:
— Рындин, Мороз, Сучков, выходите!
— Только трое, — с облегчением сказал кто–то.
Я попрощался с товарищами и вышел на яркий, солнечный свет. Когда все вызванные из бурдеев были построены, мажор, считавший людей, объявил:
— Семьдесят!
Группу вывели на комендантский двор. И мы сразу увидели плац лагеря и бараки, от которых, чернея свежей землей, тянулись до внешней проволоки вскрытые траншеи. Сомнений никаких не было — вскрыты все шесть тоннелей.
Нас завели в помещение комендатуры и поставили в две шеренги вдоль мрачного коридора. Скоро из кабинета вышли Попович, начальник сигуранцы, мажоры Жоржеску и Акимов. Мы хорошо понимали, что за организацию подкопов и попытку освобождения всего лагеря нас ждет суровая кара. Некоторые товарищи уже приготовились к самому худшему — расстрелу.
Началась перекличка. Акимов шел вдоль шеренги и спрашивал на русском языке фамилию, а Жоржеску смотрел в открытый журнал, по–румынски читал характеристики на каждого. Начальник сигуранцы изредка комментировал, а Попович, глядя в упор, спрашивал:
— Большевиче?
Первые два товарища ответили утвердительно, третий заявил громко, вызывающе: «Да, большевик!» Конечно, псе думали, что ответ «большевиче» значит расстрел, а «не большевиче» — какое–то другое наказание. Поэтому ожидалось, что кое–кто ответит отрицательно. Дошла очередь до меня. Я услышал: «Шеф пропаганды. Бандит!» Последовал тот же вопрос Поповича и тот же ответ: «Да, большевик!»
Следом за мной стоял Федор Мороз.
«Мороз Федор, активный большевистский пропагандист, руководитель группы бандитов», — читал Жоржеску.
— Большевиче? — спросил его Попович.
Многие из нас знали, что Федор Мороз беспартийный.
— Да, большевик! — последовал громкий ответ.
Я спросил Федора, зачем он назвал себя коммунистом, мог бы остаться в живых. Мороз с укором посмотрел на меня и ответил:
— Я беспартийный коммунист, а разве это имеет значение? Более двадцати лет боролся за Советскую власть, и что же я, беспартийный?
Я был рад, что и здесь, в эту минуту, мой боевой друг остался настоящим, советским человеком.
ДОПРОСЫ
Группу распределили по двум бурдеям по соседству с помещением охраны. В полдень начался допрос. Мажор Акимов первым вызвал в канцелярию комендатуры капитана Канабиевского.
Канабиевский, широкоплечий, с крупным лицом и волосами цвета спелого желудя, бросил взгляд в сторону стола, за которым сидели трое. Среди них выделялся старший мажор Жоржеску, малорослый толстяк с синевой на щеках после бритья. Г лаза его, заплывшие жиром, смотрели сурово, пренебрежительно. Рядом с ним находился власовец Приваленков, с нагловатым обрюзглым лицом, на котором нелепо торчал крупный, мясистый, в мелких багрово–синих прожилках рыхлый нос. Тут же за столом пристроился писарь Валейко, которого все пленные звали Валяй–ка. Высокий, худой, желчный, он безразлично взглянул на Канабиевского и стал раскладывать на столе канцелярские принадлежности.
К пленному подошел Приваленков с бумажкой в руке.
— Эта сводка Совинформбюро найдена у тебя под постелью. — Канабиевский взглянул на листок и сразу узнал: радиосводку он переписывал у Володаренко. — Мы нашли и радиоприемник.
Валейко прищурил глаза и, втянув голову в костлявые плечи, поднялся из–за стола:
— Ты должен сказать, кто, кроме тебя, входит в состав подпольного комитета.
— Говори! — Приваленко размахнулся и с силой удач рил пленного по лицу.
Канабиевский слегка качнулся, но не сдвинулся с места.
— Говори! Или ты отсюда живым не выйдешь.
— Гады! — вырвалось у Канабиевского. Он отступил к стене, лицо побледнело. — А ну, подходите, мерзкие твари!
— Гарда! — неожиданно вскрикнул Жоржеску, вскочив со стула. В руке блеснул пистолет. Дверь распахнулась, и в комнату ворвались два сантинела.
— Связать! — -приказал Жоржеску.
Все трое бросились к Канабиевскому, но тут же толстая туша Акимова с распростертыми руками, отлетела назад, тяжело ударившись о противоположную стену. Сантинелы, пытаясь свалить пленного, крепко вцепились в него руками. Приваленко, словно хищный зверь, повис у него на шее. Валейко выбрал момент и каблуком сапога ударил Канабиевского в живот.
Вырвавшийся из свалки Приваленков с остервенением принялся избивать поверженного на пол узника.
— Скажешь, скажешь, все скажешь! — шипел он, нанося удары.
Канабиевский, когда на него вылили ведро воды, очнулся. Перед ним на стуле сидел улыбающийся поп Евгений. Заметив открывшийся глаз избитого, он мягко произнес по–русски:
— Вас просило командование: живите мирно, бог видит муки войны. И я молюсь, чтобы вы скорее вернулись на родину…
Глаза Канабиевского снова закрылись, и он почувствовал, что проваливается в бездну.
— Еще воды! — приказал Жоржеску.
— Барак! — махнул Жоржеску Акимову, который с очумелыми глазами неподвижно стоял у стены. Сантинелы схватили бесчувственное тело пленного за руки и потащили из комнаты.
В ближайшем от канцелярии бараке было пусто. У стены стояла грубо сколоченная длинная скамья. На полу валялись палки, на подоконнике маячил закопченный портняжный утюг, с одной из перекладин свисали концы веревки.
От удара о пол Канабиевский пришел в себя и попытался поднять голову. Акимов, нагнувшись, хотел что–то сказать, но услышал зловещий голос:
— Ты опять здесь? Ах, сука белогвардейская! Стрелять или вешать будешь?
— А вот сейчас увидишь, красный бандит, — Акимов притворно рассмеялся. — А ну, давайте, — обратился он к сантинелам.
Охранники подхватили Канабиевского и подтолкнули к центру барака. Акимов накинул веревку на заведенные за спину руки, затянул петлю и рванул ее за другой конец. Канабиевский застонал от боли.
— Ну, вот теперь будем говорить. Коммунист?
— Да, коммунист!
— Говори, кто в подпольном комитете?
— Души, сволочь!
— Скажешь, кто организовал подкопы? Вешать не буду. Подумай хорошо, господин капитан. Колонел Попович дал такое указание.
Сантинелы стояли рядом, без поясов, сложив руки на животе, готовые в любую минуту выполнить приказ старшего.
Акимов снова потянул за конец веревки. Раздался хруст. Руки пленного неестественно вздернулись выше плеч. Палач продолжал подтягивать веревку, пока носки ног истязаемого не отделились от пола.
— Говори, кто организовал подкопы? — допрашивал Акимов.
Лицо Канабиевского покрылось потом, вырвалось хрипящее дыхание. Тело его подняли еще выше.
— Говори!
— Кончайте скорей, мерзавцы! — выдавил из себя капитан.
Акимов, видимо, не понял, что сказал пленный, опустил веревку, и Канабиевский свалился на пол. В барак вошел Жоржеску.
— Что, говорит? — —обратился он к Акимову.
Сантинелы вытянулись по команде «смирно». Акимов доложил. Жоржеску обошел пленного, ткнул носком сапога в голову.
— Продолжать! — приказал он.
Канабиевского освободили от веревок, перенесли на скамью, поставленную среди барака, облили водой. Очнувшись, узник забился в ознобе.
— Мы сейчас тебя нагреем, — промямлил Акимов, взял утюг и выскочил из барака.
Сантинелы старательно привязывали жертву к скамейке. Канабиевский, увидев, что сантинелы расправляют мокрую веревку, подумал: «Пороть будут, гады…» Большое тело напружинилось. В плечах жгло, боль переходила на грудь и спину. Лицо пылало, на лбу блестели капельки пота. «Неужели руки выкручены? Ну да, фашисты так и делают: сначала изуродуют, а потом, если человек остается жив, расстреливают».
Со скрипом распахнулась дверь, и в барак вбежал Акимов с дымящим утюгом.
— Будешь говорить? — не переводя дыхания, спросил он.
Канабиевский тяжело вздохнул, глаза его как–то особенно сверкнули, лицо и шея покрылись розовой краской:
— Акимов, за это ты получишь сполна…
— Начинай! — крикнул Акимов и передал утюг сантинелу.
Канабиевский почувствовал, как его тело пронзил электрический ток, в голове усилился шум, нестерпимая боль застлала сознание. Палач прикасался утюгом к подошве то одной, то другой ноги. Запахло паленым…
Среди семидесяти арестованных оказались все, кто хоть частично участвовал в подпольной работе. Здесь были лагерные активисты, начальники секций, взводные организаторы, лекторы и те, кто непосредственно осуществлял подкопы.
Всех волновал вопрос: кто же оказался предателем? Кто работает на сигуранцу? Подозрение падало на «власовцев» и националистов. Никто из них не был арестован. Но одновременно ободряло то, что Володаренко, Пляко, Псел, Шевченко, Денисов, Клименко, Шамов и другие активисты остались на «свободе». Это Означало, что предателям было известно далеко не все.
…Изолированные от внешнего мира, мы ничего не знали о том, что делается в лагере. Наконец обстановка несколько прояснилась: трое красноармейцев под конвоем сантинел принесли в бурдеи матрацы для тяжелобольных.
Пока принимали матрацы, красноармейцы незаметно передали табак. На мое имя присланы несколько десятков сигарет и среди них Маленькая записка от Володаренко и Пляко. В записке сообщалось: «Аресты и допросы продолжаются. Компасы, стенные газеты, топографические карты при обыске захвачены. Радиоприемник сохранился, журнал уничтожен своими. Патриотическая работа продолжается в глубоком подполье. Вместо тебя руководителем временно избран Ш.».
От красноармейцев стало известно, что теперь лагерная охрана усилена вдвое. У пленных отобрано все верхнее обмундирование, обувь, головные уборы. Люди с утра до вечера в нестерпимую жару и непогоду остаются под открытым небом, а бараки на это время запираются на замок. Суточный рацион питания сокращен наполовину.
На четвертый день утром дозорный, дежуривший у единственного в помещении окошка, воскликнул:
— Ведут, ведут Сучкова!
Когда охрана удалилась, Сучков попал в тесное кольцо товарищей.
— Ну, рассказывай!
Ивана долго упрашивать не пришлось.
— Вначале принялись за меня одного, — начал он.
— Да ты, Ваня, сядь, — заботливо предложили товарищи.
Сучков осторожно опустился на пол, продолжал:
— На допроса присутствовали мажор Акимов и полицаи. Они допытывались, кто редактировал стенные газеты, где спрятан радиоприемник, кто организовал подкопы и кто руководит подпольем. А потом Акимов взял со стола номер стенной газеты, подошел ко мне и, тыча ее под нос, закричал: «Это кто писал, чья работа?» — «Не знаю», — говорю. Тогда Акимов развернулся и ударил меня в лицо. Потом били полицаи.
Сучков помолчал и умоляюще спросил:
— Ребята, закурить есть?
— Пожалуйста, пожалуйста, — засуетились вокруг. И только сейчас товарищи заметили рассеченную и распухшую губу Сучкова, слившиеся в единую опухоль пальцы правой руки.
— Рассказывай дальше.
— Акимов кричал на меня: «Вот мы сейчас тебе очную ставку сделаем, все скажешь!» Смотрю, вводят Евдокимова. Его еще раньше избили, руки связаны за спиной. Он посмотрел на меня, а у меня рот полон крови, не знаю, что он подумал. Вот твердый человек! Хотя бы глазом моргнул, на полицаев как на собак смотрел.
— А что он говорил?
— Акимов спрашивает: «Кто эту газету писал?» Евдокимов отвечает: «Эту газету писал и выпускал я один, и никто другой». Я даже глаза поднял на него, ведь писал ее и я.
— Молодец Евдокимов! — ответил кто–то стоящий рядом.
— Вот это по–большевистски!
— Всю ответственность взял на себя! — посыпались одобрительные возгласы.
— Его начали бить, — продолжал Сучков. — Евдокимов потерял сознание. А Акимов расхаживает по комнате, руки назад, затем говорит полицаям: «Надо их поднять на дыбу». Евдокимова облили водой, привели в сознание, затем нас с ним отвели в карцер и поставили в «собачий ящик». До сегодняшнего дня стояли в этих гробах… Вот, смотрите! — Сучков сбросил с ног опорки и показал распухшие, обезображенные ступни ног.
…Шли дни, мы ожидали военно–полевого суда. Тем временем из нашего бурдея допросили еще несколько человек.
Пищу приносили пленные красноармейцы, поэтому почти ежедневно мы получали вести о всех событиях в лагере. Аресты и допросы продолжались еще две недели.
Мне передали записку Пляко и Володаренко. Они сообщали: «По распоряжению коменданта Поповича многие сильно избиты. Заперто в стоячие «гробы» четыре человека, подвешено на дыбу и проутюжено горячим утюгом три человека, подвергнут уколом иглой в сухожилие один человек, имитирован расстрел в могиле, выкопанной самим пленным, — один, лишились рассудка от пыток и избиения — два человека…»
В записке также сообщалось, что Попович, подозревая сантинел в связи с военнопленными и передаче в лагерь газет, приказал: «Всем сантинелам наглухо зашить карманы в шинелях, брюках и рубашках, чтобы ничего не могли проносить в лагерь». Этот необычный по наивности приказ румынского жандарма дал заключенным повод долго и от души смеяться.
В бессонные ночи в бурдее часто велись беседы на самые разные темы, а иногда возникали и острые споры.
Вода табачного цвета в нашей яме почему–то в землю не уходила. Проходы между земляными выступами мы называли «венецианскими каналами». Утром, просыпаясь, мы все, как по команде, начинали надрывно кашлять.
Не знаем истинной причины, но после месячной отсидки в ямах нас переселили в карцерный барак. Окна крепко зарешечены толстыми железными прутами, вход и выход в арестантское помещение только один, через караулку, вдоль стены которой расположены стоячие «гробы». Тут же помещалась и охрана.
За окнами, на дворе, за проволокой, буйно зеленела весна. Солнечные, теплые дни звали на воздух, на волю. Ночью охрана затыкала все отдушины в помещении. Наступала томительная духота. На спящие, потные тела заключенных набрасывались полчища клопов, прятавшихся в щелях стен и деревянных нар.
Сантинелы, наблюдавшие через смотровое окошко за узниками, часто врывались в помещение и, поднимая крик, избивали тех, кто позволял себе подняться с нар, защищаясь от клопов или пытаясь утолить жажду.
Кончился месяц пребывания под арестом, а мы так и не знали, что будет с нами дальше. Через одно из окон были видны часть двора лагеря и стены бараков. Один из заключенных, в прошлом связист, достал где–то кусок зеркала и решил попробовать с помощью световой сигнализации связаться с двором лагеря.
Когда солнечные лучи коснулись окна нашего жилища, связист направил «зайчик» на стекла противоположного барака. «Зайчик» сразу же привлек внимание товарищей, и они немедленно отозвались. Связисты по азбуке Морзе обменялись несколькими фразами. Мы попросили: «Сообщите новости». Получили ответ: «Из лагеря бежало пять человек. Два товарища от избиения умирают. Вас отправят в военную тюрьму для военно–полевого суда…»
Этой связью мы пользовались пять дней, пока ее не обнаружила сигуранца. Жандармы устроили у нас повальный обыск, но зеркало не нашли. Дежурный офицер пригрозил нам общей поркой, если будет замечена попытка повторить сигнализацию.
Однако следующий дежурный офицер — локатинент Бузаш оказался совершенно другим человеком. Он знал, что заключенные сведены в тесное помещение, в ночное время задыхаются от духоты, знал и о том, что в помещении с деревянными стенами, потолком и грязными нарами царствуют полчища клопов. Заступив на дежурство, Бузаш сказал по–русски: «Здравствуйте, товарищи! Крепитесь, скоро будет свобода!»
Это привело нас в недоумение, но только на некоторое время… К концу дня нам были доставлены несколько ведер кипятка, ошпарены нары, пол. Заменены матрацы, выдано сменное белье, все вымылись в бане. А на ночь в помещение был поставлен бак с холодной водой.
После этого у нас появилось желание поговорить с покатинентом… Но оказалось, что в лагерь из командировки возвратился комендант Попович и, узнав о самоуправстве Бузаша и его сочувствии «большевиче», засадил его самого в карцер. После этого Бузаша в лагере никто не видел.
НА ПАРОХОДЕ ПО ДУНАЮ
В середине мая, в один из вечеров, наша группа под усиленным конвоем была переведена из карцера на пристань. Здесь стало известно,. что арестованных узников погрузят на пароход и отправят Дунаем в неизвестном направлении. Командование выбрало водный транспорт, чтобы предотвратить побеги.
Поздно ночью нас без шума запрятали в тесный трюм товаро–пассажирского парохода. Без единого гудка судно отвалило от пристани.
— А что, товарищи, возможен и такой вариант, как это было в гражданскую войну: белогвардейцы коммунистов расстреливали на палубе и в воду… А здесь орудуют фашисты, — сказал кто–то в темноте.
— Горчицы тебе на язык! — отозвался угрюмый голос.
— Дай хоть немного на пароходе покататься, брехло!
— И есть же такие нетерпеливые — уже и приговор подготовили, — сыпались реплики. Вдруг все стихло.
В трюме от духоты трудно дышать. Маленькие иллюминаторы почти не пропускали свежего воздуха. Запрятанных в трюм людей обслуживала молодая черноволосая особа. Она наполнила бак водой, повесила на гвоздик алюминиевую кружку и, улыбаясь, направилась к выходу. Даже при тусклом свете электрической лампы, прикрепленной к потолку, ослепительно блеснули ее белые зубы.
— Гражданочка! — окликнул женщину Шикин. — У меня вопросик.
К нашему удивлению, незнакомка обернулась. Статная, полногрудая, она чем–то напоминала задорную, веселую украинку.
— Куда это нас отправляют, если не секрет?
Смуглянка на чистом русском языке охотно назвала конечную пристань и добавила:
— Идти будем трое суток.
— Откуда знаете русский?
— Я из Кишинева, а там многие говорят по–русски.
— Быстро ли будем плыть? — продолжал спрашивать Шикин.
— В Дунае плавает много магнитных мин. Их почти каждую ночь сбрасывают американские самолеты. Ежедневно взрываются один–два парохода. Поэтому плыть будем медленно.
— А как вы попали сюда?
Лицо молдаванки вдруг стало грустным, добрая улыбка сбежала с лица, щеки зарумянились.
— Так уж случилось, — тихо ответила она и удалилась.
Наступила томительная тишина. Каждый думал об этих проклятых минах, которые в любую минуту могли пустить пароход и его обитателей на дно реки. Из полумрака донесся тихий голос:
— Если наскочим на мину, то поминай как звали, никто из трюма не спасется!
— Все равно, — равнодушно ответил ему другой голос, — не по решению военно–полевого, так тут, какая разница?
Однако ночь прошла спокойно. Только от Калафата мы ушли недалеко. Ночью пароход часто приставал к берегу.
Прижавшись ко мне, что–то шептал Петр Собецкий. Из–за шума машины и воды за иллюминатором я ничего не понимал.
Днем, когда в трюме от духоты становилось невмоготу, нам разрешали группами выходить на несколько минут на палубу. «Сердобольный» майор, сопровождавший нас, считал это отступлением от правил. А чтобы кто–нибудь не вздумал пытаться бежать, на капитанском мостике он установил пулемет, по бортам судна расставил шеренги сантинел, вооруженных автоматами и гранатами.
К вечеру пароход приблизился к румынской пристани и нефтебазе Джурджу. На правом берегу Дуная показался большой болгарский город Рущук. Когда мы подходили к нему, неожиданно взвыли сирены. Сигналы повторились и на нашем судне. Засуетилась команда, пароход сбавил ход и пошел к берегу, заросшему высокими вербами и тополями. Судно впритирку встало к берегу, наполовину укрывшись под ветвями вербы. Команда парохода и солдаты конвоя быстро высыпали на берег и начали рубить ветви. Через несколько минут обнаженная часть парохода была замаскирована зеленью. Команда и охрана сошли на берег. Они искали убежище под толстыми деревьями, наша группа осталась на пароходе.
Не прошло и десяти минут, как в небе послышался нарастающий гул самолетов. Над Рущуком и Джурджу в воздух взмыли «мессершмитты». С севера, со стороны Бухареста, на юг шли большие группы американских «летающих крепостей». «Мессершмитты» врезались в порядки воздушной армады. Во время боя часть «крепостей» отклонилась и начала бомбить Джурджу и Рущук, В городах и их портах возникли пожары. Воздушный бой разгорался, не умолкая ухали зенитки. Вот загорелся, а затем устремился к земле, оставляя позади себя длинный, густой шлейф дыма, тяжелый бомбардировщик. Один из «мессеров», ворвавшийся в строй «крепостей», резко наклонился и тоже пошел к земле. Все находящиеся на палубе парохода замерли. Через несколько секунд мы услышали, как недалеко от берега в зарослях камыша раздался приглушенный удар. Прибежавшие сантинелы сообщили, что на поверхности болота видно лишь хвостовое оперение самолета.
Остальные «мессеры» вышли из боя. Но задымила еще одна «крепость», и вслед за этим под самолетом распустились четыре парашюта. Они скользили к правому берегу, самолет же, объятый пламенем, рухнул за возвышенностью на болгарской стороне.
После отбоя пароход зашел в Рущук, чтобы набрать питьевой воды и надеть противоминные пояса, так как в низовьях Дуная угроза подорваться стала еще большей. Было совсем светло, когда мы причалили к пассажирской пристани. На берегу толпилось много людей. В стороне от причала прогуливались два немецких офицера.
Когда на берегу узнали, что на пароходе находятся пленные советские воины, все повалили на пристань. Толпа буквально осадила пароход. Мы слышали понятные нам славянские фразы. Нас приветствовали. Подавали свежую воду, бросали пачки папирос, табак, булки, конфеты. Никто из судового начальства, а также находившиеся в толпе портовые полицейские не препятствовали болгарскому населению общаться с военнопленными.
Теплая, сердечная встреча болгар тронула нас до слез. Мы поняли, что присутствие гитлеровцев в Болгарии не поколебало давнюю братскую дружбу, и думалось, что болгары тоже уверены в скором разгроме немецких захватчиков.
Когда пароход отчалил от берега, молодая женщина бросила на палубу большой букет свежих цветов. Над толпой поднялся лес рук.
Капитан парохода получил приказ пришвартоваться в Джурджу и остаться там на ночь, так как низовье Дуная было еще не очищено от мин.
На рассвете следующего дня мы снялись с якоря и зашли в порт только для регистрации. Пока пароход стоял, мы с удивлением смотрели на разрушения, появившиеся на пристани за одну ночь. Второй этаж речного вокзала был сметен, все здание сгорело, по соседству с ним дымились развалины пакгауза. Только вчера мы видели здесь две огромные противовоздушные вышки с фашистскими пулеметчиками, а теперь на этом месте остались лишь обезображенные остовы железных опор. Слева от пристани стояли развороченные баки нефтехранилища.
Мы снова в пути. Пароход идет медленно, осторож* но, словно на ощупь. Было ясно, что капитан опасается наскочить на мину. Встречных судов почти не было. Высокий болгарский и низкий румынский берега остались позади.
На вторую ночь пароход остановился у входа в какой–то приток Дуная.
Был теплый лунный вечер, из густых зарослей леса на берегу доносилось щебетание птиц, за бортом плескалась вода. И было так мирно вокруг, что мы забыли, где мы и что с нами.
СНОВА СЛОБОЗИЕВСКИЙ ЛАГЕРЬ
Нас доставили в город Слобозию, расположенный в сорока километрах от Бухареста. В исправительном лагере за третьей проволочной оградой размещалась так называемая военная тюрьма. Слобозиевский коррекционный лагерь многим из нас был хорошо знаком. В лютые декабрьские морозы 1942 года именно здесь мы встретили первую зиму нашего плена.
Нашу группу принимал комендант лагеря, он же начальник военной тюрьмы подполковник Кирабаш, Пока шла процедура приема, мы осматривали наше новое жилье. Приземистое двухэтажное здание, толстые каменные стены выкрашены известью. Эта белизна особенно ярко подчеркивала железные переплеты на окнах. Почти вплотную к стенам тюрьмы подступали четыре ряда колючей проволоки. Через нее вел лишь один узкий коридор с прочными калитками и тяжелыми замками. Во дворе тюрьмы, кроме дощатой уборной, других сооружений не было.
Е. М. Шикин
Ф. Я. Бицкий
Перед тем как переступить порог этого каменного мешка, каждый из нас настороженно отыскивал глазами места, которыми можно было бы воспользоваться для побега.
Нашу группу разместили в камере с трехъярусными нарами. Через единственное окно в нее скупо лился дневной свет. На ночь двери запирались снаружи на замок, и камера погружалась в непроницаемую мглу. Несмотря на то, что окно не было застеклено, мы задыхались от недостатка воздуха. Днем нам разрешалась прогулка по узенькому коридору.
В одной из камер этого корпуса помещались три американских летчика и один англичанин — военный корреспондент. Самолет, на котором он летел, был сбит где–то на границе Франции. Вначале журналист находился в Германии в одном из лагерей, затем бежал в Чехословакию, потом — в Румынию, как он говорил «с расчетом попасть в Советский Союз».
Американцы были переведены в Слобозию из так называемого отборочного лагеря, расположенного где–то в Ботошани.
Начальник тюрьмы, очевидно, не учел некоторых обстоятельств, разрешив американцам прогулку одновременно с советскими заключенными. Это нас, естественно, устраивало, так как мы намеревались установить контакт с союзниками. Лева Беркович, одессит, неплохо знал английский язык.
Первым к нам подошел молодой, среднего роста, сухощавый брюнет.
— Авиатор Смит, — отрекомендовался он, с улыбкой пожимая нам руки. — Америкен — рюсски братья милитаре, — продолжал он, пока остальные трое молчаливо и чопорно раскланивались. Они стояли рядом друг с другом, окруженные плотным кольцом нашей группы.
Беркович обратился к высокому, плотному блондину в пенсне:
— Как вы расцениваете ход войны?
Американец, очевидно, не ожидал такого делового вопроса, посмотрел на своих товарищей, прищурил глаза, как бы напрягая мысли, затем ответил:
— Американская политика глубокая. В первую очередь — расчет компании, порядка операции, затем подготовка техники и… удар!
Он склонил голову и через стекло пенсне посмотрел на свой палец, нервно сбивающий пепел с сигареты. Потом улыбнулся и, окинув нас взглядом, заключил:
— Мы мыслим так: там, где американец хоть один раз станет ногой, должны появиться нефть, руда, доллары…
Такое заявление не могло не обескуражить нас. Политрук Коршунов, протолкавшись через толпу к Берковичу, попросил:
— Спросите его, когда они думают открыть настоящий второй фронт? И думают ли вообще открывать?
На этот вопрос мистер Джерж ответил сухо:
— Все зависит от американского командования.
Встречались мы и с другими иностранцами, не союзниками. Трое суток по соседству с нашими камерами сидели солдаты армии Муссолини. Их было восемнадцать, низкорослых и тощих. Обремененные тяжелыми чемоданами, мешками невоенного образца, итальянцы скорее были похожи на переселенцев.
Мы знали, что после падения фашистской Италии Гитлер перестал доверять потерявшим боеспособность бывшим войскам Муссолини. Теперь солдаты из расформированных бригад дуче не находили пристанища даже у своих союзников.
Как–то в послеобеденные часы многие лежали на нарах, некоторые постукивали самодельными «шахматами», на веранде слышался чей–то сдержанный шепот. И вот в тишине вдруг хлопнули доски нар, задрожал пол от топота ног. Все бросились из казармы.
— Женщины!
— Трое.
— Советские! Наши! — выкрикивали голоса.
Веранда заполнилась бурлящей толпой.
— Березка идет! — услышал я голос Шикина.
В ворота тюрьмы под конвоем румынских солдат ввели трех девушек. Заключенные, как по команде, подняли руки, приветствуя прибывших. Девушки, видя восторженную встречу товарищей, ответили тем же.
— Тоже попали под полевой?
— А как же — парашютистки!
— Боевые!
— Молодцы! — раздалось со всех сторон.
Наших соотечественниц поместили в одну из камер, отгороженную от остальных колючей проволокой. Девушки многое рассказали о себе. Одна из них — Вера — бывшая работница Сталинградского тракторного завода, вторая — Нина — до ухода на фронт служила кассиром в кинотеатре города Ростова. Все трое пошли на фронт добровольцами. Выслушали мы историю их пленения, которая была мне уже известна из рассказа Березки.
Появление девушек в тюрьме намного сгладило нашу обыденную, полную тревог, жизнь. Лишение свободы, полуголодное состояние, оскорбления, физическая немощь, ожидание военно–полевого суда — все это отошло на задний план.
Березка, увидев меня, подошла к проволоке и радостно заговорила:
— Мы узнали о нашей отправке в Слобозию за трое суток. Я успела увидеться с Пляко, Денисовым и Клименко. Они передали привет и настоятельно советовали, чтобы ваша группа не ожидала суда, бежала… Товарищи предполагают, что в военно–полевом суде обязательно будут участвовать фашисты. — Березка сделала паузу и испытующе посмотрела мне в глаза. — Вы понимаете, чем это может кончиться?
Встречались мы с Березкой ежедневно. Вспоминали чапаевцев, Мекензиевы Горы. Я всячески старался успокоить ее. Однажды спросил о Саше Королеве.
— Виделась и с ним. Он жалеет, что не попал с вашей группой в Слобозию. Странный он, все пытается что–то мне сказать, а не может, — с какой–то грустью закончила она разговор.
УДАЧНЫЙ ПОБЕГ
Каменные стены, цементный пол, прочные решетки на окнах, за которыми тянулась в несколько рядов колючая проволока со сторожевыми вышками, ожидание военно–полевого суда обостряли мысли о побеге. Стремление вырваться на свободу силой не покидало нас ни на минуту. Ведь суд–то может свершиться в любой день. Почему мы должны его ждать?
По соседству с тюрьмой размещался лагерь военнопленных, в котором содержалось до пятисот красноармейцев. Были ли среди них командиры, мы не знали. Однажды к нам по какому–то делу зашел красноармеец. Убедившись, что с ним можно говорить откровенно, мы попросили его доложить своему старшему, чтобы он связался с нами. К нашей радости, боец сообщил, что среди красноармейцев находится полковник, который и является старшим по лагерю.
Через некоторое время мы передали полковнику: «Подготовьте боевые подразделения из бойцов на всякий случай…»
А дни проходили за днями. У меня снова открылись раны на бедре, и я лишился возможности ходить. Правая рука в локте не разгибалась, но пальцы работали нормально. Понятно, что настроение было отвратительным, я подолгу лежал без движения. В такие минуты в памяти обычно всплывал Краснодар. С щемящей болью в сердце перед глазами вставали дети. Я видел их такими, какими оставил дома несколько лет назад…
На мое плечо легла чья–то рука. Я поднял голову. Передо мной — Канабиевский. Он дружески улыбается и говорит:
— Не падай духом. Если что — на руках унесем, не бросим.
— Разве я когда падал духом? — удивился я.
— Да, нет, я о твоих повязках… опять мокрые…
Канабиевский мягко переступал с ноги на ногу: подошвы его ног после калафатского «проглаживания» утюгом еще как следует не зажили. И вряд ли он дальше меня ушел бы в случае необходимости. Он сообщил последнюю новость, которая неведомыми путями проникла в наши застенки: где–то на Украине или в Белоруссии фашисты при отходе уничтожили в лагере всех советских офицеров.
Теперь, не имея своего радиоприемника, мы только из румынских газет знали, что Советская Армия неотступно и методично освобождает город за городом, изгоняет врага с родной земли. Примерно определили линию фронта. Заключенные, зная об успешном продвижении наших войск, не сдерживая возбуждения, решительно настаивали на немедленном освобождении из лагеря.
В середине июля нам разрешили раз в день продолжительную прогулку по двору тюрьмы, а утром и вечером — пользование уборной во дворе. Это приближало нас к осуществлению намеченного. Изучив расположение лагеря, мы с сожалением установили, что стены и крыша тюрьмы ничего утешительного нам не сулят. Подкоп из уборной во дворе казался наиболее вероятным. Решили подготовить его еще до наступления светлых ночей. Нужно было торопиться: предстояло делать тоннель в тяжелых условиях. Для исполнения этой работы отобрали самых молодых и здоровых ребят. Кто уйдет из тюрьмы — над этим вопросом пока не думали. Техническую часть работы возглавил летчик капитан Николай Московченко.
— Будьте уверены, товарищи, задание будет выполнено… Кто уйдет за проволоку — дойдет и до Родины, — уверял он.
Во время утренней прогулки, когда в уборной собрались несколько человек, подняли доски пола и два узника опустились в подполье. Держась руками за балку и упираясь ногами в рыхлую стену, они до конца перерыва ножами выкопали нишу, подготовив рабочие места. Затем стали прокладывать основной проход, ссыпая землю в яму уборной. Во время обеденной прогулки «землекопы» выходили на отдых, а вторая смена опускалась в подполье и продолжала работать до вечера. На ночь оставаться в тоннеле было опасно, так как жандармы перед сном проверяли наличие людей в камерах.
На седьмые сутки ночи стали лунными. Это совпало е_ще и с тем, что жидкость в яме быстро поднималась, грозила захлестнуть тоннель. Решили выпустить на волю хотя бы небольшую группу людей. Но успех организации побега был еще призрачен, так как тоннель выходил на поверхность картофельного огорода в 12-—15 метрах от постоянного караула с пулеметным гнездом. Но это не остановило нас.
Выяснили, что тоннель может вместить только одиннадцать человек. Встал вопрос: кто окажется в первой группе? Начали решать на палке: кто верхний — тот уходит. Отобрали. Я остался в тюрьме. Московченко вдруг подошел ко мне.
— Я очень прошу вас — идемте с нами… Как–нибудь втиснем и двенадцатого, — с волнением заговорил он.
Я категорически отказался. И сделал это по многим причинам: во–первых, ноги мои для похода не годились, следовательно, я бы только задерживал товарищей, второе — раз установлен принцип отбора, его нарушать нельзя, это просто нечестно и третье — по моральным и практическим соображениям я должен оставаться в тюрьме, пока не решится судьба всех остальных.
19 июля во время вечерней уборки одиннадцать человек во главе с капитаном Московченко, снабженные продуктами, табаком, спичками, распрощались с товарищами, опустились в тоннель. Было опасение, что беглецы не выдержат скопления газов в тоннеле. Более трех часов томились они в душной дыре. Но как только опустилась ночная мгла, было открыто выходное отверстие тоннеля.
На следующее утро, еще до восхода солнца, караул пулеметчиков обнаружил примятую ботву картофеля и странную дыру в земле. Поднялась тревога. Но беглецы в это время были уже далеко.
Побег одиннадцати советских офицеров из слобозиевской тюрьмы имел серьезные последствия. Через два часа после раскрытия побега о нем уже знал Бухарест. С утра начальник тюрьмы Кирабаш и начальник сигуранцы начали допрос всей нашей группы. Кирабаш жестоко избил переводчика Кирилла Мацкевича только за то, что тот якобы должен был поднять тревогу, узнав о намерении беглецов. С этого дня прогулки не только во дворе, но и по коридору были прекращены. На двери повешены большие замки, усилена внешняя охрана.
Успех побега толкал нас на решительные действия. Группа была охвачена одним–единственным стремлением — к свободе! По румынской топографической карте, привезенной нами из Калафата, мы изучили пути предполагаемого следования от Слобозии на север: дороги, лесопосадки, водные преграды. Слобозия стоит на перекрестке шоссейных дорог Яссы — Кэлэраш и железной дороги Бухарест — Констанца. Река Яломица, омывающая город, в случае выхода из тюрьмы оставалась на юге. Наш путь должен был пролегать по определенному маршруту: рекам Бырлад или Пруту, через Яссы, Бельцы и Днестр… А там Родина!
Мы с Хазановичем пригласили Канабиевского, Коршунова, Собецкого, Шикина и других товарищей участвовать в разработке плана вооруженного восстания.
На днях в лагерь должна была возвратиться большая группа пленных красноармейцев, вывозимая на работы в местные хозяйства. Есть смысл дождаться их. Во–первых, бойцы были физически крепче, во–вторых, численность отряда после объединения увеличится до пятисот человек. А это уже сила, способная на серьезные дела.
Полковник Хазанович и я долго стояли у перил коридора тюрьмы. Отсюда открывался хороший обзор окрестностей лагеря. Мы уже знали, что на запад от города на многие километры тянется лес, где можно будет некоторое время укрыться, но плохо то, что все сосредоточивалось в Бухаресте. Следовательно, для побега лес не имел значения. На востоке — деревни, перелески и пересеченная оврагами и речушками местность, ведущая в сторону моря.
— Нам надо двигаться только на север, — сказал полковник, — двигаться к нашей границе. Туда все наши будут рваться, потому что впереди Родина.
— Значит, решено? — обратился я к нему.
— Конечно. Только надо еще раз все уточнить.
Расходясь, решили утром обсудить конкретный план действий.
Теперь мы с особым вниманием присматривались к складу с оружием, стоявшему в двадцати метрах от здания тюрьмы, за проволокой.
Овладеть складом с оружием охраны тюрьмы и лагеря, а затем в бою завоевать свободу — дело рисковое.
Ведь если восстание окажется неудачным, то нас будут судить по всей строгости законов военного времени, как партизан. А это значит… Следовательно, мы должны подобрать таких командиров и политработников, которые бы сочетали в себе знание военного дела, личную смелость, умение поддерживать боевую дисциплину бойцов. Сам же командир при всех случаях не должен терять хладнокровия, решительно выполнять задания.
Как–то в августе в санчасть тюрьмы прибыл из Бухареста румынский военный врач. Прочитав списки заключенных, он через санитара вызвал к себе капитана медслужбы Гетмана. Познакомившись, врач предупредил его, что вызван в санчасть как врач. В беседе один на один румын долго выяснял общее настроение заключенных и сообщил, что является представителем бухарестского Красного Креста. Затем высказал свои симпатии к Советскому Союзу и в заключение заявил, что ему поручено связаться с узниками слобозиевской тюрьмы.
— Среди заключенных, конечно, имеются коммунисты и старшие офицеры, — сказал врач, — есть товарищи, которым вы доверяете?
Гетман пожал плечами и ничего не ответил. Тогда врач вытащил из портфеля несколько пачек ассигнаций.
— Вот здесь пятнадцать тысяч лей. Это наша организация передает вам как первую помощь. Спрячьте их, чтобы не заметили сантинелы.
Гетман с трудом рассовал под белье объемистые пачки денег.
— Кроме того, — продолжал врач, — мы постараемся помочь вам и другими средствами. Румыния сейчас на грани выхода из войны. В армии брожение… И последнее: передайте своим товарищам, что мы помешаем учинить над ними суд.
Полученные деньги решили беречь для разных непредвиденных расходов.
Санчасть лагеря и тюрьмы размещалась на другой стороне двора. Однажды санитар пришел к нам и пригласил в санчасть кого–нибудь из пленных, знающих румынский язык. Послали Леонида Мельника. Вскоре он возвратился, загадочно улыбаясь:
— Товарищи, — начал Леонид, — мне удалось поговорить наедине с шофером, привезшим продукты. Кокош его звать. Он сказал мне: «Товарищи, многие у нас сочувствуют вам, верят, что скоро наступит конец разбою… Красная Армия подошла к границам Румынии… Мы, антифашисты, тоже ее ждем. Скажите, чем вам помочь?» Он обещал установить с нами контакт и передал вот эти листовки.
Мы смотрели на Мельника и радовались, что у нас и в Слобозии появились соратники по борьбе. Но особенно сильное впечатление на нас произвело содержание воззваний Коммунистической партии Румынии к народу своей страны. В полученных от Кокоша листовках говорилось: «Солдаты, унтер–офицеры, офицеры и генералы! Отказывайтесь воевать и умирать за преступников Гитлера и Антонеску! Фронтовики! Переходите со всем своим вооружением и боеприпасами на сторону Красной Армии, которая поможет вам бороться за освобождение нашего отечества!»[16] «Патриот! Борьба идет не на жизнь, а на смерть! Цель немцев ясна: они хотят потопить в крови жителей столицы, как сделали это с жителями других городов»[17].
Эта встреча придала нам бодрости на несколько дней. Спустя некоторое время мы получили передачу, в которой оказались галеты, сахар и медикаменты. И снова недоумение, доброе доверие и надежда. Через две недели поступила еще одна посылка.
Как–то в самые жаркие июльские дни в тюрьме вышел из строя водопровод. Мы возмущались, требовали у тюремного начальства исправить его. Нам объяснили, что подача воды временно прекращена из–за нехватки ее на городской станции, и велели ждать. И вдруг на следующий день водопровод начал действовать. Спустя неделю через Кокоша мы получили записку на румынском языке. Леонид Мельник перевел ее. Теперь стало ясно, что советским пленным помог комендант железнодорожной станции, давший указание отпускать воду для узников тюрьмы из резервуаров станции.
Искреннюю дружбу и симпатии румынского народа к нам мы особо ощутили, когда с автоматами в руках вместе гнали фашистов с румынской земли.
ЗНАМЯ ПОДНЯТО
Уже вторые сутки мы ведем в городе непрекращающийся бой с немецким гарнизоном. Мы с Хазановичем только что возвратились с передовых позиций, где провели ночь в напряженном ожидании возможного появления вражеского подкрепления. Но у немцев явно спала активность сопротивления. Наши позиции, занятые еще вчера по линии первых кварталов города, прочно удерживаются.
Восстание началось вчера, 25 августа[18].
По заведенному порядку день в тюрьме начинался с завтрака. Так было и в этот раз. Ровно в 7 часов утра два сантинела в сопровождении сержанта принесли кофе — бадью с темно–мутной безвкусной жидкостью и поставили ее у выхода из камер. Солдаты беспечно вытащили из карманов табак и неторопливо стали закуривать цигарки.
Заключенные с котелками и баночками потянулись к бадье с кофе, но становились не как обычно, в очередь, а полукругом. Вскоре сантинелы и мажор были в кольце. В один миг винтовки солдат и пистолет сержанта оказались в руках заключенных. Обезоруженные охранники не успели одуматься, как их решительно втолкнули в одну из камер. Звякнули дверные запоры.
Около двух десятков заключенных во главе с майором М. В. Новиковым досками, сорванными с нар, разорвали проволочную ограду, отделяющую здание тюрьмы от склада с оружием. В несколько минут его двери были разбиты, и три станковых пулемета с коробками патронов выкачены во двор. Около двухсот винтовок французского образца, десятки автоматов быстро нашли своих новых хозяев.
Капитан–лейтенант Шикин с группой бойцов бросились к лагерю красноармейцев:
— Товарищи, выходите!
Старший политрук Коршунов, майор Лысенко и лейтенант Добровольский с пулеметными расчетами заняли запланированные позиции.
Г. К. Гармаш
В. В. Хазанович
Появление красноармейцев во дворе тюрьмы вызвало шумный восторг товарищей. Шикин, вскинув руку к правому виску, вымолвил:
— Разрешите доложить, товарищ полковник, боевая группа красноармейцев прибыла. Вся охрана лагеря бежала, комендатура пуста.
С этого момента В. В. Хазанович — командир, А. Е. Рындин — комиссар, И. Е. Канабиевский — начштаба отряда вооруженного сопротивления военнопленных.
В шуме и сутолоке слышится твердый голос Хазановича:
— Капитан–лейтенанту Шикину со взводом на железнодорожной станции захватить оружие, майору Лысенко занять оборону вокруг элеватора по линии железной дороги и оседлать шоссе Слобозия — Яссы. Старшему политруку Коршунову с двумя взводами занять оборону юго–западнее лагеря, перерезать шоссе Слобозия–Бухарест.
Подразделения быстрым маршем скрывались за воротами тюрьмы. Шикин с отрядом уже штурмовал вокзал.
Канабиевский и старший врач Гетман хлопотали об организации санитарного отряда, о пищеблоке и одежде бойцов отряда.
Из города слышалась ожесточенная перестрелка. Связные сообщили, что наши подразделения захватывают квартал за кварталом. На берегу реки Яломиць» обнаружена прочная оборона противника, Лысенко пытается ее сбить и выйти на берег.
К концу дня группа майора Новикова, сбив оборону гитлеровцев с северной стороны города, продвинулась в степь и заняла боевые позиции в балке, оседлав дорогу Слобозия — Плоешти. Этот участок обороны оказался довольно удачным. Как только стемнело, по дороге со стороны Плоешти показались огни фар, а затем послышался нарастающий гул машин. Это, как мы предполагали, шло подкрепление фашистскому гарнизону.
Новиков быстро сориентировался: расположив редкие цепи по обе стороны дороги, небольшую группу автоматчиков поставил со стороны города для задержки на случай прорыва отдельных машин.
Условный сигнал Новикова — и весь боевой участок заалел винтовочными и автоматными вспышками. Первая очередь огня прошла по колесам машин, вторая — по лобовым стеклам и кузовам. Сквозь трескотню автоматов донеслись крики вражеских солдат.
Первая подбитая машина завертелась и стала поперек дороги, остальные, натыкаясь одна на другую, стремились преодолеть опасную зону. Погасли огни. Водители, выскакивавшие из кабин, попадали под огонь автоматчиков.
Атакующие, продолжая обстрел, оцепили колонну и начали обезоруживать гитлеровских вояк. Фашисты, видимо, не ожидали столь стремительного и организованного нападения. Операция была закончена в несколько. минут.
Посланный мною для выяснения обстановки лейтенант Бучек уже через полчаса вернулся с девятью грузовыми машинами и военными трофеями. Майор Новиков привел большую группу пленных.
Первые победы этого дня окрылили наш отряд.
Канабиевский, побывавший на вокзале, доложил, что Шикин уничтожил вражескую охрану на вокзале, захватил в эшелоне два пулемета и около двадцати автоматов, большое количество патронов и гранат, вагон разного продовольствия.
Капитан Епифанов сообщил, что его группа, продвигаясь по главной улице города, достигла почты, потерь •не имеет. К вечеру поступили сведения и от других групп и взводов. Пока все шло по плану.
Свой штаб мы переместили в здание бывшего военного училища, где до этого размещался кабинет начальника тюрьмы и комендатура лагеря. Здесь же и состоялся первый допрос пленных.
— Спросите майора, — обратился командир отряда к Берковичу — нашему переводчику, — сколько немецких солдат и офицеров в гарнизоне? Было ли им известно о нашем выступлении?
Холеный, с иголочки одетый гитлеровец вздрогнул.
— В гарнизоне около тысячи человек. О вашем бунте мы ничего не знали, господин генерал.
— Я не генерал. Наши генералы на фронте бьют фашистов.
Майор смутился и замолчал.
— Передавал ли начальник их гарнизона в Бухарест и Плоешти сообщение о нашем восстании?
— Мне ничего не известно, о чем говорил начальник гарнизона со штабом наших войск.
— Какое настроение немецких войск в Румынии в связи с поражением гитлеровцев на восточном фронте?
— Подавленное. Среди офицеров нет единодушия. Многие солдаты дезертируют.
Воспользовавшись паузой, майор помялся и с тревогой в голосе спросил, почему–то обращаясь ко мне:
— Я хочу знать: вы меня расстреляете?
Полковник, услышав вопрос, тихо ответил:
— Безоружных пленных у нас не расстреливают. Мы — Советская Армия.
Потеряв интерес к ответам пленного, мы отправили его в тюрьму, где уже находилось около сотни немецких вояк.
На рассвете следующего дня майор Лысенко со взводом напал на аэродром. Румынская охрана оказалась настолько неорганизованной, что даже не успела поднять тревогу. Но на аэродроме ничего значительного не оказалось, кроме двух испорченных самолетов. Исправленные машины еще вчера улетели, взяв на свой борт несколько офицеров. Правда, в одном из блиндажей был захвачен в плен генерал–майор румынской авиации. Оказавшись под дулами автоматов, он долго не мог успокоиться. Потирая ладонями седеющие виски, генерал бросал на Хазановича тревожные взгляды, по лицу его блуждала растерянность.
— Господа, — наконец заговорил он на сносном русском языке, — меня это пленение приводит в смущение. Глубокий тыл… восстают пленные… Истощенные, оборванные, они вооружаются… Это невероятный факт! Мне очень неприятно говорить об этом… Я генерал румынской армии, у себя дома, на родной территории, в глубоком тылу фронта… и оказался пленным!.. — Генерал грустно улыбнулся, разглаживая ладонью свои смоляные, чуть с проседью усы. — Это парадокс, господа! А моя семья в квартале отсюда ждет меня к утреннему кофе.
Полковник В. В. Хазанович предложил генералу сигарету из запасов немецкого интендантства.
— Благодарю! — генерал вытащил свои, румынские папиросы.
Из допросов выяснилось, что в 1915 году он окончил летное училище в Петрограде и с тех пор находился в армии, обучая молодых летчиков.
Нам ничего не оставалось, как выделить генералу отдельную комнату и разрешить ему свидание с семьей.
Наладилось регулярное поступление сводок с передовой. Подполковник Ильясов сообщал, что на его участке скопилось много трофейных автоматов, винтовок, гранат, патронов и даже один тягач. Поступили сведения от Добровольского и Коберидзе. Одну группу за другой приводили пленных немцев, они постепенно заполняли те камеры тюрьмы, где до недавнего времени содержались мы.
Перед вечером в штаб доставили двух гитлеровских офицеров. На допросе один из них стал убеждать нас, что он сын старого социал–демократа и в армию попал по «принуждению». Другой уверял, что он простой торговый служащий и ничего общего с фашизмом не имеет.
— А все же понимают, что фашизм — зло и что за него надо отвечать, — бросил реплику Канабиевский, выслушав перевод Берковича.
Офицеры сообщили об имеющихся сведениях, что фашистские войска от Кишинева должны отходить на Болгарию через Слобозию. Был ли в этом сообщении расчет запугать нас, или это была истина, однако услышанное заставило нас призадуматься, перестроить свои планы на случай оборонительных боев.
Учитывая, что наши операции пока проходят с успехом, что все бойцы уже вооружены автоматами, имеется значительное количество патронов и гранат, мы решили не только освободиться из плена, но и оказать наступающим советским войскам существенную помощь.
— Вот теперь–то уж автомат из рук не выпустим! — говорили наши бойцы, рвавшиеся в бой.
Утром фашисты начали наступление. В бой были пущены минометы, станковые пулеметы и автоматы. Немцы упорно обороняли мост через Яломйцу, забаррикадировав все подходы к нему. Завязались затяжные уличные бои. Группы Коршунова и Коберидзе с фланга обошли квартал, занятый гитлеровцами, и ударили стыла. Однако противник успел основательно закрепиться.
В середине дня от пленных узнали, что немецкий гарнизон запрашивал Бухарест и Плоешти, требуя помощи.
В конце дня разведка доложила: в пяти километрах от города, в поселке, остановился на ночь вражеский батальон. Штаб принял решение: не ожидая подхода противника к городу, вечером организовать налет на батальон и уничтожить его. Командиром десанта был назначен младший лейтенант Василенко, комиссаром Евдокимов, старшим врачом Гетман.
Василенко я знал по Калафату. Это был остроумный и находчивый человек. Ему не было еще и двадцати пяти лет, но в лагере все знали Николая как затейника и балагура. Учитывая его возраст, мы решили послать с ним политрука Евдокимова, в прошлом опытного партийного работника.
Восемьдесят человек, вооруженных трофейными автоматами, были погружены на три платформы. На паровоз в качестве проводника взяли начальника железнодорожной станции.
С тревогой в душе проводили десант в темную ночь.
Поезд медленно шел к намеченной цели. Огни на паровозе были погашены. Бойцы тревожно всматривались во мрак.
Вскоре впереди показались огоньки. Начальник станции забеспокоился и передал через переводчика, что можно остановиться. Старый маневровый паровоз со скрипом затормозил, застучали буфера, и люди быстро начали прыгать под откос насыпи. С полкилометра шли колонной. На кукурузном поле остановились.
Недалеко едва просматривалась темная полоса лесопосадки. Василенко, посоветовавшись с Евдокимовым, приказал всем рассыпаться цепью, а сам взял двух бойцов и пошел в разведку. Вскоре он возвратился.
— Хутор разбросан, — заговорил командир десанта, — в нем дворов десять — двенадцать. Центр пересекает одна прямая улица. С востока берег круто обрывается в реку, с запада — сады и огороды. Вся улица забита автомашинами. Фрицы уже спят.
— Откуда же заходить, как по–твоему? — спросил Евдокимов.
— Ничего мудреного нет. Возьмем хутор в кольцо, захватим машины и начнем обезоруживать. Повяжем, как щенят. Кто будет сопротивляться — уничтожать! — решительным тоном заявил молодой командир.
— Ладно, давай действовать…
Далекие звезды мерцали на темном небе. Люди шли по черной высокой траве, путались в ней, спотыкались, и казалось, этому не будет конца. Василенко останавливался, пропуская людей вперед, и шепотом командовал:
— Не отставать, не шуметь! Подтягивайтесь!
Перед десантниками неожиданно выросли деревья, строения, начиналась окраина хутора. Колонна машин почти одновременно была окружена. Бойцы бросились к часовым. Около близлежащих домов послышался тревожный говор, глухая возня, с задней машины донесся окрик: «Хальт!», темноту пронизала автоматная очередь.
Хутор сразу наполнился криками, суматохой.
В середине колонны заурчали моторы, но автоматные очереди перекрыли этот звук.
Евдокимов, командовавший группой, приказал плен' ных сводить к нему. Вдруг из–за ограды затрещали вражеские автоматы. Боец, стоявший около комиссара, охнул немедленно опустился на землю.
— Гранаты! — закричал комиссар и пополз к саду, где притаились фашисты. Вскоре раздались два взрыва, автоматы смолкли.
…Ночью у меня обострилась боль в ноге и руке, пришла сестра, чтобы сделать перевязку. В это время в комнату быстро вошел разгоряченный Василенко.
— Товарищ комиссар, разрешите доложить! — начал он. — Задание выполнено: батальон противника на хуторе разгромлен, захвачено тринадцать автомашин с боеприпасами и военным имуществом, более полусотни автоматов, несколько ящиков ручных гранат, патроны, две радиостанции, взято в плен семьдесят солдат и два офицера, сколько убитых — не считали, с нашей стороны трое ранены…
Младший лейтенант стукнул каблуками, вдохнул воздух, улыбнулся и присел на мою постель. Я поцеловал храброго командира.
— Полковнику доложил? — спросил взволнованно.
— Полковник и начштаба принимают пленных и трофеи.
Утром решили собрать военный совет.
На совещание все явились в назначенный срок.
Более часа мы обсуждали итоги прошедших боев. Очень жалели, что наш отряд малочислен. Несмотря на это, хотелось не думать, что мы находимся в глубоком тылу врага и воюем с ним в условиях полного окружения. Боевой успех вселил в нас уверенность. Затем обсуждался вопрос: что делать? Уходить на север или держаться до подхода советских войск? После горячих споров решили: укрепить оборонительные рубежи на основных железнодорожных и шоссейных магистралях, овладеть мостом через реку Яломицу и держать его до подхода наших войск. Но пер&ым пунктом намеченного плана был захват города Слобозии.
Вечером снова подводили итоги горячего дня. Канабиевский докладывал:
— Группы Епифанова и Собецкого уничтожили пять автомашин с прислугой. Славно дрался в этой группе боец Солодовников, он захватил вражеский пулемет и из него же расстрелял фашистов. Лейтенант Суханов с двумя бойцами подбил тягач, захватил орудие и уничтожил его прислугу вместе с офицером, а позже взял в плен двенадцать гитлеровцев. Группа Добровольского, кроме девяноста пяти пленных, захватила три станковых пулемета, подбила две автомашины.
Канабиевский продолжал:
— Разрешите подробную сводку о поведении людей в бою представить позже, а сейчас… Вот предварительные данные: убито более ста фашистов, пленено триста тридцать семь, отбито два самоходных орудия, два противозенитных, два танка, три бронетранспортера, сорок одна грузовая автомашина, количество автоматов, винтовок, боеприпасов пока не подсчитали[19].
— Хорошо, а каковы наши потери? — спросил Хазанович, понимая, что эти цифры вызовут у всех присутствующих другие чувства, другие настроения.
— Убито четверо, ранено семь бойцов.
БОИ НА УЛИЦАХ ГОРОДА
Первый же бой, разыгравшийся на четвертый день, подтвердил наши предположения. Штаб отряда находился на окраине города, рядом с перекрестком шоссейных дорог, идущих из Бухареста и Ясс. В случае появления вражеского подкрепления из этих городов наш штаб окажется под огнем противника в первую очередь. Хазанович и Канабиевский установили пулеметы во дворе, замаскировали их кустами боярышника. На охрану штаба выделили взвод бойцов. Меры эти оказались не лишними.
В два часа дня, когда повара готовили к отправке горячую пищу бойцам, на бухарестском шоссе вдруг послышался нарастающий грохот и затем грянули орудийные выстрелы. Стоявшая на шоссе у штаба легковая автомашина, на которой мы с Хазановичем собирались выехать на передовую, вспыхнула.
«Очевидно, фашистам известно расположение штаба, — подумал я. Превозмогая боль, я со старшим лейтенантом Бучеком бросился тушить автомашину, но было поздно — прямо к штабу стремительно неслась колонна танков, видно было, как из пушек вырывались вспышки выстрелов.
— Уходите, товарищ комиссар! — Бучек схватил меня за рукав, потянул в укрытие. Едва успели мы вскочить в вестибюль штаба, как на нас из окон и дверей посыпались осколки стекла, рикошетом, сбивая известь со стен, по чугунной лестнице зацокали пули. Из окна были видны автоматчики, расположившиеся на танках. Машины одна за другой быстро пронеслись мимо штаба. Мы выскочили во двор.
— Танки! — кричали во дворе.
— Занять оборону! — приказал Бучек.
— Пулеметы давайте! — крикнул Канабиевский и бросился к пулеметным гнездам.
«Неужели не догадались перекрыть мост баррикадами?! — мелькнула тревожная мысль. — Танки могут прорваться на другую сторону».
По вражеским машинам били из автоматов и винтовок, но они проносились мимо, беспорядочно стреляя во все стороны. Вместе с танками шли самоходные пушки с солдатами. Одна машина оказалась в зоне огня нашего пулемета. Подпустив ее поближе, мы ударили из него по колесам. Она вильнула и перевернулась, солдаты вывалились в кювет и попали под прицел Канабиевского. Танки, отстреливаясь, мчались вперед, исчезая на поворотах улиц. Наши бойцы из укрытия бросали гранаты под их гусеницы.
Переползая по кювету, я неожиданно наткнулся на Хазановича. Он лежал у пулемета закопченный, пыльный. В это время показался бронетранспортер с солдатами. Хазанович открыл огонь.
— Ах, черт, ушла, — выкрикнул он с досадой. Но машина увозила только трупы солдат.
Когда окончился бой у штаба, мы с полковником решили, что теперь наше место в городе, там, где идет еще более ожесточенная схватка.
Хазанович со своим связным направился к Епифанову, державшему оборону правой стороны города, а я с лейтенантом Бучеком пошел к Коршунову и Коберидзе, занимавшим важные позиции у центральной площади города. В двух кварталах от тюрьмы Коршунов вел ожесточенный бой с гитлеровскими автоматчиками, оттуда доносился лязг гусениц и взрывы гранат.
У берега наших не оказалось. Все бойцы перешли под защиту каменного забора и вели огонь по танкам, рвавшимся к мосту. Били в упор, бросали гранаты, но танки, смяв бревенчатые нагромождения у моста, устремились на ту сторону реки. На площади собралось целое скопище подбитых танков и бронетранспортеров.
Танки, проскочившие через мост, остановились на высотке и открыли ошеломляющий огонь. Этот шквал свинца длился минут пятнадцать. Снаряды с корнем рвали деревья. Воздух наполнился резко–кислым, вяжущим рот запахом. В неистовом треске пулеметных очередей, реве машин, взрывах гранат то тут, то там поднимались фонтаны земли и щебня. И в этом огненном хаосе я видел своих закопченных товарищей. Прорвавшийся сквозь грохот боя выкрик: «Биться до конца! До последнего человека!» придал всем решимости.
… Из–за соседнего дома выскочили лейтенант Шинкаренко и красноармеец Печкин. Они швырнули под ближайший танк несколько гранат, и он загорелся. Из–за угла магазина показался красноармеец Корсун. Выпустив длинную очередь по автомашине, шедшей ему навстречу, он бросился за угол. Искрами брызнуло лобовое стекло. Корсун, схватившись рукой за бок, пробежал несколько шагов и свалился.
Между тем танки и машины, пытавшиеся прорваться к центру, рассредоточились по площади.
— Товарищ комиссар, — услышал я голос Коршунова. Худой, лицо возбужденное, он тяжело дышал. — Нас мало. Побьют всех, гады!
Вдруг на середине дороги показался тягач, а за ним большая группа гитлеровцев.
— Ура-а~а! — закричал Коршунов и с бойцами бросился вслед. На тягач напало несколько красноармейцев, полетели гранаты. От группы отделился красноармеец Говдесов и метнул гранату в кузов машины.
Площадь заволокло дымом. Стрельба, взрывы гранат слышались и в соседних переулках.
Группы Епифанова и Собецкого по приказанию полковника включились в бой на площади. Их помощь оказалась своевременной. Бой постепенно утихал, и только около подбитых машин еще продолжалась схватка: вытаскивали и разоружали гитлеровцев.
На углу площади, накренившись в кювет, застыл танк. Ствол орудия неестественно сполз в сторону. Вокруг машины толпились наши бойцы, среди которых выделялась высокая фигура Хазановича. Когда я подошел, полковник через Берковича говорил пленному офицеру:
— Пусть передаст экипажу: если сдадутся — останутся живыми, а будут сопротивляться — взорвем танк.
От танка несло смрадным жаром, и бойцы, тыкая автоматами в серо–зеленую гору металла, ворчали:
— Гад ползучий… тяжелый…
В это время из переулка под конвоем вышла большая группа гитлеровцев. Впереди шел лейтенант Добровольский.
— Товарищ полковник, — обратился он к Хазановичу, — пленено более сотни вражеских солдат. Куда прикажете направить?
Полковник посмотрел на пленных, улыбнулся.
— В тюрьму, к Шикину. Обыскивали? Документы — комиссару.
Вдруг в танке задвигалась крышка. Люк открылся, и оттуда вылетели один за другим три пистолета и автомат. Показались поднятые руки, а затем обшлага офицерского мундира. Это вызвало улыбку у собравшихся. Офицер с надменным выражением на лице вылез из танка, за ним на землю спрыгнули два танкиста.
— Обыскать, — коротко бросил полковник.
— Какой части танки?
Офицер с готовностью ответил:
— Тринадцатой дивизии, генерала Фишера.
— А где же сейчас находится ваш генерал?
— Наверное, первым танком проскочил…
Начало смеркаться. Кончался еще один день восстания.
* * *
На пути к штабу нам встретился Собецкий. Полчасо назад его послали к мэру города с приказанием: мобилизовать население и транспорт на уборку и похороны убитых гитлеровцев. Собецкий доложил, что приказ вручен лично мэру. Не успели мы пройти и полсотни шагов, как к нам подбежала медсестра и, обливаясь слезами, с трудом вымолвила:
-— Пожалуйста, товарищ комиссар, помогите… Березка тяжело ранена… Привезли в санчасть, врач разводит руками, не знает, как быть.
— Куда ранена?
— В грудь, сквозная.
Мы ускорили шаг.
У постели Шурочки хлопотали врач Гетман и медсестра. Они только что сделали перевязку. Березка лежала с закрытыми глазами, тихо стонала. Временами ее душил кашель, на губах выступала кровавая пена.
Гетман говорил:
— Пуля прошла со спины, ниже левой лопатки, вышла через грудь, едва не задев сердце. Делаем все возможное. Вероятно, обойдемся без хирургического вмешательства… если организм не подкачает…
Березка снова закашляла.
— Может, пригласить румынскую медицину? — предложил полковник.
— Пока не надо, обойдемся сами.
Вечером фашисты установили артиллерию на правом берегу Яломицы и всю ночь обстреливали город. От снарядов загорелся деревянный барак, была повреждена стена здания штаба, убит один боец.
Утром получили сводку о том, что взвод Добровольского прорвался через Яломицу, вытеснил противника с высоты и освободил заречную сторону города.
Неожиданно на участке Епифанова к нам перешли тридцать румынских солдат и один офицер и попросили отвести им огневую линию — бить гитлеровцев. Офицер заявил, что многие румынские солдаты хотят помогать русским.
Вместе с В. В. Хазановичем мы шли по главной улице города. На мостовой осколки кирпича, стекла, расщепленные доски. Чем дальше, тем больше разрушений. В воздухе еще носится удушливая гарь вчерашнего боя. Где–то на южной окраине города слышится перестрелка. Во дворах и домах загадочная тишина. Вчера, во время боя, румынские граждане помогали нам укреплять баррикады и некоторые даже брались за оружие. Мы знали, что в этих боях пострадало немало жителей города.
У моста через Яломицу стояли грязные, в копоти два танка. На камнях и бревнах, служивших баррикадами, пятна запекшейся черной крови. Здесь трупов фашистов не было, очевидно, мэрия города еще ночью выполнила наш приказ.
Коршунов, оседлав со своей группой берег Яломицы с левой стороны моста, был поистине воодушевлен вчерашним боем, на вопрос Хазановича: «Как дела?» — ответил оживленно: «Порядок, товарищ полковник!»
После того как обошли передовую и побеседовали с бойцами, присели с Коршуновым у стены дома. Я пытался вызвать его на разговор. Хотелось знать мнение майора об общей обстановке.
— Вот, толчемся на завоеванной земле, — скрывая улыбку, заговорил Федор Федорович. — Вы знаете, ощущается какая–то сила и правота в нашем деле… Люди, несмотря на необычность нашего положения, ведут себя легко и, я бы сказал, вдохйовенно. — Коршунов, улыбнувшись, продолжал: — Вот мы в ответ на жестокости врага должны бы мстить, убивать, жечь, не брать пленных. А вот этой злобы нет. Русские никогда не глумились над побежденными. Гуманные мы. Не мешает ли это?
— Это твоя личная философия, или люди об этом говорят? — спросил я.
Коршунов насторожился и посмотрел на нас в упор.
— Нет, бесед я не проводил, но вижу и знаю своих людей, — с обидой в тоне объяснил он, — люди говорят: «Все мы, в данном случае, не только себя освобождаем, но и являемся освободителями угнетенных».
На заречной стороне по бугру редкой цепью лежали наши бойцы, обратив оружие в сторону поля, уходящего к лесу.
— Где же твои трофеи, товарищ Добровольский? — обратились мы к лейтенанту, вошедшему из домика нам навстречу.
— А вон смотрите, — кивнул он в сторону, где, завалившись боком, стояла подбитая, покрытая копотью немецкая танкетка. — Испорченная… Некоторые механизмы сняли, — объяснял командир боевого подразделения. — Немцы отходили на юг, к Кэлэрашу… Но, видимо, задержались вот в тех лесах, потому что еще недавно оттуда стреляли минометы.
Добровольский–мой земляк, кубанец. До начала войны работал учителем в средней школе станицы Петропавловской. Встретившись в лагере, я сразу почувствовал в нем сильный характер, умение найти подход к любому человеку. Поэтому и привлек его к патриотической работе в одном из бараков. Так вот и сдружились.
К концу дня мы с полковником возвратились в штаб. Не успели войти в помещение, как в комнату вбежал Лев Беркович.
— Войне гата! Конец войне!
— Тише, тише, в чем дело? — не поняли мы.
— Капитуляция! Антонеску свергнут!.. Скорей к приемнику.
Мы пошли в комнату, где стоял немецкий радиоприемник, захваченный Шикиным на вокзале еще в первый день боев. Сели на стулья в ожидании, когда начнется повторная передача из Москвы.
— Когда же поступило сообщение? — спросил я.
Беркович, когда говорил о чем–нибудь важном, всегда левую руку прикладывал к груди. Так он сделал и теперь.
— Извините, товарищ комиссар, я стал крутить приемник, чтобы музыку послушать… Ведь давно не слушали, и вдруг: «Говорит Москва.;.» Слова: «Румыния», «восстание в Бухаресте» и так далее. Но я слышал только конец.
— Шляпа вы, Беркович. Как это такое прозевать? — серьезно заметил полковник.
— Сейчас передача будет повторена, товарищ полковник, — оправдывался Беркович.
Оказалось, что жители Слобозии тоже узнали о боевых действиях в столице и сообщили об этом нашим бойцам. Иа улицах города гремело наше русское «Ура!».
Вскоре с передовой в штаб прибежал посыльный, чтобы узнать, действительно ли Румыния вышла из войны?
Наконец настал час передачи, и мы услышали то, что всех волновало. Я быстро подготовил информацию и отправился на передовую, злясь, что о такой важной новости узнал слишком поздно. Трудно, почти невозможно передать настроение людей. Они преобразились.
Мы написали приказ по отряду. В нем указывалось, что в связи с выходом Румынии из войны против СССР и объявлением войны гитлеровской Германии советские люди переживают большую радость и готовность вместе с патриотами Румынии довершить разгром фашизма. В этот же день нам стало известно о воззвании ЦК Компартии Румынии к народу, в котором, в частности, говорилось: «Столкновение с гитлеровскими силами неизбежно. Коммунистическая партия Румынии призывает рабочий класс, крестьянство, интеллигенцию и всех граждан Румынии любыми средствами бороться против смертельного врага румынского народа, за свое будущее»[20].
В этот же день к нам прибыл мэр Слобозии. Он предложил свои услуги и заявил, что признает нашу военную власть.
ВРАГ РАЗГРОМЛЕН
Бои переместились на окраину города. Противник обстреливал наши позиции из минометов, однако вел огонь торопливо, и мины редко достигали цели.
Стало известно, что с нагорной стороны, у лесопосадок, появились гитлеровские снайперы. Это скоро подтвердилось печальным для нас фактом. В конце дня к штабу привезли убитого лейтенанта Добровольского. Обиднее всего было то, что это случилось уже после самых ожесточенных боев.
За Яломицей Добровольский с группой бойцов пытался окружить прорвавшихся к реке автоматчиков. «Убили только его одного», — докладывали бойцы.
— Герои умирают в бою, — тяжело выговорил Хазанович, выслушав сообщение о гибели товарища. С болью в душе мы похоронили Добровольского.
Пришлось усилить круговую оборону вокруг города: подкрепили гранатами и пулеметами участки наиболее вероятного появления танков противника.
Вечером в штабе появился лейтенант румынской армии, сносно говоривший по–русски.
— В поселках и лесопосадках вокруг города остаются гитлеровские разведчики, — сообщил он, — я думаю вы примете меры предосторожности.
— Откуда вам это известно? — спросил я.
— Об этом знает каждый румынский офицер, — твердо сказал он. — И еще вот что: румынские солдаты сочувствуют вам и готовы помочь. После декларации короля Михая I гитлеровцы уже не верят нам[21]. Это естественно. Наше мнение, что немцы начнут отходить на запад через Балканы, попытаются задержаться на левом берегу Дуная. Отходя от Ясс, они неизбежно будут двигаться на Кэлэраш и Джурджу, а значит, не обойдут Слобозию.
Сообщение румынского лейтенанта оказалось своевременным и весьма ценным для нас.
Следующий день мы посвятили очистке близлежащих селений и лесопосадок от засевших там фашистов. В двух километрах от Слобозии по бухарестскому, шоссе наша разведка обнаружила сильную группу гитлеровцев, занявшую довольно удачный рубеж обороны. К вечеру фашисты были выбиты со всех позиций и рассеяны.
После этого наступило некоторое затишье. Лишь кое–где возникали стычки с небольшими группами противника. Канабиевский, пользуясь передышкой, приступил к сбору трофеев. Среди бойцов нашего отряда были и шоферы. Начальник штаба потребовал, чтобы они срочно освоили трофейные машины. Вскоре шесть автомобилей уже разъезжали по городу и его окраинам, собирали все, что было необходимо нашему отряду.
Позже вся военная техника, отбитая отрядом у гитлеровцев, командованием 46‑й армии была передана румынским войскам, принимавшим участие в последующих боях против немцев.
Капитан–лейтенант Шикин доложил, что в тюрьме под охраной находится более пятисот гитлеровцев, среди них пятнадцать офицеров.
В конце дня Шикин с группой бойцов привел солдата, пойманного в лесопосадках с радиопередатчиком. Фашистский вояка, трусливо озираясь на нашего переводчика, сознался, что его оставили для агентурной работы. Кроме того, он сообщил, что немецкое командование радировало своим частям в Румынии о восстании советских военнопленных в Слобозии.
Эти данные давали нам полное основание ожидать наступления фашистов. Теперь вся надежда на наше спасение возлагалась на наши войска, вступившие в Румынию.
— Какая досада, до сих пор не можем установить, где сейчас линия фронта! — заметил полковник Хазанович. — А это сейчас очень и очень важно. Беркович!
Наш незаменимый Лева влетел в комнату и вытянулся у двери.
— Беркович, стыдно, два дня мы ничего не знаем, что делается вокруг… Уже давно бы пора получить необходимые сведения ну хотя бы в городе.
— Товарищ полковник, приемник опять забарахлил… Я послал за мастером в город… Что касается юго–западного направления, так мы уже установили — наступают войска Толбухина и Малиновского…
Более 50 дивизий 2‑го и 3‑го Украинских фронтов успешно наступали, стремясь замкнуть кольцо вокруг германских войск, дислоцирующихся в Румынии. Соединения противника начали поспешный отход к реке Прут. Но попытки фашистов вырваться из окружения не достигли цели. Об ожесточенности боев с гитлеровскими войсками говорит то, что лишь за 25 августа 1944 года войска 3‑го Украинского фронта уничтожили до 30 тысяч и взяли в плен свыше 20 тысяч немецких солдат и офицеров[22]. К исходу 27 августа окруженная кишиневская группировка, расположенная к востоку от Прута, была ликвидирована. 29 августа та же участь постигла соединения гитлеровцев, находящихся юго–западнее Хуши. В разгроме германских войск боевое крещение получила 1‑я румынская добровольческая пехотная дивизия имени Тудора Владимиреску.
Успешное наступление Советской Армии создало благоприятные условия для действий румынских патриотов. Повсюду шло разоружение небольших гитлеровских гарнизонов. Вместе с бойцами патриотических отрядов мужественно сражались советские военноплен ные вырвавшиеся из концлагерей. В книге кандидата исторических наук полковника А. В. Антосяка «В боях за свободу Румынии» говорится: «2 тыс. советских военнопленных из лагерей города Слобозия вместе с румынами в течение нескольких дней сражались против немецких войск. Ими было взято в плен сто немецких солдат и офицеров и большое количество военного имущества»[23]. В те дни более 75 тысяч советских военнопленных, томившихся в румынских лагерях, вышли на свободу. Большая их часть была включена в состав 2‑го Украинского фронта[24].
РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА
1 сентября 1944 года — день, который навсегда останется в памяти участников вооруженного восстания в городе Слобозии.
Примерно в 3 часа дня на Яссинском шоссе послышался гул танков. Мы насторожились и спешно разослали связных к командирам подразделений с приказом усилить оборону.
Каждая минута могла стать началом боя. Наша надежда была только на подразделения Коршунова, Епифанова и Собецкого.' Именно на их участки в первую очередь обрушится огонь вражеских машин. Мы знали, что подразделения, возглавляемые этими командирами, хорошо вооружены и смогут отразить натиск врага. Но все же наступают танки… Выдержим ли?
Но что это? Лязг гусениц все усиливается. Танки в пределах города, а выстрелов, боя со взрывом гранат и призывными криками не слышно.
— Что за чертовщина? Сдается, что наша оборона отходит, — заволновался командир отряда.
На лицах Канабиевского, Берковича, Бучека тревога и смятение. Беркович срывается с места:
— Я побегу, узнаю, в чем дело?
А танки в городе. И вдруг дребезжащий гул моторов утихает, доносится неясный шум голосов.
— Вроде рукопашный, товарищи, — отзывается Канабиевский.
Но в этот момент, запыхавшись, вбегает один из связных штаба, кричит на ходу:
— Танки! Наши танки!
— Как — наши?
— Советские, офицеры в погонах, ордена! — радостно улыбается возбужденный связной.
— Может быть, это переодетые немцы или власовцы? — усомнился Хазанович.
Следом прибежал Беркович:
— Что же вы ждете? Вас просит командование! — выпалил он единым духом. — Скорее идите! Там такое…
Через несколько минут мы с Хазановичем были уже на площади города. Танки густо облепила толпа наших людей и горожан. Молодые танкисты по–братски целовали военнопленных, угощали папиросами, слышались радостные и возбужденные выкрики.
Как только мы с полковником приблизились, от группы офицеров, стоявших у передних машин, отделился старший лейтенант и бросился к нам навстречу. Остановившись, вскинул руку к козырьку и громко отчеканил:
— Товарищ майор, разрешите доложить! Старший лейтенант Сироткин задание подпольного комитета выполнил.
С крайним изумлением мы узнали в офицере с полевыми погонами Федора Сироткина, весной прошлого года отправленного из Тимишоары с поручением на Родину.
— По приказанию командующего фронтом для оказания помощи отряду военнопленных привел танковую часть, — докладывал далее Сироткин.
Он радовался нашей встрече как ребенок. Знакомя нас с офицерами–танкистами, на чумазых лицах которых застыло выражение радости и недоумения, говорил:
— Командир танковой части подполковник Цулукидзе.
Еще молодой подполковник с десятком орденов и медалей на груди крепко пожал нам руки:
— Поздравляю, товарищи, с победой! Вы, оказывается, сами справились с гитлеровским гарнизоном, значит, помогли всей нашей армии.
Вечером Сироткин рассказывал подробности своего «путешествия» после побега из Тимишоары.
— На тридцатые сутки, — говорил он, — мы пытались перейти реку, но куда ни кинемся — патруль. Что делать? А тут уже и сил нет. И тогда решили: будь что будет — рискнули на поезде реку переехать. На станции стоял эшелон с танками. Как только стемнело, залезли на одну из средних платформ и под танк… Лежим час, другой, а эшелон стоит и стоит. «Вот, — думаю, — суки, задерживают наш маршрут… Уснуть, что ли? Холодно, ночь туманная, кругом железо». Но деваться некуда, так и уснул. Проснулся, когда солнце локоть припекло. Вижу, кто–то лезет на платформу, показались погоны ефрейтора. Влез, начал осматривать танк со всех сторон. Наверно, машина была его. И как двинет ботинком по моим голым пяткам, да как заорет, поднялся настоящий аврал.»
— Надо было сразу смываться, друзья! — заметил Беркович, остро переживавший рассказ товарища.
— Поздно было бежать, проспали, — ответил Сироткин и продолжал: — А тут другие солдаты сбежались. Вытащили нас из–под танка, щупают, толкуют, слышу говорят: «Шпионы, шпионы». Столкнули с платформы. Явился офицер, начальник эшелона, долго расспрашивал, кто, что и зачем полезли под танк. Партизаны! Офицер приказал расстрелять. Но на наше счастье, явился комендант станции, румын. Узнав, что мы военнопленные Румынии, поднял крик. На станции случайно оказался генерал румынской армии со своей свитой. Он вмешался в наше дело. Мы не поняли, о чем генерал спорил с немцами, уже потом нам рассказали румынские солдаты, что генерал выразил протест, заявив, что мы военнопленные Румынии и что, дескать, это дело румынского суда решать: расстреливать или помиловать. Спасибо ему! А через полчаса румынские солдаты кормили нас молоком и белой пыней[25].
— Опять попали в лагерь, вот беда, — выразил сожаление Беркович.
— На следующий день, — продолжал рассказчик, — утром нас направили этапом в ближайший лагерь. Ночевали в селе. Но ведь мы люди военные, дело свое знаем. Охрана отнеслась к нам с непонятным доверием, и ночью мы убежали. И опять на восток. Через несколько дней оказались в Измаиле. Там я когда–то бывал.
Сироткин хитро улыбнулся, покраснел.
— Знакомая девушка там у меня была, молдаванка. Ну, думаю, неужели забыла? Вечером добрался до ее дома, вызвал. Сначала не узнала, а как узнала — ахнула и говорит: «Я теперь замужняя». Вот тебе и на, думаю. Все же четверо суток мы жили у нее, а потом ее брат свел нас с партизанами. Долго нам не верили, но после нескольких боев командир сказал, что можно перебраться на ту сторону. Через девять суток мы перешли линию фронта.
Сироткин замолчал. Встал, прошелся, как бы разминая ноги. Закурил сигарету.
Мы с нетерпением ожидали продолжения рассказа, но Сироткин шагал и шагал, что–то обдумывая. В глазах погас огонек задора, сошла улыбка с губ. Он бросил сигарету, сел снова и посмотрел на нас так, будто вторая часть его рассказа была самая страшная и тяжелая.
— Вы знаете, что такое «пропесочить»? Так вот, нас сначала пропесочили… Немало огорчений пришлось пережить, пока командование убедилось, что мы действительно пришли со специальным поручением подпольного комитета. Через несколько дней после перехода линии фронта и «пропесочивания» меня куда–то повезли. Оказалось, в штаб фронта. Сопровождающие говорили, что со мной будет говорить «сам». «Неужели, — думаю, — командующий. А я арестант арестантом».
— Ну, ну, дальше, — торопили слушатели.
— Вхожу в большой кабинет, вижу: три генерала.
Один, самый полный, за столом. «Ну, думаю, это он». Я стал в пяти метрах от стола по всем правилам и представился: «Товарищ генерал, старший лейтенант Сироткин…» — «Подожди, подожди, — остановил он меня, — мы еще не знаем, старший лейтенант ли ты или кто другой». — «Так точно, старший лейтенант Сироткин». — «Ну, расскажите, кто вас послал, куда и зачем?» — спрашивает генерал.
Я рассказал все по порядку, даже из своей биографии немного добавил. Видимо, рассказ мой не походил на рапорт военного человека. Это я понял, когда генерал спросил меня: «Вы что, до войны были художником?» — «Нет, товарищ генерал, после техникума пошел в танкисты». Я рассказал о положении в лагере, о подполье и попросил помочь нашим товарищам вырваться из плена. «А меня зачислите в действующую армию, я хочу воевать…»
Командующий посмотрел на генералов и сказал: «Хорошо, старший лейтенант. Вам надо окрепнуть, поправить здоровье, и уж потом вы можете стать в строй». Вот так я стал служить в танковой части.
— Ну, а как же ты попал именно к нам, теперь? — допытывался Хазанович.
— Это когда мы вошли в Молдавию, меня вдруг вызвали в штаб и говорят, что надо подготовиться к танковому рейду в тыл противника. «Да мало ли мы ходили по рейдам до этого, значит, какое–то специальное задание», — подумал я. И вот только в день выступления узнал, что из сообщения немецкой радиостанции нашему командованию стало известно, что в Слобозии идут бои и ее заняли военнопленные… «Ну, думаю, наши ребята…» Мне сказали, что я буду проводником. Мы спешили. Прорвали линию обороны фашистов, мчались через мосты, селения, давили тылы противника, стремясь скорее добраться до Слобозии. И вот я снова с вами…
На лице Сироткина засветилась радость человека, честно исполнившего свой долг.
* * *
На следующий день с утра по совместно разработанной дислокации командование группы разместило танки вокруг города, на намеченных позициях. Некоторые подразделения нашего отряда отвели на отдых.
Мы сидели за легким завтраком и продолжали начатую вчера беседу. Вдруг в дверях с шумом появился… Иван Денисов.
— Принимайте гостя! — из–за спины Денисова раздался взволнованный голос Берковича.
— Ваня, дорогой! — бросился я к приятелю.
Денисов будто онемел, улыбался во всю ширь своего заросшего щетиной лица, сбросил с головы румынскую рогатую шапку, крепко сжал меня в своих объятиях.
— А что это за маскарад? — указал я на его головной убор.
— Ехал под румына.
— Как же ты добрался до Слобозии?
— Поездом, как и полагается «цивильному румыну».
Вопросы сыпались со всех сторон. Денисов терялся и не знал, кому отвечать. Наконец страсти улеглись, гость уселся и начал подробный рассказ о жизни лагеря, товарищей, о работе подпольщиков.
— В один из дней на Дунае появились три немецкие канонерки. Не знаем, чем это было вызвано, возможно, событиями у вас, в Слобозии. Немцы открыли артиллерийский огонь по лагерю Загорелся барак, появились раненые, убитые. Это и положило начало активному выступлению пленных. Был брошен клич к немедленному разоружению лагерной охраны. Специально подготовленные красноармейцы, работавшие на кухне, распахнули внутренние ворота, и вся масса пленных хлынула из общего двора лагеря.
— Офицеры и солдаты охраны, — продолжал Денисов, — так растерялись, что побросали оружие и, испуганно озираясь, скучковались у своей канцелярии. Пленные их не тронули, но, подхватив брошенные охраной автоматы, винтовки, пистолеты, бросились за внешние ворота лагеря. Вы знаете, что за внешней оградой лагеря на берегу Дуная стояла румынская артбатарея. Майор Литвин со своими артиллеристами захватил ее. В это время на реке показались гитлеровские канонерки. С каждой минутой они приближались к берегу. Может, фрицы думали высадить десант автоматчиков или расстрелять нас прямой наводкой — трудно сейчас гадать. И мы решили не ждать. Майор Литвин расставил свои расчеты у орудий и, как только первая канонерка оказалась в зоне прямой наводки, дал команду: «Огонь!». Грохнули сразу три выстрела. На одной канонерке вспыхнуло пламя, затем ее заволокло дымом. «Огонь по второй и третьей!» — снова раздалась команда. Первая канонерка, окутанная дымом, быстро уходила вверх по течению. Вторая, сделав лишь два выстрела, завертелась на месте, ее стало относить к берегу. На третьей загорелись надстройки. Орудийные выстрелы с берега гремели беспрерывно. Первая канонерка, добравшись до острова, скрылась в прибрежных зарослях…
Подполковник Цулукидзе, внимательно слушавший рассказ Денисова, наклонился к Трифону Коберидзе, командиру одного из наших подразделений, и что–то по–грузински ему сказал. Лицо Коберидзе оживилось:
— Ваня, дорогой, ради бога скажи, а что делается с моими грузинами, как они воевали?
Денисов улыбнулся, понимая нетерпение соратника.
— Дорогой друг, что они делали? Делали то, что и раньше… Грузины одними из первых воспользовались оружием румынской охраны и бросились к Дунаю, готовые встретить врага, как и полагается советским командирам.
— Ты хорошо сказал, Ваня. Молодец!
Денисов продолжал:
— Вскоре все было закончено. Две канонерки пошли ко дну. Мы с Пляко, Володаренко, Пселом, Шевченко, Шамовым и Литвином здесь, на берегу, в спешном порядке вынесли решение: потребовать от командования лагеря выдать всем трехсуточный паек, обмундирование, представить транспорт для больных и слабых и походной колонной идти к городу Крайове, где, — как предполагалось, через день–два должны быть советские войска.
Но как мы были удивлены, когда, вернувшись в лагерь, не обнаружили ни одного румынского служащего. Многие бросились к штабу лагеря и арестовали не успевших скрыться предателей и полицаев. На следующее утро две тысячи советских офицеров, недавних узников, покинули лагерь. Для больных и слабых нашли лошадей и брички. Используя леса и пересеченную местность, колонна двигалась навстречу советским войскам. За трое суток, больные и уставшие, мы одолели около сотни километров. Утром четвертого дня достигли Крайовы. Там уже были советские танки, — закончил рассказ Денисов.
СНОВА НА ОГНЕВОЙ ЛИНИИ
Отдел комплектования 46‑й армии поручил мне побывать в филиалах румынских лагерей и в местах скопления советских военнопленных с приказанием немедленно направить всех к месту сбора в город Слобозию. Для поездки мне дали легковую автомашину, капитана румынской армии, коммуниста. Это поручение я выполни; за трое суток.
Тогда же, получив направление, мы с Хазановичем на попутной машине прибыли в город Орад–Маре. Здесь стоял отдельный армейский полк резерва.
Пасмурная, туманная погода придавала городу унылый вид. Сожженные и полуразрушенные здания, захламленность свидетельствовали о только что прошедших здесь ожесточенных уличных боях. Личный состав полка размещался в большом корпусе бывшего военного училища. Мы сразу же оказались среди своих товарищей по лагерям. Взаимным расспросам не было конца. Федор Псел обрадовался мне как родному и не отходил от меня. На нем было новое обмундирование с полевыми погонами лейтенанта.
Полк офицерского резерва вел усиленную военнополитическую подготовку. В сводках Совинформбюро сообщалось о новых и новых городах, освобожденных Советской Армией.
Рядом с моей стояла койка подполковника Пляко. По поручению штаба полка он занимался со старшей группой офицеров–кадровиков и всегда был в курсе событий на фронтах. От него я узнал, что части 2‑го Украинского фронта уже сбили заслоны гитлеровцев в Венгрии и нацеливают основной удар на Дебрецен и Будапешт.
— А успеем ли мы побывать на передовой и наверстать в бою то, что упустили за время пребывания в плену? — спросил я однажды его.
— Не беспокойся. Впереди предстоят тяжелые бои, — ответил Пляко. — Гитлеровцы создают сильно укрепленные линии обороны, прикрывая подступы к Германии.
Во время нашей беседы подошли Володаренко и Шамов.
— Да, Гитлер любой ценой постарается остановить наступление советских войск, — сказал Володаренко. — Мы все рвемся на фронт, а командование одно твердит: «Учитесь, набирайтесь опыта, Советская Армия теперь уже не та, что была в сорок втором. Придет и ваш черед».
— В армии действительно много нового, — подтвердил Шамов.
— Нам надо изучать методы обороны противника, новую тактику уличных боев и многое другое.
Учились мы упорно, настойчиво, с желанием побыстрей применить знания в боевой обстановке.
…С первых дней 1945 года фронт наступления советских войск расширился. Советское командование после освобождения от гитлеровских захватчиков южной части Венгрии решило нанести удар немецко–хортистским войскам в междуречье Тисы и Дуная, занять Будапешт — главный экономический, политический и военный центр Венгрии.
Командование знало, что враг попытается использовать все средства, чтобы остановить советские войска у стен венгерской столицы, ибо, утратив Будапешт, он лишится важнейшей водной артерии и последней естественной преграды на пути в страны Юго–Восточной Европы — реки Дуная.
Ударом левого крыла 2‑го Украинского фронта по Будапешту предполагалось рассечь вражеские армии и открыть путь на Вену.
Пытаясь остановить советские войска, гитлеровское командование перебросило под Будапешт еще двадцать дивизий. Однако в результате стремительных и строго согласованных действий наших войск эти дивизии были разбиты.
Наш полк готовил резервы офицеров для фронта. Группа в две тысячи человек состояла из крепкого ядра. Среди нас уже не было людей, которые бы вызывали сомнение или подозрение. Оставшиеся в наших рядах ^товарищи с полным сознанием своего долга перед Родиной рвались на передовую. В каждом жила беззаветная преданность своему народу, непоколебимая вера в победу.
Когда закончилось формирование батальонов и были выданы автоматы, подразделения представляли грозную силу. Меня вызвали в штаб. Командир полка В. С. Зайцев объявил:
— В вашем подчинении будет несколько сот бойцов и офицеров, как резерв фронта. На передовой поступите в распоряжение полковника Свиридова. Желаем счастливого возвращения.
На укрытых «студебеккерах», вооруженные, что называется, до зубов, мы покатили на запад. Дороги еще хранили свежие следы горячих боев.
Отступая, фашистская армия ожесточенно сопротивлялась На нашем пути вперемежку с подбитыми вражескими танками, машинами, пушками и прочим военным снаряжением лежали награбленные на чужой земле транспортные средства, заводское оборудование, имущество городских учреждений, даже предметы домашнего обихода.
Шли бои за Будапешт.
Не успели мы окопаться, как поступил приказ сменить позиции. Идем мимо виноградников, крохотных огородов, аккуратных домиков Пересекли железнодорожную ветку, снова оказались на окраине города. Тихо в тыл отходит какая–то часть, очевидно, на отдых. Майор Голетенидзе, командир подразделения, приказывает не разговаривать, не курить — враг близко.
Едва забрезжил рассвет, мы увидели впереди и по сторонам силуэты многоэтажных домов. Над городом висел туман. В пять утра в нашей зоне стали рваться мины. Где–то высоко гудели самолеты. Разведчики сообщили, что за лежащий перед нами квартал крепко держатся фашисты.
Старший лейтенант Собецкий получил задание двинуть свое подразделение на врага и поднял бойцов в атаку. Фашисты стреляли из окон, с чердаков, из подвалов. Нашим солдатам все время приходилось прижиматься к стенам домов. Появились первые убитые и раненые. Горячая схватка завязалась в одном из дворов. Взвод Собецкого сумел довольно быстро сломить сопротивление гитлеровцев. Более трех десятков вражеских солдат бросили оружие и сдались.
Очищая подвалы, группа продвигалась по темным коридорам, которым, казалось, не было конца, В глубоких нишах отсиживались перепуганные женщины, старики, дети.
Снова и снова вспыхивала перестрелка с противником, пытавшимся преградить нам путь. В одном месте сквозь пелену дыма и известковой пыли я услышал крик:
— Эй, рус, сдавайс!
Собецкий засмеялся:
— Это, наверное, какой–то комик, артист. Мы их гоним, а они велят сдаваться..
Подземный коридор уперся в широкую дверь. Ее тут же разбили гранатами.
— Хальт, хальт, рус! Плен, плен… — раздалось из темноты. В проходе показался фашист с поднятыми руками. За ним шли еще одиннадцать человек.
К 9 часам утра весь квартал был очищен. За это время подразделение Собецкого понесло значительные потери. Среди погибших были и его близкие друзья.
Он стоял передо мной в огромном, затянутом холщовым поясом бушлате. Под широкой каской лицо выглядело похудевшим, обычно веселые карие глаза были воспалены.
— Ну вот мы снова бьем фрицев, снова в рядах защитников Родины, — проговорил он возбужденно, и под его рыжеватыми усиками засияла улыбка.
Я решил пробраться к другому, также проверенному на бастионах Севастополя офицеру — А. Королеву, который к 3 часам дня вместе с бойцами занял еще один квартал. Высокие, гладкостенные здания плохо укрывали наших солдат от прицельного огня фашистских снайперов. И все же наше продвижение продолжалось.
Королеву пришло в голову поискать среди прятавшихся в подвалах жителей переодетых в гражданскую одежду или женское платье вражеских солдат и офицеров. И что же? В первых же убежищах он обнаружил более десятка гитлеровцев. Нередко местные жители указывали «вояк», пытавшихся скрыться таким образом.
Королев доложил мне, что один из подвалов оказался вражеским продовольственным складом и забит мукой, консервами, жирами, вином. Позже наше командование передало эти продукты в распоряжение властей освобожденных районов венгерской столицы.
Вскоре подразделение Королева завязало бой на одной из улиц, расположенных вблизи здания парламента. Противник буквально засыпал магистраль градом свинца. Наконец были подавлены основные пулеметные гнезда, державшие улицу под перекрестным огнем.
Королев решил атаковать дом, господствовавший над тремя улицами, в лоб. Выскочив из подъезда с автоматом в руках, он бросился вперед, крича:
— Вперед, за Родину!
Солдаты устремились за ним.
В боевом порыве Королев выглядел грозным. За его спиной бойцы чувствовали себя как за каменной стеной. Товарищи, бывшие с ним в Севастополе, рассказывали, что не раз в атаках и контратаках Королев хватал автомат за ствол и, как дубиной, бил гитлеровцев прикладом.
Александр добежал до угла крайнего дома, но тут его встретила снайперская пуля. Он остановился, закачался. Собрав последние силы, крикнул:
— Вперед, ребята! — и упал на мостовую.
Смерть Королева будто могучий вихрь подхватила бойцов.
— За командира!
— За Сашу Королева!
— Ура, ура!
Дом был взят. Из окна третьего этажа, как пламя, вырвалось алое полотнище. Тем временем четыре бойца подняли тело своего командира и отнесли к стене дома.
Гибель Королева потрясла всех. В каждом еще жила память о нем как об организаторе побегов из фашистских застенков, горячем патриоте своей страны, крепком, мужественном человеке.
БУДАПЕШТ
Утром 30 декабря 1944 года на улице, идущей в центр города, появились легкие пушки. В 6 часов мы перешли в наступление. Со второго этажа одного из зданий застрочили два вражеских пулемета. По звуку определили, что стреляют из оружия крупного калибра. Пулеметы работали минут двадцать, мешая нашему движению вперед. Я попросил артиллеристов подавить огневые точки врага. После нескольких орудийных выстрелов из окон повалил дым, пулеметы смолкли.
Батальон пересек железнодорожную линию и вплотную подошел к городскому парку. Взвод лейтенанта Цыганкова ворвался в парк, занял помещение городской бани. Капитаны Канабиевский и Гень, лейтенант Кулик со своими бойцами. быстро выбили фашистов из следующего квартала и вырвались к Триумфальной площади. Противник вел огонь с баррикад, построенных у колоннады. Капитан Н. М. Файдышев повел свой взвод на их штурм. На воздвигнутую из разного хлама преграду Полетели ручные гранаты. Но тут открыли огонь танки. Пожалуй, именно в это время и был сражен отважный командир Файдышев. Позже его нашли у одной из центральных колонн наполовину засыпанным обломками кирпича.
К 2 часам дня группы Геня, Кулика и Цыганкова заняли удобные позиции на верхних этажах домов. Петр Собецкий и разведчик лейтенант Кошкарев с группой автоматчиков захватили в подвалах более сотни гитлеровских вояк. Ко мне привели одного из взятых в плен офицеров. На допросе он надменно заявил:
— Русским дальше Дуная дороги нет. Наше сопротивление измотало их силы. Будапешт — «котел», большевикам капут!
Цыганков, присутствовавший на допросе, едва дослушав перевод Собецкого, вскинул автомат и крикнул:
— Дайте я покажу этому фашистскому гаду, что такое «капут». Мы, русские, уже перебили вам хребет. А последний «котел» устроим вашему вонючему Гитлеру в Берлине…
К вечеру Триумфальная площадь была очищена от гитлеровцев. Но едва там появились наши танки, как притаившиеся в засаде фашисты пустили в ход фаустпатроны. Один танк загорелся, два других тут же, прямой наводкой, накрыли гнездо фаустпатронщиков. Пришлось еще раз прочесать все вокруг. До здания парламента было рукой подать, но прежде чем выйти к нему, предстояло занять железнодорожный вокзал.
Один из офицеров передал мне записку. В ней сообщалось, что в госпитале города Мишкольца скончались Виктор Володаренко и Федор Псел и что они похоронены на городском кладбище. Это сообщение страшно поразило меня. Сколько довелось нам принять мук в лагерях, не раз мы смотрели смерти в глаза, совместная борьба в подполье сроднила нас как братьев. Это были замечательные люди, настоящие коммунисты. И вот теперь ни Виктора, ни Федора нет в живых! Сердце не могло спокойно принять эту печальную весть.
На рассвете развернулось наступление на вокзал. Через полчаса автоматчики майора Федоровича уже ворвались в его здание и выбили оттуда фашистов. Отстреливаясь, они отходили к Дунаю. С верхних этажей высоких домов мы уже видели ажурные башенки и шпили здания парламента.
…К ночи группа погибшего Королева, теперь уже под командованием майора Литвина, с приданным подразделением вышла к парламенту. Противник яростно огрызался пулеметным и автоматным огнем. С противоположного берега Дуная летели мины и снаряды.
Здание парламента возвышалось на обширной площади у Дуная. Это величественное, изумительной красоты сооружение вызывало невольное восхищение: цветной гранит и камень, венецианские во много рядов окна и арки, купол, окруженный большими и малыми башнями, каменными скульптурами…
На западном берегу Дуная громоздились дворцы и богатые особняки Буды. Сейчас эта заречная сторона Будапешта выглядела зловещей, огнедышащей. Нашим войскам еще предстояло форсировать Дунай, чтобы вытеснить гитлеровцев из Буды.
Бой у здания парламента начала артиллерия. Снаряды рвались всюду, с воем рассекая воздух, небо потемнело от черного дыма. Вдруг сквозь гул орудий прорвался страшный грохот. Это фашисты взорвали один из; красивейших мостов через Дунай.
Дым еще клубился над рекой, когда майор Литвин повел своих бойцов в стремительную атаку на здание парламента. Гремело солдатское «ура», открытые места бойцы преодолевали ползком, потом вскакивали и, рассекая воздух автоматными очередями, бросая гранаты, устремлялись к одному из входов в здание парламента. Уже у самого подъезда Литвин, будто наткнувшись на какую–то невидимую преграду, попятился назад и опустился на колени. Первая группа ворвалась в вестибюль, солдаты подхватили на руки майора.
Позже я нашел его здесь же. Он лежал на полу, широко раскинув руки, с окровавленным лицом и грудью. Похоронили майора в братской могиле, на одной из соседних площадей. Когда пал Будапешт, жители венгерской столицы воздвигли на этой братской могиле монумент из белого мрамора. Золотыми буквами на обелиске загорелись фамилии советских воинов, павших смертью храбрых при освобождении венгерской столицы от фашистской чумы.
Не успели затихнуть последние залпы у парламента, как мы узнали о новом чудовищном злодеянии гитлеровцев. Вопреки международным законам они убили двух офицеров — советских парламентеров, посланных за Дунай в Буду для переговоров о перемирии. Эта весть словно ураган пронеслась по рядам наступающих, увлекая их в атаки на коварного врага.
У меня забрали подразделение Кулика для участия в десантной операции. Фашисты непрерывно освещали Дунай фонарями–ракетами, из Буды повсюду в направлении реки тянулись нити трассирующих пуль.
На ночь мы разместили свой штаб в вестибюле одного из зданий, принадлежавших ранее какому–то ведомству. Дни были слякотные, с оттепелями, но ночью немного подмораживало. Сюда же поступали раненые, находясь здесь до отправки их в санчасти.
Условия, в которых пришлось вести боевые действия в Буде, резко отличались от тех, с которыми мы сталкивались в Пеште. Вся Буда как бы состояла из отдельных островков зданий, парков, среди которых возвышалась гора Гелерт. Все это давало возможность наступающим войскам маневрировать, тогда как оборонявшийся противник вынужден был распылять свои силы. Вот почему в ходе боевых действий нами использовалась ударная сила небольших боевых групп, действовавших на отдельных участках.
На территорию бывшего королевского дворца в числе первых ворвалось подразделение Канабиевского. Здесь у неприятеля не было четкой линии обороны. Фашисты метались вокруг пристроек, вели автоматный и пулеметный огонь из окон и с балконов. Бойцы П. Я. Собецкого смяли заслон у главного фасада, гранатами пробили путь к выходу во дворец. В вестибюле и коридорах завязались рукопашные схватки. Гитлеровцы бросались на верхние этажи, затем как ошалелые — на нижние. Всюду под ногами валялись немецкие каски, противогазы, консервные банки, одежда…
На одной из площадок здоровенный рыжий гитлеровец бросился на Канабиевского, пытаясь сбить его с ног. Но Канабиевский молниеносно схватил его за туловище и перебросил через перила.
Сквозь стрельбу не утихали крики и брань сражавшихся. Канабиевский вел бой за верхние этажи, а взвод лейтенанта Кошкарева теснил врага в подвалах. На улицах фашисты пытались сдержать подход к дворцу других советских подразделений.
Майор В. М. Сухаревский, лейтенант И. А. Сучков и переводчик Миклош, вбежав в один из вестибюлей, остановились перед висевшим на стене портретом человека, изображенного в натуральную величину.
— Это кто — король? — спросил Сухаревский.
— Нет, это правая рука Гитлера — Хорти, — ответил Миклош.
— Лицо бабы, а фуражка адмиральская, — воскликнул Сучков и полосонул по портрету короткой очередью из автомата.
Вскоре королевский дворец был взят.
Тем временем капитан А. С. Кременчугский, политрук Коршунов и Собецкий своими подразделениями уничтожили группировку фашистов у городского кладбища.
Батальон майора А. Федоровича двинулся к крепости на горе Гелерт. Одновременно группа майора Лежавы пошла в обход с ее северной стороны. Цепляясь за кустарник, бойцы с трудом преодолевали один выступ за другим. Они тяжело дышали, из–под шапок градом катился пот, бушлаты казались пудовыми.
Лежава распорядился устроить привал у величественного памятника, видневшегося сквозь туман на склоне горы. Солдаты подходили к нему и падали от усталости на землю.
На лицевой стороне беломраморного памятника стояла надпись: «Кошут».
— Товарищ майор, кто это — писатель или монарх? — обратился один из бойцов к командиру.
Лежава напряженно вгляделся в лицо статуи, обращенное вниз, к широкому Дунаю. Он увидел в ее глазах мучительную задумчивость, гордость в повороте головы и тихо ответил:
— Это Кошут — национальный герой венгерского народа. Он боролся за независимость родной страны.
Внизу, по узкой тропе, к памятнику поднималось подразделение майора В. М. Сухаревского. Впереди шли Григорий Кухалейшвили, Вахтанг Сихарулидзе. За ними Владимир Бегалов и Кириллл Бежуашвили вели под руку подпрыгивающего на одной ноге Трифона Коберидзе. Замыкал группу Серго Нижерадзе с двумя винтовками и немецким автоматом на плече.
— Что случилось, где вы нашли Трифона? — спросил Лежава.
— Я пытался его расспросить, но он по–русски ни бум–бум, — с улыбкой пояснил Сухаревский.
Сихарулидзе по–грузински что–то сказал Лежаве, а потом пояснил на русском языке:
— Мы вот ту развалину хотели захватить, но там со второго этажа отстреливался какой–то офицер. Потом слышим выстрел из винтовки, и… автомат замолчал.
Сихарулидзе повернулся к Коберидзе, подмигнул ему и продолжал:
— Ворвались в дом, смотрим — под стеной съежился от боли Трифон. Вот мы его и подобрали.
Выяснилось, что с двумя русскими Трифон был послан в дозор. В пути тройка наскочила на гитлеровских автоматчиков: в перестрелке товарищи Коберидзе были убиты, а он ранен. Пуля прошла через бедро в подколенный сустав. В ледяной яме Трифон не мог долго лежать и пополз к ближайшему дому. И здесь увидел, как фашист, забравшись на стену, поливал из автомата наших. Трясущимися руками он с трудом поднял винтовку и выстрелил. Фашист выронил автомат и упал.
— Все верно, — подтвердил Сихарулидзе. — Когда мы ворвались в дом, у порога недалеко от Трифона лежал убитый фриц, а сам он, прижимая к груди винтовку и автомат, сидел у стены. Коберидзе — герой! А мы думали, что этот дом обороняют несколько офицеров…
— Немедленно отправьте его на санпункт, — приказал Лежава Бегалову и Бежуашвили.
После непродолжительного отдыха подразделения снова двинулись к крепости. Там за крепкими древними стенами укрывались гитлеровцы. Нам еще предстояли ожесточенные, кровопролитные бои, в которых советские воины отстаивали свободу и независимость Венгрии… Мы шли вперед, к победе. Никто из нас еще не знал, где мы услышим последний залп, когда под автоматные салюты прогремит многомиллионное «ура». Но все были уверены: мы победим.
Вскоре я распрощался со своими боевыми товарищами и отправился к месту своей новой службы.
ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
Не скрою, ехал я в Севастополь с каким–то смешанным чувством. С радостью и волнением думал о том, что мне предстоит еще раз увидеть овеянные славой места, где на моих глазах разыгралась восьмимесячная кровавая трагедия, где каждый метр земли был опален раскаленным металлом, густо полит нашей кровью. В мыслях моих неотступно возникали картины прошлого.
Вдали от Родины многие из моих боевых товарищей пали смертью храбрых. Были среди них и подпольщики: лейтенант Н. С. Цыганков, капитан Б. Е. Ткаченко, капитан Ш. С. Абуладзе, капитан М. Н. Шпилевой, жизнерадостный и беззаветной храбрости капитан А. Г. Дубровец, П. И. Литвин, А. Н. Королев, В. М. Володаренко, Ф. П. Псел и другие.
Многие, кто в то суровое время делил со мной и радость побед, и горечь поражений, вернувшись домой, самоотверженно трудятся на различных участках народного хозяйства. Полковник В. В. Хазанович с заслуженным почетом вышел в отставку и живет в Ленинграде, В Одессе работают И. Д. Денисов и В. М. Клименко; окончил институт после войны и стал инженером в Харькове неутомимый организатор побегов из лагерей Н. Г. Московченко; вернулся к своей профессии артиста коммунист П. Я. Собецкий. Сейчас он живет на Украине, в Сумах. В М. Сухаревский, работая в Донбассе, стал кандидатом технических наук. Г. А. Кухалейшвили трудится в республиканский прокуратуре Грузии. Осталась в живых и, получив медицинское образование, успешно лечит людей А. П. Чумакова — наша незабываемая Березка. С победой вернулись домой и мои земляки–кубанцы Федор Мороз, Александр Кременчугский, Бабкен Аветисян, Иван Сучков и многие другие.
С глубокой скорбью вспоминаю ушедших из жизни В. С. Железного, подполковника И. А. Пляко, Е. М. Шикина, Ф. Ф. Коршунова, И. Е. Канабиевского и других.
…Севастополь я не узнал. В моем воображении он оставался таким, каким я его покинул в 1942 году: в сплошных развалинах, с развороченными мостовыми.
И вот я снова хожу по тем местам, где воевал почти сорок лет назад.
На месте, где пролегали траншеи передовой на Мекензиевых Горах, словно олицетворяя стойкость и вечность черноморской крепости, возник новый город строителей — Белокаменск.
Внуки и правнуки героев первой и второй героической обороны Севастополя продолжают с честью нести знамя своей Родины.
…Сапун–гора. Она осталась такой же, как и десятилетия назад. На ее восточных склонах наш полк когда–то держал оборону. А теперь все поросло травой. Но, видимо, не под силу природе скрыть мнргочисленные шрамы войны. Я вижу воронки, воронки…
А вот и Федюхины высоты, Золотая балка, где–то здесь была Кадыковка. В июне 1942 года фашисты полностью уничтожили это село.
О героических днях обороны Севастополя, о боях на этом участке фронта рассказывают ветераны войныг бывшие бойцы 388‑й стрелковой дивизии, 7‑й и 8‑й бригад морской пехоты. Здесь располагались передовые позиции этих соединений. Снова и снова память возвращает те дни: бесчисленной массой вражеские автоматчики наступают со стороны виноградников, над головой с шумом и свистом проносятся «юнкерсы» и «мессеры». Здесь меня привалило землей и камнями, отсюда я был вывезен на Херсонес.
Вот бухты Казачья и Камышевая. Виден маяк, покачивающееся слюдяной гладью море, а недалеко холмы Турецкого вала, который в июньские дни 1942 года по нескольку раз в день переходил из рук в руки. Потрясающую картину являли собой развалины 35‑й береговой батареи.
Первое, что я обнаружил, — это отсутствие скалистого островка, торчавшего из воды наподобие стола. С него мы три ночи сигналили в море, пытаясь вызвать наши корабли. Дорожка под кручей, по которой выходили на линию обороны, тоже завалена. И вдруг я увидел тот холмик, на вершине которого мы с Морозом выкопали окопчик и стреляли из него последний раз.
Затем я прошел к высокому, из белого камня, обелиску. Он стоит на том месте, где у подбитого немецкого танка Березка перевязывала раненого Сашу Королева. Здесь 3 июля 1942 года завершилась последняя схватка с вражескими автоматчиками, здесь при попытке прорыва мной был израсходован последний патрон.
На памятнике золотом горят слова благодарности славным воинам Приморской армии, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость Советской Родины.
Память одного человека о многом может забыть, память народа — никогда. Не сотрет время героических страниц истории Великой Отечественной войны, потому что каждое их слово написано кровью.
Примечания
1
См.: Коломиец Т. К. На бастионах чапаевцы. Симферополь, «Крым», 1970, с. 80–81.
(обратно)2
См.: Моргунов П. А. Героический Севастополь. М., «Наука», 1979, с. 387.
(обратно)3
Моргунов П. А. Героический Севастополь. М., «Наука», 1979, с. 313.
(обратно)4
Севастопольский оборонительный район. (Прим. авт.).
(обратно)5
См.: «Красный боецв, газета 25‑й стр.дивизии. 1942, 27 мар та, № 38.
(обратно)6
См.: Героическая оборона Севастополя. 1941–1942. М., Воениздат, 1969, с. 313.
(обратно)7
«Правда», 1942, 4 июля. Далее в сообщении Совинформбюро говорилось: «В течение 250 дней героический советский народ с беспримерным мужеством и стойкостью отбивал бесчисленные атаки немецких войск. Последние 25 дней противник ожесточенно и беспрерывно штурмовал город с суши и с воздуха… За этот короткий период немцы потеряли под Севастополем до 150 тыс. солдат и офицеров… более 250 танков, до 250 орудий… более 300 немецких самолетов… Железная стойкость севастопольцев явилась одной из важнейших причин, сорвавших пресловутое «весеннее наступление» немцев… Севастополь оставлен советскими войсками, но оборона Севастополя войдет в историю Отечественной войны Советского Союза как одна из самых ярких ее страниц…»
(обратно)8
Ты, белобрысый, выходи! Ты, проклятый монгол, — тоже (нем.).
(обратно)9
Героическая оборона Севастополя. 1941 —1942. М., Воениздат, 1969, с. 333.
(обратно)10
Сантинел — солдат–охранник (рум.).
(обратно)11
Мажор — старшина (рум.).
(обратно)12
Господин полковник! (рум.)
(обратно)13
Завтрак (рум.).
(обратно)14
Добрый день! (рум.)
(обратно)15
Локотинент — лейтенант (рум.).
(обратно)16
Документы по истории КПР. Изд. 2‑е. Бухарест, Госполитиз дат, 1953, с. 379.
(обратно)17
Там же, с. 393.
(обратно)18
См.: «Красная звезда», 1959, 15 дек.; «История СССР», 1976, № 3, с. 113.
(обратно)19
Вклад Румынии в разгром гитлеровской Германии. М., Воениздат, 1959, с. 61–64; Архив Генштаба румынской народной армии, дело 297/2, д.2/8, с. 41.
(обратно)20
23 августа — национальный праздник румынского народа. Бухарест, 1945, с. 48.
(обратно)21
Речь идет о декларации короля Михая I от 23 августа 1944 года о смещении Й. Антонеску, создании нового правительства и прекращении военных действий румынских войск в соответствии с условиями перемирия, предложенными Советским правительством еще в апреле 1944 года. См.: Антосяк А. В. В боях за свободу Румынии. М., Воениздат, 1974, с. 108.
(обратно)22
Архив МО СССР, ф. 243, оп. 2900, д.1102, л. 148.
(обратно)23
Антосяк А. В. В боях за свободу Румынии. М., Воениздат, 1974, с. 130.
(обратно)24
Архив МО СССР, ф. 240, оп. 2779, д.1187, л. 128.
(обратно)25
Пыня — хлеб (рум.).
(обратно)


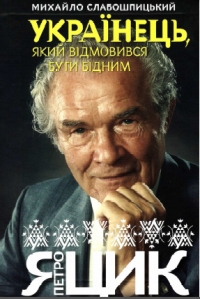

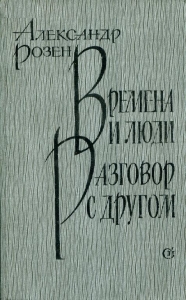
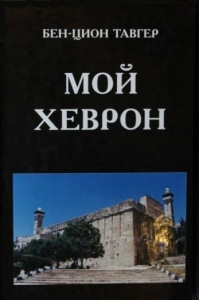

Комментарии к книге «Где не было тыла (Документальная повесть)», Алексей Ефремович Рындин
Всего 0 комментариев