Антон Долин Джим Джармуш. Стихи и музыка
© А. Долин, 2017
© Авторы, 2017
© Д. Макаренко, фотографии
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
При участии поэтов: Полины Барсковой, Василия Бородина, Дмитрия Волчека, Александра Дельфинова, Вероники Долиной, Виктора Коваля, Алексея Королева, Сергея Круглова, Дениса Ларионова, Станислава Львовского, Анны Матасовой, Веры Павловой, Андрея Родионова, Андрея Сен-Сенькова.
А также музыкальных критиков: Бориса Барабанова, Александра Беляева, Александра Горбачева, Максима Динкевича, Григория Дурново, Александра Зайцева, Дмитрия Зимина, Алексея Круглова, Артема Макарского, Ильи Миллера, Ильи Овчинникова, Юрия Сапрыкина, Олега Соболева.
Автор выражает особую благодарность Владимиру Дубровскому, Светлане Колесниченко, Чарльзу Макдональду, Антону Нестерову и Аркадию Цейтлину, а также Наташе, Марку, Аркадию и Ларсу, без которых эта книга не могла бы появиться на свет.
Как устроена эта книга
Джим Джармуш – важнейшая фигура мирового кинематографа – продолжает оставаться таковой на протяжении уже тридцати лет и явно останется в истории. Меж тем книг о нем написано до обидного мало. Впрочем, и эта – совсем небольшая. Пусть она заполнит этот пробел хотя бы отчасти, заодно исполнив мою давнюю мечту: написать книгу об американском кино. Парадокс в том, что родившийся в Огайо и живущий в Нью-Йорке Джармуш – главный «иностранец» среди американских режиссеров: долгое время его картины лучше принимали в Европе, чем на родине. Однако мы знаем Америку в том числе благодаря Джармушу. Кливленд и Флорида, Детройт и Лос-Анджелес, Новый Орлеан и, конечно, Патерсон – трудно воспринимать их в отрыве от образов из его фильмов.
Обратная хронология в книге – не просто каприз. Мне кажется, что чем дальше мы отстоим от дебюта любого режиссера, тем меньше шансов на то, что начнем знакомиться с ним с первого фильма. Обычно зрителю попадается что-то новое, становится для него откровением, и после этого он знакомится с другими работами, постепенно добираясь до истоков. Говоря об истории – истории кино в том числе, – мы всегда делаем точкой отсчета сегодняшний день.
Впрочем, книга писалась и составлялась так, чтобы каждая ее часть воспринималась и отдельно от других без ущерба для смысла. Читать ее можно в любом порядке.
Джармуш как-то назвал себя «малозначительным поэтом, пишущим весьма недлинные стихи». Поэтичность его картин была очевидна с самого начала, шла ли речь о многочисленных реминисценциях из мировой поэзии или поэтичности самой стилистики. Для этой книги я предпринял рискованный эксперимент: попросил тех российских поэтов, которые неравнодушны к кинематографу Джармуша, написать по стихотворению-посвящению; конкретному ли фильму или творчеству режиссера в целом – неважно.
Еще одно важнейшее свойство кинематографа Джармуша – его музыкальность. Из-за нехватки необходимой квалификации я обратился к лучшим российским критикам с просьбой расшифровать (в нескольких абзацах) «музыкальные ключи» к его фильмам. Получился своеобразный вольный справочник по саундтрекам Джармуша и тем певцам или музыкантам, которые в его фильмах стали артистами.
Уважая просьбу режиссера не копаться в его личной жизни, я не стал писать о его биографии, а также отказался от детального анализа его актерских работ (все же теряющихся на фоне режиссерских).
В финале помещены стенограммы моих встреч с Джармушем, которые происходили в разные годы, в основном на фестивалях. Некоторые были наедине, другие – в составе групп журналистов со всего света; иногда они касались конкретных фильмов, иногда – нет. Так или иначе, прямая речь режиссера – необходимая часть книги.
Как устроены фильмы Джармуша
В двух словах не объяснишь, и не надо.
Однако у Джармуша есть один фильм, который длится всего десять минут, – часть антологии «На десять минут старше» под названием «Инт. Трейлер. Ночь». Эта маленькая виртуозная работа – достаточный материал, чтобы обозначить в начале книги общие свойства картин режиссера, отразившиеся здесь как в капле воды. Недаром это единственный его фильм, напрямую посвященный процессу съемок, а значит, очень личный. Своего рода «8 1/2».
Искусственное и естественное. Трейлер, где мы встречаем главную героиню короткометражки, безымянную актрису (Хлое Севиньи), – уютный светящийся мирок в зимней ночи. Туда она приходит на время десятиминутного перерыва. «Инт. Трейлер. Ночь» – шкатулка в шкатулке, фильм-матрешка: Джармуш конструирует искусственную реальность так, чтобы она выглядела как отдых от искусства. Предельная естественность поведения всех его персонажей, «вышедших из кадра», – возможность передохнуть от деланого постановочного мира кино.
В то же время черно-белое изображение (фирменное для Джармуша, а здесь впервые примененное часто с ним работающим оператором Фредериком Элмсом) придает мнимой документальности видимость ретро или стилизации. Парадоксальное противоречие стиля и содержания сбивает с толку, создает впечатление анекдота – только совершенно бессюжетного.
Чужак в чужом краю. Большинство героев Джармуша – аутсайдеры, приезжие, мигранты, туристы или путешественники. Даже трейлер, в котором разворачивается действие, по сути, является домом на колесах, временным пристанищем. Актриса одета в платье по моде 1930-х, у нее соответствующая прическа и украшения – кулон, серьги, диадема в волосах. Она человек из нашего времени, окунувшаяся на невидимой для нас съемочной площадке в воображаемую belle epoque, и в то же время – пришелица из прошлого в интерьере современного, прагматично обставленного вагончика. Здесь (а также «сейчас») она – всего на десять минут. Так же ненадолго сам режиссер заходит в соседние миры, культуры, времена, чтобы вынести оттуда цитату или артефакт для очередного фильма.
Юмор и чувства. Событийный ряд практически каждого джармушевского фильма строится на череде недоразумений и недопониманий – а также на попытках, невзирая на различия, выстроить контакт. Актриса привычна ко всему, поэтому она невозмутимо говорит со своим возлюбленным по телефону, пока ей поправляют прическу, несут еду или проверяют микрофон. Во время этого процесса мужчина в ушанке сначала долго и обстоятельно копается у нее под платьем, потом лезет за пазуху. Девушка в старинном платье, будто привидение из иной эпохи, не обращает внимания, продолжая диалог. Это невероятно смешно, но и трогательно: актриса так погружена в коммуникацию со своим далеким бойфрендом, что не замечает ничего вокруг. Можно увидеть в этом и маленькую, заболтанную тысячью мелочей историю любви.
Сигареты и спички. На стене трейлера значится «Не курить», но актриса, разумеется, первым делом зажигает сигарету – причем от спички; к спичкам Джармуш питает особую слабость. Табачный дым, повседневный и все-таки метафизический, – важный атрибут его кинематографа. Как говорит персонаж самого Джармуша в фильме «С унынием на лице», «сигарета – напоминание о бренности бытия». А спички – очевидно, о важности грошовых деталей.
Наконец, музыка. Первое, что делает актриса в своем трейлере, – ставит CD в магнитофон, специально принесенный ей сюда. За эти десять минут ей так и не удается нормально поговорить по телефону, поесть или даже докурить сигарету. Зато она успеет послушать хотя бы несколько минут Гольдберг-вариаций Баха в исполнении Гленна Гульда. Музыка у Джармуша – лучшее, что может случиться с миром и живущим в нем человеком; она позволяет соединять в одном узком пространстве (допустим, трейлера) юмор и любовь, кинематограф и жизнь, бренное и вечное.
Обо всем этом и пойдет речь в последующих главах.
«Патерсон», 2016
Девочка в розовой куртке раскрыла тетрадку – ее тайный дневник – и читает свое стихотворение незнакомцу, присевшему рядом, прямо посреди улицы. Он водитель автобуса, она школьница, ждет здесь маму и сестру-близняшку; у него только закончилась рабочая смена. «Там нет рифм», – предупреждает она. «Ничего, мне такие стихи нравятся даже больше», – отвечает он. Стихотворение называется «Вода падает», и оно – о водопаде волос, падающих на плечи девочки. А еще о водопаде, которым знаменит на весь штат Нью-Джерси город Патерсон, где происходит действие фильма Джима Джармуша «Патерсон». Его главного героя, того самого водителя автобуса, сыгранного Адамом Драйвером, зовут Патерсоном – имя это или фамилия, остается неизвестным. На самом деле он тоже поэт, хотя об этом известно только его жене Лоре (Голшифте Фарахани). Вот и девочке в розовой куртке не расскажет он о своем призвании – только выслушает ее стихи и похвалит за внутренние рифмы. Она спросит, нравится ли ему Эмили Дикинсон. «Одна из любимых», – ответит Патерсон. Потом они разойдутся, каждый в свою сторону.
Джармуш – виртуоз скрытых рифм. Здесь одна из них. Дикинсон, великая американская поэтесса, при жизни опубликовала с десяток мало кем замеченных текстов, вся слава пришла к ней посмертно. Как и Патерсон, она жила поэзией, но оставляла это при себе: мысль о публикации, по словам Дикинсон, была ей чужда, как небосвод – плавнику рыбы. Патерсон отказывается даже скопировать стихи из своей заветной тетрадки (того же тайного дневника), как об этом ни умоляет Лора. Он читает их время от времени, но только про себя. А Джармуш – подобно Патерсону, поэт и читатель чужих стихов – записывает на экране.
Можно ли сказать, что водитель автобуса – выдающийся поэт, в чем так уверена Лора? В городе Джармуша – безусловно. Здесь все обычны и каждый выдается. Каждый – поэт. Бармен Док (фактурный меланхолик Барри Шебака Хенли) собирает вырезки из старых газет о знаменитостях Патерсона, будто рифмуя их друг с другом. Завсегдатай бара Эверетт (Уильям Джексон Харпер) жалуется на несчастливую любовь, слагая на ходу жалобные мадригалы в прозе. Проходя с собакой мимо круглосуточного ландромата, Патерсон встречает чернокожего одиночку, сосредоточенно бормочущего под нос поэтические строчки, и останавливается послушать. Первый встречный, кстати, культовый рэпер Method Man; Джармуш ценит разные формы поэзии. Например, ту, которую практикует эксцентричная Лора – дизайнер-самоучка, неутомимо оптимистичная и находящая рифмы во всем, от занавесок до капкейков. В ней не меньше от Джармуша, чем в Патерсоне, – недаром она так одержима черно-белым и по ходу фильма учится играть на гитаре. Да что Лора: у их пса Марвина (сыгравшая эту роль бульдожка Нелли умерла через два месяца после окончания съемок, посмертно ей была присуждена каннская премия Palm Dog за лучшую собаку фестиваля – единственный трофей, которого там была удостоена картина) есть собственная поэтическая стратегия. Раз за разом он толкает лапами столбик с почтовым ящиком у дверей, добиваясь лишь ему ведомой красоты или находя красоту в самом жесте.
Был простым доктором и один из лучших поэтов американского ХХ века Уильям Карлос Уильямс, в свободное от работы время писавший уникальную по сложности и образной насыщенности поэму «Патерсон». Поэму о любви и непонимании, мужском и женском, будничном и возвышенном, собаках и людях. О том, что женщина – цветок, а мужчина – целый город, но и город – тоже человек. Нескольких строк хватит, чтобы понять, как важен этот текст не только для Патерсона, цитирующего Уильямса и не расстающегося с его книгой, но и для Джармуша, фактически экранизирующего здесь поэзию:
Пора сказать: нет никаких идей, есть воплощения. Воздух. Патерсон уходит — передохнет и сядет писать. Глядя вдоль салона автобуса: его мысли – они сидят, стоят. Мысли в голове горят и мечутся; Кто эти люди (слишком сложна здесь математика), среди которых я вижу собственное отражение в рядах витрин, вернее, его мыслей, слегка дрожащее на фоне товаров, туфель и велосипедов?[1]«Патерсон» Уильямса – целая вселенная, но в миниатюре, где в цепь загадочных и эффектных метафор вплетены фрагменты прозаического текста, часто заимствованного из путеводителей по городу, чужих воспоминаний или даже писем. «Патерсон» Джармуша – тоже. Здесь говорят о боксере Рубине «Урагане» Картере и Франческо Петрарке, кантри-певице Тэмми Кайнетт и комике Конане О’Брайане, поэтах Поле Лоренсе Данбаре и Фрэнке О’Хара, рэпере Fetty Wap и актере Лу Костелло (что из Патерсона родом), прозаике Дэвиде Фостере Уоллесе и художнике Жане Дюбюффе, анархисте Гаэтано Бреши и праотце панк-рока Игги Попе, о котором Джармуш одновременно снимал документальный фильм: оказалось, именно лидера The Stooges девочки-тинейджеры Патерсона в допотопные времена признали секс-символом поколения.
Каждая из цитат – отражение происходящего в фильме, его долгая и прозрачная, почти незаметная тень. Недаром бар, где выпивает герой, называется «Тени». Есть и кинематографические рифмы – черно-белый «Остров пропащих душ» 1932 года, на который Патерсон и Лора идут в кино, «чувствуя себя как будто в XX веке», или сценка, разыгранная дуэтом Джареда Гилмана и Кары Хэйуорд, парочкой из «Королевства полной луны» Уэса Андерсона, выросшей с тех пор из школьников в студенты.
Самая очевидная метафора реальности/поэзии – любовь Патерсона и Лоры, одновременно идиллическая и абсурдная, поскольку ничего общего у них, при всем взаимопонимании и гармонии, нет. Патерсон – застенчивый молчун, Лора – экстраверт с активной жизненной позицией по любому вопросу. Он целеустремлен и посвятил себя одному делу, она каждый день изобретает новый план, кулинарный или дизайнерский. Она видит и запоминает сны, он – нет. Даже кино они смотрят по-разному: она впивается взглядом в экран, он тихо смотрит по сторонам, где сидят такие же, как они, пары. Рифмы, рифмы, рифмы. Из них забавнейшая – актер-неудачник Эверетт и его зазноба Мари (Честен Хэрмон), отвергающая назойливого партнера раз за разом, несмотря на его отчаяние: на вид вроде два сапога пара, а такая шекспировская трагедия. Или комедия, как посмотреть. В мире Джармуша любая драма имеет свою комическую рифму.
Любовь – тот же верлибр. Неясно, из чего складывается поэзия, если в ней нет рифмы и ритма. Почему мы вообще считаем ее поэзией? На чем основаны метафоры – сходства и параллели между идеями, существами или предметами, – кроме ощущения? В любви созвучие просто возникает и тихо живет, разлитое в воздухе, которым влюбленные дышат. Джармушу удается показать это одним кадром, снятым сверху, где обнявшиеся Патерсон и Лора спят накануне момента пробуждения: тени и свет смешиваются на их безмятежных лицах. Кстати, оператор «Патерсона» Фредерик Элмс – еще один большой американский поэт: он дебютировал в «Голове-ластике», потом снимал для Линча «Синий бархат» и «Диких сердцем», а для Джармуша – «Ночь на Земле» и «Сломанные цветы». Никто так не способен разглядеть магию в провинциальном американском сумраке, как он.
Джармуш может обходиться без явного ритма и рифм, как настоящий авангардист. Это не мешает ему в других случаях рифмовать легко и вдохновенно, будто вошедшему в раж рэперу. Здесь он играет с тавтологической рифмой, по-научному – эпифорой: Уильям – Уильямс, Патерсон – Патерсон, Драйвер – driver, в смысле водитель автобуса. Несложно на словах, а в кино требует особой изобретательности. Джармуш, к примеру, вводит мотив близнецов (Лоре в начале фильма приснилось, что она беременна близнецами), и теперь ее мужу двойники видятся на каждом шагу. Человек – тоже рифма.
Не эпифора ли – вся жизнь, состоящая из рутины? Один и тот же маршрут автобуса, который водит Патерсон. Буквально вечное возвращение. Если, по мысли Борхеса, есть всего четыре истории, то «Патерсон» – сюжет об Одиссее, который ежевечерне возвращается к своей Пенелопе. Он всегда в пути, он покидает дом, чтобы туда вернуться. Она терпеливо ждет. И даже пес – из той же истории.
Каждый день похож на предыдущий, каждая неделя – на соседнюю. Действие укладывается в семь почти идентичных дней, с утра понедельника до ночи воскресенья. Утром Патерсон встает, взглянув на часы (не раньше 6:15, не позже 6:35), тихо завтракает и выходит из дома. Пешком идет в депо, проходя мимо водопада. Принимает смену, отправляется по маршруту № 23. Съедает приготовленный накануне Лорой обед из ланчбокса, сидя на скамейке у того же водопада. Завершает смену, идет домой. Обменявшись с Лорой новостями, идет выгуливать Марвина. По дороге заходит в бар выпить пива. Ложится спать. Больше ничего в фильме и нет. Ну почти.
Что общего у верлибра и эпифоры? И то и другое обходится без формальной виртуозности, в которой иной читатель привык видеть важнейший признак поэзии. Срифмовать слово с ним самим или отменить все законы стихосложения может любой дурак, не так ли? Но об этом и говорит Джармуш. Как опознать поэзию, лишенную примет поэзии, из какого сора ее вылепить?
Я двигаюсь сквозь триллионы молекул они расступаются расчищая мне путь а другие триллионы с обеих сторон остаются на месте. Дворник на ветровом стекле Начал скрипеть. Дождь прекратился. Я остановился. На углу мальчик в желтом дождевике держит за руку маму[2].Молекулы – такие крохотные, что невозможно отличить их друг от друга, – строительный материал жизни и поэзии. Одни движутся, другие нет. Рифмуются ли они друг с другом, не рассмотреть, их созвучия не услышать. «Патерсон», кстати, – один из самых безмолвных фильмов Джармуша: здесь пауза ценнее и, пожалуй, музыкальнее звука. А Патерсон – один из самых молчаливых персонажей.
Его стихи написаны Роном Паджеттом, известным современным американским автором – поэтом повседневности и, среди прочего, лауреатом премии Уильяма Карлоса Уильямса. Ждать, что зритель фильма опознает их на слух, не приходится; тем более что многие были написаны специально по просьбе Джармуша. Публика имеет право предположить, что герой картины – просто слабый вторичный стихотворец или тривиальный дилетант, которому и незачем публиковаться. А что жена считает его великим, так на то жены и существуют. Можно решить, что стихи написал сам режиссер, – а уж от души или как пародию, определять, опять же, зрителю. Ведь объективных критериев здесь не существует.
Соблюдая обманчивую будничность и бессобытийность до конца картины, при помощи поэзии Джармуш незаметно затаскивает публику на территорию современного искусства и литературы, где столь зыбки понятия «качества» или «профессионализма». Вместо них только интуиция, эмпатия и простое удовольствие слышать никогда до сих пор не слышанные стихи. Пусть говорят они о простейшем, каждодневном. Это как водопад: он не изменился с древних времен, но с обрыва постоянно падает новая вода. Или автобус: маршрут прежний, но в салоне всегда находится место для нового пассажира. Патерсон, сидя за рулем, слушает своих пассажиров внимательно (применен тот же принцип драматургической миниатюры, что в «Ночи на Земле» и «Кофе и сигаретах»). Без этой драматургии и прозы не выйдет поэзии.
А ей, чтобы родиться на свет, не нужно повода. Вот Лора просыпается поутру и рассказывает, как ей снилась древняя Персия: вместо автобуса Патерсон восседал на серебряном слоне. Почти Гумилев. Смешно, но ведь и убедительно, красавица-иранка Фарахани только что играла египетскую принцессу в «Исходе» Ридли Скотта, а Драйвер водил космические корабли в седьмой части «Звездных войн». Однако не более ли причудлив тот факт, что из-за штурвала звездолета он пересел за руль настоящего автобуса? Драйвер во время подготовки к «Патерсону» действительно закончил курсы водителей и получил права.
Посмотришь Джармуша – и поймешь, что каждый сон, даже самый дикий, отражает какую-то из граней реальности. Особенно если потом просыпаешься в Патерсоне рядом с тем, кто тебя любит. Раньше Джармуш говорил, что скорее снимет фильм о человеке, выгуливающем пса, чем об императоре Китая (и снял, вот он). Теперь, пожимая плечами, добавляет, что и китайский император вполне мог бы выгуливать собаку. Чудесное и привычное, поэзия и проза не обязательно должны вступать в противоречие.
«Патерсон» лишен того, без чего нарративное искусство, казалось, не живет, – конфликта. Недаром герои могут найти экшен только в кино. Все намеки на драматургическую кульминацию завершаются смехотворно неопасно – что столкновение с отчаявшимся вооруженным террористом (пистолет оказался игрушкой), что внезапно остановившийся автобус (короткое замыкание, ничего страшного). И внезапная утрата Патерсоном всего поэтического наследия разом оказывается лишь площадкой для нового старта.
Переживая это фиаско, герой в свой выходной день уходит из дома и садится у водопада. Вдруг из-за угла появляется незнакомец – и чужестранец. Верный Джармушу зритель узнает в нем японца Масатоси Нагасэ, сыгравшего когда-то в «Таинственном поезде», а потом другого экзотического путешественника, уже не по Штатам, а по Исландии, в «Холодной лихорадке» Фридрика Тоура Фридрикссона. Он турист, приехавший в город Уильяма Карлоса Уильямса. «А вы поэт из Патерсона?» – с неожиданной прозорливостью спрашивает он Патерсона (хотя неожиданной ли, учитывая, что он сам поэт?). Тот отвечает, что он лишь водитель автобуса. «Как поэтично!» – не теряется учтивый японец. А потом, уходя, делает собеседнику дар, ценнее которого не придумать: чистую тетрадь для новых стихов.
Рассвет – не в воздухе но в чашках, блюдцах обретающих округлость свидетельствуя о самих себе И точно так же эти вот деревья пожалуй не совсем еще гитары но кланяясь под ветром они – род музыки Графики и схемы все это могут объяснить как и цепочки доказательств, что отброшены Ибо – разделённы Ничей анализ не признают лучшим, десерт не подан. И единственный контекст – только сплетенье обстоятельств уже разрушенный И вот идеи что в ходу когда-то были, изношены, как старая одежка но свой имеют плюс (извиненья неуместны) – звучат аккордом тихим[3]Это собственное стихотворение Джармуша, опубликованное в «Нью-Йоркере» в ноябре 2015-го, за полгода до мировой премьеры «Патерсона». Режиссер давно пишет стихи, но их не найти в его фильмах. Здесь он читает и слушает других – Эмили Дикинсон и Рона Паджетта, Уильяма Карлоса Уильямса и Фрэнка О’Хару, Метод Мэна и Уолласа Стивенса. Разумеется, в этом фирменная скромность Джармуша, который даже в самых личных картинах избегает прямого разговора от первого лица. Но не только она.
«Патерсон» моментально окрестили самым личным фильмом режиссера. Это кажется очевидным, ведь поэтом от кино Джармуша называли начиная с его дебюта. И все же лирического, автобиографического или исповедального в «Патерсоне» не больше, чем в любой другой джармушевской картине; в последнюю очередь это – способ ознакомить вселенную со своими до того затаенными литературными амбициями (хватает и того, что это третий фильм подряд, в котором Джармуш является автором и исполнителем музыки: «тихие аккорды» здесь – его). Водитель автобуса Патерсон – выдуманный поэт, читающий подлинных поэтов, не более и не менее. В конечном счете фильм постулирует невероятное равенство прозвучавшей мелодии – с той, что еще спрятана в не срубленном дереве; равенство пишущего с читающим, умеющего различать поэзию в жизни – с тем, кто способен увидеть ее на странице книги.
Японский поэт обсуждает с Патерсоном непереводимость поэзии. Джармуш, кажется, осмеливается противоречить общепринятому тезису. Ему удается перевести стихи на язык кино, а заодно изложить собственный поэтический манифест, вообще обойдясь без слов. Он унимает музыку и стихи, тишина становится красноречивее их. Тогда, в молчании, из одних и тех же молекул получатся знаменитость и аноним, японец и американец, литератор и водитель автобуса, мужчина и женщина, человек и собака. На какой-то буднично-волшебный миг нет больше автора и зрителя – только поэт и поэт. Тавтологическая рифма. Эпифора, Нью-Джерси.
Дмитрий Волчек Из Ли Бо
Молодость ездит на фарфоровом автобусе петляющем у нефритовых павильонов в городах с уродливыми именами в городах с обычными именами Кондопога, Чивита, Патерсон Gold’ne Sonne webt um die Gestalten, Spiegelt sie im blanken Wasser wider Молодость с фарфоровой кожей голливудскими глазами двуцветными надеждами покорна обычным маршрутам Die liebe Erde alluberall Bluht auf im Lenz und grunt Aufs neu! В непрочном сиянии солнце отражается в утренних стеклах Молодость бережет свой фарфор свое пиво своих собачек В городах похищающих твое имя Молодость уезжает на автобусе насовсем Ewig… ewig… Ты рисуешь ее маршрут пальцем на запотевшем стекле а снизу пишешь ногтем: «Я еще помню немецкие марки берлинскую стену хибары на новом арбате убийство Роберта Кеннеди и его непутевого брата»Музыка: Игги Поп
Игги Поп сыграл у Джармуша в «Мертвеце» и в новелле «Где-то в Калифорнии» из сборника «Кофе и сигареты». Уже после этого Джармуш снял об Игги Попе и его группе The Stooges документальный фильм «Gimme Danger» (2016). Кумир детства, ставший другом, – так можно описать отношения режиссера и артиста. Началась дружба в 1990-х. Тогда Поп, Джармуш и Джонни Депп любили тусоваться в нелегальном тату-салоне, который содержал их приятель Джонатан Шоу, впоследствии писатель. Они назвали свою компанию «Death Is Certain Club»: «Клуб “Смерть неизбежна”». Все четверо обязались носить перстень с изображением черепа, и все, кроме Игги, сделали себе татуировку с названием клуба. У Игги нет татуировок, зато у него есть песня «Death Is Certain» и альбом «Skull Ring» («Перстень с черепом»).
The Stooges были одной из тех групп, которые в конце 1960-х – начале 1970-х принесли в мир тяжелую агрессивную музыку. В ту пору мало кто оценил их музыкальный примитивизм и непредсказуемое поведение Попа на сцене. Все это стало актуальным несколько лет спустя, когда появился панк-рок и Игги признали его прародителем. А в ранние годы широкая публика была от The Stooges в недоумении. Зато среди тех немногих, у кого эта музыка вызывала восторг, оказался Дэвид Боуи. Он сыграл в судьбе Игги Попа большую роль, стал своего рода опекуном ровесника-беспредельщика, соавтором песен и продюсером его альбомов, включая классический диск The Stooges «Raw Power» (1972) и пару лучших сольных пластинок Попа – «The Idiot» и «Lust For Life» (оба – 1977). Иногда Поп, впрочем, вырывался из-под контроля и записывал страшные и необъяснимые альбомы вроде «Zombie Birdhouse» (1982).
Бóльшую часть жизни над Игги Попом висел вопрос, поднятый в свое время Элтоном Джоном: «Почему этот парень до сих пор не звезда?» Нельзя сказать, что он был равнодушен к успеху, но успех как-то к нему не клеился. После выхода первого альбома The Stooges Игги даже попал на обложку популярного подросткового журнала Sixteen, однако очень скоро нашел себя в амплуа аутсайдера, из которого начал выходить только ближе к пятидесяти годам. Свой самый коммерчески успешный альбом («Post Pop Depression» c Джошем Хомме, 2016) Поп записал – внимание! – накануне 69-летия.
А в 1970-х Игги специализировался на наркомарафонах и заваливании любой возможности получить выгодный контракт. Он умудрился озадачить даже, казалось бы, всякого повидавших музыкантов The Doors. Игги хотели попробовать на место Джима Моррисона. На прослушивании он разделся догола и учинил нечто такое, отчего Рэй Манзарек и компания предпочли с ним больше не иметь дела.
В 1980-х Игги Поп завязал с наркотиками, остепенился и часть освободившегося времени и энергии стал тратить на съемки в кино. Крупных ролей ему не давали, но вторые роли и эпизоды в заметных фильмах – да: «Сид и Нэнси», «Цвет денег», «Плакса». Поп говорит, что отклоняет большинство предлагаемых ему ролей, потому что они все одного плана: «Ты уличный панк, ты принимаешь наркоту».
Поп – сам по себе представление. Это и использовал Джармуш. В принципе, травести-фрика из «Мертвеца» ему и играть особенно не пришлось. Женское платье надевать было не впервой; приходилось и убегать от разъяренных роуди The Allman Brothers, недовольных нарядами Игги на сцене. А рассуждения о Римской империи – просто попавшие на экран мысли вслух на любимую тему. Как раз незадолго до выхода «Мертвеца», в 1993 году, Поп выпустил альбом «American Caesar».
В «Кофе и сигаретах» он и вовсе играет самого себя: дружелюбного парня, тушующегося перед хмурой значительностью Тома Уэйтса. Хотя и утрированно, но в целом все так и есть.
Александр Зайцев«Gimme Danger», 2016
На мировой премьере в Каннах Джим Джармуш и Игги Поп – единомышленники, соавторы и почти ровесники (режиссер на шесть лет младше певца) – заводили публику, показывая камерам дружный «фак», но не отказывались позировать, сдаваясь не без удовольствия на растерзание машине фестивальной индустрии. В этом жесте была извинительная для живых классиков игра, не лишенная кокетства, а заодно искренняя застенчивость контркультурщиков, которых сами обстоятельства вытолкнули на красную дорожку.
Главной опасностью для документального «Gimme Danger», названного по заголовку классической песни The Stooges, был риск вообще не появиться на свет. Это был в прямом смысле слова совместный проект Попа и Джармуша. Они пошли друг другу навстречу одновременно. Один хотел, чтобы его первую группу запечатлели на пленке, увековечили в фильме и сделал бы это именно Джармуш, – другой мечтал снять фильм о The Stooges, но не хотел за это приниматься без согласия и деятельного участия со стороны Попа. Все случилось: их диалог, оформленный на экране как монолог певца, составляет добрую половину картины. Не находились только инвесторы, а собственные деньги Джармуша стремительно кончались. Музыканты The Stooges, успевшие дать интервью для фильма, уходили из жизни один за другим, сама материя еще не сложившегося кино истаивала на глазах. Продюсеры появились буквально в последний момент (что привело к одновременному выходу сразу двух новых работ Джармуша, этой и «Патерсона»). И не тайное ли, вызванное отчаянием, стремление к компромиссу, большей «рыночности» фильма о группе маргиналов привело к парадоксальному результату?
Парадокс в том, что «Gimme Danger» – великолепно смонтированный, увлекательный, яркий и разнообразный документальный фильм о взлете и падении культовой группы протопанка The Stooges – практически ничем не напоминает об уникальной эстетике Джима Джармуша. Говоря проще: не опознав его закадровый голос во вступлении и не читая титры, узнать Джармуша тут практически невозможно. Фанаты Игги Попа и The Stooges испытают удовлетворение не меньшее, чем в момент запоздалого включения коллектива в Зал славы рок-н-ролла в 2010-м, – их любимцам наконец-то воздали по заслугам. Но вот что испытают поклонники Джармуша? Возможно, будут обескуражены еще больше, чем в момент выхода «Года лошади», предыдущего музыкально-документального опыта режиссера, – противоположного во всех смыслах атмосферного и бессюжетного фильма-концерта Нила Янга.
В 1973-м они становились все более тощими и грязными, критики называли их безвкусными и безумными (это в лучшем случае!), а зал на концертах пустел после того, как The Stooges в течение пятнадцати минут безуспешно пытались настроиться. Однажды Игги Попа избили байкеры, которых он оскорблял со сцены, а первый прыжок в зал закончился тем, что публика расступилась и фронтмен группы лишился передних зубов. Когда же их укурившийся барабанщик пытался проехать на автобусе со всем реквизитом и инструментами под низким мостом, им всем снесло крышу в буквальном смысле слова. The Stooges были разорены. Начав с конца истории – точки распада группы, нищей, растерявшей поклонников и менеджеров, дружно и крепко севшей на героиновую иглу, – Джармуш и Поп возвращаются к детству героя, а дальше добросовестно и последовательно рассказывают о создании и восхождении The Stooges.
Детские опыты Игги – тогда еще Джеймса Остерберга, который жил с родителями в трейлере и докучал предкам ежедневными упражнениями на барабанной установке. Несколько подростковых откровений: барабанщику всю жизнь придется смотреть на чужие задницы – так не сменить ли имидж? «Остерберг» – это скучно и длинно: почему бы не назваться «игуаной», Игги? Если ты родился белым, есть ли смысл пытаться играть «черную» музыку? Дальше: судьбоносная встреча с товарищами по будущей группе, братьями Роном и Скоттом Эштон и Дэйвом Александером, рождение в муках названия The Stooges (сначала The Psychedelic Stooges). Первые концерты, запись дебютного альбома под руководством Джона Кейла из Velvet Underground. Дружба с певицей Нико, попытка сотрудничества с Дэвидом Боуи, переезды в Лондон и обратно, изменения состава коллектива и, наконец, распад. Так и не добившись настоящего успеха и славы, музыканты, которым было чуть за двадцать, вернулись под родительское крыло с расшатанным здоровьем и разбитыми надеждами.
Интересно, почему Джармуш, который в этом фильме предпочитает держаться в тени и молчать, в первые же минуты провозглашает The Stooges «величайшей рок-группой всех времен»? Это шутка, эпатаж или помрачение? Ответ, вероятно, крайне прост: Джармуш, как и всегда, искренен. Для него величайшая – не та группа, которая победила соперников в чартах, и не та, которая изобрела новый стиль или язык, а та, которая не продалась, осталась верной самой себе вопреки конъюнктуре и требованиям рынка. В этом смысле Джармуш, конечно, природный и окончательный панк, сколь бы ни были изысканны и разнообразны его собственные музыкальные предпочтения.
Крайне важно, что речь именно о The Stooges, а не об их последователях, The Sex Pistols или обожаемых Джармушем The Clash. Английские панки все-таки выступали единым фронтом, за ними была мода, маркетинговая стратегия и даже политическая платформа. Ничего из этого никогда не было у The Stooges, чья наивная экспрессия чаще раздражала публику начала 1970-х, чем восхищала. Они были не только аутентичны, но и одиноки, как сам Джармуш или большинство его героев. Отсюда настолько проникновенная любовь режиссера к Игги Попу и его непутевым соратникам.
Стоит чуть внимательнее взглянуть на «Gimme Danger», и за оболочкой традиционного музыкального документального фильма начнет проступать неповторимый кинематограф Джармуша. Ведь стареющий балбес-харизматик Поп, восседающий в своих старомодных стильных шмотках на своеобразном троне в окружении черепов (вот кто настоящий Король гоблинов, а вовсе не его друг Боуи), – давний персонаж и актер Джармуша, знакомый по убийственной сцене у костра из «Мертвеца» и той новелле из «Кофе и сигарет», что называлась «Где-то в Калифорнии».
Чисто джармушевское пренебрежение фабулой здесь тоже налицо. Ведь The Stooges не проделывают традиционного для культовых рок-коллективов пути «из грязи в князи», по неведению, неумению, а то и ради чистого кайфа предпочитая оставаться в грязи. Поэтому их извилистый путь долго петляет, но в результате приводит каждого музыканта на исходную позицию – в родной городок, от сомнительной славы к спасительной неизвестности.
В каком-то смысле умолчание в этой картине не менее важно, чем проговоренные факты. Для изрядной части человечества The Stooges – всего лишь юношеский проект Игги Попа, чьи песни (тот же «The Passenger») слышали более-менее все. Рассказать о том, как изобретатель панка превращался из непризнанного хулигана в почитаемого дедушку рок-н-ролла, казалось логичным. Но для Джармуша история The Stooges прерывается с распадом группы – и возобновляется только после возрождения коллектива в его первозданном составе, уже в новом столетии. Режиссера не интересует карьера. В фокусе его внимания нечто противоположное – отказ от карьеризма.
На него Джармуш отвечает собственным обетом целомудрия: отказом от уникальных элементов собственной стилистики и киноязыка (за что фильм и критиковали давние поклонники режиссера). Никто, как он, не умеет с кайфом и самоотдачей погружаться в чужое творчество, отодвигая собственное на задний план, отступая с авансцены – да и просто со сцены – то за кулисы, то в зрительный зал. Фрагменты упоительно живой в своей визуальной небезупречности концертной съемки The Stooges – принципиально важная часть фильма, где ощущается атмосфера «Года лошади»: чистая экспрессия и непосредственность плохо отрепетированного концерта, позволяющая состояться прямому контакту музыканта и аудитории (даже той, что сидит в кинозале).
Джармуш не только постулирует свое восхищение группой и любовь к ней. Он доказывает эти чувства, подчиняясь музыке и хронологии The Stooges, лишь изредка позволяя себе цитаты и параллели, своеобразные авторские отступления или немудрящую игру в стиль. Например, некоторые эпизоды из жизни группы экранизированы в форме примитивистской анимации (созданной Джеймсом Керром), что идеально отвечает эстетике, заданной самими The Stooges.
Это эстетика простоты, внятности и лапидарности. Ссылаясь на кумира юности, ведущего детской телепередачи Супи Сейлса, Поп вспоминает его наказ зрителям – писать ему письма, но не длиннее двадцати пяти слов. Завет, который стал основой для поэтической стратегии самого певца: «No fun, my babe, no fun…» Это вам не Боб Дилан с его бесконечными «бла-бла-бла» (Джармуш с Попом безошибочно предугадывают будущее решение Нобелевского комитета, подтрунивая над номенклатурным кумиром всего мира; они и вообще не упускают шанса ущипнуть более респектабельных кумиров рок-н-ролла). А еще – эстетика того невинного эксгибиционизма, воплощением которого всегда был полуголый Игги, взявший за образец, как он сам признается с экрана, мимику и движения шимпанзе или бабуина. Свой знаменитый собачий ошейник он купил в зоомагазине в Лос-Анджелесе. Его собачье альтер эго для мифологии группы было принципиально важным: недаром одним из главных их хитов всегда была песня «I Wanna Be Your Dog».
Теперь я готов закрыть глаза, Я готов закрыть разум, Я готов почувствовать твои руки И сжечь свое сердце на горячих песках. Я хочу быть твоим псом, Я хочу быть твоим псом, Сейчас я хочу быть твоим псом… Что ж, начнем![4]Философия Игги Попа, под которой рад подписаться и Джармуш, ближе всего античным киникам, «людям-собакам». А в ней цинизма, вопреки этимологии слова, куда меньше, чем идеализма. Недаром в фильме звучат исторические слова, сказанные Игги на церемонии в Зале славы рок-н-ролла: «Музыка – это жизнь, а жизнь – не бизнес». Лозунг, который Джармуш мог бы вынести на свой щит. Возможно, сам шанс прокричать его с панковской бесцеремонностью и прямотой был более важным фактором для рождения этого фильма, чем любовь к песням The Stooges.
В предыдущей картине Джармуша «Выживут только любовники» речь шла о вампирах – по версии режиссера, тех бессмертных, которые не подвластны времени именно потому, что не заботятся о материальном, а живут искусством, наукой или философией. «Gimme Danger», увы, лишен фантасмагорического измерения и потому показывает мир, устроенный иначе. Бессребреничество и ярость The Stooges, причудливая смесь гедонизма и аскетизма в поведении и художественном методе привели к невеселому результату: как выясняется к финалу, забавный и увлекательный рассказ Джармуша завершается трагической кульминацией. Пока шли съемки фильма, ушли из жизни оба брата Эштон и саксофонист Стив Маккей (Джармуш успел записать их интервью); сегодня после короткого возрождения умерла и сама группа, а Игги Поп остался единственным выжившим. Неясно, что все-таки символизируют окружающие его черепа: победу над смертью и тленом или все-таки ироническое memento mori.
Полина Барскова Вампиры
1. Оттенки красного Пожалуй, я стану стоять на своем На этой земле, где горит водоем, Где я вывожу иероглиф «вдвоем» До изнеможения криво Где блазнит и треплет меня тишина Где Город Далекий парит как жена В багряную тряпочку облачена И гнилью несет от отлива Как ложный пароль повторяю: прости Бубонную бяку сжимаю в горсти Tы хочешь разжать мою лапку? Себя причиняю себя сторожу Вдоль моря как краб косолапый твержу Не делаю смысла но смысл вывожу В безумной надежде за скобку Смотри этой бури некрупной тряпье И есть искушенное чувство мое Лирический торг, Н. Некрасов. Обломки живого воняют теперь: По осени список весенних потерь В закатном свечении розов. 2. Джармуш. Археология сюжета Вместе они или они не вместе? И в каком таком растаком непонятно месте? Кто из них любит, а кто из них терпит, плачет? Все это значит что-нибудь или совсем не значит? Вот он моет посуду За окнами снег и сумрак Вот она гуляет с собакой Мерцает кровавый сумах По краям дорожки Они далеки друг друга Вот он курит во мраке Лицо его тычет вьюга Поначалу им казалось еще немного: Гуров, Анна Сергеевна, какой-то найдется выход, — Но со временем стало так привычно и ясно плохо, Что задачей века казался удачный выдох Ледяная Дева себе отворяет венку Чтобы он припал глазами, припал устами Он снимает сукровицу языком, как Агафья – пенку. Кто здесь сильный: поменяйтесь с нами местами.Музыка: Джим Джармуш
«Меня вдохновляют люди, не стремящиеся в мейнстрим и не интересующиеся им. Например, Роберт Франк, Телониус Монк или Орнетт Коулман. Они не пытаются занять какую-то рыночную нишу – они просто выражают себя в доступной им форме», – сказал Джим Джармуш, настолько же режиссер, насколько музыкант, поэт и тусовщик. По его же словам, кино для него – форма самовыражения, которая объединяет в себе все, что он любит.
Когда он начал снимать, то считал себя «скорее музыкантом» – Джармуш успел себя зарекомендовать в контркультурной тусовке вокруг клуба CBGB, да и среди его знакомых музыкантов было больше, чем представителей киноиндустрии. Отчасти из-за этого вместо профессиональных актеров в его первых (впрочем, как и во многих последующих) фильмах играли товарищи по сцене. Режиссер признается, что, если бы в 1979 году The Ramones не убедили его в том, что он должен снимать свое кино, он, вероятно, никогда бы им и не занялся.
Музыкальная карьера Джармуша официально стартовала в 1976 году, когда он вернулся из Парижа, решил поступать на факультет кино престижной Школы искусств имени Тиша при Нью-Йоркском университете и стал от безденежья «подрабатывать музыкантом». Туманность этой формулировки компенсируется деталями: в то время для музыкальной тусовки Нью-Йорка важнее было не столько умение играть на чем-либо, сколько наличие инструмента, репетиционной базы и площадки для выступления. Поэтому участники групп постоянно менялись инструментами и играли каждый на чем придется.
С таким универсальным умением к началу 1980-х Джармуш стал приглашенным клавишником в проекте Робина Кратчфилда Dark Day, а затем вместе с гитаристом Dark Day и по совместительству джармушевским однокашником Филом Кляйном создал группу The Del-Byzanteens. Собственно, Кляйн так и остался единственным профессиональным музыкантом в группе, которая просуществовала год, выпустив два сингла и альбом «Lies To LIve By» – который даже стал хитом в андеграундной тусовке. Этот арт-панк-дрон-проект нес идеи No Wave – движения, суть которого заключалась в протесте против блюзовых, панковских и прочих традиций в роке, а также в экспериментировании с музыкальной формой и шумами. Многие критики сходятся на том, что минимализм, цикличность и гипнотизм музыки The Del-Byzanteens напоминают ранние джармушевские фильмы.
После распада The Del-Byzanteens Джармуш довольно долго избегал сцены, хотя постоянно общался с музыкантами и вовлекал многих в кино. Но от самой музыки Джармуш особенно и не удалялся – она всегда была частью его жизни, и, по словам лютниста Йозефа ван Виссема, «когда он пишет сценарии к фильмам, будьте уверены, что в этот момент в голове у него звучит музыка и ее тональность влияет на сценарий больше, чем что бы то ни было». С ван Виссемом Джармуш познакомился случайно. В 2007 году лютнист играл на улице в Сохо в Нью-Йорке и передал заинтересовавшемуся его музыкой Джармушу диск со своими записями. Через несколько месяцев режиссер попросил у него остальные записи, а немногим позже они уже вместе стали музицировать.
В 2001 и 2006 годах Джармуш встречался с Эннио Морриконе и долго беседовал с ним об иррациональной и совершенно необъяснимой музыкальной магии. В 2010 году в интервью музыканту Моби Джармуш признался, что уже тогда стал думать над тем, чтобы начать писать саундтреки самому. И действительно: в 2009-м он в компании перкуссиониста Картера Логана и органиста Шейна Стоунбэка записал второй в карьере саундтрек – «Границы контроля». Первым фильмом, в котором Джармуш назван соавтором музыки, был его дебют «Отпуск без конца». Новая коллаборация киномузыкантов называлась Bad Rabbit. Вскоре выяснилось, что есть несколько групп с таким же названием, и коллектив переименовался в SQÜRL. С этим именем существует и поныне – на их счету три сингла, концертный альбом и саундтрек к фильму «Выживут только любовники».
Соавтором саундтрека к «Любовникам» выступил упомянутый ранее лютнист ван Виссем, с которым у Джармуша в 2012 году вышло целых два совместных альбома: «Concerning the Entrance into Eternity» и «The Mystery of Heaven» (плюс гостевое участие Джармуша на одном из треков в альбоме ван Виссема «The Joy that Never Ends»). Несмотря на сильные традиции католического мистицизма в лютневой музыке, Джармуша в ней привлекает другое: ее гипнотичность. Более того, без лютневой музыки, по словам Джармуша, возможно, и не было бы фильма о вампирах.
«Джозеф не готовил музыку к конкретным сценам – он просто написал несколько лютневых пьес к фильму, а дальше мы с парнями из SQÜRL стали добавлять нашу музыку к его материалам. Иногда мы совсем убирали лютню, чтобы звучание было более “роковым”, иногда оставляли только лютню, иногда – только лютню с барабанами или с гитарой. Один из главных героев фильма – музыкант, так что мы придумали музыку и ему. Несмотря на то что он профессиональный скрипач, сейчас он играет экспериментальный авант-рок и дрон», – комментирует работу сам Джармуш. Двойственная природа сосуществования 24-струнной лютни и современных электрогитарных звуковых ландшафтов – то, что вдохновило Джармуша на создание героя-музыканта, разрывающегося между прошлым и будущим.
В 2005 году в интервью The New York Times Том Уэйтс так описал своего друга: «По-моему, Джима можно лучше понять, если вспомнить, что он поседел в 15 лет. Из-за этого он всегда чувствовал себя чужаком среди подростков. С тех пор он так и остался вечным пришельцем – добрым, восторженным чужаком. Все его фильмы как раз об этом».
Дмитрий Зимин«Выживут только любовники», 2013
О любви – о чем же еще он снимает? Есть ли тема, более подходящая для нежного, тонкого, меланхоличного Джима Джармуша? На расстоянии кажется, что нет. А приблизишься – диву дашься: о любви-то Джармуш всегда молчал.
Только в одном раннем фильме, «Вниз по закону», есть хеппи-энд с танцем влюбленных, неправдоподобный и чудной, как детская сказка. И то – исключение из правил. Привычнее другая интонация: эхо любви, ее последний смазанный аккорд, расставание. Это «Отпуск без конца» (перед отъездом попрощайся), вторая и третья новеллы «Таинственного поезда», ностальгический вояж престарелого Дон Жуана по бывшим возлюбленным в «Сломанных цветах». А в «Псе-призраке» и того меньше – просто старый снимок с безвестной девушкой на стене хибары героя-одиночки.
Или другое, как в «Мертвеце»: любовь, которая кончилась, не успев начаться, прерванная одним выстрелом. А может, не начиналась вовсе? Скользнув взглядом по Обнаженной, Одиночка в «Пределах контроля» не расстегнет даже верхней пуговицы на рубашке. Если был намек – как в «Страннее, чем рай», – то намеком и ограничилось: застенчивый Эдди смотрел-смотрел на независимую Еву, да так и не решился позвать на чашку кофе. Должно было пройти еще двадцать лет и с десяток фильмов, чтобы рядом с одинокой Евой появился свой Адам и Джармуш наконец созрел для своей первой love story, вдобавок с говорящим заголовком, чтоб не ошибиться: «Выживут только любовники».
Адам и Ева – влюбленные (конечно, именно так следовало бы перевести «lovers» из названия фильма), хотя женаты тыщу лет и как минимум трижды. У них все не как у людей, ведь они вампиры. Джармуш, однако, снимал в первую очередь фильм о любви, вампиризм в нем – лишь концептуальная аранжировка. К примеру, не менее важен тот факт, что оба героя, как и оба актера, – англичане. И раньше если в фильмах Джармуша встречались влюбленные, то непременно нездешние: пара чудаков-итальянцев во «Вниз по закону», пара туристов-японцев в «Таинственном поезде». Влюбленные – всегда иностранцы, немного инопланетяне в прагматичной вселенной. У них иной состав крови, как у вампиров.
Необходимый парадокс любой хорошей истории любви в том, что ее герои должны быть и счастливы, и несчастны одновременно. Адам и Ева Джармуша вместе целую вечность, буквально, – и не продержались бы так долго, не будь счастливы друг с другом. Именно потому по воле судьбы и автора они, как положено хрестоматийным влюбленным, разлучены: он в Детройте, она в Танжере. И заодно гонимы. Раз вампиры, то живут только ночами, страшатся чужаков, скрывают свое непрочное счастье от мира. Но чем в этом отношении вампиры так уж сильно отличаются от любых других влюбленных? Их ночи прекраснее наших дней.
Ночью, а действие фильма происходит исключительно в темное время суток, все вампиры черно-белы; подобно ранним картинам Джармуша, подобно ему самому – режиссеру в черном с ранней сединой. Адам (Том Хиддлстон, поднаторевший в роли сверхчеловека после «Тора» и «Мстителей», где играл бога огня и лжи Локи) – темноволосый рокер-одиночка; всегда одет во все черное, лишь на шее висит кулон в виде белого черепа. Ева (Тильда Суинтон, в последних трех фильмах верная соратница Джармуша и его близкая подруга вне кино; в частности, помогала ему в записи последнего гитарного альбома) – светловолосая и светлоглазая библиофилка; всегда носит молочно-белую одежду, лишь на запястье браслет с украшением в виде черного черепа. Его черное с белой точкой, ее белое с черной точкой – инь и ян, нераздельное единство кажущихся противоположностей.
Сперва они порознь, затем воссоединяются, чтобы уже не расстаться. Впрочем, уже по первым кадрам ясно, что жить друг без друга они не в состоянии, так что имеет ли смысл говорить об интриге? Внутренняя гармония отношений Адама и Евы не допускает иного конфликта, чем перманентный, многовековой конфликт с окружающей реальностью. Заранее смирившись с проигрышем в этой партизанской войне, они бегут с места на место. Благо мир полон прекрасной музыки и архитектуры, поэзии и драматургии, живописи и науки, способных искупить любые неудобства, – и кровь худо-бедно бежит в венах вырождающегося человечества, так что серьезных перебоев с питанием тоже не предвидится. Адам и Ева играют в шахматы (уже зная, кто победит), путешествуют, беседуют. Просто лежат рядом друг с другом на одной постели, невинные и беспечные в своей наготе, будто вокруг – прежний Эдем. А иногда разнообразят быт: изобретут мороженое из крови и радуются, словно дети.
Джармуш не то чтобы застенчив – он, во-первых, однолюб подобно Адаму и Еве (в финальных титрах традиционно нашлось место для упоминания спутницы его жизни Сары Драйвер), а во-вторых, стремится к цельности, как киллер из «Пределов контроля». Эротический инстинкт отвлекает, дробит жизнь на мелкие фрагменты, не позволяет сконцентрироваться на главном; любые отношения зыбки и ненадежны, а любовь должна быть вечной, абсолютной, бескомпромиссной. Основополагающей, как любовь тех самых, первых Адама и Евы, у которых попросту не было выбора.
Или все-таки был? Каббалистические апокрифы рассказывают о первой жене Адама – непокорной воле мужа Лилит, позже убивавшей младенцев и издевавшейся над слабовольными мужчинами во сне. Ее воплощение в системе координат, предложенной Джармушем, – сестра Евы по имени Ава (Миа Васиковска; сделать из кэролловско-бертоновской Алисы вампира – остроумное решение), которая врывается сначала в сны влюбленных, а затем и в их уютную детройтскую берлогу. От уюта остаются рожки да ножки: Ава опустошает запасы питания, вытаскивает родичей на рок-концерт, а в довершение всего «выпивает» Иэна – менеджера и поставщика Адама. Единственный смертный из числа персонажей фильма – одновременно и младенец, и слабовольный мужчина, идеальное воплощение которого Джармуш нашел в инфантильном Антоне Ельчине.
Все стереотипы вампирской культуры Джармуш собрал в одной героине, по-животному неумеренной, витальной и опасной, но не способной на чувства. Адам и Ева стремятся питаться исключительно искусственной кровью, тогда как Ава практикует неумеренный вампиризм по старинке, хотя и у нее крутит живот после порции крови человека из рок-индустрии. Тем не менее, испортив всем настроение, злополучная Лилит исчезает без следа. Она вынудила героев скрыться и все-таки не нарушила их внутреннего равновесия, так и не стала угрозой их любви. Адам и Ева бегут из Детройта в Танжер, однако от перемены мест сумма не изменяется.
Да и чему меняться? Круговое движение бесконечно. В первых же кадрах вертится в космосе Земля, крутится на проигрывателе пластинка из обширной коллекции Адама, кружатся в объективе камеры застывшие влюбленные. Вместо сюжета Джармуш предлагает ситуацию, космогонию в миниатюре. Мир населяют два вида разумных существ: вампиры и зомби. Вампиры – не только и не столько те, кто живет по ночам и питается кровью; вампиры – те, кто создал великие искусство и науку, за что награждены или прокляты бессмертием. Зомби – все остальные, считающие себя людьми; среди них встречаются и симпатичные экземпляры вроде дружелюбного Иэна, но что о них скажешь? Ну разве что это:
«Что за мастерское создание – человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, обличьях и движениях!..» – шутливо цитирует вампир, и мы угадываем финал цитаты: «Краса вселенной! Венец всего живущего! А что для меня эта квинтэссенция праха?»[5] Недаром, как выясняется по ходу дела, Адам едва не стал прототипом Гамлета.
Не до конца ясно, считать ли всех друзей и кумиров Адама и Евы (от Сервантеса до Джека Уайта) по умолчанию вампирами или все-таки элитой зомби? Тем не менее на уровне идеи Джармуш выражается более чем внятно. Милые его сердцу герои – тот самый подпольный интернационал, члены которого – Блондинка, Гитара, Скрипка, Молекула – организовывали убийство правящего миром бизнесмена-американца в «Пределах контроля». Они всемогущи и бессмертны; что ж, назовем их вампирами. Их единственная власть определена силой воображения; очевидно, та же сила дает и столь редкую способность любить.
Продолжая идейную линию предыдущей картины, Джармуш радикально меняет язык и палитру. Холодную ироничную аналитику сменила теплая камерная интонация. Формалистические изыски Кристофера Дойла забыты; новый оператор с «шекспировским» именем Йорик Ле Со балансирует на грани интимного хоум-видео, не брезгуя намеками на съемки камеры наблюдения. Тот фильм интриговал герметичным детективным сюжетом – криптографические изыски этого не предполагают неожиданной развязки, двигаясь скорее в сторону своеобразной лирической энциклопедии. Отсюда и постоянное использование Адамом и Евой латыни, универсального праязыка, служащего для наименования растений, животных и грибов.
Прежде Джармуш использовал в каждом фильме две-три исторические или культурные референции, знакомство с которыми помогало глубже понять авторский замысел: Уильям Блейк и Кафка в «Мертвеце», Элвис Пресли и Чосер в «Таинственном поезде», Акутагава и Ямамото Цунэтомо в «Псе-призраке». «Выживут только любовники» расширяет информативную базу до горизонта, требующего нечеловеческой эрудиции. Здесь звучат Motown и гаражный рок, рокабилли Чарли Фезерса и похоронная музыка Уильяма Лоуза. Здесь читают Ариосто и Беккета, «Приключения капитана Гатерраса» и «Бесконечную шутку». Здесь обсуждают теории Эйнштейна и Коперника, оплакивают судьбу Пифагора и вспоминают о Дарвине. Здесь полагается знать специфику альтернативной музыкальной сцены Детройта и историю литературной жизни Танжера: с культурной географией у Джармуша особенные отношения, для него кинематографическая мекка Америки Лос-Анджелес – «столица зомби», не более.
Идеальный зритель этого фильма должен навскидку знать, какая именно Мэри носила девичью фамилию Уолстонкрафт. Ему полагается хотя бы усмехнуться, услышав, как Ева бронирует авиабилет на фамилию Фибоначчи (когда летит в Детройт одна), а потом, уже вместе с Адамом, на имена Стивена Дедала и Дэзи Бьюкенен. И уж конечно, он должен понимать, почему персонажа Джона Хёрта, престарелого англичанина, живущего в Танжере на задворках легендарного литературного кафе «Тысяча и одна ночь», зовут Кит Марло и почему у этого джентльмена столько горечи вызывает любое напоминание о его произведениях – тех, которые наивное человечество приписывает «безграмотному зомби» (чей портрет, утыканный ножевыми ранениями, висит на стене, и в нем-то, наверное, даже зомби опознает Шекспира). А поняв все это, не удивляться тому, что Адам не довольствуется амплуа принца Датского: переодевшись в костюм доктора, он нацепляет бейдж с надписью «Dr. Faust», а потом поступательно принимает псевдонимы докторов Калигари и Стрейнджлава.
Врачом будь, Фауст, деньги загребай, Прославь себя чудесным излеченьем. Summum bonum medicinae sanitas. Цель медицины высшая – здоровье. Так разве не достиг ты этой цели? Не повторяют ли твои слова, Как Изреченья мудрости высокой? Иль не хранят, как памятники славы, Твои рецепты, что чуму изгнали Из городов и тысячи других Недугов безнадежных побороли?[6]У вас нет шансов понять даже половину всех семантических отсылок и цитат – а если когда-нибудь по этому фильму напишут путеводитель и вы будете справляться с комментариями по ходу просмотра, это начисто убьет удовольствие. Замкнутый круг; замкнутый автором намеренно. Подобно шифру из «Пределов контроля», этот код не рассчитан на расшифровку зрителем. Секретный язык влюбленных, вся магия которого развеется при попытке в нем разобраться, зарифмован с вампирической конспирологией; старик Марло не имеет права признаться, что написал «Ромео и Джульетту», Адам не хочет говорить вслух о том, что подарил Шуберту Адажио для струнного квинтета (меломан Джармуш, крайне редко использующий в своих саундтреках классику, уже включал эту тему в «Пределах контроля»). Когда ближе к финалу герои случайно слышат в танжерском кафе выступление прекрасной молодой певицы, Ева сулит ей большое будущее, на что Адам хладнокровно отвечает: «Надеюсь, нет – она слишком хороша для успеха». Как, добавим, все вампиры. Мы же – зомби, не приглашенные в их избранный круг. Потому вампиризм столь волшебен и необъясним для нас.
И все-таки точка пересечения есть. Лишенные поставщиков искусственного питания, Адам и Ева смотрят, как в зеркало, на пару счастливых марокканских влюбленных – прежде чем укусить их. «It’s so fifteen century!» – но инстинкт берет свое. Не убийство, но обращение; укус как подарок, приобщение к вечности. Да, в этой энциклопедии значится одна словарная статья, равно понятная и вампирам, и зомби. На букву «Л». При всей запутанности и информационной перегруженности этот фильм – история (одной конкретной) любви, плавно перерастающая в историю Любви (как таковой), свое видение которой Джармуш излагает на нескольких уровнях.
Для него любовь – это равенство. Потому с таким презрением влюбленные смотрят на Аву, осуществляющую классический потребительский сценарий – обольщение и последующее выпивание человека. Адам – негатив Евы, Ева – негатив Адама, они – зеркальные отпечатки друг друга.
Для него любовь – это творчество. Адам – мультиинструменталист, теневая звезда подпольной музыки, у дверей жилища которого постоянно тусуются юные зомби-фанаты. Нет сомнения, что тягучий романтический минималистский построк Адама – о любви. Сам Джармуш, впервые включивший свои музыкальные экзерсисы в составе группы Bad Rabbit в саундтрек «Пределов контроля», писал к «Выживут только любовники» оригинальную музыку вместе с новым уже коллективом SQÜRL (теоретически придуманным и поименованным еще в «Кофе и сигаретах», а теперь наконец воплощенным в реальность) и голландским лютнистом-экспериментатором Йозефом ван Виссемом, с которым они выпустили в прошлом году сразу два совместных альбома.
Если творчество, то прикладное, рукотворное, материальное. В виртуальном мире XXI столетия вампиры Джармуша – последние приверженцы физической реальности (в отличие, скажем, от метафизических кровососов из постмодернистских романов Виктора Пелевина). Адам сочиняет не у компьютера или миди-клавиатуры – он играет на старинных гитарах, которые ему поставляет вездесущий Иэн, а записывает музыку исключительно на пленку или винил: еще одна манифестация хрупкости вампиров. Когда Ава спрашивает Адама, можно ли загрузить его музыку, он моментально отвечает «нет». Как для Питера Пэна поцелуй был материализован в наперсток, для вампиров любовь звучит как редкий и драгоценный инструмент – лютня, которую Ева преподносит в подарок Адаму в самый тяжкий час. Но и смерть для вампира – не абстракция, а конкретный предмет, пуля из тяжелого дерева, которую Иэн изготавливает на заказ, специально для перманентно суицидального Адама.
А еще любовь – это познание. Собираясь в путешествие, Ева заполняет два саквояжа исключительно старыми томами. По прибытии в пункт назначения она набивает ими холодильник: пища духовная и есть пища насущная, другой не требуется. Адам с невыразимым презрением отзывается о новейших технологиях – в отличие от жены, у него даже нет мобильника и электронной почты (похоже на самого Джармуша), – зато в подземном резервуаре на дворе спрятаны антенны, получающие энергию непосредственно из космоса. К вампирскому канону – потребление крови, боязнь дневного света, вход в дом по приглашению и т. д. – Джармуш добавляет новую деталь: перчатки на руках Адама и Евы, делающие их похожими на лабораторных ученых. Недаром и та кровь «негативной группы ноль» из контейнеров, которую потребляют герои, – результат сложных научных экспериментов, а не тривиального насилия.
Да, разумеется, любовь – это еще и научный феномен. Адам раз за разом рассказывает Еве свой любимый парадокс Эйнштейна – о частицах-близнецах, которые «помнят» друг о друге даже на расстоянии в несколько световых лет. Любовь нарушает законы физики, поскольку любовь – это бессмертие. Говоря об источнике вдохновения для сценария, Джармуш вспоминал об опубликованных посмертно «Дневнике Адама» и «Дневнике Евы», атеистических памфлетах Марка Твена. Строго говоря, ничего общего у фильма с этими забавными очерками нет – кроме одного: ощущения отмененного времени, отрицающего сам принцип «начала времен» и тем более их конца.
«Сегодня пасмурно, ветер с востока, думаю – мы дождемся хорошего ливня… Мы? Где я мог подцепить это слово?»[7] – рассуждает первый человек в самом начале своих записок. Парадокс очевиден: когда мир только создан, откуда у его разумного обитателя появятся слова и мысли для его описания? А если и понятия об окружающем мире, и словарь, и даже чувства уже даны человеку, как смириться ему с мыслью о конечности бытия? Однако преодолеть эту конечность возможно лишь в том случае, если ты – не один, если рядом с Адамом появляется Ева, а «я» сменяется пока еще непонятным «мы».
Джармуш не дает понять, откуда взялись вампиры. Действительно ли они древнее людей или всего лишь украли у тех свои имена? Обратил ли каждого из них кто-то своим укусом? Вампирами рождаются или становятся? Все это неизвестно, но и решительно неважно, поскольку вечность безразлична к этимологии. Все, что происходит, уже было и еще будет. «Уже начали воевать за воду?» – спрашивает Адам, а Ева отвечает: «Нет, пока еще воюют за нефть, за воду воевать начнут после». Они бодрствуют ночью, пока люди спят. Они спят днем, пока люди истребляют друг друга, и это кажется им сном. Зомби-апокалипсис не имеет начала и конца, он происходит постоянно, здесь и сейчас. Рожденные и гибельные живут и умирают, лишь смутно подозревая о главной тайне: выживут только влюбленные. Смерти не имущие.
Станислав Львовский
да нет какие любовники выживут совершенно случайные не имеющие никакого отношения ни друг к другу ни вообще к чему-либо среди прочего смысл истории в том чтобы выжили только совершенно чужие только совсем случайные вообще никакого они случайные выжившие чужие пока не кончатся дни будут видеть во сне своего свою как вот Н.Я. в буфете гостиницы в том последнем сне где он уже не пришел где некого уже было спросить что случилось она стоит и не знает куда нести только что купленную (чудом) еду она так и пишет: я поняла что не знаю, куда нести все это добро потому что не знаю, где ты. выживают только чужие случайные неродные первое время сталкиваются иногда – не замечая друг друга разбирая завалы немногие сходятся (позже) десятилетиями живут не расписываясь потому что а вдруг – некого же спросить что случилось (если что – куда кому как они понесут еду и одежду поведут подросших детей собаку подобранную щенком?) да нет какие любовники ты послушай себя о чем тыМузыка: Boris
Группой Boris принято пугать неподготовленного слушателя. Редкое описание музыки японского трио обходится без слов «метал», «шум» и прочих маркеров экстремального звучания. Люди, с которыми Boris сотрудничают, – ветеран японской шумовой музыки Масами Акита, светилы медленного и громкого гитарного рока Sunn 0))) и прочие схожие персонажи – не выглядят дружелюбными. Даже на большинстве своих фотографий Boris, будучи при этом ухоженными молодыми людьми, отпугивают своей нарочитой серьезностью: кажется, будто они какие-то злодеи из бесконечного готического аниме-сериала. Словом, хотя бы по внешним признакам легко понять, почему Джармуш взял их музыку в свой самый, пожалуй, неудобный для зрителя фильм.
В «Пределах контроля» Джармуш проделал с музыкой Boris тот же трюк, что с музыкой Мулату Астатке в «Сломанных цветах»: собрал воедино куски из разных песен и озвучил ими происходящее на экране. Если знать этот факт и одновременно не быть знакомым с творчеством японцев, то все мифы про них покажутся правдой. В саундтреке «Пределов контроля» жужжат гитары, и больше почти ничего не происходит. На самом же деле музыка Boris куда разнообразней этого жужжания – и зачастую куда проще для понимания, чем можно подумать.
Невообразимо плодовитые Boris за прошедшие двадцать лет записали 23 полнометражных сольных альбома и еще с десяток пластинок-коллабораций. Услышать на них можно не только пресловутые «шум» или «метал»: японцы с одинаковой легкостью ударялись и в классический эмбиент, и в психоделический рок в духе 1960-х, и в старообрядческий панк-рок, и даже – что самое удивительное – в классическую японскую попсу. Неизменным остается лишь одно – упор на классический для рок-музыки набор инструментов: гитара, бас и барабаны. Выпускники токийского художественного колледжа, Boris подходят к созданию своей музыки словно по учебнику: найдя метод, они постоянно ищут для него новые обрамления.
Для кого-то, впрочем, этот подход оказывается малозаметен: барабанщик Атсуо в интервью журналу The Wire рассказывал, что даже среди поклонников группы много тех, кто любит Boris как раз за то, что те почти никогда себе не изменяют. Атсуо, вероятно, лукавит. Если творческое наследие Boris вплоть до 2008 года для неспециалиста в поджанрах тяжелой музыки действительно будет выглядеть единообразно, то все, что группа выпустила после, трудно представить придуманным одними и теми же людьми. Смикшированный в двух совсем непохожих версиях альбом «Smile», вышедший за год до «Пределов контроля», моментами поражал сходством с альбомами The Rolling Stones конца 1960-х, неопсиходелией и был, безусловно, самым легковесным в карьере Boris. Бесхитростно названный «New Album» 2011 года выпуска оказался пластинкой в жанре J-Pop – массовых японских поп-песен. Вышедшая же в начале 2015-го трилогия пластинок «Urban Dance», «Warpath» и «Asia» и вовсе отсылает к академической композиции – во всяком случае, эти полностью инструментальные полотна, очевидно, намекают на музыку Ксенакиса.
Осталось рассказать еще об одном качестве музыки Boris – ее минималистичности. Boris как композиторы превыше всего ценят повторение: и их двадцатиминутные эмбиент-треки, и их короткие поп-песни все состоят из одних и тех же паттернов, если и меняющихся, то не самым заметным образом. Это, конечно, можно сказать и о «Пределах контроля». Джармуш говорит, что писал сценарий фильма под музыку Boris, – это чувствуется.
Олег Соболев«Пределы контроля», 2008
«Тому, кто думает, что он лучше других, стоит сходить на кладбище; там он поймет, что жизнь – лишь горсть праха». Эта максима на всех языках, от японского до арабского, прозвучит в «Пределах контроля», иногда сокращаясь до испанского «La vida no vale nada». Перевода не будет. Ведь герой этого абсурдистского философского триллера не знает ни слова по-испански, хотя и путешествует по Испании, от Мадрида до Андалусии, в поисках пока невидимой мишени. Пароль многочисленных связных: «Вы ведь не говорите по-испански, так?» Его неизменный отзыв: «Нет».
Для Джармуша язык – не проблема, а материал. Начиная с некоторых сцен «Отпуска без конца» он дает слово иммигрантам, туристам, просто безумцам, которые обречены на непонимание, но странным образом ухитряются быть понятными друг другу. Например, «Ночь на Земле» режиссер снимал в Париже, Риме и Хельсинки, не зная французского, итальянского и финского. В том фильме он впервые работал с ивуарийцем Исааком де Банколе, сыгравшим французского таксиста-мигранта: клиенты потешались над его акцентом и плохим знанием города. В «Псе-призраке» он был французом-мороженщиком, лучшим другом главного героя, неспособным с ним разговаривать. Потом де Банколе появлялся в короткометражке «Нет проблем» из цикла «Кофе и сигареты», где центральной была проблема «испорченного телефона»: его герою никак не удавалось выяснить у своего друга и собеседника (его сыграл Алекс Дека, появляющийся и в первой сцене «Пределов контроля»), есть ли у того проблемы.
«Пределы контроля» – первый фильм, где в роли чужестранца, не владеющего языком, не только герой, но сам Джармуш: это его единственная картина, все действие которой разворачивается вне США, в Испании. И первая главная и совершенно серьезная (насколько возможна серьезность в кинематографе Джармуша) роль Исаака де Банколе. Усмирив свою мимику и сведя лексикон к необходимому минимуму, актер играет строгого незнакомца в щеголеватом, но неброском и классическом костюме: его лицо, как справедливо заметила Зара Абдуллаева, напоминает африканскую маску – из тех, что вдохновляли Пикассо[8]. Картин самого известного испанского художника в фильме нет – Джармуш не выносит трюизмов, – но важная часть действия разворачивается в мадридском музее королевы Софии, где находится шедевр Пикассо «Герника». Герой фильма тоже напоминает произведение искусства. Сама безупречность в каждом жесте и шорохе, не человек, а тень, он обладает всеми необходимыми качествами для киллера.
«Пределы контроля» – третий фильм Джармуша об убийце, и, подобно двум предыдущим, он глубок, сложен, неочевиден и, по большому счету трагичен. Но принят был с куда меньшим энтузиазмом: наверное, ни одну другую картину режиссера так не ругали, как эту, которой вменялась и невнятность, и выспренность, и надуманность. В самом деле, как сопереживать герою, о котором мы не знаем ничего, включая имя, – в титрах он обозначен просто как Одиночка? А ведь имен нет и у остальных персонажей фильма: в лучшем случае оперативные псевдонимы или позывные. У Уильяма Блейка из «Мертвеца» было прошлое, умершие родители, неудача в любви, несправедливость на предполагаемой работе; у Пса-призрака из одноименного фильма – уже лишенного имени – своя предыстория, друзья, враги и долги. У Одиночки – только заказ, он же миссия. Ее выполнение не омрачено даже предполагаемым гонораром, на который в фильме нет намека. И в прагматизме или меркантильности его не заподозришь.
В «Пределах контроля» Джармуш не только раздражает своего зрителя, размягчившегося после сентиментальных «Сломанных цветов», но и провоцирует его, водит за нос, потешается – причем с серьезным выражением лица. Намекает на бессмысленность всего, что происходит на экране, уже предпосылая фильму эпиграф из «Пьяного корабля» Артюра Рембо: дескать, Одиночка – корабль, брошенный хозяевами на произвол судьбы, и по Испании он носится без руля и ветрил, не зная, к чему стремиться.
Когда бесстрастных Рек я вверился теченью, Не подчинялся я уже бичевщикам: Индейцы-крикуны их сделали мишенью, Нагими пригвоздив к расписанным столбам. Мне было все равно: английская ли пряжа, Фламандское ль зерно мой наполняют трюм. Едва я буйного лишился экипажа, Как с дозволенья Рек понесся наобум. Я мчался под морских приливов плеск суровый, Минувшею зимой, как мозг ребенка, глух, И Полуострова, отдавшие найтовы, В сумятице с трудом переводили дух. Благословение приняв от урагана, Я десять суток плыл, пустясь, как пробка, в пляс По волнам, трупы жертв влекущим неустанно, И тусклых фонарей забыл дурацкий глаз. Как мякоть яблока моченого приятна Дитяти, так волны мне сладок был набег; Омыв блевотиной и вин сапфирных пятна Оставив мне, снесла она и руль, и дрек. С тех пор я ринулся, пленен ее простором, В поэму моря, в звезд таинственный настой, Лазури водные глотая, по которым Плывет задумчивый утопленник порой[9].Заказчики – они же «бичевщики» – пускают Одиночку в плаванье из аэропорта, судя по звучащему из динамиков языку, французского (впрочем, не факт). Креолец и его переводчик задают ему главный вопрос: «Ты готов? Все под контролем?» – и это первая ложная наводка, поскольку обозначенный в названии контроль, как становится ясно ближе к финалу, относится вовсе не к Одиночке. Указания туманны и звучат как абстрактная мантра: «Используй воображение и опыт», «Все субъективно», «Жизнь ничего не стоит», «У вселенной нет центра и краев», «Реальность произвольна». А вот наконец что-то конкретное: «Посещай башни, ходи в кафе, подожди пару дней, жди Скрипку». Получив ключи и спичечный коробок, Одиночка пускается в путь.
Постепенно зритель начинает хоть в чем-то разбираться. Например, герой вселяется в Торрес Бланкас, «Белые башни», шедевр модерниста Франсиско Хавьера Саенса де Ойсы: здание, где нет ни одного угла, будто специально создано для избегающего резких поворотов Кристофера Дойла – выдающегося гонконгско-австралийского оператора, с которым Джармуш работает здесь впервые. А потом Одиночка идет в музей королевы Софии и сразу направляется к кубистской «Скрипке» Хуана Гриса (1916), в странных разъятых формах которой будто пытается прочитать только ему одному ведомый шифр.
И тут же ясность развеивается вновь. Как, например, объяснить странную привычку Одиночки заказывать в каждом кафе два эспрессо в двух отдельных чашках (причем мы видим, как он выпивает содержимое только одной из них)? Даже официант сбивается с толку и несет герою, к его неудовольствию, обычный двойной эспрессо. Или спичечные коробки, в которых, кроме спичек, всегда лежит бумажка с головоломным буквенно-цифровым шифром, больше всего похожим на выбранный компьютером пароль для wi-fi, – Одиночка смотрит на клочок, не меняясь в лице, видимо, понимает послание, а потом съедает его, запивая кофе. Так же съедал принесенные голубем-почтарем послания Пес-призрак.
Повторяющиеся ритуалы декларативно загадочны, нашего понимания они не требуют. Однако кое-какие предположения сделать можно. Кофе – кинематографический фетиш для Джармуша, все семантическое разнообразие которого раскрыто в альманахе «Кофе и сигареты». Если вкратце, то это и наркотик, и отрезвляющее средство; выпивая лишь одну чашку из двух, Одиночка демонстрирует контроль над собой, способность не ослаблять внимание. А еще это указание на его одиночество – оно же гарантия успеха миссии. «Среди нас есть те, кто не с нами», – предупреждает его одна из связных, японка в поезде. «Я – ни с кем», – невозмутимо парирует он. Недаром, когда за столик, на котором стоят две чашки эспрессо, садится кто-то из собеседников Одиночки, на кофе они не претендуют, а всегда пьют чистую воду.
Что до спичек (которые сами по себе воплощают копеечность, пустяшность – столь дорогое минималисту Джармушу качество, но и скрытый огонь тоже), то выразительнее нечитаемых посланий – сама этикетка на коробке. Это черный боксер в желтых перчатках на красном или зеленом фоне и с подписью «Le Boxeur». Бóльшую часть фильма Одиночка не снимает зеленой рубашки (меняя ее на коричневую, под цвет кожи, на время пребывания в Севилье, где за ним предположительно следят), а еще в течение фильма его силуэт регулярно совпадает с красным фоном – в лифте Торрес Бланкас, в мадридском баре, в кафе с фламенко. Говоря проще: этот боксер – сам герой, чьи бойцовские качества не сводятся к одной только физической подготовке. Впрочем, с первого кадра фильма Одиночка посвящает свободное время гимнастике тайчи, усиливая контроль за своим телом.
Таким образом, в «Пределах контроля» внешнее важнее внутреннего, которое остается нерасшифрованным. И в этом первый признак невиданного даже для экспериментатора Джармуша радикализма. Обходясь без биографий, характеров и имен, он довольствуется образом. Поэтому столь существенную роль в строении фильма играют походы Одиночки именно в музей королевы Софии – главное мадридское собрание современного искусства. Некоммуникативность живописи ХХ века здесь ставится кинематографу в пример и в укор: от расчлененности «Скрипки» Джармуш постепенно приходит к чистому белому полотну «Большая простыня» (1968) абстракциониста Антони Тапиеса, любителя «бедного» материала и конкретных фактур.
В этом фильме для Джармуша кино – искусство прежде всего изобразительное, поэтому он начинает траекторию Одиночки с архитектуры (Торрес Бланкас, знаменующие нелинейность его пути, затем севильская Торре-дель-Оро) и живописи. Картина Хуана Гриса приводит к столику кафе, где ждет герой, его первого связного – Скрипку, с футляром и, подобно всем остальным связным, в темных очках: над штампами шпионского кино Джармуш измывается вволю. Роль Скрипки играет Луис Тосар, звезда испанского кино, который в своем монологе – разумеется, на испанском, которого (как явствует из пароля) Одиночка не знает, – вводит тему музыки. «Вы случайно не интересуетесь музыкой?» – спрашивает он собеседника. Тот не реагирует, как не отреагирует на такие же вопросы о живописи, науке и кинематографе: очевидно, это говорит не об отсутствии интереса, а только о контроле, о намерении оставаться «ни с кем».
Музыкальная доминанта «Пределов контроля» отчасти объясняет выбор места действия – Испании: она насыщена гитарами, акустическими и электрическими, сливающимися в «стену звука» в композициях японского авангардного нойз-коллектива Boris и собственной группы Джармуша Bad Rabbit. В Севилье, позже, Одиночка окажется на тайном представлении фламенко – по сути, репетиции, а не концерте; гитарист, певец и танцовщица на истошно-высоких нотах пропоют ему всю ту же максиму о кладбище и горсти праха. Такое фламенко называется «петенера», табуированный и редкий древний стиль, восходящий к Средневековью и, по цыганскому поверью, приносящий несчастье. Уже после этого в том же городе герой встретит другого связного – Гитару (щеголеватый Джон Хёрт в пальто и шляпе), который, наоборот, спросит его о мадридском фетише – живописи, но передаст, кроме непременного спичечного коробка, кофр со старинной черной гитарой. Ее Одиночка позже вручит уже в андалусийской глуши Мексиканцу (Гаэль Гарсиа Берналь), который спросит, не интересуется ли он галлюцинациями. А заодно предоставит водителя – транспорт до финальной точки назначения. Туда Одиночка пойдет с единственным оружием: гитарной струной во внутреннем кармане пиджака. Фетишизм этой «гитарной» линии фильма ведет прямой дорогой к коллекции гитар из следующей джармушевской картины, «Выживут только любовники».
Туда же перекочует энигматичная героиня Тильды Суинтон – связная Блондинка, в белом плаще, перчатках, шляпе и парике. Она передаст Одиночке бриллианты – «лучшие друзья девушек», как сообщалось еще в открывающей фильм сцене в аэропорту, где две подруги любовались блестящими ожерельями друг друга. Кому как не Блондинке, обязательной иконе нуара (даже такого лженуара, как «Пределы контроля»), цитировать фильмы, начиная с «Джентльмены предпочитают блондинок»? Она спросит Одиночку о «Подозрении» Хичкока и выразит недовольство «Леди из Шанхая» Уэллса, где Риту Хейворт, как и ее саму, перекрасили в блондинку.
Естественно, Джармуш переполняет фильм киноцитатами, живым сборищем которых выглядит Блондинка. В других эпизодах всплывают и аллюзии на ироническую конспирологию Жака Риветта, и на «Самурая» Жан-Пьера Мельвиля (его явно имитирует главный герой), и на «Жизнь богемы» друга и соратника Джармуша – Аки Каурисмяки. Кадрирование фильма, то и дело заключающее героя в своеобразную рамку, будто картину, создавалось под влиянием триллера Джона Бурмена «В упор»: сыгранный там Ли Марвином персонаж может считаться предшественником героя Исаака де Банколе. Самолет, на котором летит в Испанию Одиночка, принадлежит вымышленной компании Air Lumière. А героиня Тильды Суинтон единственная подчиняется логике не живописи, но киношного постера – выдуманного фильма некоего Роя Прада (в съемочной группе Джармуша действительно значится человек с таким именем) «Un Lugar Solitario». Что в переводе превращается в название нуара «В укромном месте», снятого Николасом Рэем, учителем Джармуша, в 1950-м. Блондинке не удастся укрыться в укромном месте – трое в темных очках похищают ее и увозят в неизвестном направлении. Так что «Пределы контроля» – еще и попытка режиссера отвоевать, вернуть себе похищенный кем-то другим кинематограф.
Садясь в поезд из Мадрида в Севилью, Джармуш не мог обойтись без сцены в поезде, уже включив в фильм эпизоды в самолете и такси, – Одиночка встречает японскую связную, Юки Кудо (знакомую зрителю по «Таинственному поезду»). Ее персонаж обозначен в титрах как «Молекулы». В плаще в белый горох, напоминающий орнамент от Яёи Кусамы, она спрашивает героя, не интересуется ли он наукой, а потом рассказывает ему о том, что каждый из нас – сборище хаотических молекул, движущихся в экстазе. Это своеобразная подпись Джармуша, в чьих фильмах людям никогда не сидится на месте; так и траектория Одиночки здесь – движение по кругу. Впрочем, далеко не хаотическое.
Архитектура, наука, живопись, кино, музыка; Джармуш не довольствуется этими абстракциями, каждая из которых встречает героя и вступает с ним во взаимодействие. Например, персонаж Джона Хёрта также размышляет вслух о богеме – об их связи с цыганами и Чехией, а еще о том, откуда произошло само слово; Мексиканец упоминает пейот, тут же отсылающий к галлюциногенному путешествию «мертвеца» Уильяма Блейка (в финале фильма мы видим Одиночку, идущего к цели через равнину, заросшую кактусами). А водителя играет палестинка Хиам Аббасс, воплощающая дорогу как таковую и траекторию героя: именно она отдает ему карту местности.
Особняком стоит Обнаженная, соблазнительный фантазм, облаченный только в очки и, позже, прозрачный дождевик. Героиня Пас де ла Уэрты материализуется в мадридской квартире Одиночки после того, как тот некоторое время медитирует у картины Роберто Фернандеса Бальбуэны «Обнаженная» (1932). Она – предположительно двойной агент, соблазнительница; но героя не интересует секс, когда он на работе. Они лежат вместе на кровати ночь за ночью, он в своем костюме, она без ничего. Это она приносит в фильм задумчиво-лирическую интонацию, сменяя на время своего присутствия в нем саундтрек: вместо отрешенного гитарного построка – вторая часть струнного квартета Шуберта, которую Джармуш в другой картине провозгласил лучшей музыкой на земле. Обнаженной герой приносит бриллианты, она невидимо следует за ним в путешествии, а потом при таких же таинственных обстоятельствах погибает: ее тело Одиночка находит под едва смятой простыней – такой же, как на картине Тапиеса. Не вызывая желания в своей наготе, Обнаженная обретает желанность после смерти, под драпировкой.
Секс, наука, галлюцинации, богема, дорога – что объединяет эти разрозненные понятия с вышеперечисленными видами искусств? Лишь одно: воображение, использовать которое Одиночка обязан, как предупреждали с самого начала заказчики. Нетрудно заметить также, что среди разных образцов высокой и низкой культуры, появляющихся в фильме (тут есть даже мода – в виде костюмов Одиночки, и театр – в форме представления фламенко), нет одного-единственного: литературы. Здесь самое время обратиться к названию картины, позаимствованному Джармушем из эссе Уильяма Берроуза. Там говорилось о непреодолимом диктате слов и речи. Похоже, в «Пределах контроля» режиссер таки поставил этому диктату предел. Малозначительные реплики повторяются, как мантры, и не несут такой смысловой нагрузки, как изобразительный или музыкальный ряд. А в изначальном сценарии было всего 25 страниц и практически никаких диалогов. Джармуш и раньше говорил, как не любит писать сценарии и как низко ставит этот жанр в собственной литературной иерархии.
Теперь о важности дефиниций. Стайка детей окружает Одиночку в сельской местности, и один из них спрашивает: «Вы американский гангстер?» Когда тот отвечает отрицательно, отчетливо понимаешь: он ведь в самом деле не гангстер, поскольку действует в одиночку, и точно не американец (как не американец – сам Исаак де Банколе). На экране пока не было вообще ни одного американца. А значит, им пора появиться. Это и происходит в кульминации и развязке картины, проясняющей все, что не было ясно до сих пор.
На протяжении всего фильма за Одиночкой следит вертолет – еще одна прямая отсылка к «Отпуску без конца», в котором шум вертушки напоминал одному из безумных персонажей о якобы все еще идущей войне. Одиночка всерьез готов вести себя как на поле битвы и по возможности скрывается от наблюдения. Так он добирается до точки приземления вертолета – тщательно охраняемой вооруженными до зубов коммандос крепости Американца в глубине андалусийской пустыни. Туда ему предстоит проникнуть, чтобы убить злодея. Джармуш прибегает к тому же гениальному ходу, что и во «Вниз по закону» и «Псе-призраке»: никак не показывая механизма этого неосуществимого подвига, он просто переносит, как по волшебству, своего героя в бешено укрепленный кабинет противника. А на вопрос: «Как ты сюда попал?» – тот моментально отвечает: «Использовал воображение».
Джармуш напрямую пользуется магическими способностями кинематографа, пренебрегая любыми имитациями жизнеподобия и сближая свой фильм с теми «старыми картинами, которые были подобны снам». Любопытно, что, произнося эту формулу, блондинка Тильды Суинтон описывает сцену из «Сталкера», другого фильма о проникновении в непроницаемое пространство.
Американец в исполнении Билла Мюррея так же карикатурен и условен, как и остальные персонажи-символы фильма. Он носит строгий костюм политика или бизнесмена и щеголеватый красный галстук, на лацкане звездно-полосатый значок. Он ставит себя выше других, и потому ему самое место – на кладбище; об этом еще до его появления в кабинете иронически сигнализирует скалящийся череп на столе – появившись, Американец вешает на него свой парик (разумеется, он фальшив и в этом). Американец не верит в воображение и отмахивается от фраз-заклинаний Одиночки нецензурными ругательствами – грубость слов, как он считает, может испугать или ранить. Он гибнет, задушенный струной, а его собственное оружие, пистолет, дает одну осечку за другой. Разумеется, выбор актера на эту роль тоже символичен и остроумен: Мюррей в карьере Джармуша – знак коммерческой удачи, которую теперь он уверенно душит, провозглашая власть фантазии над прагматизмом.
В этой сцене можно усмотреть разочаровывающий политический посыл – обычно Джармуш чурается политики, но оговаривался не раз, как ему отвратителен ее американский извод. Однако, судя по последнему диалогу Одиночки с Американцем, всё проще и глобальнее. Мировое братство людей воображения заказало идеальному исполнителю убийство здравого смысла – того, который контролировал вселенную и кичливо говорил об этом вслух. Здесь его контролю наступает предел.
А заодно – самоконтролю возвращающегося в Мадрид Одиночки. На последней картине, к которой он приходит в музей, – ничего, кроме белизны. Как и на последней записке из последнего спичечного коробка. Сложив свой прекрасный костюм в неизменную сумку, он убирает ее в камеру хранения, а талон прячет в коробок и выбрасывает в мусор. Вместо костюма на нем зеленая спортивная кофта с флагом Камеруна; в таких ходит по улицам европейских городов неотличимая друг от друга африканская молодежь. И когда Одиночка выходит на улицу, следившая за ним камера оператора-виртуоза в последнем движении некрасиво, будто пьяно, съезжает вниз. Как сказано в финальном титре, «Нет границ – нет контроля». А что есть? Лишь свобода.
Я видел звездные архипелаги! Земли, приветные пловцу, и небеса, как бред. Не там ли, в глубине, в изгнании ты дремлешь, о, стая райских птиц, о, мощь грядущих лет? Но, право ж, нету слез. Так безнадежны зори, так солнце солоно, так тягостна луна. Любовью горькою меня раздуло море… Пусть лопнет остов мой! Бери меня, волна! Из европейских вод мне сладостна была бы та лужа черная, где детская рука, средь грустных сумерек, челнок пускает слабый, напоминающий сквозного мотылька[10].Виктор Коваль
Намечен план, пароль опубликован la vida no vale nada (исп.) — жизнь ничего не стоит Не помню, где я видел это – хоть убей — над колокольней тьму взлетевших голубей и в небе вертолет, стрекочущий настырно: – Ищите женщину, гитару и струну. Условный знак, шпионское кино. Пароль: «Вы говорите по-испански?» Отзыв: «Но!» Наш конспиратор – негр, нет, не лиловый, но коричневатый — меняет кожу (грубо говоря) в сортире, переходя из золотистого костюма в серебристый. Без имени. Не спит. С уже раздетой наводчицей брюнеткой. Ничего не ест. Ну, грушу… пробует ножом. На площади пьет кофе – для связного вида и связного взгляда; сам насторожен — внимает, если где «ла вида, но вале нада». Сам по себе он тут. Cебе ли на уме? Не скажешь – на каком и на уме ли. Он устремлен. К какой – ху ноуз? – цели как человек (а человек ли?) долга. Какого? И кому он должен? Фараону Египта Верхнего – найти и удавить адепта Египта Нижнего? – Гитарною струной! — стрекочет в небе вертолет связной. Все ясно. Вот источник смысла — картина на стене повисла, замотанная насмерть в простыню. Что на картине? Простыня же. Расправлена – с узлами по углам. Я вспомнил, как в начале инструктажа вербовщик говорил: – Намечен план, пароль опубликован, разорвана картинка пополам. Родным наш уговор не выдавай. Но, тайный план от ближнего храня, держи снаружи свой неровный край и сам гляди на рваные края. Вы совместить должны картинку! Да будет так. Наш резидент с улыбкою окаменелой уходит в зтм. – переодет в костюм спортивный сборной Камеруна.Музыка: Мулату Астатке
На визитке у этого усатого безволосого человека, похожего округлостью своих очертаний на турецкого бунтовщика Фетхуллаха Гюлена, так и написано: «Мулату Астатке, отец эфио-джаза».
Отцовство не назовешь незапланированным. Богатый ребенок в бедной, но гордой стране (Эфиопия была единственной африканской страной, которую белые европейцы не сумели колонизировать в XIX веке, – многие земляки, обретя независимость, даже заимствовали цвета их флага), Астатке подростком уехал из родной земли в Южный Уэльс, чтобы изучать инженерное дело в области воздухоплавания. Там он быстро понял, что его куда больше интересуют не летательные аппараты, а летящие по воздуху звуки, которые складываются в музыку. Тогда в лондонских клубах уже звучали нигерийские и ганские ритмы, но эфиопской музыки никто не знал. Астатке решил исправить положение.
Для этого, впрочем, ему пришлось поучиться – сначала в той же Британии, потом за океаном, в Бостоне. Подробно освоив джазовую грамоту и покопавшись в собственных корнях, Астатке придумал, как совместить западную гармоническую школу с исконной эфиопской пентатоникой, – так, собственно, и появился этот самый эфио-джаз. С формальной точки зрения это складный и равноправный гибрид двух самостоятельных традиций, которому присущи одновременно мелодическая игривость джаза и эфиопские ритмические фокусы. Астатке научил соплеменников, что бывают такие инструменты, как вибрафон, а на все претензии про то, что, мол, он способствует музыкальной колонизации непокоренной родины, отвечал, что, наоборот, – возвращает джаз к собственным африканским корням.
С точки зрения общей чувствительности же это музыка, которая прежде всего берет слушателя своими удивительными отношениями со временем. Сочинения Астатке всегда умудряются производить самое живое впечатление, никуда, собственно, не двигаясь. В них есть дивная парадоксальность: стоя на месте, они при этом отличаются исключительно захватывающей динамикой. Эфио-джаз, каким его придумал Астатке, существует как бы стихийно, помимо традиционного движения драматургии. В нем слышится некая неизбежность, в которой, однако, нет неумолимости, как будто автор сумел радикально сменить интонацию сакраментального «все будет так, исхода нет». Это именно что музыка, понятая как звук, протяженный во времени – и этим временем сохраненный.
Странные отношения со временем были свойственны и самому Астатке. Он успел застать «свингующую Аддис-Абебу» – небольшую эпоху в конце правления того самого императора Хайле Селассие, когда в Эфиопии расцвела новая, свободная и очень своеобразная культура. Однако, когда в 1970-х императора свергла военная хунта, а многие коллеги уехали в Европу, чтобы избежать цензуры и комендантского часа, Астатке остался на родине – и тоже существовал как бы помимо режима, занимаясь музыкой, в которой не было политики, но была свобода (впрочем, власти чувствовали и это – однажды музыканта, преподававшего в университете, уволили с работы за то, что тот учил студентов американскому джазу). Международный успех пришел к нему, когда Астатке было уже сильно за пятьдесят, – сначала в кругу интересующихся экзотической этникой и конкретно французской серией Ethiopiques (в конце 1990-х в Европе и Америке было довольно модно откапывать музыку из неожиданных стран и удивляться ее силе), а потом и пошире. Это случилось, когда преданный поклонник музыки Мулату Джим Джармуш решил озвучить ею в своих «Сломанных цветах» путешествия героя Билла Мюррея по американским дорогам в поисках своего прошлого – такие же нескончаемые, зачаровывающие и трогательно смешные, как сочинения старого эфиопа.
После этого Астатке, до того гастролировавший в основном по заведениям академического толка (например, он долго преподавал в Гарварде), обнаружил себя героем меломанов и модников – стал гастролировать по миру с американцами, которых однажды встретил в Аддис-Абебе; записал выдающийся диск вместе с лондонскими выдумщиками из группы The Heliocentrics; и принял все это все с той же своей неизменной ухмылкой человека, перехитрившего собственную судьбу.
Есть род заслуженных музыкантов – например, Ли «Скрэтч» Перри или Джордж Клинтон, – занятие которых на сцене проще всего описать глаголом «осенять». Их присутствие как бы придает происходящему состоятельности, обеспечивает концерту место в вечности. Астатке в свои семьдесят два, конечно, куда активнее перечисленных выше людей хотя бы с точки зрения формального звукоизвлечения (он много и упоительно играет живьем на своем вибрафоне), но функцию выполняет похожую – легитимирует своим присутствием всю глубину и изобретательность этой как будто бы мимолетной музыки. Мне довелось видеть его живьем дважды – и оба раза этот невозмутимый человек в ослепительно белых одеждах выглядел и правда как добродушный патриарх, окруженный восторженным потомством; отец семейства, с удовольствием наблюдающий за тем, как выросли его дети.
Александр Горбачев«Сломанные цветы», 2005
В фильмографии Джармуша нет правил, только исключения. «Сломанные цветы» – одно из самых ярких. Вечный аутсайдер любых премиальных гонок, не награждаемый ничем существенным со времен дебютной «Золотой камеры» за «Страннее, чем рай», Джармуш вдруг отхватил в Каннах Гран-при. Он настолько растерялся, что со сцены принялся трогательно перечислять всех своих конкурентов, благодаря их за прекрасные фильмы. Картина стала самой зрительской из всего, что снимал режиссер, заработала солидные деньги в мировом прокате, а публикой была принята практически за лирическую комедию, эдакую пару к «Трудностям перевода» – ведь Билл Мюррей сыграл здесь два года спустя еще одного разочарованного стареющего мужчину, безнадежно ищущего понимания и любви. Критики, в свою очередь, злобно шипели, что Джармуш изменил независимому кино и ударился в мейнстрим (если и так, то лишь на один фильм: последовавшие затем «Пределы контроля» с треском провалились). Короче, «розовый период» режиссера – трудно не поддаться соблазну назвать его так, ведь весь фильм окрашен в розовый цвет, – продлился недолго.
Меж тем не так уж далеки друг от друга «народные» «Сломанные цветы» и последовавшие за ними «интеллектуальные» «Пределы контроля» – а если на то пошло, то и «Выживут только любовники», завершившие невольную криптографическую трилогию. В основе всех трех лежит секрет, разделяемая узким сообществом тайна, которую Джармуш – во всяком случае, в «Сломанных цветах» – вопреки любым законам жанра отказывается раскрывать даже в финале. Загадочно как само появление розовых тонов в палитре Джармуша, всегда предпочитавшего или строгое ч/б, или насыщенные и густые темные цвета, так и авторство письма в розовом конверте, с которого начинается картина. За кадром его отстукивают на пишущей машинке, затем женская рука в перчатке кладет конверт в почтовый ящик. К финалу титров письмо добирается до адресата, печального холостяка Дона Джонстона. В этот момент Дон как раз прощается со своей очередной подругой, Шерри (Жюли Дельпи), которой, по ее собственным словам, надоело составлять компанию пожилому Дон Жуану. Шерри хлопает дверью; на ней, между прочим, розовый костюм. А Дон, проводив ее, открывает конверт и узнает, что у него есть девятнадцатилетний сын, только что сбежавший из дома на поиски отца.
Над собственно детективной составляющей Джармуш потешается. Меланхолик Дон не желает искать ни предполагаемого сына, в существование которого не готов уверовать, ни бывших пассий, одна из которых отправила ему письмо без подписи. За него активность развивает сосед Уинстон (Джеффри Райт), полная противоположность Джонстону: энергичный, оптимистичный, впахивающий на трех работах, многодетный и счастливый в браке афроамериканец, он помешан на сыскной работе, но не способен даже открыть нужный сайт на собственном компьютере. Этот доморощенный Шерлок Холмс, Сэм Спейд или Майк Хаммер (вяло шутит Дон) придумывает для приятеля маршрут, находит адреса всех его давних любовниц, бронирует авиабилеты и арендует автомобили. А вдобавок записывает в путь саундтрек для фильма – ностальгически-ироничный эфиопский джаз Мулату Астатке; сам Джонстон дома предпочитает упиваться одиночеством под похоронный «Реквием» Габриеля Форе. Однако все его усилия лишь приводят Дона к мысли о том, что сам Уинстон со скуки эту историю и организовал и письмо тоже написано им.
Так это или нет, зрителю узнать не суждено. За время действия фильма Дон встретится с четырьмя бывшими подругами. Ни одна не ответит на вопрос «Нет ли у тебя сына?» так, чтобы это прозвучало отчетливо и убедительно. Косвенные улики Дон найдет в каждом доме, прямых доказательств – нигде. Встретит он и трех подростков, в каждом из которых заподозрит потенциального сына, но в диалог отважится вступить лишь с одним из них – и тот, услышав слово «отец», в ужасе убежит, оставив конфликт неразрешенным.
Уладить дело надо так, Чтобы, во что бы то ни стало, Все под носом ловил далекий он призрак И с толку сбился бы искатель идеала. Ведь черту, говорят, достаточно схватить Кого-нибудь хоть за единый волос, Чтоб душу всю его держать за эту нить И чтобы с ним она уж не боролась[11].Джармуш так настаивает на параллели с мифом о Дон Жуане, что не хочется относиться к этому всерьез: конечно, когда в первых же кадрах внешне невозмутимый герой пялится в телевизор, где показывают «Частную жизнь Дон Жуана» (1934) – фильм о старости великого любовника, которого сыграл (в своей последней роли!) Дуглас Фэрбенкс, – это тянет на пародию. Но последующее развитие сюжета показывает, что Джармуш не шутит. «Сломанные цветы» – на самом деле модификация легенды о наказании развратника. Ведь именно это всегда было главным в любой версии «Дон Жуана»: как циничный – или, напротив, трагически-романтический – бабник встретился с Каменным гостем и попал за грехи в ад. Джармуш, очевидно, в загробную жизнь не верит. Поэтому и берется за такую редкую вариацию бродячего сюжета, как «старость Дон Жуана». Статуя Командора не пришла за героем; тот просто постарел и остался в заслуженном одиночестве.
Наказание Дона Жуана – Джонстона у Джармуша – то самое путешествие «в поисках утраченного времени», которое он совершает едва ли не вынужденно. Это парадоксальная траектория, где ему не светит никакой успех, в том числе любовный; впрочем, и у шутника Моцарта его Дон Джованни доживал до конца оперы, не добившись ни от одной потенциальной возлюбленной существенного результата. Каждая женщина, встреченная Джонстоном на пути, убеждает его в завершенности собственного сюжета: от красавицы-стюардессы, растянувшей длинные красивые ноги рядом с героем в зале ожидания (она решает кроссворд – криптотема не оставляет Дона), до симпатичной цветочницы, вызывающейся из милосердия промыть и заклеить пластырем его рассеченную бровь. И недаром в доме первой из его любовниц усталого героя встречает ее юная копия – дочь подруги (Алексис Дзена), живое воплощение педофильской мечты, сперва в коротком халатике, а потом и вовсе без: девочка, которую зовут Лолита и которая не подозревает, «что такого» в ее имени. Как скромник или ханжа Дон пытается сбежать от соблазна. И тут же во дворе натыкается на Лору.
«Короткие встречи» с четырьмя старыми любовями, решенные в фирменной для Джармуша фрагментарно-скетчевой манере, превращены в бенефисы четырех актрис, каждая из которых выбрана, конечно, с умыслом. Любвеобильная и оптимистичная Лора, успевшая выйти замуж за гонщика, впоследствии погибшего в автокатастрофе, – Шэрон Стоун, главная секс-дива 1990-х, воплощение «основного инстинкта» (недаром лишь она все-таки затаскивает героя в постель). Фрэнсис Конрой, начинавшая на сцене как Дездемона, появляется в образе Доры – нервной жены ревнивого мужа, за одним столом с которым Дон чувствует себя не в своей тарелке. Джессика Лэнг, возлюбленная обезьяны из «Кинг Конга», играет психолога Кармен, способную находить общий язык с животными, от кроликов до игуан. Наконец, буйную байкершу Пенни сыграла неузнаваемая Тильда Суинтон, по чистому совпадению в том же году выступившая в роли соблазнительной и убийственной снежной королевы – Белой Колдуньи в экранизации сказки о волшебной стране Нарнии.
Как в практически любой интерпретации «Дон Жуана», любовь в «Сломанных цветах» значимо отсутствует, постоянно подменяемая чем-то другим. Только на этот раз не соблазном и похотью, а бесперспективными попытками преодолеть одиночество и вступить хоть в какую-то коммуникацию (похоже, игуаны и кролики для этого более пригодны, чем люди). Каждая следующая возлюбленная принимает героя все менее дружелюбно. Хладнокровие Дона дает трещину после того, как его вполне невинный вопрос, адресованный Пенни, приводит к драке с байкерами, после которой он приходит в себя средь чистого поля, с подбитым глазом и окровавленной рубашкой. Он идет к своей пятой подруге, Мишель, на кладбище и там – наедине с собой – не стесняется заплакать от той невыраженной и неиспользованной любви, которая никому больше не нужна. В этот момент он определенно испытает то ощущение жизни как горсти праха, о котором постоянно говорится в следующем фильме режиссера, «Пределах контроля».
Нельзя, конечно, утверждать, будто именно слезы Билла Мюррея делают его игру выдающейся, но сама эволюция героя, поданная актером и Джармушем с ироничной нежностью, через едва заметные изменения мимики, делает эту роль особенной даже на фоне тех же «Трудностей перевода». Апатия и неподвижность в начале фильма, забавно поддержанные выбором одежды – Дон меняет один тренировочный костюм за другим, при этом не вставая с дивана, – сменяются напряженной настороженностью все в том же остановленном взгляде и в скорбной складке у губ, когда герой начинает объезжать подруг. Бэкграунд комического актера, который здесь не комикует ни в одном эпизоде и даже от иронии старается удержаться, будто достраивает блестящее прошлое персонажа, о каком мы можем лишь догадываться по реакции давних знакомых. Странным образом стоическая невозмутимость Мюррея и его способность играть одними глазами делают невозможное – сохраняя мягкий юмор, без которого непредставим ни один фильм Джармуша, возвращают современному Дон Жуану ореол разочарованного и в чем-то даже романтического героя.
Молва, быть может, не совсем неправа, На совести усталой много зла, Быть может, тяготеет. Так, разврата Я долго был покорный ученик, Но с той поры, как вас увидел я, Мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель И в первый раз смиренно перед ней Дрожащие колена преклоняю[12].И все-таки – розовый: почему он? В цвете титров, в сценах сортировки почты, в костюмах героинь (от одежды Шерри до клетчатых штанов Кармен) – повсюду. Розовые халаты, серьги, телефон, даже розовое вино в доме у Лоры, розовые визитки Доры, розовый мотоцикл и сломанная печатная машинка – подозрительно! – во дворе у Пенни. Как и в детективе с письмом, Джармуш издевается над зрителем, повсюду подсовывая ему треклятый розовый. Что он олицетворяет – начало дня, нежный рассвет? Или искусственность и декаданс?
Розовый – определенно цвет, который на протяжении долгого времени ассоциировался с женщинами, и его назойливое присутствие в окружающем Дона мире – это печать женского участия в его судьбе. Розовый – еще и цвет, вероятно, ложной надежды на новый виток этой судьбы, неожиданного сына, а то и, чем черт не шутит, восстановление полузабытых отношений. Надежда не оправдывается, и к финалу пути Джонстона женщин вокруг него не остается тоже. Розовый, таким образом, не знак оптимизма, а умелый троллинг со стороны режиссера. Кстати, выражение «смотреть на мир сквозь розовые очки» Джармуш тоже обыгрывает, заставляя своего героя в самых неподходящих ситуациях напяливать черные – противоположные по смыслу – очки. Надев их, он видит страшные сны, в которых женщины являются к нему одна за другой.
Разумеется, розовый – еще и цвет розы; недаром фильм называется «Сломанные цветы», и розы появляются здесь чаще других цветов (хотя есть разные, включая полевые). Символические значения розы так обширны и разнообразны, что даже через запятую их не перечислить – это материал для энциклопедии. Но кое-что лежит на поверхности: бутон розы олицетворяет загадку и одновременно женское естество, а также является расхожим символом любви, так же как лилия (розовые лилии тоже мелькнут в фильме) – символ невинности.
В своем «Романе о Розе» Джармуш показывает цветы в первых сценах фильма: позабытый букет в вазе украшает гостиную в доме Дона. Постепенно цветы увядают, а он беспомощно наблюдает за этим процессом – ждет, когда опадут последние лепестки. Роза – еще и важный атрибут vanitas, барочных картин о суете сует и неизбежности смерти. Сорванные (и тем более сломанные) цветы означают мимолетность радости и жизни, которая неминуемо сменится смертью. Кажется, женщины, с которыми встречается Дон, прекрасно это чувствуют. По завету конспиролога Уинстона он приносит каждой в подарок букет розовых цветов, как бы намекая на конверт – возможно, присланный одной из них. Лора принимает букет с радостью, но без внимания. Дора одаривает букет и дарителя дежурным комплиментом, после чего уже в ее доме Дон видит розовые букеты буквально повсюду – и даже изображенными на картине, висящей на стене (его собственное жилище украшено размытыми неузнаваемыми изображениями женщин). Секретарша Кармен приносит букет дарителю обратно: «Вы, кажется, забыли». А Пенни приходит в ярость от самого вида букета.
Розовый букет как атрибут диалога не срабатывает ни разу, кроме последнего визита – на кладбище к Мишель Пепе, на чью могилу Дон может положить свои цветы беспрепятственно. После чего – возвращаться домой, так и не отыскав следов возможного сына.
И лишь когда средь оргии победной Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный, Испуганный в тиши своих путей, Я вспоминаю, что, ненужный атом, Я не имел от женщины детей И никогда не звал мужчину братом[13].Вернувшись, Дон Джонстон опять включает телевизор в своей гостиной и видит там старый мультфильм (на приеме с параллелями к основному действию фильма в цитатах из классической анимации построен «Пес-призрак») – об аисте, который при помощи волшебной машины производит на свет ребенка – разумеется, мальчика. Только к этому моменту Дон окончательно понимает, что он действительно хотел найти сына. А в начале пути, когда увидел в автобусе юношу – красавчика в темных очках, похожих на его собственные, которого обсуждали школьницы с переднего сиденья, – лишь вспоминал себя. Не успел задуматься о том, что мог бы продолжиться во времени и пространстве, будь у него сын.
Путешествие Дона – попытка переиграть судьбу, избавиться от одиночества, на которое его с начала сюжета обрекает своим необъясненным уходом Шерри. Но вот он получает новое письмо от нее, с надеждой на воссоединение после ссоры… и оно написано на розовой бумаге, а значит, предыдущее письмо действительно могло быть мистификацией. Именно в этот момент Дон вдруг видит парня-автостопщика (Марк Веббер), до этого мимолетно встреченного им в аэропорту, и вступает с ним в разговор, даже покупает ему вегетарианский сэндвич. Ведь на сумке у парня – розовая ленточка, которую, по его признанию, повязала мама.
«Сломанные цветы» посвящены памяти Жана Эсташа, культового для синефилов французского автора (не будем забывать, что Джармуш принял решение посвятить себя кинематографу, смотря нон-стоп фильмы в парижской Синематеке). Ранняя документальная картина Эсташа, снятая в его родном городке, кстати, называлась «La Rosière de Pessac» и была посвящена выборам самой прекрасной девственницы Пессака – этимология слова «Rosière» напоминает о том, что раньше таких королев красоты и добродетели увенчивали венцом из роз. Но это, вероятно, лишь совпадение с картиной Джармуша. По сути, ушедший из жизни в сорок два года Эсташ снял всего два полнометражных игровых фильма – прославленную «Мамочку и шлюху» в 1973-м и «Моих маленьких возлюбленных» в 1974-м. В «Сломанных цветах» можно найти переклички с обеими картинами – хотя сам Джармуш отрицает осознанное цитирование: «Мамочка и шлюха» – история взаимоотношений героя с двумя разными женщинами (также по ходу дела он предлагает воссоединение третьей, своей бывшей любовнице), а «Мои маленькие возлюбленные» рассказывают о молодом человеке, который впервые узнает о том, что такое любовь. Дон Джонстон чем-то похож на персонажа первого фильма, встреченный им мальчишка-путешественник – на героя второго. А сама встреча этого горе-Одиссея с Телемаком поневоле напомнит предпоследнюю главу джойсовского «Улисса».
Дон признается случайному собеседнику, что интересуется компьютерами и девушками, а тот – что его интересуют философия и девушки. Приободренный налаженным контактом Джонстон решается по просьбе парня дать ему философское напутствие: «Прошлое прошло, а будущее еще не наступило, и, каким бы оно ни было, нам остается только сейчас». «Всё лучше, чем отцовские нотации», – замечает тот. На этом коммуникация ломается; Дон пытается узнать, не его ли это сын, тот моментально скрывается, оставляя нас ломать голову. Мы вместе с героем буквально застреваем в моменте «сейчас», как он и предрекал, не имея понятия о возможном продолжении или разрешении. Мимо едет автомобиль, из которого доносится та самая музыка, которую весь фильм слушал Дон Джонстон, из окна смотрит другой неприветливый подросток. Кстати, его роль сыграл действительный старший сын Билла Мюррея от первого брака по имени Гомер.
Вероника Долина
Старенький донжуан, а попросту Дон, Все уж позабывал. Кому он сказал пардон, А кому не сказал ничего, не нашел слова. Кончилось волшебство, чуть кружится голова. Кружись, кружись, пустяки. Из-за дальних скал Смотрел он из-под руки, и ждал, и звал, и искал. Дамы его померкли, попахивает нафталин. В Стэнфорде или Беркли – сколько ж он натворил… А Кембридж, а Йель! Да что там, не проскочила и мышь. И ель цвела по субботам, в Хэллоуин же звенела тишь. Довольно даже отчаянно он как-то вдруг постарел. Оглядывается печально, в поиске лепорелл. А лепореллы что же – ссс… Там чайка, там старый сад. Мир господских художеств – их пожизненный МХАТ. И скоро, совсем уж скоро – с вишнями пироги Сожрут потомки актера, его друзья и враги.Музыка: Джек Уайт
В 2006 году я попал в нью-йоркский зал Radio City Music Hall, где вручали награды американского MTV. Это была очень помпезная церемония, сюжет которой в той или иной степени крутился вокруг деятелей коммерческого хип-хопа и R’n’B: они на тот момент задавали тон в музыкальном мейнстриме. Церемонию транслировали в прямом телеэфире, поэтому требовалось чем-то занять зрителей в зале, пока в эфире шли длинные рекламные блоки. Вот тогда-то я и услышал термин «house band». По аналогии с цирковой терминологией этих музыкантов, наверное, можно было бы назвать коверными. Они заполняют паузы, пока телезрители наслаждаются рекламой, а на главной сцене меняют декорации.
В этот вечер в качестве house band на маленькой площадке в стороне от основной сцены выступали The Raconteurs – сайд-проект лидера The White Stripes Джека Уайта, – только что выпустившие первый альбом. В сумме в Radio City Music Hall у The Raconteurs получился целый сольный концерт.
На роль «коверного» выбрали не какого-нибудь дебютанта, а человека, который к тому моменту был иконой гаражного блюз-рока. Он уже успел написать хит на все времена «Seven Nation Army» и устать от мировой славы The White Stripes. Это был лучший выбор на роль «музыканта для музыкантов»: присутствовавшие в зале чувствовали себя по-настоящему избранными, потому что The Raconteurs музицировали только для них и не только играли как боги, но и вытаскивали на сцену тех, кто достиг божественного статуса еще до возникновения MTV. Сначала с группой спел великий нью-йоркский подпольщик Лу Рид, потом на сцену вышел Билли Гиббонс из ZZ Top, а в финале в песне группы The Buggles «Video Killed the Radio Star», с которой ровно 25 лет назад началось вещание MTV, The Raconteurs подыграл на гитаре седой, но не старый человек, которого никто не представил и, кажется, мало кто из присутствующих узнал. Это был Джим Джармуш.
Джек Уайт появился на экране задолго до знакомства с Джармушем. Первой киноработой детройтского блюзмена считается лента «Убийства по четкам», в которой он снялся в возрасте одиннадцати лет в маленькой роли, не указанной в титрах. Примерно в этот период Джим Джармуш снимал Тома Уэйтса в фильме «Вниз по закону».
Полноценным дебютом Джека Уайта в кино считается комедия «Свингеры-мутанты с Марса» (2003). Вскоре имя Уайта появилось сразу в двух громких постановках. Во-первых, это «Холодная гора» Энтони Мингеллы. В саундтреке звучали песни Уайта, а сам он появился в эпизоде – в роли бродячего музыканта, бросающего многозначительные взгляды на героиню Рене Зеллвегер. Во-вторых – «Кофе и сигареты» Джармуша. В одной из новелл Уайт в роли самого себя объясняет своей партнерше по The White Stripes Мег Уайт принцип действия катушки Теслы. На сегодняшний день это самая известная роль Уайта в игровом кино. Хотя, возможно, гораздо более эффектным было появление музыканта в роли Элвиса Пресли в «Истории Дьюи Кокса» – фильме, высмеивающем все штампы музыкальных байопиков.
Сотрудничество Уайта с Джармушем в «Кофе и сигаретах» настолько сблизило двух художников, что вскоре на свет появился выполненный Джармушем ремикс на песню The White Stripes «Blue Orchid», главный хит их альбома «Get behind Me Satan». Причем на обратной стороне сингла с версией Джармуша был размещен ремикс работы другого кинодеятеля – Мишеля Гондри. Он, к слову, в молодости, как и Джармуш, активно занимался музыкой. Винил с ремиксами Гондри и Джармуша является филофонической редкостью, а в цифровом варианте его и вовсе не найти. Судя по редким рецензиям, Джим Джармуш добавил в песню «индийскую перкуссию и индийские шумы».
Как ни странно, в качестве клипмейкера Джармуш работал с Джеком Уайтом всего однажды – как раз в 2006 году, когда The Raconteurs потребовалось видео на их первый хит-сингл «Steady as She Goes». Когда на экране нет музыкантов, перед зрителями ролика бегают коровы.
В 2015 году, рассказывая изданию The Quietus об альбоме своего проекта SQÜRL, Джармуш изложил историю возвращения в музыку таким образом: «Я не слишком-то много думал об этом, пока не приехал в Нэшвилл снимать “Steady as She Goes”. Пока я готовился к съемкам, Джек занимался массой других дел и сказал: “Если меня нет дома, ты можешь спокойно тусоваться в моей домашней студии”. Что я и делал каждый день. Джек возвращался домой и практически всегда заставал меня с гитарой в руках, с Gibson 1905 года, на такой типа еще Роберт Джонсон играл. Когда мы закончили съемки клипа, Джек сказал, что хочет мне ее подарить. А когда я стал сопротивляться, он сказал, что у него таких две: “Если бы была одна, я бы тебе ее в жизни не подарил”. Так я снова стал понемногу дергать струны».
Борис Барабанов«Кофе и сигареты», 2003
«Странно было познакомиться», – так называется первая новелла из одиннадцати, составляющих «Кофе и сигареты». На съемки этого фильма Джим Джармуш потратил 17 лет, но не то чтобы убил; это едва ли не самый необременительный и легковесный из его проектов. Началось с шутки, ни к чему не обязывающей, – записанного для программы «Saturday Night Live» полуимпровизационного диалога двух актеров и приятелей режиссера – знаменитого (но не на тот момент) итальянца Роберто Бениньи и американского комика-парадоксалиста Стивена Райта. За кофе и сигаретами. Это было в 1986-м. Потом Джармуш снял еще одну, еще одну… Соблюдались основные правила, заявленные заголовком: кофе и курение. Минималистский характер короткометражки, обычно бессюжетной или близкой к тому. Черно-белое изображение (хотя у фильма в итоге четыре оператора и четыре монтажера). К 2003-му набралось на полный метр.
В этом весь Джармуш. Воспевая пустяки и сопротивляясь любым методам привлечения внимания, он усаживает за стол людей – похожих друг на друга или, наоборот, противоположных – и ждет химической реакции (разумеется, подготовленной заранее, но все равно неожиданной).
«Странно было познакомиться» – совершенно кэрролловский скетч, эдакое «безумное кофепитие». На столе перед Роберто и Стивеном – персонажей зовут так же, как актеров, – пять чашек с крепким кофе. Шахматный дизайн столика также напоминает об «Алисе»: клетки задают координаты, черно-белую минималистскую палитру. Особенно это очевидно, когда оператор показывает стол сверху, – такой кадр отныне будет почти в каждой новелле.
Возбужденные собеседники, кажется, друг с другом не знакомы – или все-таки знакомы? Это так и не выясняется. Флегматичный Стивен тихо курит, рассказывая о том, как напивается на ночь, чтобы сны шли побыстрее: их так много мелькает за ночь, что всего не расскажешь. Возбужденный Роберто, напротив, грезит наяву: руки трясутся, выбрать одну чашку из пяти никак не может, имя собеседника тоже все время путает, называя его Стивом вместо Стивена. Но оба считают, что кофе полезен для здоровья, его и для детей надо продавать – в замороженном виде. А потому чокаются кофейными чашками.
Стивен пытается сбежать раньше времени, он записан к зубному. Роберто с удовольствием сходит туда вместо него. Обменявшись талончиками, они расходятся. Встреча (и фильм) продлилась пять минут, успев сбить зрителя с толку. А Джармуш добился своего: снял микробюджетный фильм, понятный до конца ему одному. Будто хайку написал.
Вот и встретились — чайные кусты по склонам тоже все в цвету…[14]Действие «Близнецов» разворачивается в Мемфисе, где Джармуш снимал «Таинственный поезд», – с участием тех же Стива Бушеми, что сыграл здесь говорливого официанта, и Синке Ли. Здесь к младшему брату Спайка Ли (который еще будет упомянут в одной из позднейших короткометражек) присоединилась их сестра Джои Ли. Они и есть близнецы в «паршивейшей забегаловке Мемфиса». Пьют кофе – с молоком и без, курят и ни в чем не могут друг с другом согласиться. Они настолько похожи, что перепутали обувь и одежду, но поняли это не сразу, а только постепенно, по запаху.
«Кофе и сигареты» Джармуша вообще о том, как люди несхожи друг с другом и какое чудо (пусть маленькое и незаметное), что иногда им удается найти общий язык и сесть за один стол, хоть бы и за кофе с куревом. «Нездоровое сочетание», – язвительно замечает официант. А потом рассказывает, хоть его об этом и не просят, городскую легенду о злом брате-близнеце Элвиса Пресли. Это он растолстел, стал носить белые смокинги и золотые цепи. И когда чернокожие близнецы признаются в своем равнодушии к Элвису-расисту («По его словам, черный цвет был хорош только для того, чтобы чистить ботинки»), официант уверенно констатирует: «Король такого сказать не мог – только его близнец!»
Альманах Джармуша напичкан знаменитостями и звездами альтернативного мира, настоящими «королями» и их «злыми близнецами». Находя в каждом что-то человеческое, он забавно акцентирует контраст, чтобы потом разрушить его через внезапно проявившееся сходство. Все люди братья, а также сестры. По меньшей мере за перекуром или чашкой кофе.
Короткая ночь. Слышу – будто бы под подушкой грохочет поезд…[15]А вот и сразу две звезды в одном фильме – Том Уэйтс и Игги Поп, «Где-то в Калифорнии». Этот выпуск «Кофе и сигарет» в 1993-м получил малую «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Джармуш рассказывал, что подошел к усталому и раздраженному Уэйтсу в конце рабочего дня вместе с Игги Попом, а тот на него накричал: «Может, обведешь мне смешные шутки, что-то я их не вижу?» Это настроение режиссер и постарался воспроизвести на площадке.
Идея «злого близнеца» оказалась настолько продуктивной, что возник фантастический и одновременно документальный стиль «Кофе и сигарет». На экране, нет сомнений, подлинные Игги – в кожаной куртке, с длинными волосами, – и Уэйтс, в черном пиджаке и узнаваемой шляпе. Но как их занесло в случайную кофейню и что они здесь делают, зачем решили встретиться? Бог весть. Загадка и то, что Уэйтс внезапно оказывается врачом, который с утра успел принять роды и сделать трахеотомию при помощи шариковой ручки.
Так или иначе разговор не клеится: собеседники будто не узнают друг друга. Очевидно, как и зритель, который не вполне идентифицирует их обоих: каждый будто играет – и ведь взаправду играет – роль самого себя. Том, подобно путанику Роберто в первой новелле альманаха, называет Игги Джимом (хотя тот просил называть его «Игги»). Игги зачем-то рассказывает Тому о классном барабанщике, и тот видит в этом недружелюбный намек: дескать, его собственный барабанщик плох. Под конец оказывается, что в музыкальном автомате бара нет музыки ни Игги, ни Уэйтса, сидеть им приходится под анекдотическую – в контексте их собственного творчества – идиллическую гавайскую гитару. Недовольные, предполагаемые приятели неловко разбегаются.
Ключевая сцена короткометражки – безусловно, та, в которой Том и Игги восхваляют здоровый образ жизни, поскольку оба бросили курить четверть века назад. А потом вдруг закуривают: «Раз мы бросили, теперь спокойно можно взять по сигаретке». Джармуш глумится над вредными привычками всех рок-музыкантов и поп-звезд в мире, а одновременно вполне всерьез ставит вопрос равенства самому себе, постоянства и значения публичного образа, который так трудно оторвать от подлинного, скрытого от посторонних эго.
Прилепился душой к табачной лавке, где также продают спиртное…[16]Джозеф Ригано и Винни Велла сидят за столом и пьют кофе поутру. Два пожилых фактурных гангстера уже играли вместе, причем не раз: в «Казино» у Мартина Скорсезе, да и у самого Джармуша в «Псе-призраке». В общем, их предполагаемую профессию зритель угадает без труда, хотя бы по куртке одного и спортивному костюму второго. Винни курит, и Джозеф поливает его нецензурными ругательствами – как можно обогащать табачные компании, да еще запивать сигарету кофе! Но сам Джозеф постоянно прихлебывает из полного кофейника, объясняя это тем, что уже успел позавтракать раньше.
«Эта дрянь тебя убьет» похожа на бессодержательный актерский этюд, и все же в ней прорезается важнейшая для Джармуша максима: не поучай другого. Морализаторство вдвойне комично, когда за него принимается грешник, а Винни и Джозеф – два сапога пара. Да и внук Винни, вдруг возникающий на горизонте, пришел выпрашивать у деда шесть баксов на острые японские орешки с газировкой – ничем не лучше сигарет с кофе. Ни к возрасту, ни к роду занятий, ни ко времени суток ситуация отношения не имеет: мы скроены из вредных привычек, они нас и погубят. Подумаешь, большое дело.
В аппетитности тостов, поданных на завтрак, некое бесстыдство…[17]«Рене» – самая лиричная и одна из самых забавных глав «Кофе и сигарет». Здесь за столиком (покрытым клетчатой скатертью) сидит всего один человек, она и есть Рене Френч, – кто такая, толком не знает даже «Википедия», но красавица редкостная. Она курит и пьет кофе, в который подсыпает тщательно отмеряемый ложечкой сахар. Ей никто и ничто не нужны. А занята она перелистыванием иллюстрированного каталога оружия; как можно заметить позже, на шее у нее крошечный золотой кулон в форме пистолета. В общем, Рене – само совершенство.
Рутинную процедуру по предложению клиенту добавки кофе официант превращает в целый спектакль. Он подливает в чашку новую порцию и получает отповедь: «Вы все испортили – там были идеальная температура и идеальный цвет». Официант подходит к Рене еще трижды, пытаясь исправить свою ошибку и хотя бы как-то привлечь ее внимание. Она отказывается делать другие заказы, молчаливо принимает извинения за неловкость и отвергает предположение официанта, что ее зовут Глория. По сути, это крошечная история неудавшейся любви, что подчеркивает и татуировка на руке Рене: два сердца, пронзенные стрелой. Но именно робость моментально влюбленного официанта и неприступность объекта обожания, погруженного в созерцание, делает контакт между ними невозможным.
Совершенство недостижимо, и даже нездоровая комбинация кофе, сахара и сигарет не нарушает цельность этого безупречного образа.
В дождливую ночь аромат хорошей сигары. Женщина прикрывает грудь…[18]«Нет проблем» – вторая подряд новелла-недоразумение. На этот раз за клетчатым столиком встречаются старые друзья, Алекс Дека и Исаак де Банколе. Они давно не виделись, а теперь вместе пьют кофе и курят; Исаак пытается понять, почему Алекс позвонил ему и вызвал на встречу после такого перерыва. За словами и интонациями Алекса ему чудится проблема, о которой друг якобы боится или стесняется рассказать. И сколько бы тот ни убеждал, что никакой специальной причины у встречи нет, Исаак стоит на своем. Поняв же, что тайну Алекса ему не раскрыть, слегка обиженный уходит.
Будто бы предсказывая конспирологический диалог тех же Алекса и Исаака – правда, в совершенно иных обличьях – в «Пределах контроля», в этом сюжете Джармуш смеется над теми «ожиданиями сюжета», которыми продюсеры, зрители и критики нагружали его фильмы с самого начала. Он зовет на чашечку кофе и непринужденный разговор о чем угодно, вовсе не собираясь сообщить ничего существенного. Конфликт в художественном произведении вовсе не обязателен; в некоторых случаях просто «нет проблем».
Хотя многозначительный (и тоже явно шутливый) намек на скрытую проблему Джармуш нам дает. В отсутствие Исаака Алекс бросает на стол игральные кости, и раз за разом на двух кубиках выпадают одинаковые значения. К чему бы это? Категорически неясно.
Душа человека… С одним лишь сравнима она — со светляком осенним…[19]«Кузины» сняты на том этапе, когда «Кофе и сигареты» начали превращаться из необязательного цикла в полнометражный фильм со своими лейтмотивами и внутренним сюжетом. Этот сюжет – диалог, сходства и различия людей, которые обнаруживают неожиданные качества при контакте друг с другом. «Кузины» исключают любой элемент игривой импровизации, поскольку две главные роли – двоюродных сестер, встретившихся после нескольких лет разлуки, – сыграла одна актриса, виртуозная Кейт Бланшетт. В одной ипостаси она здесь суперзвезда, живущая и снимающая свое новое шоу в шикарном отеле; в его лобби знаменитая блондинка Кейт и встречается со второй ипостасью Бланшетт, отвязной брюнеткой и подругой рокера Шелли.
Джармуш с его давним пристрастием к гостиницам обеспечивает неловкое свидание обеим героиням, которым в равной степени неуютно друг с другом. Шелли обвиняет Кейт в том, что та не ответила на письмо с демозаписью ее друга Ли, его индустриально-тяжелой группы SQÜRL (позже группу с таким названием основал именно Джармуш со своими товарищами-музыкантами), а потом выясняется, что она сама забыла его отправить. Кейт дарит Шелли пакет с дорогой косметикой, и та сразу догадывается, что духи дармовые.
На самом деле нехватка времени на то, чтобы объясниться, не позволяет расставить обвиняющие акценты. Обе кузины – неразличимые близнецы, только с разными прическами, – очевидно, в равной степени стараются пойти на контакт, но не знают, как этого контакта добиться. Никто из них не «злой близнец». Во всяком случае, кофе и сигареты в этом не помогают. Да и в отеле, как узнает Шелли после ухода Кейт, не курят. А ведь когда они дымили вместе, персонал деликатно молчал.
Верещанье цикад. Со мною чай распивает тень моя на стене…[20]Если в предыдущей новелле под аккуратную музыку Пёрселла на заднем плане две кузины говорили о несуществующей группе, играющей тяжелый рок, то здесь реальный дуэт, играющий гаражный рок-н-ролл, Мэг и Джек Уайт занимаются чем-то совершенно другим: запускают собранный Джеком вручную трансформатор Николы Теслы. При этом, естественно, курят и пьют из кружек кофе за столом в черно-белую клеточку. На сигаретной пачке, лежащей на столе, написано «Детройт»: из этого города родом группа The White Stripes, чей обозначенный в названии дизайн («Белые полосы») вполне соответствует стилю джармушевского фильма. Ее музыка, впрочем, в новелле не звучит: в саундтреке – старый хит Игги Попа, участника одной из предыдущих короткометражек. Заодно вспоминается интернетская легенда, согласно которой однофамильцы Мэг и Джек на самом деле – брат и сестра.
Содержание короткометражки исчерпывается ее заголовком «Джек показывает Мэг свой трансформатор Теслы». После недолгих уговоров Джек соглашается продемонстрировать таинственную машину в действии. Они оба заворожены не столько электрическими разрядами-молниями, расходящимися в разные стороны от трансформатора, сколько революционными идеями Николы Теслы: энергия должна быть бесплатной для всех, а Земля – проводник акустического резонанса. Когда трансформатор неожиданно перестает работать, Джек, Мэг и даже случайно зашедший официант (Синке Ли из новеллы «Близнецы» сменил амплуа), будто получив импульс из воздуха, высказывают технические гипотезы по поводу сбоя. Конденсатор перегорел? Размыкатель выбило? Или все-таки разрядники слишком далеко друг от друга? Джек уходит чинить машину, Мэг ударяет чайной ложечкой по чашке – и разносящийся звон кажется ей знаком акустического резонанса, свойственного нашей планете.
Самая поэтичная и необъяснимая новелла «Кофе и сигарет» возвращает к сновидческой доминанте, заявленной в первом сюжете. Кофе и сигаретный дым будто уводят из ординарного мира в пространство фантазии, где оживают стимпанковские аппараты, а музыка обретает первозданную чистоту – которая, по мысли Джармуша, присуща старым хитам Игги и The Stooges. Хоть здесь Мэг и Джек не пишут и не исполняют свои песни, нет сомнений, что этот эпизод – о природе творчества.
Кончается год. Оглянувшись назад, итожу все свои хайку…[21]От поэзии – к сатире. «Кузены?», самая драматургически проработанная и продолжительная из новелл «Кофе и сигарет», – это редкий случай, когда Джармуш позволяет себе сарказм в отношении «большой» киноиндустрии. Герои – два английских артиста, преуспевшие (по сюжету) в Голливуде и теперь впервые лично встретившиеся в Лос-Анджелесе. Один – настоящая звезда: с окружающими общается в основном через ассистента, щеголяет в дорогом пальто (хотя на улице плюс тридцать), раздает автографы красивым поклонницам. Второй – незаметный скромник, который был инициатором встречи. Ирония в том, что на роль первого Джармуш определил комика Стива Кугана, чьей самой заметной ролью на момент съемок была британская альтернативная музыкальная драма «Круглосуточные тусовщики» (она упоминается в короткометражке), а на роль второго – Альфреда Молину, артиста по-настоящему успешного, снимавшегося среди прочего в «Искателях потерянного ковчега», «Человеке-пауке 2» и «Принце Персии». Таким образом, Джармуш опять создает персонажей «со сдвигом», своеобразных близнецов-двойников их реальных прототипов.
После длинной и, как часто бывает, бессодержательной беседы Молина раскрывает цель встречи. Увлекшись генеалогией, он выяснил, что Куган – его дальний родственник, кузен: у них вроде был один прапрапрадед Джузеппе. Куган не знает, как отделаться от надоедливого собеседника, фактически – бедного родственника, и пытается исчезнуть, сославшись на другую срочную встречу. В эту секунду у Молины звонит телефон: на связи некий Спайк. Неужели Спайк Ли (невидимо присутствующий в нескольких новеллах «Кофе и сигарет»)? – замирая, спрашивает Куган. Нет, мой старый друг Спайк Джонз, – отвечает Молина. Теперь Куган заискивает перед предполагаемым кузеном и предлагает ему записать свой номер, но Молина отказывается и быстро уходит.
Это не только остроумный скетч о летучей природе успеха, но и лирический этюд о невостребованности и желании любви, разыгранный тонко, точно и нежно. А еще здесь впервые за весь фильм пьют не кофе, а чай. Куган даже мечтает, как при получении «Золотого глобуса» или «Оскара» со сцены научит янки, как его правильно заваривать. Англичане!
Вот и вернулся к чайной чашке своей в собственном доме…[22]Предпоследняя новелла альманаха называется «Делириум», возвращая от вопросов психологии и метафизики к вредным привычкам и сюрреалистической атмосфере. Недаром здесь прямо цитируется первый эпизод «Кофе и сигарет» – фраза о том, что если пить кофе на ночь, то сны снятся быстрее, и идея о замораживании кофе. Герои – опять же кузены, а заодно музыканты, рэперы из коллектива Wu-Tang Clan GZA и RZA. Второй из них к тому моменту успел посотрудничать с Джармушем, написав для него саундтрек к «Псу-призраку»: он приходит на встречу в шапочке с логотипом фильма, а ближе к финалу анонсирует скорое появление самого «Пса». RZA объявляет себя доктором, как это делал в своей новелле Том Уэйтс: например, только что он вылечил ангину у детей своих друзей. «Музыка и медицина для меня – две планеты, которые вращаются вокруг одного солнца». Правда, на этот раз речь о нетрадиционной медицине. И пьют они не кофе и даже не чай, а безобидный травяной настой без кофеина.
О вреде кофеина кузены сообщают и подошедшему официанту с кофейником: мол, он даже расстройство психики вызывает. Тот, выслушав, начинает пить прямо из кофейника, и рэперы – как и зрители – узнают в официанте Билла Мюррея. Тот, в поварском колпаке и фартуке, закуривает и, прихлебывая кофе, начинает жаловаться на кашель, а еще просит его не палить и никому не рассказывать, что он скрывается здесь. Новые знакомые, чокаясь с ним своим настоем, советуют полоскать горло перекисью водорода или средством для чистки плит.
В общем, Джармуш закольцовывает альманах, не позволяя себе самому уйти в слишком серьезные вопросы и напоминая, что каждый фрагмент фильма – не более чем временное помрачение. Или просто шутка.
Метель из лепестков — а где-то совсем близко музыка играет…[23]…И тут же возвращается с эпилогом пронзительно-лирическим, заставляющим начисто забыть о комедийной интонации всего предыдущего фильма. В «Шампанском» два старых товарища в странном темном помещении – то ли в подсобке, то ли во внутреннем дворе – пьют отвратительный, по их собственным словам, кофе из пластиковых стаканчиков. Атмосфера дышит декадансом и предчувствием конца. Один из героев цитирует меланхоличную песню Малера – которая немедленно магическим образом начинает звучать в воздухе. А когда замолкает, то второй вспоминает об идее Николы Теслы: Земля – проводник акустического резонанса.
Тейлор Мид – «первая кинозвезда андеграунда», поэт и актер экспериментальных фильмов Энди Уорхола; Билл Райс – исследователь литературы и художник. Они предлагают друг другу забыть о вкусе скверного кофе и поднять тост за Париж 1920-х и Нью-Йорк конца 1970-х, эпоху их молодости, – и, чокаясь пластиковыми стаканчиками, наконец проясняют смысл жеста: игнорировать содержимое сосуда, будь он наполовину пуст или полон, и смаковать вкус воображаемого шампанского. Это послевкусие и оставляет фильм Джармуша – не такой простодушный, как казалось во время просмотра, и не настолько серьезный, чтобы задуматься об этом надолго. Просто перерыв на кофе и перекур, который подошел к концу.
Александр Дельфинов Шар Джармуша
[Из затемнения] Однажды вечером стою, курю спокойно на углу, Ни трезв, ни пьян, а просто так, ничьим не занят делом, Стою, шатаюсь, в голове – «бу-бу» о том, кого люблю, А мир вокруг, нет, не померк – но стал вдруг черно-белым. А на углу открыта дверь, оттуда пахнет табаком, Оттуда тянет ветерком, жжет вывеска неоном, И собственный не чуя вес, я полетел туда, влеком Внезапной тайной, полусном, грудным томящим тоном. Там, в глубине, за стойкой – тьма, и профиль – молнией в дыму, И чьи-то гулкие слова: «Бу-бу!» – как пуля в сердце. Ни трезв, ни пьян, иду, плыву, ни звука в целом не пойму, В такое место угодил, я сам – лишь буква в тексте. Там барабан гремел в дыму, мужчина в шляпе пел в углу, За стойкой – тьма. «Бу-бу, бу-бу», – гудели люди в зале. В пространстве – сбой. Дуди в трубу, и ключ басовый гни в дугу. «А кофе?» – «Буду!» – «Сахар?» – «Тьфу!» – «Нас в список записали?» Окей, я был под кайфом, брат, но это точно был киоск, А тут, гляди, рок-клуб, джаз-клуб, седой певец носатый, В затылок, как струна, игла воткнулась и морозит мозг, Не разглядеть твое лицо, зачем закрыл глаза ты? В тумане – снег, высокий дом, а на углу – бу-бу, бу-бу, Перед киоском мужики гундят о чем-то вместе, Умчал автобус в пустоту. «Ушел последний на Москву? Застряну, значит, здесь!» – «Как все…» Мерцают буквы в тексте. В пространстве – сбой. Ни там, ни здесь, курю и кофе пью во тьме, И с кем-то говорю, пою – не попадаю в ноты. Я здесь случайно, как и все, но вроде бы живой вполне, Ведь если ты не на земле, уже не важно, кто ты, Ведь если ты – лишь чей-то сон, лишь странной песни хриплый тон, В тумане – снег, во мраке – свет, и проданы билеты, В Москве, в Нью-Йорке, за углом, открылась дверь, заходишь в дом, Там пахнет кофе, табаком, уже неважно, где ты, И полон клуб, и низкий бас уносит нас с Луны на Марс, Из глубины идет волна, но слов у этой песни Не разобрать. «Который час?» А впрочем, к черту. Свет погас, И в списке наши имена, но мы – лишь буквы в тексте. Открыта дверь, и я вхожу и вижу тех, кого не жду, И я дрожу в густом дыму и слышу – дышит шар наш. Ни жив, ни мертв, я узнаю за стойкой черную звезду. «Налейте крови старику!» – «Спасибо, мистер Джармуш!» На вкус и цвет – порядок лет, на каждый кадр – и тень, и свет, «Бу-бу» о тех, кого здесь нет, читай по буквам – Альфа, Омега, брат, ни трезв, ни пьян, я сам – танцующий скелет, Открыта дверь, и в глубине – ни боли нет, ни кайфа. В Москве, в Нью-Йорке, на Луне нет никого – и ты беги, Нет никого – и ты спеши, надев пальто из жести, Напялив шляпу из фольги да из березы – сапоги, И черно-белый фильм – как текст, но гаснут буквы в тексте. [Затемнение]Музыка: Густав Малер
Фильмы Джармуша полны иронии; с умыслом ли, нет ли, ирония есть и в выборе музыкального сопровождения для эпизода «Шампанское» – последнего в фильме «Кофе и сигареты». В нем Билл Райс и Тейлор Мид, играющие сами себя, предаются воспоминаниям под песню Густава Малера. Симфонии Малера, начиная с Первой, часто вдохновлялись его же песенным творчеством, и неудивительно, что отзвуки «Я потерян для мира» явственно слышатся в знаменитом Adagietto из Пятой симфонии, – они создавались почти одновременно. Волей Лукино Висконти, использовавшего этот фрагмент в знаменитой «Смерти в Венеции», Adagietto не только прибавило популярности Малеру, но и стало хитом киномузыки.
С томлением, пронизывающим «Смерть в Венеции», у иронических «Кофе и сигарет» едва ли много общего, что неудивительно. Удивительно другое – в этом фильме, довольно-таки смешном, и романтический пафос вроде бы должен выглядеть смешно; однако ничего подобного с песней Малера не происходит. То ли потому, что этот замечательный композитор, почти всю жизнь проживший в XIX столетии и заставший лишь начало ХХ века, успел понять главное о нем и о нас – и мы до сих пор силимся это расслышать. То ли потому, что перед определенным уровнем совершенства и красоты любая ирония бессильна.
Чего-чего, а завораживающего свойства у музыки Малера не отнять. Чтобы его ощутить, знать биографию мастера необязательно, отчасти даже излишне. Любимая тема меломанских споров – отделимы ли симфонии Малера от тех трактовок, что сопровождают их десятилетиями, «чистая» ли это музыка или звуковой роман в духе Достоевского, где «дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Сам Малер, безусловно, считал, что в каждой симфонии сочиняет роман. Улыбку могут вызвать его слова о том, что в его музыке «вся вселенная обретает голос» или «кружатся звезды и планеты», однако он не скромничал: не о собственной трагической судьбе стремился рассказать Малер в своих сочинениях, но – создать трагедию музыкальными средствами, изобразить наш мир во всей его полноте и противоречивости. И если у того, кто впервые слушает Шестую, пройдет мороз по коже и зашевелятся волосы на голове, причиной этому будет музыка, а не обстоятельства создания симфонии.
Действительно, она появилась накануне трагического для Малера 1907 года, в течение которого он потерял дочь, расстался с любимой работой в Венской опере и узнал о своей неизлечимой болезни. Но связывать рождение Шестой с тем, что композитора тревожили дурные предчувствия, – все равно что объяснять легенду о прогулках Спасителя по воде лишь соответствующими свойствами Мертвого моря. Каждая из симфоний Малера – чудо, непостижимое в полной мере даже сегодня, через сто с лишним лет после упомянутого рокового года. Даже те из них, которые формально соответствуют классической структуре симфонического цикла, написаны в буквальном смысле так, «как Бог на душу положит». Малер создавал новые правила, нарушая прежние столь уверенно и дерзко, что после него соблюдать их было уже невозможно.
Среди наиболее удивительных его творений – Седьмая симфония и «Песнь о земле». Седьмую принято считать весьма неудобной для исполнения и восприятия, хотя это подлинный праздник музыки: единственная симфония Малера, где практически невозможно отыскать подобие конфликта. Остается лишь гадать, почему между крайними частями Седьмой помещена как бы еще одна внутренняя симфония из двух ноктюрнов и центрального скерцо, однако конструкция в целом производит грандиозное впечатление. Полная противоположность Седьмой – «Песнь о земле», наиболее интимная среди крупных сочинений Малера. По форме это вполне образцовая симфония с развернутым финалом, однако главная роль доверена певцам, тенору и контральто.
«Песнь о земле» написана для сравнительно большого состава, однако звучит камерно, негромко. Гобой, флейта, кларнет, фагот, валторна, виолончель, мандолина, челеста – каждому дан голос первостепенной важности. На закате жизни Малер открыл вокальную симфонию – новый жанр, расцветший в следующие сто лет. Малеровские симфонии могут показаться громоздкими, однако именно Малера своим учителем считали мастера тончайшей камерной музыки, нововенцы Шенберг, Берг и Веберн. А киевлянин Валентин Сильвестров, чей «слабый» стиль вроде бы совсем не похож на героические малеровские полотна, в своей Шестой симфонии обильно цитирует все ту же Пятую Малера, не боясь показаться банальным. Не говоря уже о Леониде Десятникове, сделавшем из Adagietto довольно-таки лихое танго.
Казалось бы, классическая музыка для Джармуша – тема проходная, второстепенная, но так ли это на самом деле? Помимо Малера в двух его фильмах звучат фрагменты Баха и Шуберта: именно они привлекали пристальное внимание Малера. Фрагменты оркестровых сюит Баха он аранжировал по-новому, квартет Шуберта «Смерть и девушка» оркестровал на свой лад, в обоих случаях добавив двум гениям немало от себя. Вряд ли Джармуш случайно соединил в своих фильмах всех троих.
Илья Овчинников«Пес-призрак: путь самурая», 1999
Невидный и неслышный, безымянный и самозванный, он живет в голубятне на крыше, в свободное время упражняясь с мечом; рядом с ним всегда одна книга – зачитанная до дыр «Хагакурэ», старинный самурайский кодекс. Следуя ему во всем, он готов к смерти, чужой или своей собственной, в любой миг. Очевидно, назвать «Пса-призрака: путь самурая» лучшим фильмом Джармуша было бы ничем не подкрепленной вкусовщиной, но вряд ли кто-то поспорит с тем, что созданный здесь центральный персонаж – один из самых сильных, обаятельных и таинственных в галерее созданных режиссером героев.
Для американца или поклонника криминальных жанров «Пес-призрак» – великолепный пастиш, исследование режиссером-постмодернистом кодов гангстерского кино, и в особенности такого их подвида, как фильмы о наемных убийцах. Для зрителя с сильно развитым чувством юмора – превосходная комедия о закате мафиозной эпохи, когда-то воспетой гигантами Нового Голливуда. Для поклонника восточной экзотики и философии – тонкое наблюдение над взаимным влиянием Азии и США. Но для человека европейской культуры эта картина Джармуша, бесспорно, прежде всего – парафраз «Дон Кихота». В финальном списке благодарностей в титрах практически каждая фамилия объясняется прямыми аллюзиями или упоминаниями с экрана, кроме имени Сервантеса: а все потому, что «Пес-призрак» от и до является современной американской фантазией на темы первого европейского романа. Его уникальный сплав романтического с комедийным – тоже оттуда.
Собственно, важнейший вопрос по поводу отнюдь не хитроумного идальго из Ламанчи до сих пор не решен: он фигура все-таки смешная или трагическая? Вроде бы автор планировал посмеяться над устаревшими книгочеями – поклонниками рыцарских романов, – и его читатели тоже покатывались от хохота, пока не возрыдали над вымершей рыцарской этикой, которую вернуть с тех пор так и не удалось. Дон Кихот совершил немало подвигов, но мало какие из них принесли кому-то практическую пользу; он был настойчив в своем безумстве и выпадал из реальности.
Создавая собственного рыцаря печального образа, Джармуш сделал его таким же воспитанным на книгах несгибаемым идеалистом – и тоже с оружием в руках. Впрочем, его кино всегда было чуждо любым формам морализаторства. Пес-призрак обречен не потому, что отнимал чужие жизни (обязательная условность для «киллерского» кино), а потому что провозгласил себя самураем, всегда готовым к смерти.
«Если, укрепляя свое сердце решимостью каждое утро и каждый вечер, человек сможет жить так, словно тело его уже умерло, путь будет для него свободен»[24].
Джармуш не допускал в свой кинематограф никакого смертоубийства; в интервью говорил, что ему нравится огнестрельное оружие – в нем есть что-то глубинно американское, – но он не переносит, когда его пускают в ход. Весь криминальный сюжет «Вниз по закону» обходился без стрельбы, а в «Таинственном поезде» звучало два выстрела – оба по большому счету случайные и не убивавшие никого насмерть, хоть и ранившие. В дурацком, но смешном пародийном малобюджетном спагетти-вестерне Алекса Кокса «Прямо в ад» в 1987 году Джармуш сыграл крошечную роль босса трех киллеров, который в кульминационной перестрелке озабочен только тем, чтобы не запачкать свой белоснежный костюм (уважив пожелание, его убивают выстрелом в лоб).
В «Мертвеце» наружу будто вырвалось долго сдерживаемое. Миролюбивый Джармуш, как его простодушный герой-счетовод, поначалу был единственным безоружным в беспрестанно стрелявшем и убивавшем мире, но вынужденным образом брался за пистолет, постепенно теряя зрение и одновременно становясь неуязвимым снайпером. «Пес-призрак» во многих отношениях продолжает «Мертвеца» – тем более что это следующий игровой фильм Джармуша. И недаром в одной из труднообъяснимых сцен гангстеры, ищущие заглавного героя на крышах, неожиданно натыкаются на индейца Никто (Гэри Фармер), проводника и провидца из «Мертвеца»; он отказывается отвечать на насилие насилием, довольствуясь презрительной фразой: «Глупые бледнолицые».
Что ж, Пес-призрак – не бледнолицый: это первый случай, когда центральным героем полнометражного фильма Джармуша становится афроамериканец. На тот момент 38-летний Форест Уитакер, сыгравший здесь, кажется, лучшую свою роль, еще был далек от будущего «Оскара», но уже прославился и был награжден в Каннах за роль джазмена Чарли Паркера в «Птице» Клинта Иствуда: интересно, что это любимый музыкант Джармуша, но сама картина ему не нравится. Так или иначе Пес-призрак обладает не только своеобразной внешностью (дреды, бородка, серьга в ухе), но и особенной интонацией, сочетающей уязвимость и силу, специфической мимикой, движениями и походкой, буквально гипнотизирующими зрителя. Он фехтует самурайским мечом и даже пистолетом пользуется так, будто это меч. Персонаж завораживает задолго до того, как мы узнаем о нем хоть что-то. Буквально с первого появления.
Здесь, разумеется, заслуга не только актера, но и режиссера, и работавшего на этом фильме с ним в четвертый (пока последний) раз выдающегося оператора Робби Мюллера. «Пес-призрак» решен в мягкой темной палитре, сумеречной или ночной, с густыми цветами; главный герой будто сливается с тенью, растворяется в ней – неизменный капюшон скрывает лицо, прохожие идут мимо, не поворачиваясь, не видя его. Чистый призрак. Герой настолько стремителен, что глаз зрителя за ним не успевает – режиссеру приходится замедлять съемку, чтобы увидеть Пса-призрака за работой. А иногда он идет, буквально исчезая в воздухе и возникая вновь, уже в другом месте: магическое мерцающее изображение в унисон с растворенными в ночи тусклыми огнями размывает грань между реальностью и фантазией. Хотя прямой мистики в «Псе-призраке» все-таки нет, фильм укладывается в рамки условного правдоподобия жанра.
«Хорошо поступает тот, кто считает окружающий мир сном. Если тебе приснится кошмар, то ты проснешься и скажешь себе, что это был всего лишь сон. Говорят, что мир, в котором мы живем, ни в чем не отличается от сна»[25].
Интересно, что все сугубо сновидческие сюжетные элементы позаимствованы Джармушем у его любимых «жанровых» режиссеров другого поколения. Допустим, волшебная машинка Пса-призрака, при помощи которой он способен отпереть любой замок и взломать любую электронную систему (обычно он так ворует машины), явно отсылает к ключам от любых автомобилей у персонажа «Самурая» Жан-Пьера Мельвиля. Сцена, в которой лесная птица садится на прицел оптического ружья, не давая Псу-призраку застрелить противника, прямо заимствована из «Рожденного убивать», хрестоматийного боевика о якудзах Сэйдзюна Судзуки. Обоим режиссерам в финале высказана благодарность. То есть ирреальное в мир «Пса-призрака» приходит из вселенной кинематографа, пусть сам урбанистический пейзаж Джерси-сити и без того преображен камерой Мюллера, впервые, еще на начальных титрах, позволяющего нам взглянуть на город с высоты птичьего полета.
Самая же сюрреалистическая линия картины связана с другого рода киноцитированием – из мультфильмов. Герои классических американских мультиков мелькают на экране: кажется, это единственное, что смотрят итальянские мафиози, на которых в начале фильма работает – а затем с ними сражается до последней капли крови – Пес-призрак. Дурашливая и жестокая анимация предсказывает события фильма. Перед первым явлением Пса-призрака дочь мафиозного босса смотрит сказку о Бетти Буп, гоняющей голубей. Потом сам босс – мультик о коте Феликсе с его чемоданчиком волшебных инструментов (Пес-призрак не расстается с чемоданом, где носит необходимые приспособления и оружие). Перед расстрелом гангстеров в загородном доме Дятел Вуди на экране смеется в лицо самой Смерти, а после финальной дуэли Пса-призрака с Луи Щекотка и Царапка вступают в смертельный поединок, тоже на пистолетах.
Верный малым формам Джармуш складывает клише мафиозного кино в единый сюжет, но дробит его на элементы, следуя собственной максиме – повышенному и едва ли не почтительному вниманию к мелочам, незначительным подробностям жизни.
«Среди изречений, начертанных на стене комнаты господина Наосигэ, было и такое: “К делам большой важности следует относиться легко”. Господин Иттэй заметил по этому поводу: “К делам маловажным следует относиться серьезно”»[26].
Инфантилизация мира джармушевского фильма, где каждый смотрит мультфильмы и верит им, будто пророчествам, превращает персонажей в детей, старающихся не нарушать правил игры, но знающих, что это всего лишь игра. Отсюда – чувство дистанции по отношению к жанру, казалось бы, предписывающему абсолютную серьезность. Недаром гангстеры оказываются бессильными перед капризным ребенком, который швыряется в них из окна игрушками, а Пес-призрак находит общий язык исключительно с девочкой Перлин (Камилла Уинбуш, впоследствии популярная телезвезда). И гангстеры, и герой следуют традициям лишь для того, чтобы было за что держаться; самим мафиози явно неуютно в имидже крутых бойцов – они одышливы, усталы, растерянны. Но аляповатый пейзаж Венеции на стене и правила «семьи» заставляют продолжать в том же духе. При том что у них даже кончились деньги на аренду помещений – боссы ютятся в подсобке китайского ресторанчика и постоянно кормят его владельца обещаниями, что вот-вот заплатят.
Пес-призрак – единственный среди них счастливый человек. Восемь лет назад мафиози по имени Луи (Джон Торми) спас его от уличных хулиганов, застрелив одного из них. Теперь Пес-призрак считает себя его вассалом и служит господину верой и правдой, убивая по его заказу. Таким образом, у его траектории есть смысл, в который он свято верит.
Одна из сквозных книг в фильме – «Расемон и другие рассказы» Рюноскэ Акутагавы; любимый рассказ героя – разумеется, первый, «В чаще», по которому и поставил свой «Расемон» Акира Куросава. Как известно, центральный прием этого текста – показ одних и тех же событий с разных точек зрения, исключающих единую объективную истину. В «Псе-призраке» этот прием проиллюстрирован единственным флешбэком: герой помнит, как Луи убил бандита, который был готов застрелить его самого, а в памяти Луи этот эпизод выглядит иначе – он стреляет в порядке самообороны, и не думая вступаться за чернокожего мальчишку. Роль тинейджера, кстати, сыграл младший брат исполнителя главной роли – Дэймон Уитакер.
Так или иначе, стержень в остальном стандартной интриги – герой-одиночка виртуозно расправляется с целым кланом неумелых противников – держится именно на абсурдной лояльности Пса-призрака Луи. Господин и убивает в финале вассала, который добровольно идет на смерть, вынув обойму из пистолета. Здесь больше влюбленности в традицию и ритуал, чем здравого смысла или действительной привязанности друг к другу: Пес-призрак обязан подчиняться собственному кодексу – так его жизнь не потеряет смысла даже в ту секунду, когда он ее лишится. В этот момент и он, и убивающий его Луи – те же дети, которые отказываются нарушить правила игры. Оба надеются, что так останутся под присмотром невидимого взрослого. Или господина.
«Если бы кто-то спросил, что такое быть самураем, можно было бы ответить так: “Самое главное – это отдаться служению своему господину и душой, и телом”»[27].
Кажущаяся игрушечность конфликта и всего сюжета фильма – ведь зрителю с самого начала ясно, что Пес-призрак сильнее и умнее горстки стариков-итальянцев, ютящихся на задворках китайского ресторана, – уравновешивается задумчивой меланхоличной интонацией. Это та же тоска по невозможности вернуть древний мир, существовавший по отчетливым правилам. Разумеется, такого мира никогда не было нигде, кроме как на страницах книг, но здесь все постоянно читают книги и верят им.
Из этой тоски красавица и дочь «крестного отца» Луиза (Триша Весси) сходится с «красавчиком Фрэнком» (Ричард Портноу), непривлекательным и неприветливым лысеющим хмырем: вроде бы принято бунтовать против властного папаши, находя романтического любовника. За неимением лучшего каждый смиряется с тем, что есть в наличии. Из той же тоски Пес-призрак убивает двух случайно встреченных на дороге охотников, заваливших черного медведя-одиночку: «А вы знаете, что в древних цивилизациях медведей считали равными людям?» – «У нас же не древняя цивилизация, мужик!» – справедливо замечает раненный в колено охотник. «Иногда древняя», – парирует Пес-призрак, стреляя ему в голову.
«Странным местом была эта старая Япония», – констатируют сразу несколько персонажей; каждый из них в эту Японию тайно влюблен. Тут они друг с другом согласны. А в остальном – так ли уж фундаментально их противостояние? Пес-призрак и мафиози не случайно так долго работали вместе, пока случайное недоразумение не заставило их охотиться друг на друга. Они – представители двух вымирающих племен, на каждое из которых Джармуш смотрит с иронией и нежностью. Впрочем, предпочитая Пса-призрака: ведь он одиночка.
Когда возглавляющий клан мистер Варго (Генри Сильва) с удивлением узнает у подопечных имя таинственного киллера – Пес-призрак? что, правда? – он сравнивает его с именами индейцев: Красная Тучка, Черный Лось, Неистовый Конь (Джармуш не мог отказать себе в удовольствии отослать зрителей к своему предыдущему фильму). Его подручный Сонни Валерио (Клифф Гормен) припоминает, напротив, клички рэперов – Ice Cube, Snoop Doggy Dog. «Индейцы, негры – один черт», – меланхолично констатирует третий участник диалога, слегка маразматический консильери (Джин Руффини). После чего они зовут своих подручных, Сэмми Змею и Джо Лохматого. На каждом просмотре эта реплика вызывает взрыв смеха в зале.
«Говорят, что то, что называется “духом времени”, уходит вместе с этим временем. То, что этот дух постепенно исчезает, объясняется тем, что мир приходит к своему концу. Точно так же год не состоит лишь из весны или лета. То же самое верно в отношении дня»[28].
Возвышенность Пса-призрака, его приподнятость над реальностью подчеркнута Джармушем через место его проживания – голубятню на крыше. Там герой медитирует, вспоминает о неизвестном нам прошлом (на стене его лачуги – фотография красивой чернокожей женщины), читает книги и, собственно, гоняет голубей. Их он использует как средство доставки посланий своему заказчику и господину Луи.
Лейтмотив летучей, неподвластной человеку коммуникации – Луи и его друг Винни (Виктор Арго) с трудом каждый раз ловят голубя, чтобы прикрепить к его ноге очередное послание, – в «Псе-призраке» все время приводит на крышу, выше которой смертный ни прыгнуть, ни взлететь не в состоянии; пожалуй, поэтому так впечатляют планы города и пригорода, снятые с вертолета. Над землей гангстеры теряют свое могущество и пасуют перед индейцем по имени Никто. А потом вместо Пса-призрака по ошибке убивают другого безобидного голубятника.
На крышу же приводит Пса-призрака его лучший и до поры единственный друг, французский мороженщик Раймонд (Исаак де Банколе). Он не знает ни слова по-английски, Пес-призрак не владеет французским, но им удается понимать друг друга без слов. Они едят мороженое, и один показывает другому странного человека, который среди города мастерит огромный красивый корабль: как и когда он спустит его на воду, решительно непонятно. Когда они окликают кораблестроителя, тот отзывается по-испански. К комедии непонимания Джармуш добавляет поэзию невербальной коммуникации; в ней Пес-призрак мастер.
«Не существует ничего невозможного. Если человек проявит решимость, он может сдвинуть небо и землю по своему желанию. Но поскольку люди нерешительны, они не могут отважиться на это. Чтобы легко сдвинуть небо и землю, просто нужно сконцентрироваться»[29].
Недаром так легко герой находит общий язык с собакой в парке, понимающей его речь, и с голубями, способными найти путь по его указаниям. А еще, разумеется, с девочкой Перлин, которая, судя по портрету Брюса Ли на ее куртке, тоже мечтает найти сенсея и следовать праведным путем. Пока что этот путь ей указывают книги: значима параллель между чемоданчиком Пса-призрака и красной коробкой для завтраков, которую носит с собой Перлин. Там у нее книги: «Ветер в ивах» (киллер моментально реагирует – отличная вещь!), «Души черного народа», случайно взятая «Ночная сиделка» – к «низким жанрам» Джармуш все же неравнодушен – и «Франкенштейн».
Главной бедой чудовища из великого романа Мэри Шелли было непоправимое одиночество. У Пса-призрака тоже нарушена связь с господином, но себе подобных он найти способен. Умирая, он оставляет заветную книгу, «Хагакурэ», Перлин, и та, целясь из незаряженного пистолета в убийцу своего друга, заставляет того пошатнуться. Девочка и Рэймонд оплакивают его. Вероятно, не только они.
Через поэтичные детали Джармуш наполняет свой фильм единомышленниками Пса-призрака – такими же обломками книжных фантомов и древних цивилизаций: здесь берет начало шутливая конспирология его будущих картин, особенно «Пределов контроля» (где на главную роль взят Исаак де Банколе – бывший мороженщик Раймонд). Они держатся вместе, распознают неслышный код, приветствуют друг друга при встрече. Гангстеры в красном, потом рэперы в синем – они знают Пса-призрака по имени, а тот не скрывается от них. Индеец Никто, гладящий голубя на соседней крыше. В другом очаровательном эпизоде – согбенный старец-мигрант, на которого собирается напасть чернокожий хулиган: жертва насилия вдруг оборачивается мастером кунфу, двумя ударами ноги отгоняющим мерзавца (в роли старика – Ши Яньмин, прославленный основатель храма Шаолинь в США).
Наконец, обозначенный в титрах как Самурай в камуфляже – культовый рэп-продюсер, поэт и композитор RZA, бессменный член коллектива Wu-Tang Clan, автор оригинальной музыки к фильму и составитель саундтрека, неподписанный диск с которым Пес-призрак вставляет в магнитолу каждой следующей угнанной машины. Эти ритмичные аккорды плывут над городом как голубь, как память об ушедшем герое, как надежда на продолжение – уже в чьей-то другой судьбе. Не случайно же в последних кадрах девочка читает оставленную ей книгу о странной древней Японии.
Пора в постель, но спать нам неохота. Как хорошо читать по вечерам! Мы в первый раз открыли Дон Кихота, Блуждаем по долинам и горам. Нас ветер обдает испанской пылью, Мы слышим, как со скрипом в вышине Ворочаются мельничные крылья Над рыцарем, сидящим на коне. Что будет дальше, знаем по картинке: Крылом дырявым мельница махнет, И будет сбит в неравном поединке В нее копье вонзивший Дон Кихот. Но вот опять он скачет по дороге… Кого он встретит? С кем затеет бой? Последний рыцарь, тощий, длинноногий, В наш первый путь ведет нас за собой. И с этого торжественного мига Навек мы покидаем отчий дом. Ведут беседу двое: я и книга. И целый мир неведомый кругом[30].Анна Матасова
Мясная красная луна В царапинах ветвей Внутри зрачка зазубрина Звериней, слюдяней Как будто спрыгнул на карниз Прошел по снам детей Как будто сердце перегрыз И тьма течет с когтей Как будто встал над ямкою Где спит охотник – ша Мои леса, мои поля Моя его душа Зрачок – укол веретена Ресницами – вдоль век Крестами косточки окна Проснись, нечеловек Текут с деревьев птицы вниз И бог шумит в сосне И дети говорят – проснись Мы умерли во снеМузыка: Wu-Tang Clan
В начале 1990-х в поп-музыке сложилась удивительная ситуация – одна из самых многообещающих и новаторских ее форм, хип-хоп, отчаянно нуждалась в героях. Public Enemy, оккупировавшие этот титул с восьмидесятых, к этому моменту утратили фокус. Айс-Ти слишком сильно налегал на тяжелые гитары. Cypress Hill уповали на армию укурков. Снуп Догг геройствовал в основном перед слабым полом. Но в конце 1992 года нью-йоркскую подпольную хип-хоп-тусовку всколыхнул самоизданный сингл «Protect Ya Neck» многоглавого коллектива Wu-Tang Clan. Спотыкающийся бит, мрачные басы, нервные тики в голосах, осколки саундтреков из голливудских фильмов и причудливые тексты. Это было совершенно новое ви́дение хип-хопа, и каждый, кто его слышал, начинал искать в своем лексиконе различные прилагательные превосходной степени.
Уже после того, как Нью-Йорк, колыбель хип-хопа, был захвачен Wu-Tang Clan, люди начали выяснять, кто они такие. Оказалось, что в клане состоит девять человек, которые знают друг друга с детства и выросли в районе Стейтен-Айленд – для хип-хопа терра инкогнита, в отличие от Квинса, Бруклина, Манхэттена или Бронкса. Именно там в собственной студии Wu-Tang Clan записывали на пленку все это безумие. В клане состояли продюсер RZA, диджей 4th Disciple и рэперы под изумительными прозвищами Method Man, Ol’ Dirty Bastard, U-God, Rebel Ins, Raekwon, Ghostface Killah и GZA. Они употребляли столько гонконгских боевиков 1970-х братьев Шо, что боевыми искусствами владели на уровне экспертов. И даже группу свою назвали в честь самого изящного и изощренного стиля фехтования.
На волне успеха в андеграунде Wu-Tang Clan подписали контракт с крупным лейблом BMG – не забыв включить туда пункт о полной свободе в записи сольных альбомов участников. А затем записали свой дебют, изменивший правила игры в хип-хопе: «Enter The Wu-Tang: 36 Chambers». Группа поражала своим стилистическим единством и дисциплиной, крайне удачно сочетавшимися со взрывным гвалтом музыки. На обложке альбома, вышедшего в конце 1993 года, Wu-Tang предстали в образах безликих ассасинов, облачившись в маски и робы с капюшонами. Логотип с заглавной буквой W плотно запечатлевался в сознании. И сразу же становилось понятно, что здесь и сейчас нам бросают вызов.
«Думаешь, что сможешь сразить меня своим мечом Ву-танг? К бою!» – надменно гласил семпл из грайндхауса «Убийца сёгуна» на первой же секунде альбома. Свой район Стейтен-Айленд, «забытое гетто», Wu-Tang Clan называли исключительно Шаолиньскими трущобами. Спорные слова и выражения в текстах заглушались не традиционными для рэпа выстрелами, а хлесткими свистами меча – либо громоподобными ударами кулака. А фоном служили самые бескомпромиссные и сырые биты. Никто не мог объяснить, что все это значит, но все почтительно склонялись и признавали – это сила.
За саунд в Wu отвечал RZA, или же Принс Раким, или же Бобби Диджитал, а по паспорту – Роберт Диггс. Ризза, которому на тот момент было чуть больше двадцати, как и большинство участников группы, в юности промышлял мелкими преступлениями. Но оправдательный приговор после покушения на убийство заставил его пересмотреть жизненные ориентиры. Помимо брутальных битов Ризза виртуозно владел семплами, нарезанными из старых пластинок соула и джаза. Для создания леденящей атмосферы на треках Wu-Tang ему зачастую хватало мотива из пары нот на пианино, создававшего совершенно киношный эффект. Это мастерство он использовал в полную силу в своих саундтреках к фильмам «Пес-призрак: путь самурая» и «Убить Билла». А затем пересел в режиссерское кресло и в 2012 году выпустил фильм «Железный кулак» под патронажем Квентина Тарантино.
Покрыв патиной ориентальности расхожую историю становления мужчины-подростка из неблагополучного района мегаполиса, девять парней из нью-йоркского гетто создали свою альтернативную вселенную. У нее есть собственная аура, философия и эстетика. Эта вселенная привлекает и манит, в отличие от неприглядной реальности за окном студии или за стеной кинотеатра.
Записи Wu-Tang Clan и сольные проекты их участников продаются миллионными тиражами, на них появляются самые мейнстримовые лица вроде Мэрайи Кэри или Мэри Джей Блайдж. Собственная линия одежды, видеоигры, комиксы – Wu-Tang Clan создали полноценную бизнес-модель, по которой действуют все крупные современные игроки хип-хопа, от Канье Уэста до Тимати. Однако на то она и вселенная, чтобы постоянно расширяться. В 1997 году Ризза заявлял в интервью: «Wu-Tang выпустит следующий альбом в 2000 году. А после него мы выпустим комету. Комету. Затем – землетрясение. Потом – Чуму. А дальше мы запустим Новый мир». Подобные амбиции поднимают Wu-Tang Clan над своими соратниками из хип-хопа и ставят их в один ряд с такими визионерами-афрофутуристами, как Sun Ra, Джордж Клинтон, Africa Bambataa и Ли «Скрэтч» Перри.
Илья Миллер«Год лошади», 1997
После выхода на экраны «Года лошади» – фильма-концерта группы Нила Янга Crazy Horse – по Америке прошла волна возмущения. Впрочем, невысокая: за пределами кругов, специально интересующихся кинематографом Джармуша или музыкой Янга, картину практически никто не посмотрел. Авторитетный критик Роджер Эберт провозгласил «Год лошади» худшим фильмом года. Многие до сих пор считают его самым слабым у Джармуша.
Причины разочарования воссоздать несложно. После «Мертвеца» публика разделилась на тех, кто был склонен видеть в magnum opus режиссера претенциозную спекуляцию, и тех, кто обнаружил в черно-белом антивестерне глубокий философский шедевр. Естественно, первых очень раздражали вторые. И если первые радовались тому, что Джармуш в «Годе лошади» показал свое «истинное лицо» поверхностного меломана, эдакого режиссера группи, ездящего за любимым музыкантом в турне и снимающего каждый его чих на видеокамеру, а потом выдающего это за фильм, то вторые, напротив, разочарованно фыркали: после «Мертвеца» хотелось большего, Джим. С какой, спрашивается, стати? Да хоть бы с той, что «Мертвец» ознаменовал начало сотрудничества режиссера с Нилом Янгом, записавшим для картины магнетический гитарный саундтрек. «Год лошади» невольно воспринимался как своеобразное продолжение.
Даже на уровне чисто музыкальной составляющей здесь все совсем иначе, чем в «Мертвеце». Нет ощущения медитации, под которую герой (и зритель) тихо плывет по воображаемой реке от начала фильма к финалу. Нет одинокой гитары, тихих аккордов, дрейфующих по волнам сознания. Вместо этого – энергичный густой рок-н-ролл группы, с которой с 1969 года выступает легендарный канадец Нил Янг. Тех, кто узнал о его существовании благодаря «Мертвецу», ждало суровое разочарование. По всему выходило, что «Год лошади» – фильм в основном для фанатов группы, к числу которых явно принадлежит Джармуш.
Вероятно, так. Но из этого фанатства – а говоря проще, любви – и родился самый нестандартный фильм в карьере Джармуша, где, отступив от авторской гегемонии, он включился во «вселенную Нила Янга» (такое определение ей дает один из поклонников группы в фильме), перешел от игрового в документальное. Джармуш рассказывал о том, как взялся за этот фильм. Сначала снял клип на песню «Big Time», потом его позвали с собой в турне – поснимать, и он отправился, понятия не имея, что из этого получится: еще один видеоклип или что-то более масштабное. «Давай начнем и посмотрим, что выйдет», – цитирует режиссер Нила Янга.
«С гордостью снято на “Супер-8”» – сообщает один из начальных титров – прощайте, эзотерические красоты Робби Мюллера, которыми так завораживал «Мертвец». Грязный «гаражный» звук снабжен здесь соответствующим размытым изображением, прыгающим перед глазами и мелькающим, воспроизводящим зрительское впечатление на концерте, где огромная толпа двигается в ритм музыке, не всегда видя сцену. В скобках: «А также на 16 миллиметров и хай-8 видео». В 1996-м Джармуш сам снимал Нила Янга и Crazy Horse на концертах и за кулисами. Из этого материала сложилась бóльшая часть фильма, но параллельно на экране то и дело возникают архивные фотографии и съемки 1986 и 1976 годов. Десять лет спустя, двадцать лет спустя на сцене все те же четыре неизменных мушкетера, представленные камере в первые минуты фильма: сам Янг – гитарист и певец, второй гитарист и «комедиант» Мануэль Франсиско Сампедро де Виктория (также известный попросту как Пончо), басист Билли Тэлбот и поющий барабанщик Ральф Молина.
Янг протестует против названия группы, красующегося на каждом плакате: «Почему “Нил Янг и Crazy Horse”? Мы единое целое, зачем выделять меня? На моей футболке просто написано: Crazy Horse». В самом деле, на сцене мы видим всю четверку, Джармуш почти не пытается снимать отдельно поющего лидера. Трое мужчин с гитарами, лица с расстояния невозможно различить, создают под ритм ударных живую музыку, заполняющую собой пространство концертного зала – и зрительного тоже. То же равноправие – в интервью, которые они дают между музыкальными номерами.
Как формулирует «невероятный менеджер» (так он обозначен в титрах) Эллиот Робертс, «они играют не музыку, а свою жизнь». Нил Янг подробно, с теплом и юмором растолковывает, что приносит в группу каждый из участников: для него все они – семья. Не случайно среди участников фильма – отец Нила, спортивный журналист Скотт Янг.
Ближе к финалу фильма Янг на камеру общается с доброжелательным блондином – поклонником? – который объясняет, что он и есть Иисус. Почти сразу после этого в фургоне на шоссе сам Джармуш, впервые вышедший из-за камеры, читает цитаты из книги Иезекииля. Янг пытается уточнить – в чем там, бишь, разница между Ветхим и Новым Заветом? И за что Бог так разозлился на человечество? Это вроде того, продолжает певец, как я высадил деревья, а когда они выросли вкривь и вкось, все посрубал? Джармуш, смеясь, соглашается.
Ни Янг, ни Джармуш в бога тут не играют. Певец выходит на сцену равным среди равных, подчеркивая раз за разом: эти песни принадлежат каждому из группы, без Crazy Horse не было бы этого звука и этой музыки. Так и режиссер отдается естественному ходу событий, путешествуя от песни к песне, отказываясь от какой-либо концептуальности в драматургии. Пончо негодует: как так, мы десятилетиями живем и творим вместе, любим друг друга, ссоримся, создаем музыку, ездим по всему миру – старик, да ты своим фильмом даже верхушки айсберга не затронешь! Ты правда думаешь, что придет какой-то голливудский продюсер, задаст два-три вопроса и все сразу поймет? «Я не продюсер, я режиссер, – парирует Джармуш. – А еще сценарист, но этой реплики в сценарии не было».
«Год лошади» весь – из реплик, не записанных в сценарий. По словам режиссера, самой забавной частью работы над фильмом был монтаж: они с постоянным монтажером Джармуша Джеем Рабиновичем сели над материалом и решили организовать его «в духе дзен», не думая о логике и стройности. Так, в 1976-м (кадры сняты за 20 лет до Джармуша) молодые еще музыканты передают по кругу найденный косяк – «Похоже, его здесь забыл Jethro Tull в 1971-м!»; и весь фильм плывет в клубах наркотического дыма, не подчиняясь логике, отказываясь от цельности.
Из этого тумана вдруг все-таки всплывают нежданные реминисценции из «Мертвеца». В одной из архивных сцен музыканты сжигают на столе в ресторане букетик искусственных цветов – такими же торговала Тэль. Под песню «Big Time» на экране вдруг возникает примитивный мультфильм: игрушечный паровозик, сменяющийся кадрами реальных рельсов. Из окна виднеется палаточный лагерь перед каким-то концертом под открытым небом – точь-в-точь индейская деревня. На начальных титрах призраком проскачет верхом загадочный индейский вождь – конечно же, тот самый Неистовый Конь, чье имя дало название группе Нила Янга, легендарный лидер сопротивления американской кавалерии в середине XIX века.
В этом контексте декларативная старомодность музыкального стиля группы получает дополнительное значение – это сопротивление мейнстриму и моде: «Для нас каждый год – год лошади, каким бы он ни был по китайскому календарю», – уточняет Билли Тэлбот. Тем не менее никто не вечен: тема смерти при всей игривости «Года лошади» тоже обозначена здесь через имена и лица бессменного продюсера группы, ее «пятого члена» Дэвида Бриггса, умершего за год до этого турне, и Дэнни Уиттена, когда-то стоявшего у истоков группы, но умершего от передозировки в 1972-м. С другой стороны, упрямое жизнелюбие Crazy Horse сопротивляется жанру реквиема – и над ударной установкой Ральфа Молины развевается «Веселый Роджер».
Хтоническая мощь музыки рождается снова и снова из тьмы сцены, где видны только огоньки зажженных свечей. Продуктивный хаос совместной импровизации – путаного гитарного соло на фоне энергичных, длящихся целую вечность аккордов: это сила самой природы, и недаром фоном для песни «Slip Away» становятся черно-белые облака, расплывающиеся перед камерой, размытые до состояния абстракции. Музыка будто искривляет природу самой натуры – и становится ураганом, как обещает главный хит группы, «Like a Hurricane».
Один раз привиделось, что видел тебя В переполненном прокуренном баре, Танцующей под светом, От звезды к звезде. На далекой лунной дорожке. Я знал, кто ты, Я видел твои карие глаза — Единожды взметнувшийся огонь. Ты словно ураган, А во взгляде – покой. И меня унесло прочь. Туда, где чувства нетронуты Я хочу любить Тебя Но меня уносит прочь… Я – просто мечтатель, Ты – всего лишь мечта. Но ты могла бы быть Кем-то для меня. До того как ты Коснулась моих губ. Это прекрасное чувство, Когда время проскользнуло между нами В нашем мимолетном трипе[31].Эти слова, «Like a Hurricane», – единственные, которые можно разобрать в восторженном монологе немецкого фаната в начале фильма: урагана ждали в 1976-м, в джармушевском 1996-м – и сегодня, в 2016-м, его ждут с тем же нетерпением. Здесь время действия уходит и отменяется, оставляя сцену неожиданно помолодевшему Нилу Янгу. Исполнение финальной песни (после нее эпилогом, уже на финальных титрах, звучит акустическая «Music Arcade») – одновременно кульминация и развязка фильма. Под одну концертную фонограмму органично монтируется запись десяти– или двадцатилетней давности с современной, теперешний старый волчара Янг – с нахальным парнем в красной клетчатой рубашке и, кажется, с той же самой гитарой в руках. Мимолетный трип оказался вечным.
Сергей Круглов
в этой лодке как в зеркале впервые наедине со своим лицом сначала медленно раскрашиваешь потом пытаешься расправить черты (они натекают снова и снова сочась меж пальцев – о мой я!! где ты, песчаный мой домик у кромки воды! —) потом просто касаешься – заповедь о любви: как самого себя – да но только после запятой – да но последнее станет первымМузыка: Нил Янг
В Ниле Янге есть что-то лесное, он как камень или вековой дуб. Седые брови, рубашка в клетку, взгляд исподлобья – он выглядел как плотник или лесоруб, еще когда это было немодно. От музыканта, уже в конце 1960-х стиравшего границы между рок-н-роллом и корневой музыкой Америки, фолком и кантри, естественно ожидать стремления к простоте, – но к Янгу плохо клеится толстовский термин «опрощение». В его жизненной траектории не было наигранной сложности, от которой хотелось бы отказаться. Пока его коллеги устремлялись вверх и в сторону, он всегда оставался где был – как автомобиль, что движется вперед, оставаясь вписанным все в тот же древесно-песчано-скалистый пейзаж. Засыпая и просыпаясь, оказываясь на вершинах разнообразных списков или оставаясь непонятым, безнадежно выходя из моды или обнаруживая себя в ранге прародителя панка и гранжа, к началу XXI века Янг приобрел статус национального достояния, на равных принадлежащего Канаде и Соединенным Штатам, что-то вроде Великих озер. Он – сам себе заповедная территория, хранитель если не вечных истин, то как минимум их понимания, свойственного идеалистическим 1960-м. Наверное, он мог бы подписаться под толстовскими максимами: нет подлинного величия там, где нет простоты, добра и правды. Хотя вряд ли он сформулировал бы свой символ веры настолько книжным языком.
Репортер журнала «Нью-Йоркер», однажды отправившийся брать у Янга интервью, жаловался потом, что тот возил его два часа вокруг своего ранчо, разговаривал в основном междометиями, а на вопрос о литературе ответил, что никогда не читает книг. Тексты Янга действительно существуют как будто до или вне литературы – очень яркие образы, переданные простыми языковыми средствами, как в наивной живописи. Рубленые рифмы ложатся на грубые, с песком, риффы или на блеклые пустынные аккорды. Это музыка, которая прорастает корнями в почву – и стремительно от нее отрывается: даже перевалив за семьдесят, Янг сохранил ломкий и летящий, совершенно детский тенор. Голос, который будто бы вечно вопрошает, зовет, алчет последних истин, скрытых за вечно отдаляющимся горизонтом.
То, что Джим Джармуш обратился именно к Янгу за музыкой к «Мертвецу», можно объяснить вполне рациональными причинами. Подобно другим музыкальным героям Джармуша, он из 1960-х и сохранил идущую из этого времени неспешность и подлинность. К моменту, когда начинал сниматься «Мертвец», Янг вышел из очередного творческого кризиса (в 1980-е рекорд-лейбл подал на него в суд за то, что он записывает альбомы, не похожие на свои), был признан как духовный отец деятелями гранжа, съездил в тур с группой Pearl Jam и вновь приобрел здоровую лютость. Но возможно, здесь сработала интуиция – для фильма о последнем пути требовался музыкант, способный передать это движение за горизонт, растворение в вечности.
Музыку для фильма Янг писал примерно столько же, сколько длится сам фильм, – он заперся с несколькими гитарами в пустом ангаре, включил проектор и записал все, что само сыгралось. «Я играл соло, – говорил потом Янг, – а фильм был моей ритм-секцией». Треки Янга – это музыка, сыгранная как будто на границе великой пустоты, гитарное соло, распадающееся на отдельные звуки и улетающее во тьму, как искры от костра. Сложно себе представить «Мертвеца» с другой музыкой, но кажется, что без этих сломанных нот фильм был бы более плоским, Янг добавил к нему еще одно измерение. «Он очень глубоко копнул, чтобы вынуть это из себя», – говорил позже Джармуш.
Спустя год после «Мертвеца» Джармуш вернул долг – снял документальный фильм о гастрольном туре Янга «Year of the Horse»; больше их пути не пересекались. Янг продолжает регулярно выпускать альбомы – то страстно-гаражные, то умиротворенно-акустические; борется за права фермеров, пишет мемуары, участвует в кампаниях по защите канадских лесов, полей и рек; выпускает собственный аудиофильский аудиоплеер и вообще занимает активнейшую жизненную позицию – пожалуй, это единственный музыкант, который обличал в песнях еще старшего Буша и воспел Обаму, когда тот был ни на что не претендовавшим сенатором от Иллинойса. При этом его вряд ли можно записать по ведомству политического активизма, по крайней мере в российском его понимании: это не громкие медийные акции и не попытки встать под чьи-либо знамена – это логичный вывод из шестидесятнического идеализма, одинокая война против всех. Продолжение пути.
Одно из удивительных проявлений российской любви к Джармушу – серия «Смешариков» под названием «Смысл жизни»: герои мультсериала, потерявшие вкус к повседневным радостям, идут сквозь заснеженные поля к загадочной Кузинатре, которая должна вернуть им утраченный смысл. Все это сопровождают печальные гитарные аккорды, повисающие в пустоте и улетающие во тьму. Именно они позволяют Барашу и Кар Карычу постигнуть скрытую за горизонтом истину: смыслом этого пути был сам путь.
Юрий Сапрыкин«Мертвец», 1995
Пациент скорее жив, чем мертв.
Пациент скорее мертв, чем жив.
В неуверенности на собственный счет пребывает несостоявшийся бухгалтер Уильям Блейк, родом из Кливленда, покачиваясь на морских волнах и уже не чувствуя боли от фатального пулевого ранения. И мы не знаем, что думать о нем и его участи.
Речь не только о «фанатской» теории, согласно которой Блейк умер вскоре после того, как ревнивый сын металлургического магната пустил в него пулю и та застряла в груди. Якобы падающая звезда (одновременно с этим Блейк вываливается из окна) символизирует его смерть, а все последующие события фильма ему – и нам – привиделись в предсмертном бреду. Картина устроена так, что субъективное время/пространство героя причудливо смешано с объективным и однозначной интерпретации событий все равно не отыскать.
Разговор на самом деле не столько о Блейке, сколько о самом Джармуше. «Мертвец» – самый важный рубеж его фильмографии. Адепт малобюджетного независимого кино, лишенного явного драматизма и вообще событий, иронически-невесомого, – за то и любим. Последние на тот момент его ленты, «Ночь на Земле» и «Таинственный поезд», были отчетливо и декларативно фрагментарны – будто нет на свете историй, заслуживающих полного метра. И вдруг такое! Солидный бюджет – самый большой в карьере режиссера, собранный совсем не сразу и не окупившийся в прокате (задержанном на год относительно мировой премьеры в Каннах, которую зал встретил гробовым молчанием). Костюмный, исторический, жанровый фильм. В главной роли – Джонни Депп: даже на тот момент, задолго до Джека-Воробья, настоящая звезда, не альтернативщик-музыкант наподобие Тома Уэйтса или Джона Лури, а троекратный номинант «Золотого глобуса». Наконец, тема – жизнь и смерть, ни много ни мало. Ух.
Неудивительно, что для многих «Мертвец» стал лучшим фильмом Джармуша, его главным творением: авторитетный критик Джонатан Розенбаум, например, считал его шедевром и написал о нем целую книгу. Для других эта картина стала символом падения Джармуша, изменившего своей неброской манере и ушедшего в область спекулятивной философии и эзотерики а-ля Кастанеда и Коэльо. Подобно другим образцам «высокого постмодернизма», «Мертвец» насквозь цитатен и ироничен, но при этом поэтичен и патетичен. Собственно, пафос и юмор сосуществуют здесь так органично, что разделить их невозможно.
В целом, Европа отнеслась к картине более благосклонно, чем Америка (хотя очевидцы рассказывают, что у неизвестного зрителя, выкрикнувшего в Каннах «Джим, это дерьмо!», был отчетливый французский акцент). Книга Розенбаума была издана в Великобритании, а Европейская киноакадемия наградила «Мертвеца» за лучший неевропейский фильм года; других призов картина не снискала. Связано это, безусловно, не только с эстетикой, но и с содержательным пластом, взбесившим многих американцев. «Мертвец» называли «кислотным вестерном», но главное – это вестерн ревизионистский в политическом смысле. Одна из первых его задач – показать Дикий Запад как место/время геноцида коренного населения Америки. В этом смысле «мертвец» здесь – не только бледнолицый Блейк, но и его спутник, воплощающий стертых с лица земли индейцев и носящий говорящее имя Никто. No-body, бестелесный, призрак. Так что эпиграф из бельгийского сюрреалиста Анри Мишо «Желательно не путешествовать с мертвецом» практически в равной степени относится к обоим персонажам фильма – Блейку и Никто.
Мне жизнь в пустыне мать моя дала, И черен я – одна душа бела. Английский мальчик светел, словно день, А я черней, чем темной ночи тень[32].«Мертвец» сегодня считается едва ли не самым аккуратным с исторической и этнографической точки зрения изображением жизни (и смерти) американских индейцев XIX века в игровом кино. Их роли играют исключительно актеры-индейцы, чьи диалоги не переведены, – к слову, они шли без перевода и в прокате США. Гэри Фармер, принадлежащий к народу кайюга, специально для фильма научился языкам черноногих и кри, на землях которых, по сюжету, разворачивается действие фильма. Реконструкция деревни из финала и одежды индейцев проводилась с небывалой тщательностью. После выхода фильма Джармуш сделал все возможное для того, чтобы показывать «Мертвеца» современным потомкам индейцев. Правда, план удался лишь отчасти за неимением достаточного количества кинотеатров.
Так или иначе «Мертвец» не делает скидок для жестоких и безграмотных бледнолицых. С минимальной симпатией показаны лишь те из них, кто оказывается среди себе подобных на правах жертвы, – сам Уильям Блейк, спасенный от преследования индейцем, и убитая бывшим любовником продавщица бумажных роз по имени Тэль. Все остальные – гротескные люди-животные, не способные на жалость и иные сантименты: так, даже оплакивая сына, владелец шахты Дикинсон (последняя роль незабываемо фактурного Роберта Митчема – актера, чей фильм «Дорога грома» ознаменовал первый поход семилетнего Джармуша в кино) еще больше сожалеет о похищенном пегом жеребце.
Джармуш отсылает знающего зрителя к десяткам вестернов. В частности, фраза индейца: «Меня зовут Никто» – название знаменитого спагетти-вестерна 1973 года, а двух помощников шерифа зовут Ли и Марвин в честь звезды вестернов Ли Марвина (но также, как выясняется из позже показанных на экране фамилий убитых, кантри-певца Ли Хэзельвуда и бейсболиста Марвина Торнбери). Режиссер использует десятки жанровых стереотипов: городок поселенцев на Диком Западе, железную дорогу, лесных охотников, торговца-проповедника, охотников за головами и т. д., – но переосмысляет, практически выворачивая наизнанку. «Мертвец» настолько же вестерн, насколько антивестерн.
Никто и Блейк встречают в лесу трех охотников – судя по всему, гомосексуалистов: сыгранным Игги Попом, Билли Бобом Торнтоном и Джаредом Харрисом персонажам шутник Джармуш тоже подарил «говорящие» (на самом деле ничего не говорящие) имена: Бенмонт Тенч – клавишник Тома Петти, Джордж Дракулиас – известный музыкальный продюсер. Кашевар Салли в женском платье (Поп одевался так и на сцене) рассказывает другим перед трапезой сказку о трех медведях. Однако он выбирает необычный ракурс: это история с точки зрения медведей. И финал у истории не такой, к которому мы привыкли, – медведи убивают вторгшуюся в их жилище девочку и сжирают, а из ее шелковистых волос мама-медведица связала свитер для медвежонка. Перевернутая логика жертвы, которая берет инициативу в свои лапы и мстит охотнику: не ее ли принимает на вооружение беспомощный Блейк, когда убивает своих противников, сначала импульсивно и случайно, а затем все более осознанно? И не она ли – стержень вестерна, где правы индейцы, а виноваты во всех грехах бледнолицые?
Разумеется, чучело медведя в кабинете Дикинсона – это тоже герой фильма, будущий трофей главного хищника, вдруг отказавшийся быть трофеем. Когда же Блейк встречает после долгого расставания Никто, тот предстает его глазам голым, одетым только в шкуру медведя и занимающимся любовью с женщиной. Становясь на позицию загнанного зверя, Блейк все чаще путает людей с животными: скажем, пейотовый трип заставляет его принять енота за спрятавшихся в кустах охотников-индейцев. А когда встречает в лесу труп убитого олененка, то, подчиняясь внезапному импульсу, ложится рядом с ним и обнимает его, как брата.
Важнейшая сцена путешествия Блейка, которой открывается фильм, – охота на бизонов. Отключаясь от окружающей реальности, выпадая в сон и снова просыпаясь, герой видит, как постепенно меняется состав пассажиров в вагоне поезда: поначалу среди них встречаются коммивояжеры, женщины, дети, но к концу пути – одни охотники. Лишь он в своем клоунском костюме кажется чужим. Если ты не охотник, то дичь: неизбежность этой формулы проявляется, когда вдруг все, вскочив с мест, начинают стрелять из окон по стадам бизонов, и только Блейк сидит, зажав уши от грохота ружей. Это, кстати, не гипербола, а исторический факт, позволяющий определить время действия картины. В 1875 году правительство США легализовало убийство более миллиона бизонов, считая это лучшим способом избавиться от живших за счет охоты на них индейцев.
Итак, нежелательное путешествие с мертвецом. Начинается оно в тех самых первых железнодорожных кадрах фильма, еще до вступительных титров. Сновидчески перемежаются планы путешественников в вагонах с кадрами стучащих колес поезда, уносящих героя все дальше от дома – Кливленда (очевидно, в глазах персонажей фильма, места скучного и обыденного, но вместе с тем волшебного, непознаваемого и недоступного, как любой точки отправления; об этом помнят зрители «Страннее, чем рай». В финале Никто обещает умирающему Блейку, что тот вернется домой, и несостоявшийся бухгалтер через силу улыбается: «В Кливленд?»). Там остались умершие родители и отвергшая героя девушка: другими словами, прошлое, возврат к которому невозможен.
Изредка останавливаясь на полустанках, машина несет героя все дальше – в свою вотчину, к Городу Машин. Прервать путь раньше времени ему нельзя, он едет до конечной, и это предсказывает его дальнейший путь. Обожающий черно-белое изображение и работающий здесь с ним особенно тщательно, стараясь воспроизвести оттенки серого из тех времен, когда цвет в кино еще не был изобретен, Джармуш снимает противоположность фильму, от которого отсчитывает свою историю кинематограф. «Мертвец» – своеобразное «Отбытие поезда».
Путь Блейка – одновременно инициация, начало жизненного цикла, и его завершение, ведущее к небытию и смерти. В этом Блейк похож на Карла Россмана, молодого героя «Америки» Франца Кафки. Писатель описывал страну, в которой никогда не был (как и его персонаж), и точно так же рассказывает о мифической Америке прошлого Джармуш, открывая ее для зрителя заново. Глазами наивного незнакомца камера скользит по центральной улице Города Машин в начале фильма. Этот проход, пародирующий типичный для вестерна приезд одинокого героя в незнакомый город, позволяет увидеть рядом и колыбель с младенцем, и сколоченный для покойника гроб. А в конце пути высится антиутопическая и сюрреалистическая громада фабрики с бутафорским на вид дымом, типичный завод-Молох из «Метрополиса» Фрица Ланга.
Кстати, изображение «Мертвеца» во многом наследует немецкому экспрессионизму, знакомому не понаслышке оператору Робби Мюллеру – знаковой фигуре послевоенного кино Германии. Когда Никто и Блейк входят в лес с гигантскими деревьями, вспоминаешь уже «Нибелунгов» Ланга – снимавшихся примерно в ту же эпоху, когда Кафка писал свои романы.
В финале зеркально повторяется такой же, как в начале, проход, но уже по деревне индейцев: вновь Блейк увидит и ребенка, и мертвецов. Но здесь выходом наружу из закрытого, обнесенного, как крепость, частоколом пространства будут таинственные врата, ведущие в открытый океан – к финальной точке пути, недоступной и близкой, будто горизонт. Начав свое путешествие на поезде, предприняв его не по своей инициативе, а по воле судьбы (его пригласили на работу, и он отправился на край света), герой на время взял бразды в свои руки – когда учился ездить на лошади и стрелять. Но заканчивается все вновь во всепобеждающей пассивности, в дрейфующей по волнам погребальной ладье. И чем она – не детская колыбель, возвращающая к началу (в Кливленд?), знаменующая цикличность пути?
Предоставь меня печали! Я, истаяв, не умру. Стану духом я – и только! — Хоть мне плоть и по нутру. Без дорог блуждая, кто-то Здесь, в лесах, повитых тьмой, Тень мою приметит ночью И услышит голос мой[33].Вернемся к Кафке и вопросам целеполагания. В «Мертвеце» виден след всех трех его романов. Как в «Замке», Блейк пытается добраться до недостижимой цели, огромной машины производства и подавления воли, чтобы заступить на должность счетовода (так К. из книги Кафки все пытался вступить в должность землемера). Ему без объяснения причин отказывают: опоздал, место занято. По неведению герой нарушает негласную иерархию – пытается требовать свое, входя в кабинет к владельцу, и тот одним жестом описывает будущее Блейка: направляет на него ружье. Причем на стене кабинета висит портрет владельца с ружьем, и его Блейк видит раньше, чем самого Дикинсона. Таким образом, подобно К., Блейк встречается со статичным образом отрицания и изгнания, не дающим шанса на диалог.
Безапелляционность этого приговора напоминает уже о «Процессе», где Йозеф К. без надежды на справедливость идет через абсурдное судилище к предсказуемо кошмарной казни, понемногу оставляя надежду на оправдательный приговор или апелляцию и вовсе не зная, за что он, собственно, осужден. Блейк слишком занят тем, чтобы одолеть своих преследователей и при этом остаться в живых, чтобы задумываться о том, как доказать свою невиновность (убийство сына Дикинсона он совершил в порядке самообороны, убийство девушки и кражу лошади ему приписывают). Трудно не увидеть здесь характерную для Кафки тему экзистенциальной несправедливости бытия, без вины приговаривающего каждого из нас к высшей мере наказания.
Однако самая прямая аллюзия в «Мертвеце» – все-таки на «Америку» (Джармуш мог бы назвать свой фильм именно так, и второе название Кафки, «Пропавший без вести», тоже бы подошло). Ведь роман Кафки начинается с встречи Карла еще на корабле – он прибывает в Нью-Йорк по воде – с кочегаром. Так же и с Блейком неожиданно завязывает разговор кочегар поезда (Криспин Гловер): чумазый от сажи, будто посланец преисподней, он первым сравнивает поезд с лодкой и честно предупреждает горе-бухгалтера, что тот держит путь в ад. Путешествие Блейка схоже еще и с тем, которое проделал другой поэт, Данте. Особенно если вспомнить теорию о том, что умер он в самом начале пути: возможно, все окружающее Блейка – уже загробный мир. Только свою Беатриче (Тэль) он встретил не в финале, а в начале. Зато Никто – идеальный Вергилий, ведущий своего спутника «на ту сторону».
Данте видел в Вергилии свой прообраз и в некотором роде двойника. Никто, безусловно, отражение Блейка. Такой же одиночка, чужак и изгнанник, он отказался от имени Экзибиче, то есть Лжец, данного ему собственным племенем после того, как он совершил путешествие в страны бледнолицых – сначала по «цивилизованной» Америке, а затем и в Англию, за океан. Никто – это ведь еще и Одиссей, то есть странник поневоле, мечтающий о возвращении домой. Пункт назначения обоих, Блейка и Никто, туманен и недостижим; каждый спускался в свой ад и вышел оттуда живым. Поэтому их путешествие – еще и навстречу друг другу. Недаром Никто говорит о зеркале.
Но зеркальное – не только точное, но и перевернутое. «Мертвец», очевидно, вызвал столь активное неприятие на родине режиссера потому, что явил собой именно такое отражение Америки. Это вестерн, в котором не торжествует справедливость. Герой – и не герой вовсе, а слабак: бухгалтер, такая профессия в вестерне могла быть отдана только второстепенному персонажу и непременно показана в комическом ключе. Индеец – не персонаж-помощник, а проводник и учитель, он сильнее и мудрее своего провожатого. И вообще, Америка здесь – страна индейцев, а не бледнолицых. Напротив, все преимущества принесенной на Дикий Запад цивилизации Джармуш отказывается оценивать как благо. Индустриализация, железная дорога – дьявольские машины, несущие разрушение и смерть. Буквально все типовые персонажи вестерна появляются здесь, меняя знак с «плюса» на «минус». Кровожадные и тупые охотники; два комически слабоумных помощника шерифа; проповедник-подлец (Альфред Молина), продающий индейцам зараженные одеяла; наконец, трое охотников за головами. Причем до финала добирается лишь один из них – опытный садист и каннибал Коул Уилсон (Лэнс Хенриксен). В остальных двух есть хоть что-то человеческое, чернокожий Джонни Пикетт (Юджин Бирд) совсем еще мальчишка, а болтливый Конвей Твилл (Майкл Уинкотт) спит по ночам с плюшевым медвежонком, и потому они обречены. Коул убивает их, а одного еще и съедает. Выживает худший. Но и его черед придет.
Темной ночью и чуть свет Люди явятся на свет. Люди явятся на свет, А вокруг – ночная тьма. И одних – ждет Счастья свет, А других – Несчастья тьма. Если б мы глядели глазом, То во лжи погряз бы разум. Глаз во тьму глядит, глаз во тьму скользит, А душа меж тем в бликах света спит[34].Джармуш подвергает сомнению не только торжество справедливости, которая в классическом вестерне бывает превыше закона, но и само жизнелюбие старой Америки, ее хваленую витальность. В его отражении Америка – вотчина смерти, а нагромождение трупов, которое в традиционном вестерне знаменовало бы приближение положительного героя к хеппи-энду, приносит в атмосферу фильма трагический абсурд неразрешимости. Конечно, разоблачение американских ценностей является не самоцелью, а лишь оптикой, позволяющей совершить интересующее режиссера путешествие в смерть. Этой дорогой идет с самого начала наивный Блейк, сам того не замечая, хотя зритель давно все понял.
Как не понять? Бесконечные гробы и черепа проходят сквозь фильм комически-навязчивым орнаментом, будто оформление спальни подростка-гота или студии хэви-металлической группы (позже такая макабрическая атрибутика будет окружать Игги Попа в документальном «Gimme Danger»). Даже перепутанное неприветливым управляющим на заводе Дикинсона имя героя (Блэк, то есть «черный», вместо Блейк) недвусмысленно намекает на траур. Взглянув на Блейка после ритуального приема пейота, Никто видит вместо его лица очертания черепа. Мертвец он и есть мертвец.
В отличие от фанатов фильма, Джармуша (как и Никто) мало интересует, на каком этапе Блейк действительно умрет. Ему любопытней наблюдать за невероятным процессом перевоплощения мирного «клоуна» в убежденного убийцу, за его прозрением, таинственно связанным со слепотой: отдав очки Никто и потеряв зрение, отныне Блейк стреляет без промаха. Из жертвы убийства он неожиданно для себя становится орудием, не знающим осечки. Приближаясь к смерти, несет смерть другим.
Джармуш затрагивает здесь еще одну сакральную и больную для Америки тему – огнестрельного оружия, которое в конечном счете обусловило уничтожение белым человеком коренного населения США. Возможность владеть пистолетом или ружьем – одно из фундаментальных прав американца, и «Мертвец» – медитация на эту тему.
Назвать ее пацифистской было бы непростительным упрощением. Спусковой механизм обеспечивает как бы механическое функционирование интриги, сколько бы ни пытались бунтовать против него наивные персонажи. Появившееся на экране («висящее на стене») ружье непременно должно выстрелить. Случайно выловив пистолет из-под подушки Тэль, Блейк подписывает себе смертный приговор и запускает тот самый процесс трансформации. Огнестрельное оружие в «Мертвеце» не гарантирует ничью безопасность. Напротив, оно служит постоянным напоминанием о собственной смертности, а в конечном счете и своеобразной гарантией смерти.
Джонни Депп становится для Джармуша таким же оружием, безотказным инструментом, в саму конфигурацию которого заложена и его непростительная для Дикого Запада хрупкость, и способность удивлять неожиданным выстрелом. Боевая раскраска, которую наносит на лицо Блейка Никто, будто насечки на ружье, знаменует те внутренние изменения, которые происходят в персонаже и передаются актером при помощи едва заметных нюансов мимики, движения и интонации голоса. Переодевшись в шкуру и сняв очки, он теряет карикатурность горожанина, хотя остается таким же не приспособленным к выживанию слабаком, каким прибыл в Город Машин. Перестает казаться гротескным персонажем и Никто, чей нелепый поначалу облик обретает величественность последнего из могикан. Так уходит невинность и героев, и зрителей. Приходит, как стигматы отложенной смерти, опыт.
Да, согласно заветам тезки героя, «Мертвец» – песня невинности, воплощенной Блейком в его костюмчике, и приходящего со временем опыта, одновременно спасительного и ведущего к смерти. Невинность Блейк теряет с бывшей проституткой Тэль, продавщицей бумажных роз, погибающей после их первой и единственной ночи. Этот единичный опыт – чем не «Имя розы», отсылка хоть к роману Умберто Эко о переспавшем с девушкой монахе, хоть к строчке из «Ромео и Джульетты»: «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Хотя смертельная роза Тэль пахнет исключительно бумагой.
О роза больная! Кто скрытно проник В твой сумрак росистый, Пурпурный тайник? То червь бесприютный, Изгнанник высот, Чья черная страсть Твою душу сосет[35].«Книга Тэль» и «Песни невинности и опыта» – лишь два из ключевых сочинений английского поэта-визионера XVIII века Уильяма Блейка, вплетенных в канву «Мертвеца». Большой вопрос, стоит ли видеть в сложной и темной поэзии Блейка эзотерический ключ к прочтению фильма: Джармуш признается, что аллюзии на его строки и имя главного героя пришли в сценарий в последний момент. Тем не менее принципиально важно, что Блейк-бухгалтер не знаком со стихами своего знаменитого тезки-прототипа, а «дикарь» Никто парадоксальным образом знает их наизусть и постоянно читает с экрана (Джармуш наслаждается, выдавая туманные афоризмы Блейка за древнюю мудрость индейцев, – ему удается ввести в заблуждение и публику, и героя). Почему бухгалтер вдруг обретает способность метко стрелять? Потому что поэт убивает словом и мыслью. «Вы читали мои стихи?» – спрашивает Блейк, спуская курок. И в ответ на просьбу оставить автограф вонзает перо в руку предателя-проповедника.
Поэзия в «Мертвеце» – такая же воздушная и могущественная субстанция, как пейот или табак, о котором каждый встречный постоянно спрашивает некурящего Блейка. Неудивительно, что, так и не научившись курить, к финалу он раздобудет табак – и, как в навязчивом сне, окажется, что табак был необходим лишь ему самому для финального путешествия.
В год выхода «Мертвеца» Джармуш сыграл свою самую, наверное, заметную роль, выходящую за пределы шутливого камео. Это случилось в фильме нью-йоркских режиссеров Уэйна Вана и Пола Остера (Остер также известен как культовый писатель и поэт) «С унынием на лице»; эта полудокументальная ода Бруклину – своего рода продолжение картины с говорящим названием «Дым». В гости к центральному герою, хозяину табачной лавки Огги, там приходит сам Джармуш, чтобы выкурить с ним, своим давним товарищем, последнюю сигарету. Пока они сидят и курят, говорят и о начале сознательной жизни (Джармуш закурил в десять лет), и о связи курения с любовью, сексом и счастьем, и о том, как неразрывно табачный дым связан с обаянием кинематографа… и под конец о том, что сигарета напоминает нам о бренности бытия. Ведь жизнь есть смерть, констатирует Джармуш, попросту и даже со смехом. Этот монолог режиссера – неслышный комментарий к «Мертвецу».
Бывший счетовод, ставший убийцей, исчезает, растворяется в пространстве, словно табачный дым. Кажется, будто этот дым, ядовитый и галлюциногенный, пропитывает пространство фильма и организует сам его неторопливый ход. Каждый эпизод – одна затяжка; между ними – затемнения, по-киношному ЗТМ, напоминающие метод раннего Джармуша («Страннее, чем рай») и предсказывающие одно, самое большое, затемнение в конце пути. И музыка Нила Янга, свободная импровизация на электрогитаре, признанная одним из величайших саундтреков в истории кино, так же свободно и непринужденно, без канвы и развития, ведет нас сквозь лес к финалу. Вместе с ней к берегу океана приближается Уильям Блейк, поэт и бухгалтер.
Он доберется. Живым или мертвым.
Андрей Сен-Сеньков
Jarmusch/Blake. The Clod & The Pebble
«Любовь коготками маленьких пальчиков царапает большую льдинку, Ад. Царапины оттаивают, поднимаясь вверх, как пузырьки, и складываются на небесах в причудливые композиции»: глиняная фигурка. Фигурка – речной камешек: «Любовь в Раю ломает узкие трубочки музыки, которые, падая на упругое дно Ада, извлекают из себя воспоминания звуков в постепенно округляющейся тишине».Jarmusch/Blake. The Fly
Рисунок убийства: тень мертвого мотылька летит по ладони дополнительной линией судьбы и падает в день моей смерти. «Разве картинка белого и черного пятен не служит нам одновременно и образцом того, что мы понимаем под словами “светлее” и “темнее”, образцом “белого” и “черного”?»[36] Убийство рисунка: день моей смерти — линия судьбы, нежно вывернутая ладонью наизнанку.Jarmusch/Blake. The Sick Rose
Больная белая роза: на лепестковых развалинах цветочного лона червь, то открывая глаза, то закрывая их, принимает позы виденных им ранее совокупляющихся животных.Jarmusch/Blake. My Pretty Rose Tree
гравировка по краям раны: будущий хруст подсыхающей корочки в тишине капелек кровиJarmusch/Blake. The Tyger
Тигр: окончание в вопросе «Симметричен ли рисунок на шкуре справа и слева?», исполненном в технике col legno, обычно применяемой при игре на скрипке.Jarmusch/Blake. The Chimney Sweeper
Слеза: маленькой прозрачной вещи-человеку предстоит выбор — из чьего глаза истечь. Перед ней — два равноценных божества, отличающихся друг от друга временем[37] отсутствия в настоящем.Музыка: Том Уэйтс
В пьесе композитора Гэвина Брайерса «Jesus Blood Never Failed Me Yet» неизвестный бродяга поет две строчки; в расширенной версии, выпущенной много лет спустя, под конец к бездомному присоединяется Том Уэйтс. Он не поет с ним в унисон: в одних и тех же словах то запаздывает, то, наоборот, начинает слишком рано. Тем не менее дуэт получается довольно трогательный и многое сообщающий о том, в каких отношениях находится Уэйтс с униженными и оскорбленными: говорит с ними на одном языке. К нему приклеился образ покровителя пропойц, буянов, мелких жуликов и сумасшедших – он и сам для его создания приложил поначалу много усилий. Однако сейчас разница все же заметна: Уэйтс со дна задрипанных мотелей давно поднялся и уехал куда-то в сравнительно тихую жизнь в калифорнийской Сономе.
Тем не менее в мире современной музыки он всегда находился на позиции аутсайдера. Что мы вообще знаем об Уэйтсе? Счастливо женат, трое детей, сын учителей, не особо думавший о музыке до того, как ему в руки попало фортепиано. Он так преуспел в составлении собственной автобиографии, что ее у него как будто и нет. Родился ли он в такси или в госпитале, нашел фортепиано у соседей или в гараже, познакомился с женой Катлин в студии у Копполы или вызволяя ее из монастыря – это абсолютно неважно. Его настоящее «я» скрыто за его героями, которых упорно связывают с ним самим. Ему, однако, это только на руку.
Для Уэйтса всегда была очень важна идея побега. Очень многие его герои уходили в никуда и пропадали. Уэйтс и сам весь состоит из пропаж: человек без биографии, он поет об уходящей натуре потрепанных залов, честных бродяг и вэлфера. Певец с выдуманной, а точнее, тщательно оберегаемой жизнью повествует о том, что скоро исчезнет вовсе. Сколько в этих песнях Уэйтса, знает только он сам – сюжеты эти, конечно, не берутся из ниоткуда. Кроме бурной молодости, проведенной по заветам битников, их источник – новости в газетах: Уэйтс любит их читать, забирая самые дикие истории себе. При этом журналистов, докучающих вопросами, он не очень привечает. Он сам умелый наблюдатель и знает, как лучше рассказать о себе или какой задать вопрос.
Со стороны кажется, что ему в принципе малоинтересно работать с людьми, которых он знает меньше определенного времени. В качестве помощников – в основном старые знакомые: жена, Марк Рибо, Кит Ричардс, Лес Клейпул. Другое дело, что товарищей за жизнь у него накопилось много. В музыке ему интересно сражаться с самим собой. Добавить к песне звуки столовых приборов, нервно клацающих по тарелкам? Почему бы и нет. Использовать в качестве текста полосу объявлений сегодняшней газеты или выкрики торговцев? Проще простого. Запеть фальцетом, прикинуться пыльной версией Брюса Спрингстина, записаться на парковке, пригласить сына диджеем, смешать кантри и музыку со старых пластинок… иногда кажется, что он пробовал все, чтобы сделать свои сирые, непричесанные песни еще интереснее для слушателя.
При этом Уэйтс никогда не скрывал того, что он поп-музыкант. Любит не только экспериментаторов вроде Шёнберга и Парча, но и простые мелодии Tin Pan Alley. По тем, кто поет его песни, от Eagles до Скарлетт Йоханссон, легко определить, что оригиналы могли бы стать хитами. Ему самому это не интересно, он отсеивает своей неприкаянностью лишних, случайных слушателей. С оставшимися ведет разговор о вечном: о смерти, о любви, отцах и детях, изнанке привычного мира.
Возможно, именно поэтому Уэйтсу так легко было влиться в кино – тому, кто видел изнанку Лос-Анджелеса и придумал самого себя, сыграть кого-нибудь другого не так уж и сложно. Практически всегда он играет кого-то не особо важного для сюжета, но запоминающегося: водитель, полицейский, диджей, безумный профессор. Это тоже люди странные, не от мира сего, но не всем из них герои его песен подали бы руку. Больше всего повезло его работам у Джармуша – они как раз кажутся наиболее близкими по духу тому, что Уэйтс конструирует в своих песнях.
Почему, собственно, именно Джармуш воспринимается как режиссер, которого стоит ассоциировать с Уэйтсом? Музыкант долго сотрудничал и с другими мастерами: Роберт Уилсон и Коппола, Эктор Бабенко и Терри Гиллиам – все они не раз звали его на съемочную площадку как актера или исполнителя. Возможно, потому, что Джармушу интересно подыгрывать Уэйтсу, тот отвечает взаимностью. Их беседы, записанные в автомобилях и придорожных кафе, казалось бы, ничем не отличаются от других интервью Уэйтса: в них тоже, скорее всего, нет ни слова правды, что-то и вовсе кажется очевидной выдумкой, что-то можно ненадолго принять за честный ответ. Но ни у кого другого, кроме Джармуша, не получилось поговорить с Уэйтсом так, чтобы за этим чувствовался негласный договор, заговорщическое подмигивание, дружеское понимание. Им интересно говорить ни о чем: о музыке, свалках и автомобилях.
Сыгранный Уэйтсом заключенный Зак во «Вниз по закону» – незадачливый угонщик-любитель, простой неудачник, которому только и хочется, что на волю. А музыкант по имени Том Уэйтс в «Кофе и сигаретах», рассказывающий Игги Попу про то, что он еще и доктор, – возможно, самое близкое к настоящему Уэйтсу, что мы можем увидеть. Но и они лишь разные проявления музыканта, которые в итоге не складываются в одну картину. Уэйтс сам по себе гораздо заметнее, когда он часть чего-то большего – как в «Ночи на Земле», где он лишь написал саундтрек, не очень уютный, если его слушать отдельно от фильма.
Уэйтс, профессиональный разговорщик, появляется у Джармуша тогда, когда тот хочет показать: разговоры ни о чем – это лучшие разговоры. Люди в этих фильмах никак не могут договориться друг с другом и в итоге расходятся в разные стороны, каждый в свое путешествие. Чаще всего – по стране, которая у Уэйтса и Джармуша разная лишь на первый взгляд: оба показывают одноэтажную Америку, где нет места американской мечте. На этом исследовании ее изнанки и странном чувстве юмора они, скорее всего, и сошлись.
Третья роль Уэйтса у Джармуша – это голос по радио в «Таинственном поезде», самый, пожалуй, честный вариант ответа на вопрос: «Кто он?» Кем бы он ни прикидывался за всю жизнь, его голос не узнать невозможно. Но как раз об этом уже было сказано достаточно.
Артем Макарский«Ночь на Земле», 1991
Сесть в такси, потратить там сколько-то времени и не заметить, расплатиться, выйти из такси. Забыть эту поездку, одну из тысяч в твоей жизни. Возможно, она могла бы почему-то стать решающей или хотя бы запоминающейся, но не стала. Джим Джармуш признается, что ему всегда не нравилось, как показывают такси в фильмах: только пассажир сядет туда – как сразу монтажная склейка, приехали. Так он решил сделать картину, полностью составленную из подобных поездок: клиент, шофер, автомобиль, вокруг темнота. Ночь на Земле.
Снималось тоже между делом. По словам самого режиссера, так он среагировал на фрустрацию от подвисания другого, более масштабного проекта (возможно, «Мертвеца»). Сценарий был создан за восемь дней. Сюжеты складывались, а диалоги писались, исходя из актерского состава: друзья и знакомые Джармуша, его круг общения. Хотя самую звездную пару, легендарную музу и вдову Джона Кассаветиса Джину Роулендс с только что вошедшей в моду после двух картин Тима Бёртона Вайноной Райдер, режиссер взял в фильм практически случайно. Не сложилось с другими актерами – двумя мужчинами – для открывающей новеллы альманаха, а две актрисы как раз были свободны.
«Ночь на Земле» наряду с «Кофе и сигаретами» – самый непритязательный и минималистичный фильм Джармуша: все действие за редчайшим исключением разворачивается внутри машины, события сводятся к диалогам. Вместе с тем – самый широкий, масштабный, всемирный: пять новелл снимались в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Герой дебютной картины режиссера «Отпуск без конца» в финале отплывал из Штатов в Париж – туда же отправился сам Джармуш после университета, став убежденным космополитом еще до того, как решил заняться кино. Ева в «Страннее, чем рай» была иммигранткой из Венгрии, Роберто во «Вниз по закону» – туристом, как и пара японцев, Мицуко и Джун, в «Таинственном поезде». Но только в «Ночи на Земле» сам кинематограф Джармуша отправился вместе с режиссером в Европу, где его фильмы в те годы смотрели и награждали охотнее, чем на родине.
Кружится на начальных титрах земной шар, приближаясь к нам до тех пор, пока не превратится в школьный глобус. Это картина-кругосветка. Перед началом каждой новеллы – короткое вступление, ироническая антитуристическая нарезка снятых оператором-лириком Фредериком Элмсом безлюдных урбанистических пейзажей (супермаркеты, рекламные билборды, кафе, телефонные будки и т. д.). Перебивка между новеллами – пять циферблатов с разными поясами, как на стойке регистрации в гостинице. Само по себе такси – зримый образ путешествия, только сниженного, деромантизированного, повседневного. Недаром в «Лос-Анджелесе» таксистка везет свою клиентку домой, в Беверли-Хиллз, из аэропорта. Но и с самолета та сходит, поглощенная разговором по сотовому, не замечая чудесного перемещения в пространстве. В «Нью-Йорке» таксист перевозит клиента из Манхэттена в Бруклин – пересекает мост, будто границу. В остальных трех случаях везет из центра города к его окраине, возвращая (из странствия?) домой. О чем поет в открывающей и закрывающей фильм балладе любимец Джармуша – Том Уэйтс:
И в октябре я полечу домой, гонимый ураганной силой, Прилягу и увижу пугала в лохмотьях на краю полей. Мое имущество – букет цветов над собственной могилой, Но лето позади, я память воскресил И возвращаюсь в старый добрый мир[38].Это отделяет «Ночь на Земле» от других путешествий в предыдущих фильмах Джармуша – там герои покидали знакомый им мир, направляясь в незнакомый с теми или иными целями (приключение, побег, турпоездка), – и неожиданно сближает с мистической основой следующего, «Мертвеца». В отличие от «Мертвеца», здесь эпиграфа нет, но захоти Джармуш добавить в свой международный коктейль щепоть метафизики – вполне мог бы припомнить цитату из Горация: «Всех ожидает одна ночь» (жаль, это сказал не Вергилий, ведь в римской новелле Роберто Бениньи несколько раз упоминает Данте). Ночь в фильме действительно тесно связана с темой смерти, хоть это становится очевидным только в двух последних сюжетах. Но еще ночь – сон, возможно наяву: странный, сюрреалистический, в котором и самое привычное может показаться призрачным или невероятным.
Путешествие есть преодоление дистанции. Организация «Ночи на Земле» связана с установлением и осмыслением этой дистанции – не столько между географическими точками, сколько между людьми. В каждом из пяти случаев она очевидна, хотя не каждые таксист и клиент стремятся навстречу друг другу. Однако «объекты в зеркале ближе, чем кажутся», и, наблюдая друг за другом в зеркальце заднего вида, персонажи фильма нет-нет да и узнают в незнакомце себя. Не случайно почти у каждого из них где-то за кадром есть братья. И недаром у таких не похожих друг на друга героев второй новеллы неожиданно оказываются почти одинаковые ушанки. Пусть для одного из них, уроженца далекого Дрездена, это тяжелое наследие «совкового» гэдээровского стиля, а для второго, бруклинского модника, – актуальный аксессуар.
В «Лос-Анджелесе» Корки (Райдер), низкорослая девчонка-таксистка в джинсах не по размеру и бейсболке с развернутым назад козырьком, одновременно курящая сигарету за сигаретой и жующая жвачку, – антипод элегантной немолодой Виктории (Роулендс), с ее безупречной укладкой и дорогим черно-белым костюмом от Tiffany. Здесь и возрастная, и социальная разница. В «Нью-Йорке» клиент по имени Йо-Йо (Джанкарло Эспозито, тогда только-только набиравший известность после ролей второго плана у Абеля Феррары и Джона Лэндиса) так же мало похож на водителя Хельмута (легенда европейского кино немец Армин Мюллер-Шталь, снимавшийся у Фассбиндера и Иштвана Сабо). Их, кроме возраста и социального положения, разделяет еще и раса – один черный, другой белый – и укорененность в здешнем пространстве, поскольку Йо-Йо – местный, а Хельмут – иммигрант. В «Париже», впрочем, уже водитель (Исаак де Банколе, на тот момент известный ролями у Клэр Дени – бывшей ассистентки Джармуша) черный и при этом иммигрант из Кот д’Ивуара, а пассажирка (Беатрис Даль, секс-символ молодого французского кино после «37,2° утром» Жан-Жака Бенекса) – белая, здешняя… и слепая.
Кажется, что дальше некуда, однако Джармуш шутя повышает планку: сексуально озабоченный, не замолкающий ни на секунду таксист (Роберто Бениньи, после «Вниз по закону» и первых «Кофе и сигарет» – близкий товарищ режиссера) в «Риме» везет католического священника (Паоло Боначелли, Герцог из «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини) – профессионально целомудренного, молчаливого, немолодого и явно нездорового. Правда, в финальной новелле «Хельсинки» единственным принципиальным отличием таксиста Мики (Матти Пеллонпяя, товарищ и альтер эго Аки Каурисмяки) от трех пассажиров остается вроде бы его печальная и стоическая трезвость – хотя дальнейшая беседа обнажает иные сущностные различия.
Разумеется, «Ночь на Земле» могла бы – и имела бы право! – оставаться альманахом, составленным из эпизодов-анекдотов, формально объединенных двумя из трех единств – времени (одна и та же ночь) и фактически места (города разные, но такси есть такси). Конечно, Джармуш ненавязчиво предлагает нечто большее. Конфликт, даже если он не сложился, и сюжет, даже если он едва намечен, каждой новеллы так или иначе отзываются во всех остальных, как слышится в них всех чуть глумливый музыкальный лейтмотив за авторством Уэйтса.
Джармуш не случайно начинает с Лос-Анджелеса, где базируется Голливуд – предельно чуждая для него империя кинематографической коммерции, на которую работает кастинг-директор Виктория, – и заканчивает в Хельсинки, родном городе братьев Каурисмяки, бессребреников и противников голливудской гегемонии, в чью честь названы двое персонажей новеллы, шофер Мика и смертельно пьяный Аки. «Ночь на Земле» – среди прочего фильм о природе и назначении кинематографа. Виктория безуспешно ищет молодую актрису для заведомо успешного фильма и, понаблюдав за естественными манерами и независимым поведением Корки, делает ей невероятно щедрое предложение: попробоваться на эту роль. Но та, даже без легкого сожаления в голосе, уверенно и вежливо отказывается. Она совершила свой выбор – хочет стать автомехаником, хоть это и «неженская» работа: Корки не интересуют слава и успех.
«Мне нравится кино, но я не считаю это настоящей жизнью», – коротко резюмирует она, и довольно трудно не услышать за этими словами голос самого Джармуша. Корки отвергает карьеру в кинематографе, а Виктория, судя по всему, от этой карьеры смертельно устала – в последнем кадре она даже не хочет поднимать трубку бесконечно трезвонящего телефона. Зато слепая девушка из новеллы «Париж» неожиданно заявляет таксисту, что иногда ходит в кино: ей удается его слышать и чувствовать. Как только разговор о кино уходит из рациональной плоскости в сторону абсурда и поэзии, он вновь становится интересным для Джармуша и его зрителя.
Тема профессии актуализируется в «Нью-Йорке», где немец Хельмут оказывается в буквальном смысле слова профнепригодным – он не только не знает города, но и не разбирается в управлении собственным автомобилем, а также не говорит по-английски и путает право и лево. Йо-Йо меняется с ним местами, усаживаясь за руль, – и это, вместе со сходством головных уборов, показывает призрачность разницы между клиентом и водителем. Оказывается, по своей первой профессии Хельмут – клоун. Карнавальное переодевание, перемена мест, немудрящий фокус со спрятанным долларом, сочетание противоположных амплуа (активно-агрессивный Йо-Йо и мягкосердечный добряк Хельмут) – все это напоминает о цирке или ярмарке; соответствующий саундтрек обеспечивает не только Уэйтс, но и сам немец, исполняющий незатейливые мелодии сразу на двух дудочках. Двум героям новеллы смешным друг в друге кажется буквально все, начиная с имен. При том что ситуация каждого, с его собственной точки зрения, скорее драматична. Конец новеллы, когда заблудившийся Хельмут кружит по Бруклину, тоже окрашен меланхолией, невзирая на клоунский красный нос неумехи-водителя. И его последние слова: «Деньги для меня не нужны» – явно отражают собственное кредо Джармуша.
«Ночь на Земле» местами кажется комедией, но более пристальное внимание к фильму позволяет увидеть его более сложную основу; и забавное, и трагическое преподнесено без нажима и акцентирования. Джармуш отказывается видеть смешное там, где его видят другие. Так, в «Париже» таксист высаживает двух нетрезвых пассажиров-расистов, потешающихся над происхождением водителя (в самом деле, слово «ivoirien», то есть «ивуариец», звучит почти как «il voit rien» – то есть «он ничего не видит»). Точно так же режиссер избегает мелодраматического штампа, согласно которому слепота приравнивается к несчастью. Слепая девушка лучше знает дорогу к своему дому, чем водитель, и угадывает сумму на счетчике, не желая принимать благотворительную скидку. Как ее ни расспрашивает впечатленный водитель, ему не удается найти слабость пассажирки – буквально во всех аспектах, от секса до искусства, она оказывается уверенней и успешней, чем он.
Тема слепоты и прозрения – тоже сквозная. Она и в том, как таксист и клиент не в состоянии сразу рассмотреть и понять друг друга; и в самой ночной атмосфере, снижающей поле обзора; и в мелких деталях – например, темных очках, которые «надел утром и забыл снять» таксист Джино (Бениньи) в новелле «Рим». Точно так же он, слишком увлеченный собственным рассказом, не видит, как постепенно теряет сознание и умирает священник на заднем сиденье.
Сюжет «Рима» – не менее рискованный, чем водительская стратегия Джино. Он принципиально ездит по ночным односторонним улицам итальянской столицы в запрещенном направлении (в эту игру Бениньи на самом деле играл с Джармушем, когда тот приехал к нему в гости) и курит в салоне автомобиля, где красуется табличка «курить запрещено». Кстати, эту табличку он выбрасывает в окно, как в предыдущей новелле таксист прячет другую табличку, позволяющую пассажиру выбрать маршрут на свое усмотрение: нонконформист Джармуш против любых запретов и законов. Чем комичнее пародийно-порнографический рассказ Джино о том, как он потерял невинность с тыквой, потом совершенствовал любовную технику с овцой и только после этого увлекся женой родного брата-водопроводчика (похоже, внутренняя цитата из новеллы «Нью-Йорк», где Йо-Йо ловит свою невестку Анджелу за предполагаемым распутством на улице Манхэттена и везет на такси домой), тем хуже «епископу», безмолвно умирающему сзади. Возможно, ему стало плохо именно из-за фривольных россказней таксиста, как назло, то тормозящего около совокупляющейся прямо на площади парочки, то останавливающегося посудачить с проститутками-трансвеститами. Но наверняка мы не знаем и этого. Джармуш тщательно избегает и назидательности, и садизма, выстраивая трагифарсовую мизансцену, в финале которой не на шутку напуганный Джино высаживает мертвого священника на скамейку, прикрывая его окончательную «слепоту» своими уже бесполезными темными очками.
Встреча эроса и танатоса в вечном городе, заканчивающая на неожиданно брутальной ноте самую уморительную новеллу фильма, готовит зрителя к завершению – меланхолическому Хельсинки. Это ответный визит Джармуша, за год до того снявшегося в абсурдистской комедии Аки Каурисмяки «Ленинградские ковбои едут в Америку», – там его персонаж, нью-йоркский продавец машин и прожженный мошенник, продавал наивным финским рокерам за их последние 700 долларов совсем не ездящий кадиллак. Псевдопутешествие, почти пародия на road movie, где внутренний путь важнее фактической траектории, происходит в обоих фильмах: и в том, где Джармуш снялся, и в том, который он снял.
В Хельсинки двое нетрезвых товарищей рассказывают таксисту Мике о невеселой судьбе их третьего, уже благополучно отрубившегося коллеги. В течение дня бедолага был уволен с работы, его машину разбили, шестнадцатилетняя дочь забеременела, а жена пригрозила разводом и выгнала из дома, угрожая огромным ножом (то ли для мяса, то ли для хлеба, версии расходятся). В ответ Мика рассказывает собственную историю. Здесь Джармуш заходит на территорию чистой мелодрамы, которой, собственно, не брезгует и вдохновивший его на эту новеллу Аки Каурисмяки. Мика оказывается несчастным отцом, потерявшим долгожданного ребенка, которого так и не смогли спасти врачи. Самая суть драмы концентрируется не в фактической стороне событий, как это происходит в случае пьяного неудачника, а в их переживаниях – решении родителей все-таки полюбить новорожденную девочку, чтобы придать ей сил своей любовью, и опустошенности ее смертью.
Актерский гений Пелци (под таким прозвищем знали Пеллонпяя его друзья), актера и рокера, трагически рано ушедшего из жизни через четыре года после премьеры «Жизни на Земле», очевиден в его недлинном обстоятельном монологе, по-брехтовски отстраненном и флегматичном, моментально отделяющем актерскую буффонаду трех нетрезвых друзей от будничной и трезвой катастрофичности жизни. Соприкасаясь друг с другом по касательной, траектории судеб представляются гротескными и смешными. Это, разумеется, утешительная иллюзия. Ты расплатился и вышел, а такси свернуло за угол и пропало из поля зрения еще до того, как зритель успел примерить чужой опыт на себя и почувствовать его как собственный. Хочется резко перестать смеяться. Впрочем, как мы видим, ночь кончилась. Восходит солнце.
Андрей Родионов
Идет дождь с голубым снегом небольшие острова света среди ночного простора по улице Тверской опять мчится какой-то сукин сын опять я шепчу Такси-Москва Полночь в Москве. Таксист какой-то неразговорчивый «Сегодня я разговорился вдруг в такси» Я разговаривать в такси ненавижу Глядя на фонари молча едем Мой девиз краток – как глубокий сон позволяет он слиться с окружающей меня темнотой и сейчас из всех знакомых мне имен – так мне кажется я назову шоферу имя той девушки той девушки, которая мелькнув над крышами упала в какой-то московский двор но почему не слышно слов когда их говоришь и вечно улыбается шофер теперь до самого утра будет холодно ряды бледных окон за каждым углом, на каждом доме одна бутылка белого вина и половина ведра водки и лампочка горит под самым потолкомМузыка: Джо Страммер
Кто знает, каким был бы панк-рок, да и вся современная гитарная музыка, если бы не лондонский квартет The Clash и его фронтмен Джо Страммер (от английского «strum» – «бренчать»; настоящее имя – Джон Грэм Меллор). Подобно музыкальному жанру, с которым его имя неразрывно связано, сын британского дипломата, успевший в раннем детстве пожить в Турции и других странах, сочетал в себе многие противоречивые черты, из которых в итоге сложился не только творческий почерк самого Джо, но и правила целого культурного направления.
Страммер не вписывался в британскую сцену 1970-х. Он поздно увлекся музыкой – будущий борец с дискриминацией и автор песен протеста взялся за гитару в 21 год. Перевернувшие одним выступлением его взгляд на мир музыканты The Sex Pistols в этом возрасте уже выпустили свой единственный альбом, который сотряс оба континента настолько мощно, что отголоски этого взрыва слышны до сих пор.
Бэкграунд Страммера во многом отличался от биографии как соратников по сцене, так и коллег по The Clash: у него была возможность выбирать. Он получил образование в одной из лондонских частных школ, поступил в художественный колледж, который бросил, выбрав путь музыканта. В отличие от ехидного Джонни Роттена, фронтмен The Clash, по собственному признанию, всегда больше думал о человеке и о Боге, чем о сексе и наркотиках. The Sex Pistols призывали к уничтожению существующей системы, не предлагая ничего взамен, а песни The Clash при всей суровости были вполне оптимистичными. В них содержалась надежда.
Первый одноименный альбом «The Clash» (1977) состоял из хлестких и бьющих точно в цель социальных песен, которые поначалу даже побоялись выпускать в США из-за излишней жесткости и непричесанности. Несмотря на то что в заглавной песне «White Riot» Страммер сотоварищи призывали белых парней бунтовать наравне с черными, сам Джо никогда особой физической мощью не отличался. Бытует легенда, что до основания The Clash Страммер носил менее звучное прозвище Слабак Вуди (Weedy Woody). Он страшно испугался, впервые увидев будущих соратников по группе в очереди за пособием, – музыкант подумал, что пристально изучающие его глазами гитарист Мик Джонс и басист Пол Симонон готовятся избить своего будущего вокалиста.
Тем не менее молодецкой отваги фронтмену The Clash было не занимать. Во время беспорядков в лондонском районе Ноттинг-Хилл, которые вспыхнули в ответ на жесткие действия полиции против местных карибских эмигрантов, Страммер на пару с басистом Полом Симононом пытались сжигать и перевертывать полицейские машины, а также поучаствовали в столкновении со стражами порядка, за что были арестованы.
Мощный коммерческий успех The Clash по обеим сторонам океана позволил Страммеру и его соратникам удариться в эксперименты настолько смелые, что едва ли кто-либо из панков тех лет мог себе позволить нечто подобное. К записи второго альбома «Give ‘Em Enough Rope» (1978) участники группы сразу начали готовиться на Ямайке. Свою страсть к скрещиванию стилей и экспериментам с неизвестным на следующих альбомах, «London Calling» (1979) и «Sandinista!» (1980), The Clash довели буквально до абсурда, записав по несколько песен чуть ли не во всех интересных им жанрах – от реггей, ска и даба до рокабилли, фанка и даже рэпа. С каждым шагом все дальше отходя от традиционного панк-рока, а скорее намеренно забывая о нем, Страммер сломал характерные для тех лет стереотипы о том, какую музыку стоит играть и слушать белым людям, а какую – черным.
Было бы странно, если бы при таком подходе The Clash исповедовали взгляды, отличные от космополитических, – в первых интервью Страммер открыто заявлял о своих антифашистских взглядах, что было весьма смело, учитывая значительное количество агрессивных сторонников британского Национального фронта, которые в 1970-е активно ходили на панк-концерты. Так Страммер сформулировал один из главных постулатов панка, который до сих пор остается важным отличительным маркером этой субкультуры от других.
Комфорт и лоск во время туров были, возможно, единственным, чем группа не решалась пожертвовать. Даже когда дела команды были совсем плохи, Страммер сотоварищи предпочитали останавливаться по возможности в наиболее фешенебельных отелях. Впрочем, в долговую яму музыканты тоже загоняли себя сами, принципиально не повышая стоимость билетов выше трех долларов и настаивая на том, чтобы их двойные и тройные альбомы продавались по цене одной пластинки. Все убытки, связанные со столь дружелюбной по отношению к слушателям политикой, музыканты были вынуждены компенсировать из собственного кармана. Вокалист позднего состава Sham 69 Тим В. рассказывал, что даже в последние годы жизни, когда Страммер принимал гостей у себя в особняке, облаченный в пижонский дорогой костюм, Джо никогда не задирал нос, оставаясь милым и приветливым с не столь успешными друзьями с панк-сцены.
Вскоре после выхода самого неудачного альбома группы «Cut the Crap» (1985) The Clash перестали существовать. Распад главного дела его жизни не заставил Страммера опустить руки. Напротив, он как будто решил начать жить в два раза интенсивнее прежнего. «Наступило мое бабье лето. Я понял, что популярность – это иллюзия, а все, что с ней связано, просто ничто. Сегодня я гораздо опаснее, чем раньше, потому что мне на все это наплевать», – рассказал Страммер в одном из интервью 2000 года. После 1985-го он выпустил несколько сольных пластинок, ездил в затяжные туры с The Pogues, записывал саундтреки к фильмам, снимался у Джима Джармуша и Аки Каурисмяки, последовательно собрал две новые группы The Latino Rockabilly War и The Mescaleros, дал бесчисленное количество благотворительных концертов и записался со множеством знаковых музыкантов, в том числе с Джонни Кэшем и Боно.
Новость о внезапной смерти Страммера в 2002 году от сердечного приступа была шоком для всех, кто его знал, любил и слушал. Через год The Clash, между участниками которой едва начал вновь таять лед, должны были принять в Зал славы рок-н-ролла, однако это произошло лишь посмертно. Страммер навсегда остался тем непререкаемым и слегка наивным идеалистом, которого так не хватает всем ищущим людям, уставшим от необходимости постоянно прогибаться под систему. Джо показал, что бывает иначе. И что будущее не предрешено.
Максим Динкевич«Таинственный поезд», 1988
Даже когда герои Джармуша сидят на месте, они вечно пребывают в ожидании: когда уже в путь? Жанр американского road movie режиссер переосмыслил в своем парадоксальном духе: редко показывая перипетии пути как такового, он поместил в сердце каждой картины скрытое движение, и неважно на каком транспорте – самолете, поезде, автомобиле. А то и просто пешком.
В его четвертом полнометражном фильме это поезд, таинственность которого сомнительна. Как, собственно, и в первоисточнике, известной одноименной песенке Элвиса Пресли «Mystery Train»: «Поезд, в котором я еду, шестнадцать вагонов длиной, этот длинный черный поезд забрал мою любимую и уехал». В начале фильма он прибывает на вокзал Мемфиса, города короля рок-н-ролла, а в конце таки увозит возлюбленную одного из неудачливых персонажей – безработного Джонни, также известного под прозвищем Элвис. А между тем служит лишь едва ощутимой связью для трех новелл – в ранних фильмах Джармуш свято соблюдает трехчастную структуру, впервые нарушая ее в «Ночи на Земле», – герои которых выглядывают в окно или идут по улице, слыша шум идущего мимо поезда и наблюдая его вдали.
Таинственность – разве что в том, как причудливо слепляются судьбы различных людей, по случайности оказавшихся в разных купе одного поезда. Или в соседних номерах одной гостиницы в течение одной и той же ночи, как случилось с персонажами фильма. Три разножанровых сюжета, по сути, представляют собой вольные вариации на близкие темы.
Формально «Таинственный поезд», конечно, комедия, и очень смешная, местами абсурдная. Однако в ее центре – идея смерти и бренности бытия; Джармуш медленно подбирается к уже задуманному им «Мертвецу». Мемфис, где происходит все действие картины, – город-пантеон, туристическая мекка, куда со всего мира съезжаются поклонники Элвиса и других легендарных артистов студии «Сан». Все дышит умиротворенным кладбищенским упадком, и единственный бар, который мы видим на экране, называется «Тени» (позже точно так же Джармуш назовет бар в другом городе, Патерсоне).
В отеле «Аркада», по-ночному загадочном и пустынном, за стойкой двое – подобный суровому величественному Харону портье в ярко-красном пиджаке и галстуке (блюзмен Скримин’ Джей Хокинс, чья великая песня звучала в «Страннее, чем рай») и его помощник-бес, мальчишка-носильщик (Синке Ли, давний друг Джармуша и младший брат режиссера Спайка Ли). В каждом номере на стене – портрет именитого покойника, Элвиса Пресли. Недаром именно здесь Луиза (жена Роберто Бениньи, итальянка Николетта Браски), героиня второй новеллы, встречает призрака короля рок-н-ролла, а Джонни (лидер британской панк-группы The Clash Джо Страммер, партнер Джармуша по комедии «Прямо в ад»), герой третьей новеллы после совершенного в состоянии аффекта убийства пытается покончить с собой.
Шутливо-макабрическая интонация фильма напрямую перекликается с «Кентерберийскими рассказами» Джеффри Чосера. Его именем названа улица, по которой бредут герои первой новеллы – японские туристы Джун (Масатоси Нагасэ) и Мицуко (Юки Кудо): этот фундаментальный для англоязычной литературы средневековый текст, по собственному признанию режиссера, повлиял на фрагментарную структуру его фильма.
Взгляните вы на камень при дороге, Который трут и топчут наши ноги: И он когда-нибудь свой кончит век. Как часто сохнут русла мощных рек! Как пышные мертвеют города! Всему предел имеется всегда. Мы то же зрим у женщин и мужчин: Из двух житейских возрастов в один (Иль в старости, иль в цвете юных лет). Король и паж – все покидают свет. Кто на кровати, кто на дне морском, Кто в поле (сами знаете о том). Спасенья нет: всех ждет последний путь. Всяк должен умереть когда-нибудь. Кто всем вершит? Юпитер-властелин; Он царь всего, причина всех причин. Юпитеровой воле все подвластно, Что из него рождается всечасно, И ни одно живое существо В борьбе не может одолеть его. Не в том ли вся премудрость, Бог свидетель, Чтоб из нужды нам сделать добродетель, Приемля неизбежную беду, Как рок, что всем написан на роду? А тот, кто ропщет, – разуменьем слаб И супротив Творца мятежный раб. Поистине, прекрасней чести нет, Чем доблестно скончаться в цвете лет. Уверенным, что оказал услугу Ты славою своей себе и другу. Приятней вдвое для твоих друзей, Коль испустил ты дух во славе всей, Чем если ты поблек от дряхлых лет И всеми позабыт покинул свет. Всего почетней пред молвой людской В расцвете славы обрести покой[39].Третья новелла, «Потерянные в космосе», – криминальная комедия, в чем-то предсказывающая Тарантино история трех незадачливых приятелей. Двое, депрессивный лже-Элвис Джонни и его приятель Уилл Робинсон (звезда стендапа Рик Авилес), только что уволены с работы, а Джонни еще и оплакивает расставание с гражданской женой. Ничего об этом не подозревающий его шурин-парикмахер Чарли (Стив Бушеми) присоединяется к ним, чтобы попробовать усмирить нетрезвого Джонни: у того в кармане пистолет. В итоге Джонни стреляет в продавца ночной лавки, обидевшись на расистскую ремарку, и они спасаются бегством в гостиницу «Аркада», где им бесплатно по знакомству дают самый обшарпанный номер – все равно украшенный портретом Элвиса. Этот номер, где ободраны обои и толком не работает электричество, – будто воплощение призрачного Мемфиса, каким его видит Джармуш. Джонни уверен, что здесь примет смерть, которая разрешит все его невзгоды.
Вторая новелла так и называется – «Призрак». Луизу мы встречаем в аэропорту, у гроба ее мужа, о котором мы так ничего не узнаем – кроме того, что самолет может увезти его тело на родину, в Рим, только на следующий день (клерка в аэропорту играет Сара Драйвер, подруга Джармуша). Браски, чудо-фея из «Вниз по закону», на этот раз сама оказывается в неизвестном городе, где ее, чужестранку, тут же дважды обманывают. Газетчик раскручивает героиню на покупку нескольких дорогих и совершенно ей не нужных журналов, а первый встречный в придорожном ресторанчике продает ей «расческу Элвиса Пресли», подаренную ему призраком короля, за десять долларов. Луиза платит двадцать, только чтобы отвязаться.
Уже после этого она оказывается в гостинице «Аркада», где ей навязывается – вновь по финансовым причинам – непрошеная сожительница, та самая бывшая подружка Джонни – Элвиса, говорливая Ди Ди (Элизабет Бракко: забавно, что коренную американку рядом с приезжей итальянкой сыграла актриса итальянского происхождения). Ложась спать, они рассказывают друг другу истории. Луиза пересказывает байку о призраке Элвиса, Ди Ди лениво отвечает, что слышала ее тысячи раз. Но как только она засыпает, дух Элвиса в блестящем пиджаке и правда материализуется в комнате. Правда, уточняет, что явился сюда по ошибке, и снова тут же испаряется.
Синхронизация трех новелл – выстрел, который раздается в комнате Джонни, Уилла и Чарли: его отзвук (призрак?) слышен в других двух номерах. Выстрел ранит Чарли в ногу, так и не оказываясь фатальным. Это лишь имитация убийства, как и выстрел в ликеро-водочном магазинчике: радио сообщает, что продавец только ранен. Да и Джонни с его модной прической и отрешенным выражением лица – не Элвис, как ни храбрится. «Мужская» история подана с едкой, хоть и не злой, иронией. «Женский» сюжет, напротив, утопает в мистическом тумане: и гроб с невидимым и погибшим неизвестным образом мужем, и тень Элвиса романтически сообщают о смерти, но обе героини погружены в сугубо житейские заботы.
Наконец, первая новелла, «Вдали от Йокогамы», – о мужчине и женщине, молодых японских влюбленных, которые постоянно спорят и ругаются, и это лишь скрепляет их союз. По словам Джармуша, из сюжета о конфликтующей паре родился весь фильм – еще до того, как он впервые подумал о Мемфисе и Элвисе. Эти двое разыгрывают перед камерой, кажется, единственную эротическую сцену в творчестве Джармуша. Пока в соседних номерах (и сюжетах) оплакивают разрушенные отношения, своей жизнелюбивой чужеродностью японцы противостоят мертвенным руинам Мемфиса. Попросту приносят в картину счастье. Хотя это счастье специфическое: Мицуко в гостиничном номере напрасно пытается развеселить неподвижного Джуна, корча рожи, и наконец смачно целует его густо намазанными губами, превращая его рот в клоунскую нарисованную улыбку. «Ты хоть сейчас немножко счастлив?» – спрашивает она. «Я был счастлив и до того», – не меняясь в лице, отвечает он.
Кстати, после двух черно-белых картин Джармуш и Робби Мюллер осознанно решили сделать «Таинственный поезд» цветным, избегая ярких цветов и теплых тонов. Исключение сделано только для одного цвета, маркирующего чужеродность, иностранность: красного. Это красные губы Джуна и Мицуко (в самом первом кадре, где она появляется, японка красит губы), а также их красный чемодан. И, загадочным образом, костюм импозантного ночного портье – единственного персонажа-арбитра, не подверженного страстям и фобиям. Недаром именно ему доведется съесть привезенную Мицуко из Японии сливу.
На подъезде к Мемфису Мицуко и Джун проезжают мимо впечатляющего кладбища автомобилей – былых атрибутов роскоши и рок-н-ролльного угара, а ныне бесполезного хлама. Японцы здесь – любознательные посетители надгробий чужой культуры. Они сходят на перрон в самом начале фильма и садятся в поезд в конце, чтобы навестить на этот раз родину Фэтс Домино – Новый Орлеан. Вокруг которого, не будем забывать, разворачивалось действие предыдущего фильма Джармуша «Вниз по закону». Оттуда же в «Таинственный поезд» перекочевал диджей с радио, чей голос озвучил Том Уэйтс; здесь он – прямой наследник Сэма Филлипса, основателя студии «Сан». Его голос синхронизирует три сюжета: во всех трех комнатах и на ресепшене из приемника доносится объявление о времени (2 часа 17 минут ночи), а потом звучит ночная баллада Элвиса Пресли «Blue Moon», будто романтическая средневековая серенада для тех единственных влюбленных, которые ее слышат. И в то же время манифест одиночества – для всех остальных.
Что мне делать? Пришел я слишком поздно, А другой доспешил уже до плода: Я добился только слова, только взгляда, А другой стяжал всю добычу. Ни цветка, ни плода мне на долю, — Отчего же все о ней крушится сердце? Девушка подобна розе — В саду, на родимой ветке, В беспечном уединенье, Безопасна от пастуха и стада: Нежный ветер и роса рассвета И земля и влага к ней благосклонны; Только те, кто влюблены и любимы, На груди и в кудрях ее лелеют; Но едва сорвется С зеленого стебля материнской ветви — И красу, и прелесть, и славу перед людьми и Богом — Все она теряет. Девушка, отдавши другому Тот цветок, что лучше света и жизни, — Уже ничто Для иных сердец, о ней пылавших. Для иных – ничто, А единым, кому далась она, – любима?! Ах, судьбина немилостивая и злая: Другим – торжество, а мне – изнеможенье? Мне ли она не милее всех, Мне ли с ней расстаться, как с душою? Лучше пусть иссякнет моя жизнь, Если я не в праве любить прекрасную![40]Луиза проходит через фильм с толстой книгой – «Неистовым Роландом», главным трудом Лудовико Ариосто. В паре с Чосером он отсылает зрителя к средневековым куртуазным побоищам, где эрос с танатосом были сплетены нераздельно, а еще – к археологии культуры. Объясняя замысел своего фильма, Джармуш размышлял о туризме в США: что еще может интересовать приезжих, кроме поп-певцов или голливудских артистов? Они и есть мифические Роланды Америки, ее безнадежно влюбленные и неистовые в бою паладины. Поэтому архитектура «Таинственного поезда» так явно выстроена вокруг музыкальных легенд.
Главный, естественно, Элвис, чей замок – Грейсленд – не попадает в объектив камеры (наверняка это было связано с правовыми и финансовыми вопросами, но получилось изящно: главная достопримечательность Мемфиса в фильме отсутствует). Зато Мицуко и Джун попадают на экскурсию в студию «Сан», где пытаются вслушиваться в слова экскурсовода – но тщетно, та тараторит заученный текст слишком быстро, и от японцев ускользает смысл речи. Информация избыточна. Элвис давно уже – кондовый памятник на постаменте, китчевый портрет-икона из гостиничного номера, сотканный из воздуха фантом, доносящийся до нас песней по радиоволнам и придающий банальному поезду что-то мистическое. Элвис везде, как мы видим в фанатском альбоме Мицуко (кадр, где она сидит на полу и листает его, Джармуш снял как оммаж Ясудзиро Одзу, с низкого штатива, будто уравновесив тем самым возвышенные мечты героини о ее кумире). Его черты – и в скульптурном портрете вавилонского царя, и в древней статуэтке Будды, и в нью-йоркской статуе Свободы, и даже в рекламной фотографии певицы Мадонны.
Но он не один в этом городе, наполненном музыкальными призраками. Любимец Джуна Карл Перкинс, крестный отец рокабилли, гений кантри Джонни Кэш, великий рок-н-ролльщик Джерри Ли Льюис, культовый блюзмен Хаулин Вулф, обладатель уникального голоса Рой Орбисон – его песни тоже звучат в фильме. Как и песни основоположника мемфисского соула Руфуса Томаса, сыгравшего в фильме маленькую роль: он, в своих незабываемых гольфах и шортах, подходит на вокзале к Джуну и Мицуко и спрашивает спички, чтобы закурить сигару (спички – любимый образ Джармуша, аукнувшийся как минимум в «Пределах контроля» и «Патерсоне»). А его сын, клавишник Марвелл Томас, потом мелькнет в фильме как один из биллиардистов. И они – только двое из многочисленных музыкантов, прямо задействованных в «Таинственном поезде». За кадром звучат Том Уэйтс и другой близкий друг Джармуша, Джон Лури (ему принадлежит оригинальный саундтрек к картине), Скримин’ Джей Хокинс и Джо Страммер получили центральные роли, и даже Юки Кудо известна в Японии не только как кинозвезда, но и как поп-певица.
В «Таинственном поезде» гармоничней, чем в других фильмах, сходятся две любимые темы режиссера: чужаки, осваивающие незнакомую землю, и не раскладываемая на элементы стихия музыки. Японские туристы, приехавшие в Мемфис погулять по местам Пресли, и итальянка, вынужденная забрать оттуда гроб мужа. Англичанин, застрявший в американской безработице и безнадеге, и сбегающая от него в другой город подруга. Все свидетельствует о временном, преходящем, летучем характере бытия, лишенного любой стабильности: этот мир и вправду – отель, где каждый лишь постоялец. Не случайно Джун отказывается фотографировать достопримечательности, которые и без того удержатся в памяти: он предпочитает снимать гостиницы и аэропорты, которые иначе выветрятся из памяти слишком быстро. Это, очевидно, отражает позицию самого Джармуша, обожающего промежуточное – поездку в такси, перекур или перерыв на кофе – в ущерб «основному действию» и обожествляемой в американской традиции тщательной драматургии.
Вот простейшая тайна мемфисского поезда: когда состав несется по рельсам, перевозя пассажиров к очередному месту силы, памяти и истории, в купе сидят все те же люди, кем бы они ни были, откуда и куда бы ни направлялись. Они откроют рюкзак, достанут кассетный плеер, наденут наушники, включат музыку и будут слышать только ее, даже не взглянув в окно, где один пейзаж сменяется другим.
Василий Бородин
* * *
серое сердце серого пса рыжее сердце рыжего пса эй, лай! эй, вой! Уэйтс в роли Уэйтса – вдвойне царапает стену в роли стены вдвойне серую стену камеры в роли серой стены камеры вдвойне белая клинопись, светопись, след преувеличенного усилия поверх внутренней пустоты, ПОБЕГ дышащие кусты в роли кустов вдвойне то есть это любовь, любовь мнимости и действительности — на войне мнимости и действительности …есть поэт Денис Крюков он понимает такое кино глубоко мне оно кажется — трудно сказать чем оно кажется: так гуашевые белила с широкой кисточки заполняют банку с теплой водой, и вода кажется молоком но фонари и ветки но магнитная лента Скримин’ Джей Хокинс но пе — чаль в неких множественных кавычках — делающих ее печалью вдвойне …то есть, допустим, у людей есть внутреннее солнце и есть внутренняя луна – и вот это всё не просто на внутренней луне а на другой ее стороне ясно, что там бывает только любовь, усмешка, едкая пыль жмущаяся, как любимая кошка, к тихо старящейся, самой ранней юности: как бы тебе – семнадцать лет и кошке тоже семнадцать лет а Нил Янг хмурится, как картошка и ведет по латунным ладам как по костлявым позвонкам голую струнуМузыка: Джон Лури
Первым инструментом американца Джона Лури была губная гармошка, и ему даже случилось в 1968 году, в шестнадцатилетнем возрасте, поджемовать со знатными блюзменами и блюз-рокерами. Играл он и на гитаре, при этом роком почти не увлекался – его музыкой в подростковом возрасте был блюз, а несколько позднее – джаз. Саксофонистом же Лури стал, по собственным словам, благодаря удивительному стечению обстоятельств: как-то ночью на улице ему встретился незнакомец, везший тачку, который привел его к себе домой и подарил саксофон.
В середине 1970-х Лури после нескольких переездов по США и Великобритании оседает в Нью-Йорке. Как сказано во вступлении к одному интервью с музыкантом, «никто до такой степени не воплощал в себе слияние музыки и изобразительного искусства, которое происходило в Нижнем Манхэттене в 1970-х и начале 1980-х, как Джон Лури. Он не столько ворвался на эту сцену, сколько помог ее создать». Действительно, Лури был одновременно и художником, и музыкантом, и режиссером любительских фильмов, и киноактером. Однако основной упор сделал именно на музыку, отказываясь от многочисленных предложений сняться в кино. У Джармуша он первым делом становится актером и музыкантом-композитором одновременно: в «Отпуске без конца» у саксофона Лури, играющего на улице вариации на тему популярной мелодии «Over the Rainbow», главная партия в партитуре звучащего Нью-Йорка.
В 1978 году вместе с братом Ивэном, игравшим на клавишных инструментах, Лури собирает группу The Lounge Lizards. В различных описаниях стиль группы определяется как fake jazz. Сам Лури отказался от этого термина. Можно сказать, что язык группа использовала действительно джазовый (инструментальный состав, отношение к ритму), а вот интонация – местами истошная, местами ерническая – была позаимствована у родственных Лури по духу и дружественных групп в стиле no wave, который как раз в этот период зародился в нью-йоркском Даунтауне. Музыканты no wave были такими же разрушителями, как и панк-рокеры, но их интересовал не столько рок с грязным звуком, сколько возможности шума и неожиданных звуковых сочетаний. Один из видных деятелей no wave, гитарист Арто Линдси, вошел в первый состав The Lounge Lizards.
The Lounge Lizards выступали поначалу в рок-клубах – для джазовых музыканты с их нахальностью и разваливавшимися ботинками, замотанными изолентой, были недостаточно респектабельны. В стилистике The Lounge Lizards первых лет было немало от музыки к фильмам нуар – Лури признавался, что на него большое влияние оказали Эннио Морриконе, Бернард Херрманн и другие. Но продюсер у первого альбома группы оказался самый что ни на есть джазовый, Тео Масеро, выпустивший самые известные пластинки Майлза Дэвиса, Дейва Брубека, Чарльза Мингуса, Телониуса Монка. Кстати, именно пьесы Монка соседствовали в альбоме группы с композициями самого Лури – более убедительный знак приверженности джазу придумать трудно.
Тем неожиданнее оказался первый полноценный саундтрек, сделанный Лури для Джармуша: в «Страннее, чем рай» играет струнный квартет. Казалось бы, какое отношение струнный квартет может иметь к жизни мигранта-шулера в Нью-Йорке, к забегаловке в заснеженном Кливленде или к нелепым наркокурьерам в Майами? Но это несоответствие видеоряду и стереотипам, скорее всего, было частью замысла Лури. Кроме того, музыка, по собственному признанию Лури, отсылает к Бартоку, квартеты которого он во время работы над кинокартиной специально слушал со своей партнершей по фильму Эстер Балинт.
Саундтрек для «Вниз по закону» звучит уже в каком-то смысле более привычно для тех, кто знаком с обитателями Даунтауна, игравшими в The Lounge Lizards и участвовавшими в записи. Но Лури привлек к работе над звуковой дорожкой одного человека со стороны, и его-то «голос» и оказался чуть ли не самым важным. Это бразильский перкуссионист Нана Васконселос, чьи ухающие ударные с низким тембром добавляют какого-то совсем не луизианского колорита завывающим духовым и гитарам.
В работе над «Таинственным поездом» Лури фактически возвращается к блюзу («блюз, соул и минимализм» – так описывает саундтрек автор книги «Джим Джармуш: музыка, слова и шум» Сара Пьяцца), но и блюз у него, конечно, звучит по-своему – иногда психоделично, а порой угловато и зловеще. Что до The Lounge Lizards, к середине 1980-х состав группы расширился: если поначалу это был квинтет, то теперь в коллективе стало втрое больше духовых и ударных. Критики отмечают, что Лури в этот период избегает джазовых клише, с музыкой к неснятым фильмам нуар покончено. Произведения усложнились, в них слышно влияние и академической музыки XX века, и этнической музыки.
В 1990-х годах Лури снимает страннейший документальный сериал про рыбалку, собирает собственный Национальный оркестр из трех человек, записывает альбом песен от имени вымышленного черного певца, а также сочиняет немало музыки для фильмов. В 2000-х его начинают мучить приступы болезни Лайма, он оставляет музыку, зато активно пишет картины – одна из них произвела фурор в русском интернете. Но все это уже не имеет отношения к фильмам Джармуша.
Григорий Дурново«Вниз по закону», 1986
Когда его сокамерники, сутенер Джек и безработный диджей Зак, устали ссориться и драться, итальянец Роберто – они зовут его просто Боб – взял кусок угля и нарисовал на стене большой прямоугольник, потом разделил его крестом. «Красивое окно для Джека и Зака, хорошее окно, широкое», – приговаривал он. «Джек, как правильно: смотреть из окна или смотреть через окно?» Глядя на стену, Джек скучно ответил: «Боюсь, в данном случае – смотреть на окно».
Схематичное окно в иную реальность, которую из трех героев фильма видит лишь один – чудак и фантазер Роберто и в которую он, несмотря на их сопротивление, вытаскивает двух отчаявшихся американцев, – наверное, ключевой образ «Вниз по закону». Фильма, в чьем названии тоже ужасно важна формулировка: не «Вне закона», как его любят переводить в России, а именно вниз. Не поперек правил, которых Джек и Зак не нарушали, хотя все равно были обвинены и попали за решетку, – а вдоль этого канона насилия системы над человеком. Чтобы ускользнуть от него вовсе и вдохнуть воздух свободы.
Так поступает и Джармуш, после сумасшедшего успеха малобюджетного шедевра «Страннее, чем рай» вопреки всем предложениям продюсеров снимающий еще один черно-белый фильм. «Некоторые современные режиссеры, – добавляет он, – любят время от времени среди своих цветных картин помещать одну-две черно-белые. Я бы хотел действовать наоборот». Он идет поперек закона, хотя ничего и не нарушает. Его сценарии минималистичны, актеры не похожи на тех, к кому привыкли в Америке, и с сюжетом он обходится так, что критики в растерянности. Он не следит за трендами и снимает в несуществующем стиле no wave. И даже его голландский оператор – их сотрудничество начинается здесь, – знаменитый по фильмам Вима Вендерса Робби Мюллер, видит реальность иначе, чем принято в Штатах: не смягчает ее, а заостряет и, по словам режиссера, строит свет так, чтобы проявить эмоции персонажей. У Мюллера – та самая оптика, которая совершенно необходима американцу Джармушу: он иностранец, смотрящий на этот мир извне, со стороны, даже когда находится в самом его центре.
На этот момент Джармушу 33 года. Тому Уэйтсу – 37, у него позади восемь нашумевших альбомов, и он уже снялся в маленьких ролях в нескольких картинах самого Фрэнсиса Форда Копполы, – однако Джармуш первым предлагает ему главную. Джону Лури – 34, он уже основал свою группу The Lounge Lizards, сыграл у Вендерса и сотрудничал с Джармушем на двух предыдущих картинах (к каждой из них он писал музыку). Его ровесник, 34-летний Роберто Бениньи, знаменит в Италии, где успел посотрудничать с Бернардо и Джузеппе Бертолуччи и снять собственный дебютный фильм, но в США его совершенно не знают: Джармуш открывает его для американской киноиндустрии, которая через некоторое время наградит итальянского пассионария «Оскаром». Пока что же все четверо земную жизнь прошли до половины и вот-вот окажутся в сумрачном лесу, где разворачивается вся середина «Вниз по закону». Там троим персонажам фильма, беглецам из тюрьмы, будет, возможно, уютней, чем исполнителям их ролей – в ряду «профессиональных актеров», пусть даже независимого кино.
«Вниз» из названия совершенно точно описывает начальную траекторию Джека и Зака. Флегматик Джек (Джон Лури) валяется в кровати с одной из подопечных, чернокожей красавицей (Билли Нил), на балконе прохлаждается еще одна девица. Ему неохота вставать и заниматься делом; он покорно сносит издевки своей подруги. Меланхолик Зак (Том Уэйтс) приходит домой под утро, уволенный с очередной работы. Его подруга (эффектная Эллен Баркин) взбешена и выбрасывает из окна все его вещи, крошит пластинки на мелкие куски. «Только не ботинки!» – молит ее встрепанный Зак, все это время пассивно сидящий на кровати. В самом деле, щеголеватые ботинки с острыми носами – самая запоминающаяся деталь его гардероба, кстати, реально напоминающего о стиле Тома Уэйтса. Позже Джек не раз обзовет Зака «мусорщиком».
Женщины, зависимые от героев, сами клянут и гонят их. Джек и Зак – два лежачих камня. Их неподвижность забавно контрастирует с постоянным движением камеры Мюллера, превращающей Новый Орлеан во вступлении к фильму в прямую линию обшарпанных домиков, заброшенных особняков, замусоренных улиц. Начинается этот путь, впрочем, с шикарного лимузина на кладбище – самой низкой точки, финала любой траектории. Невольно вспоминается центральная цитата из «Пределов контроля» о том, что тот, кто считает себя выше всех, должен сходить на кладбище.
Что ж, ленивые маргиналы Джек и Зак точно считают себя выше окружающих и скоро за это поплатятся. «Моя мама говорила, что Америка – большой плавильный котел; когда он закипает, вся дрянь всплывает на поверхность. Так что у тебя еще есть шанс», – язвит подруга Джека, предрекая его бесславное будущее. А Зак заходит в собственную спальню, стены которой расписаны цитатами. Например, из Дугласа Адамса: «Тебя убивает не падение, а внезапная остановка». Или еще, уже неизвестно из кого: «Жизнь – танец в лимбе, но вопрос в том, где ты пошел к низу, а не в том, как низко ты можешь пасть». Безусловно, сейчас Зак и Джек – в лимбе, а впереди их ждут и ад (во второй, тюремной, части фильма), и рай (в неожиданном завершении).
Неожиданно и беспричинно, в течение одних суток, Джека и Зака подставляют неведомые враги. Джека уговаривают пойти попробовать новую девочку; невзирая на все предчувствия и сомнения, он идет к дешевому отелю – на углу улицы «кирпич» и пророческое предостережение «Вход воспрещен», – где его на месте предполагаемого преступления ловят полицейские: так называемая проститутка оказывается девочкой лет двенадцати от силы. Теперь на Джеке – страшное обвинение, и шансов отмыться нет. У Зака дела еще хуже: за баснословный гонорар он соглашается перегнать чужой автомобиль из одной части города в другую, и когда его останавливает полиция, в багажнике обнаруживается труп. Теперь оба в тюрьме, в одной и той же камере № 9, без шансов выйти на свободу в ближайшие годы. Одна неподвижность сменилась другой. Даже стены в камере расписаны и разрисованы точно так же, как в квартире, откуда выгнала Зака его девушка.
Центральное событие и сюжет «Вниз по закону» – побег из тюрьмы. Но это необычный для кинематографической традиции побег. Его подготовке и совершению уделено от силы минут пять экранного времени. Он никак не раскрывает с неожиданной стороны характеры главных героев. Это просто водораздел между старой жизнью без движения и началом пути, который к финалу фильма будет далек от завершения. В фильме статичные длинные кадры, знакомые по предыдущей картине Джармуша, будто спорят с кадрами-путешествиями, открывающими сперва городской, а затем лесной и речной пейзаж. Вторые побеждают.
Динамику в фильм приносит третий главный герой – эпизодически появляющийся в первой трети Роберто (Бениньи, одолживший свое имя персонажу, как и всем своим персонажам у Джармуша), нежданный сокамерник Джека и Зака. Он итальянец, с трудом знающий английский и не расстающийся с блокнотом, куда записывает новые слова. По словам режиссера, уровень владения языком героя полностью соответствовал уровню Бениньи на момент начала съемок, хотя к финалу он научился английскому так, что его приходилось притормаживать.
Первая реплика Бениньи с экрана: «Это грустный прекрасный мир!» Итальянец в Америке – то ли турист, то ли бездомный иммигрант, это остается непроясненным, – искренне восхищен страной, о которой знал только по фильмам. Для него это территория чудес и радости, даже в тюрьме. Он не меняется в лице, даже когда рассказывает, за что сюда попал: он шулер (как многие герои Джармуша, тот же Вилли из «Страннее, чем рай»), был разоблачен и убегал от преследователей; защищаясь, бросил в одного из них бильярдным шаром и убил на месте. В конце концов, Америка – страна, где к смерти относятся иначе, считает Роберто, отныне Боб: он перевел и упростил для новых друзей свое имя.
Восхитительная клоунада Бениньи, которую Джармуш, по собственному признанию, старался изо всех сил умерить – самые комические дубли не вошли в финальный монтаж, – уравновешена поэтическим взглядом, способностью иностранца видеть в унылой действительности «грустный прекрасный мир». Уместно вспомнить о том, что в Италии Бениньи известен и как поэт-импровизатор. Он вестник других краев, далекой недоступной Италии, и ему открыта невидимая дверь (или, точнее, окно?) в разомкнутое пространство движения и свободы. Побег из тюрьмы совершается по его инициативе. И невероятная красота безлюдных пейзажей Луизианы, куда попадают после побега герои фильма, – тоже открытие итальянца, страстно читающего в тюремной камере, причем по-итальянски, стихи своего любимого американского поэта Уолта Уитмена.
Я видел дуб в Луизиане, Он стоял одиноко в поле, и с его ветвей свисали мхи, Он вырос один, без товарищей, весело шелестя своей темной листвой, Несгибаемый, корявый, могучий, был он похож на меня, Но странно мне было, что он мог в одиночестве, без единого друга, шелестеть так весело листвой, ибо я на его месте не мог бы, И я отломил его ветку, и обмотал ее мхом, И повесил ее на виду в моей комнате Не затем, чтобы она напоминала мне о милых друзьях (Я и без того в эти дни ни о ком другом не вспоминаю), Но она останется для меня чудесным знамением дружбы-любви, И пусть себе дуб средь широкого поля, там, в Луизиане, искрится, одинокий, под солнцем, Весело шумя своей листвой всю жизнь без единого друга, — Я знаю очень хорошо, что я не мог бы[41].Невыносимость существования в одиночку, нужду в друзьях и просто близких в фильме тоже приносит Боб. С самого начала Зак и Джек аутичны и мрачны – они выдают свое одиночество за манифестацию независимости, но чувствуют в ней и собственную никчемность. Их конфликты в камере – борьба за свободу друг от друга. Ироническим образом, Джармуш наделяет их профессиями, вся суть которых – в коммуникации; естественно, ни Джек, ни Зак в своем деле не преуспели.
Напротив, Боб, лишенный социальной среды, отрезан от нее еще и языковым барьером. Парадоксально, но это лишь помогает ему идти на контакт, переходя на свой примитивный английский с ошибками и возвращаясь на тот базисный уровень невинности, о котором Джек с Заком уже и думать забыли. Как ребенок, Боб немедленно называет новых знакомых друзьями, хотя еще путает их несложные имена. Как младенец, учится говорить и по-детски радуется находкам: неожиданный слоган «I scream, you scream, we all scream for ice cream» («Я ору, ты орешь, мы все орем, требуя мороженого» – на самом деле название популярной песни 1927 года) превращается в требование свободы, выкрикиваемое всеми узниками тюрьмы. И оно, по сути, воплощается в реальность, когда трое героев сбегут из камеры: мороженого не попробуют, но в финале им достанется итальянский пасхальный кекс – панеттоне.
«Для меня тебя нет», – отрезает Джек, отворачиваясь от Зака в самом начале тюремного знакомства. Тот бурчит под нос в ответ: «Тебя тоже нет. Стен нет, пола нет, тюрьмы нет, койки нет, решетки нет… Ничего нет». Отрицание реальности – их единственное прибежище: они даже дерутся из-за того, что Зак выцарапывает на стене календарь отсидки, а Джек кричит, что так время тянется еще дольше. Роберто обладает волшебной способностью: из этого стертого, полностью уничтоженного мира, к которому Джек и Зак потом даже не попробуют вернуться, он делает новый, больше прекрасный, нежели грустный. Он рисует окно на стене камеры, а потом, видимо, таким же образом придумывает путь для побега. Магическим образом все трое оказываются на воле: огромный тоннель с отблесками воды на потолке снят Мюллером как коридор в другое измерение – куда, по сути, мы и попадаем вместе с Джеком, Заком и Бобом в заключительной трети фильма.
Роберто – агент автора в фильме. Джармуш так же, как его итальянский протеже, знающий Америку только по фильмам, пренебрегает правилами и логикой, пользуясь кинематографической свободой с детской безответственностью, на полную катушку. Он не трудится объяснять, кто и с какой целью подставил Джека и Зака. Что любопытно, это еще не вызывает подозрений у зрителя: во-первых, тот привык, что в американском кино всех постоянно подставляют, во-вторых, ждет разъяснений в развязке (не дождется). И с гениальной легкомысленностью обходится со сложным драматургическим элементом – побегом. Сначала Роберто сообщает друзьям, что на прогулке нашел способ бежать; те не верят. В следующем кадре они уже бегут из тюрьмы, счастливые, как сбежавшие с уроков школьники.
Невольно вспоминается апокриф о классике французского pulp fiction Понсоне дю Террайле, который смилостивился над издателями и решил все-таки спасти опостылевшего ему, но любимого читателями персонажа – Рокамболя, в финале предыдущей книги опутанного цепями и утопленного. Сложным объяснениям писатель предпочел одну фразу: «Выбравшись из западни, Рокамболь всплыл на поверхность».
Критики сравнивали «Вниз по закону» с шедевром Жана Ренуара, «Великой иллюзией» 1937 года, где сюжет также строился вокруг побега из тюрьмы. Название фильма давно стало идиомой, нередко обозначающей кинематограф как таковой. Для Джармуша это точно великая иллюзия, легитимирующая любой запрещенный прием, – именно в этом ее прелесть. Мы не знаем не только о том, кто подставил Джека и Зака, не только о лазейке, при помощи которой они бежали из тюрьмы, но и почему их перестали преследовать, как и где им удалось найти лодку, а потом – чудом, среди воды – неотсыревшие спички. Верх абсурдности – кролик, которого вдруг ловит в лесу, казалось бы, не приспособленный для походной жизни Боб. Когда он жарит мясо на костре, мы готовы поверить, что откуда-то взялись и чеснок, оливковое масло и розмарин, без которых, по словам Роберто, готовить кролика нельзя.
Одна из самых очаровательных сцен «Вниз по закону» – привал в лесу, где Зак пугает Роберто рассказами о местной фауне: здесь водятся огромные аллигаторы и змеи всех видов, от медноголовых гадюк до кобр. Но все трое будто тут же забывают об этой угрозе, и никаких змей или крокодилов в фильме так и не появится. И не меньшее чудо – когда не умеющий плавать Боб один остается на берегу реки, которую, уходя от погони, переплывают Джек и Зак. Они бросили друга, и тот уже слышит лай собак. Вдруг кто-то появляется рядом, хватает и тащит его за собой; два эгоцентрика, которым давно ни к чему надоедливый говорливый итальянец, все-таки вернулись за ним.
Джармуш сам называл «Вниз по закону» сказкой. От реальности разобщенности и одиночества он двигается по направлению к солидарности и дружбе. И вот уже Роберто в пустой хижине, конструкция которой в точности напоминает их тюремную камеру, декламирует по-итальянски другого важнейшего американского поэта – Роберта Фроста. Поэзия будто физически уничтожает решетки и затворы, а самое прославленное стихотворение классика в точности предсказывает близящийся финал фильма:
В осеннем лесу, на развилке дорог, Стоял я, задумавшись, у поворота; Пути было два, и мир был широк, Однако я раздвоиться не мог, И надо было решаться на что-то. Я выбрал дорогу, что вправо вела, И, повернув, пропадала в чащобе. Нехоженей, что ли, она была И больше, казалось мне, заросла; А впрочем, заросшими были обе. И обе манили, радуя глаз Сухой желтизною листвы сыпучей. Другую оставил я про запас, Хотя и догадывался в тот час, Что вряд ли вернуться выпадет случай. Еще я вспомню когда-нибудь Далекое это утро лесное: Ведь был и другой предо мною путь, Но я решил направо свернуть — И это решило все остальное[42].Джармуш выбирает в этом фильме свой поворот – подальше от реализма, от правил, от мейнстрима, к фантазии и маргинальности. Он будет двигаться в том же направлении все дальше.
Когда после долгих скитаний беглецы натыкаются на избушку, над которой красуется вывеска «У Луиджи», на разведку они отправляют Боба. Тот не возвращается до вечера, и тогда, не выдержав, Зак и Джек идут за ним. Здесь внезапно материализуется то самое окно, нарисованное Роберто в их камере. Снаружи, не веря глазам, они видят накрытый стол, уютный свет, сидящих друг напротив друга и совершенно поглощенных беседой мужчину и женщину – Роберто и красавицу-итальянку. Откуда она в лесах Луизианы? Чтобы выяснить это, им приходится толкнуть дверь и войти в сказку.
Коллизия с Николеттой, в которой Роберто встречает любовь всей своей жизни (причем взаимную), – очевидно, тоже цитата из «Великой иллюзии», где беглые французы натыкались на одинокую крестьянку Эльзу. Но есть в этом микросюжете и кое-что более глубокое и личное как для Джармуша, так и для Бениньи, чем просто умелая реминисценция из старого фильма. В роли Николетты – ее тезка, итальянская актриса Николетта Браски, многолетняя к тому моменту муза и подруга Бениньи. А их внезапно идиллический союз предсказывает союзы Адама и Евы в «Выживут только любовники» или Патерсона и Лоры в «Патерсоне». Можно лишь предполагать, что здесь есть отсылка и к подруге и гражданской жене самого режиссера Саре Драйвер.
Почему бы итальянке, получившей эту забегаловку в наследство от умершего дяди Луиджи (тот выиграл ее в карты; вот и напоминание о шулерском прошлом Боба, которое ничуть не смущает Николетту), не обретаться среди лесов, вдали от цивилизации, будто в счастливом волшебном сне? В изумительной сцене пробуждения – Джармуш говорил, что никто не был бы способен так, как это сделал Робби Мюллер, передать атмосферу такого утра, – чудеса не развеиваются, а продолжаются. Николетта, накормившая Джека с Заком завтраком и нашедшая в необъятном гардеробе дяди Луиджи одежду для них (для Зака отыскалась такая же шляпа, какую он носил раньше!), прикрыв глаза, будто не желая просыпаться, танцует с таким же полусонным Роберто: он в халате, она в ночной рубашке.
Танец длится точно столько же, сколько длится песня, Джармуш и Зак с Джеком будто боятся развеять очарование, прервав старенький хит новоорлеанской «королевы соула» Ирмы Томас «It’s Raining». Как непохожи его сладкие строки на «Танго до мозолей» Тома Уэйтса, которым открывался фильм, – песню, в которой все гончие лаяли, а все парни отправлялись прямиком в ад. Это позади. А теперь даже обещанного Ирмой Томас дождя нет, светит солнце.
Ренуаровский лейтенант Марешаль, прощаясь с Эльзой, обещал ей, что вернется после войны. Однако мало кто верил в то, что это возможно. Беззаботный Боб остается со своей Николеттой, и свободу их таинственного острова вряд ли кто-то сможет нарушить. Ведь даже у ближайшего перекрестка нет указателя. Зак с Джеком, как безработные бездомные странники времен Великой депрессии, расходятся в разные стороны вслепую, наугад. Возможность покинуть утопию – тоже форма свободы. «Путей было два, и мир был широк».
Алексей Королев
roxy rundfunk über alles Вот клуб. Все тот же фейсконтроль. Все те же платья из гипюра. Бескостных форм архитектура, разбавленная мишурой. Столы – зеленого сукна. На стенах – графика Шуриги. Колье и перстни от интриги прикуривают у окна. Разгуливают по фойе пурпурный, бежевый и синий: задиристые, как Бениньи, надменные, как Джон Лурье. У всех единственная цель — заворожив, совокупляться. И отстраненность, и прохладца на каждом встреченном лице. Они готовы до утра вести беседы о высоком и тонком, истекая соком по коже пряного бедра. Их розливные «да» и «нет» полны притворства и изъяна… «Я приглашен официально… читать…» – «Пройдите в кабинет…» («…er war mein Götzenbild…» – «…ich weiss…» — «…und soll jetzt um Verzeihung bitten…» — «…er war als Stephan Deckert, als fanatiker, als Martin Iden…»)Музыка: Скримин’ Джей Хокинс
Избитые эпитеты «легендарный» и «культовый» подходят «Орущему» Джею Хокинсу лучше всего. Его творчество и личность – действительно предмет культа. И о нем действительно ходят легенды: например, что свою великую «I Put a Spell on You» (1956) он сочинил/записал в пьяном виде и наутро даже не помнил, что это за песня и вообще он ли автор.
Похоже, что песня решила отомстить за столь непочтительное отношение – она пережила своего создателя и затмила его славу. «I Put a Spell on You» стала хитом не с первой попытки. Но когда стала, Хокинса узнали все. Еще больше успех упрочила кавер-версия Нины Симон 1965 года. Она даже альбом свой назвала по ней. А позже – и мемуары. Джон Леннон сочинил бридж великой песни «Michelle» под влиянием именно кавера Нины Симон. Получается, что Хокинс оказал непрямое влияние даже на The Beatles. Культ! С тех пор песню перепевают все, кому не лень, от роскошного Брайана Ферри (1993) до Мэрилина Мэнсона, к слову, вернувшего ей глум, чертовщину и безумие. И вот до сих пор так: имя Джея Хокинса обычный человек вспомнит только в связи с этой песней. Но Хокинс – не герой одного хита. Его дискография – десяток студийных альбомов и синглов. Уникальный персонаж: эксцентрик, поэт, певец с крайне оригинальной манерой. Луженая глотка, как у нас говорят. На сцену выходил в леопардовых шкурах, перьях, с черепами, косточками в носу, змеями на шее. Многое потом позаимствуют шок-рокеры вроде Элиса Купера.
Джелеси Хокинс родился 18 июля 1929 года. Умер 12 февраля 2000-го. В 1944 году, примерно в 15 лет, бросил школу и ушел добровольцем на Вторую мировую. В детстве занимался классическим фортепиано и вокалом – хотел стать оперным певцом. Какая классика для чернокожего в те годы? Даже у Нины Симон не получилось. Джей стал заниматься нормальной «черной» музыкой – то есть блюзом. И пел бы обычный блюз, если бы в голове что-то не перещелкнуло во время алкогольной студийной сессии «I Put a Spell on You». А еще он был боксером – профи в среднем весе, призер локальных соревнований. Шесть раз женат. Трое детей от первого брака, а вообще, по его словам, – от пятидесяти до семидесяти пяти.
Фактически вернул его, или, точнее, сделал ему широкую славу Джим Джармуш, сняв столь фактурного артиста в небольшой роли портье в «Таинственном поезде».
Автору этих строк довелось пообщаться с человеком, близко знавшим Хокинса. Это – гитарист Фрэнк Эш, уроженец Парижа, где Джей жил в 1990-е. «Последние пять лет его жизни, до самой его смерти в 2000 году, я играл с ним, – рассказывает Эш. – В Чикаго, на тамошнем знаменитом блюз-фестивале 1997 года Джея поставили хедлайнером. Четверть миллиона человек только в Чикаго нас слушали. А концерт транслировали по ТВ на все Соединенные Штаты». Хокинс был очень востребован и готов был работать на полную катушку, но здоровье уже не позволяло. «У Джея (в 90-е. – А.Б.) было уже довольно мало концертов, – говорит Френк Эш, – хотя его карьера получила второй взлет благодаря, конечно, фильму Джармуша. Джей уже был “чист”, ничего вредного не употреблял, но здоровье уже ухудшилось. От травм на ринге и ранений. Ему приходилось принимать такие лекарства, от которых он чувствовал себя иногда не на высоте. <…> Мы были в Мемфисе, Джей мне показывал тот отель, где его снимали в роли портье, ресторан. Отель, кстати, снесли».
Любопытно, что после «Поезда» Хокинс и его группа снялись в еще одном фильме – французском «Может быть» («Peut-être»). Но там уже в банальной роли – музыкантов, выступающих на сцене.
Александр Беляев«Страннее, чем рай», 1984
«Я наложил на тебя заклятье», – заливается за кадром хриплый баритон Скримин’ Джея Хокинса, легендарного черного блюзмена, навек прославившего свое имя именно этой, тысячу раз перепетой, песней. Так и Джармуш наложил свое заклятье на кинематограф фильмом, где эта песня прозвучала как минимум четыре раза, – «Страннее, чем рай». Все началось с остатков пленки от съемок «Положения вещей» Вима Вендерса – немецкий режиссер подарил их молодому американскому коллеге, и так тот снял первые полчаса фильма. А после подтянулись продюсеры. И не пожалели. Крохотный бюджет, колеблющийся вокруг ста тысяч долларов, окупился примерно двадцать раз, автор получил в Каннах «Золотую камеру» за лучший дебют – хотя, строго говоря, это была уже вторая его полнометражная картина. Стиль Джармуша отныне и навсегда был закреплен этой минималистской черно-белой картиной в соответствии с пущенным им самим шуточным описанием: «Неореалистическая черная комедия, сделанная в стиле воображаемого восточноевропейского режиссера, одержимого Одзу и “Новобрачными”».
Хотя – комедия ли? Вопрос заслуживает отдельного обсуждения. Когда Вилли пытается привлечь внимание кузины Евы, он рассказывает ей анекдот о человеке, идущем по улице с развязанными шнурками. Друзья постоянно говорят, что у него развязаны шнурки, а он отвечает: «Я знаю» – и продолжает путь. Смешную развязку Вилли забыл, и Ева смеется именно поэтому. Так же работает фильм Джармуша, в котором все наперекосяк, не так, как принято и привычно… и именно поэтому парадоксально действенно. Страннее, чем комедия.
Три персонажа, три города, три главы фильма со своими подзаголовками: «Новый свет», «Один год спустя» и «Рай». Магическое число – как в сказке о герое, что отправился за тридевять земель за счастьем. Такова, очевидно, цель миллионов мигрантов, прибывавших в Америку из всех стран мира, – постоянных персонажей фильмов Джармуша, хоть сам он родился и вырос в Штатах. Его постоянно тянет в Европу, и туда – в Париж, где режиссер действительно провел самые важные месяцы киноманской молодости, – отправлялся в финале «Отпуска без конца» его герой. Во Франции Джармуш, кажется, обучился важнейшему из своих умений: смотреть на Америку со стороны. И показал эту способность впервые при помощи героини «Страннее, чем рай» Евы, приезжающей в Нью-Йорк из родного Будапешта. Оттуда же родом театральная актриса Эстер Балинт, сыгравшая в фильме свою первую кинороль.
«Страннее, чем рай» начинается с венгерских иммигрантов. Потерянная Ева стоит рядом с аэропортом и смотрит на садящийся самолет. Одновременно с этим ее двоюродному брату Вилли звонит живущая в Кливленде тетушка Лотти. Старушка говорит с Вилли по-венгерски, называя его венгерским именем – Бела; тот требует, чтобы она перешла на английский, но тщетно. Лотти сообщает, что в гости к Вилли вот-вот приедет будапештская кузина. Она должна была переночевать и после этого ехать прямиком в Кливленд, но тетушка ложится в больницу на десять дней, так что Вилли придется приютить родственницу у себя.
Невольная встреча Евы и ее стильного бездельника-кузена, самопровозглашенного хипстера в кожаной куртке и неизменной шляпе, составляет содержание первой части фильма. Название «Новый свет» намекает на первооткрывательство: неофитка Ева прибыла прямиком в рай, как и предполагает ее имя, а теперь при помощи местного жителя будет открывать его для себя (не будем забывать, что в 1984-м речь шла о социалистическом Будапеште). Но «мир возможностей» показан Джармушем с саркастической иронией. Ни грязные пустые улицы, по которым Ева идет в поисках жилища Вилли, ни его скудно обставленная комната не впечатляют флегматичную приезжую. Она брезгливо смотрит на «телеужин», который поглощает Вилли, и спрашивает, из чего сделано то мясо, которое он ест. Пытается разобраться в правилах бейсбола и быстро сдается. Когда же кузен, расщедрившись, дарит ей платье – объявляет его уродливым и при первой возможности выбрасывает в мусор.
Без малейшего интереса смотрит Ева в компании Вилли по телевизору научно-фантастическое кино или спортивный матч. А когда он засыпает, даже не разворачивает экран в свою сторону. Она приехала из страны, откуда Америка казалась вселенной осуществившихся надежд, – но, прибыв по назначению, обнаружила, что и местные жители смотрят на воображаемую Америку через призму телевизора. Ее, этой райской Америки, не существует вовсе.
На лице Евы постоянно написано недоверие ко всему, что она видит вокруг. Джармуш делает ее неосуществленные мечты (бог знает о чем) фигурой умолчания, прячет ее разочарование под ироническим равнодушием. Но даже ее уклончивые реплики говорят за себя. Из тесной комнаты Вилли она мечтает наконец-то уехать к тетушке Лотти в Кливленд, но и там вынуждена встречаться со скучным бородатым служащим бензоколонки и торговать ненавистными хот-догами. Американизированный Вилли и его партнер Эдди уже кажутся ей спасителями на фоне контролирующей каждый ее шаг тетушки Лотти, которая отказывается разговаривать по-английски. «Один год спустя» похож на второе действие пьесы театра абсурда – в «Страннее, чем рай» Джармуш явно испытал влияние Беккета и Пинтера, – поскольку после перемены места действия не меняется ничего, кроме погоды: Кливленд заметен снегом. Теперь Ева мечтает уехать во Флориду: там по меньшей мере тепло.
Журнал Film Comment, встретивший выход фильма с восторгом, сравнил его с перевернутым «Волшебником страны Оз»: куда бы ни шла Ева со своими спутниками по воображаемой дороге из желтого кирпича, изумруды оказываются цветными стеклами. Долгожданный «рай» – собственно, Флорида – встречает их дешевым мотелем и пустынным ветреным пляжем, на котором ни к чему темные очки, первым делом купленные Вилли в ближайшем сувенирном магазине. Вместо реальных открыточных пейзажей – пальма на картине в отеле да пальмовая ветвь в вазе. Теперь Еве мечтается о деньгах, которые позволят улететь отсюда подальше. Желательно куда-нибудь в Европу, только бы не в опостылевший Будапешт. Замкнутый круг.
Незаметно Джармуш уходит от критики Америки как таковой, делая стержнем своего фильма неудовлетворенность и бесприютность любого человека, почему-то поверившего обещаниям судьбы. Апатия заядлого игрока Вилли, зарабатывающего деньги на бегах, и суетливое возбуждение его оптимистичного товарища Эдди не имеют никакого отношения к эмиграции – Вилли родился в Будапеште, но предпочел забыть об этом, а Эдди – коренной американец, хотя и о Флориде, и о Кливленде знает исключительно понаслышке. Само устройство жизни мешает каждому из троих героев узреть рай, как бы они его себе ни представляли. Пресловутая американская (и любая другая) мечта так же недостижима, как «Запретная планета» из дурацкого фантастического фильма. Даже когда Ева, Вилли и Эдди приезжают полюбоваться большим озером в Кливленде, метель не дает им насладиться предположительно впечатляющим видом. Снег да снег кругом. Пейзаж определенно инопланетный, но никак не райский.
Несмотря на это, «Страннее, чем рай» не только разрушает стереотипный образ Америки, но и создает собственный, альтернативный. В нем различима поэзия обшарпанных задворок и низов, свободолюбивых отщепенцев и независимых маргиналов: та постиндустриальная страна, в которой вырос уроженец Акрона Джармуш. В ней он, по его собственным словам, видит и уродство, и красоту. А еще поэзия выбора собственной траектории, пусть у нее не будет финальной точки назначения (иначе какая же это свобода). Наконец, поэзия того самого заклятия, что наложил на Еву далекий и давний американский блюзмен: в свои первые часы в Нью-Йорке она идет по улице с магнитофоном, откуда доносится «I Put a Spell on You». Если Джармушу и дано заколдовать его приземленную, начисто лишенную прекраснодушия Америку, то лишь при помощи музыки.
Худощавый Джон Лури, сыгравший роль Вилли, уже писал музыку и играл на саксофоне в «Отпуске без конца». Ричард Эдсон, выступивший в третьей главной роли – неуверенного в себе Эдди, – тоже по профессии музыкант, он играл на ударных в первом альбоме Sonic Youth. И сама Эстер Балинт позже сделала музыкальную карьеру, записав две успешные пластинки. Джармуш верен себе: даже его актеры – чужестранцы в мире кинематографа. Их чудаковатая манера и нехватка профессионального бэкграунда превращены режиссером в неповторимый стиль. А необходимая музыкальность ритма картины, включающего не только звуковые фрагменты, но и паузы, гармонично отвечает кастингу. Саундтрек в фильме тоже парадоксальный. Саксофонист Лури написал нежную музыку для струнного квартета (ее исполняет Paradise Quartet, «Райский квартет») под влиянием квартетов Белы Бартока – хотя от своего венгерского имени Бела его персонаж все время отказывается. А саксофон при этом завывает в блюзе Хокинса, при звуках которого Вилли, герой Лури, всегда недовольно морщится.
Еще бы – ведь он прагматик. И если идет играть в карты, то заранее знает, что выиграет. Не то что Эдди (тоже, впрочем, шулер), мечтающий как-нибудь выиграть на бегах и верящий в свое предчувствие. Поэтому во Флориде они продувают все сбережения. Джармуш отдельно подчеркивает, что все его герои лишены каких бы то ни было амбиций, столь необходимых для достижения американской мечты, и даже вводит в фильм сцену, где Вилли и Эдди недружелюбно перебрасываются несколькими словами с человеком, ждущим автобуса, чтобы отправиться на работу – на завод. Они бы так точно не смогли.
Зато работящая Ева, молчащая о своей вере в чудеса, срывает куш необыкновенным образом: приняв ее за другую из-за случайно ею купленной шляпы, наркодилер (его роль играет Раммельзи, еще один музыкант – знаменитый в 1980-х нью-йоркский рэпер) вручает оторопевшей девушке пакет с деньгами. Теперь она вольна уехать, куда пожелает, и исполнить любые мечты. Сразу вспоминается, как еще в первой главе фильма Ева собиралась в квартире Вилли, а на столе лежала газета с передовицей, где в заголовке крупными буквами было написано слово «чудо».
Силой мечты я город воздвиг, и возник он в единый миг. Силой мечты дорогу простер — пусть ведет меня на простор. И еще намечтал я свет и окошко – свету вослед. Захочу – окно распахну, на вешнее небо взгляну. Значит, есть у меня окно, и жилье мне мечтой дано. У меня и скатёрка есть: расстелю – и могу поесть. Хватит с тебя – мне говорят. Мне бы ответить: о да, я рад, но – покачав головой – молчу. Я, мечтатель, мечтать хочу[43].Пожалуй, самое странное в «Страннее, чем рай» – завершение. Все трое героев картины находятся до такой степени вне категорий «положительных» или «отрицательных», их отношения друг с другом настолько мало напоминают конфликт, что неожиданное обретение огромной суммы денег не вносит ясности в ситуацию: кто должен быть вознагражден, а кто наказан? И как, если ни один из них понятия не имеет, чего на самом деле хочет?
Ева собирается уехать, но на этот день билеты остались только в Будапешт. Так что она откладывает поездку и возвращается в мотель, где, как она думает, ее ожидают Вилли и Эдди. Вилли пытается предостеречь Еву и бежит в самолет, который увозит его в тот самый нежеланный Будапешт. Не дождавшись ни одного из них, Эдди возвращается несолоно хлебавши в Нью-Йорк. В полном соответствии с драматургией абсурда пути троих разошлись, хотя им самим казалось, что они двигаются навстречу друг другу.
«Страннее, чем рай» выглядит необычно на фоне всей солидной традиции американского независимого кино, в котором со стародавних времен, и уж точно с золотых лет Нового Голливуда, в избытке хватало чужаков и иммигрантов. Герои Джармуша не преодолевают никаких искушений и им не поддаются. Они будто застыли в пространстве – «Lost in Space», как будет сформулировано позже, в «Таинственном поезде», – в ожидании непредставимого счастья. Сам Джармуш, кстати, считает своих персонажей-чужаков в высшей степени американскими, а их странность объясняет тем, как работает над сюжетом: «Я не ищу историю, которую хочу рассказать, чтобы потом добавлять к ней детали, – я собираю детали, чтобы потом составить из них пазл или историю».
Ева, Вилли и Эдди – в прямом смысле слова «люди без свойств», поскольку их тихое сопротивление среде носит исключительно случайный характер. Если они и бегут, то не для того, чтобы что-то отыскать, а только для того, чтобы попробовать скрыться от самих себя. Но от перемены мест мало что меняется. Как метко подмечает Эдди, «приезжаешь в другой город, а кажется, будто никуда и не уезжал». Эта статичность сполна отражена в летаргически-статичной работе камеры Тома Дичилло (товарищ Джармуша и его первый оператор сам сыграл продавца авиабилетов в финальной сцене в аэропорту), будто цитирующей манеру одного из кумиров режиссера – японца Ясудзиро Одзу, снимавшего такие же необязательные истории из жизни маленьких несовершенных людей. Виртуозное и простое строение кадра обращает на себя внимание, наверное, не в большей степени, чем затемнения-передышки между длинными планами. Однако именно они придают фильму ритм, сходный с музыкальным.
Позже на этом приеме Джармуш выстроит «Мертвеца». Но там провалы в черноту будут очищать сознание зрителя от пародийных клише жанра. В «Страннее, чем рай» их нет вовсе. По словам автора, это уникальный американский фильм, в котором нет смерти, нет секса и нет погони – того, без чего Голливуд обходиться не в состоянии.
Заявлением о намерениях и манифестом стиля выглядит та сцена, в которой неудачливый ухажер Евы Билли приглашает ее в кино на какой-то фильм (как ему кажется, иностранный) под мрачным названием «Дни без солнца». Вилли и Эдди увязываются с ними. На поверку оказывается, что это боевик с кунфу. Все четверо сидят в одном из передних рядов. Билли отделен от Евы улыбающимся и завороженным Эдди – тот единственный явно получает удовольствие от зрелища. Лица остальных не выражают ничего, кроме отрешенности. Камера Дичилло долго наблюдает за неподвижными героями фильма Джармуша, смотрящими в этот момент другой, судя по звуковой дорожке, насыщенный действием фильм. Это зрелище поистине страннее, чем кино. Ни любви, ни приключений, ни мордобоя, ни опасности: только люди в темноте, смотрящие на события чужой выдуманной жизни, которая никогда не станет их жизнью. А мы смотрим на них, и нам интереснее, чем если бы на экране умирали и убивали. Это ли не чудо.
Денис Ларионов
THAN
Ева (Сначала — думает он в ритме неблагополучия – ты срежешь венгерскую кожу. Очаруешь пространство на ярком солнце. Вернешься. Переоденешься вечером. Мне и не вспомнить как я не хотел чтобы ты приходила.) вплетается в перекресток – как развязка врезается в утренний глаз-не — сморгнуть. Сквозь корковатый рельеф, угловатую среду протянутых отношений, по траектории односложных слов – в Кливленд. ………………….. О, трудности перевода! О, степень сравнения! между раем и раемМузыка: Чарли Паркер
Известно, что первый фильм Джима Джармуша «Отпуск без конца» вдохновлен музыкой великого саксофониста и композитора, основателя джазового стиля бибоп Чарли Паркера, также известного всему миру под прозвищем Птица. Хотя идея фильма, безусловно, связана с образом и музыкой великого саксофониста, а в качестве параллели приводится жизнь главного героя с его бесконечными метаниями, вопросами, жизненными трудностями, отсылая к самому Чарли, есть несколько существенных различий в идее фильма и творчестве Паркера. Главный герой фильма Олли, сыгранный Крисом Паркером, пытается походить на своего великого однофамильца. Но этот путь выглядит бесконечным, утопическим. В музыке Паркера мы слышим необычайную легкость, мечтательность, многогранность. И это несмотря на четкую гармоническую, мелодическую, фразеологическую систему, которую он придумал вместе с соратниками, в числе которых был, например, трубач Диззи Гиллеспи.
Чарли Паркер поистине произвел революцию в джазовом мире. Он вышел за пределы существовавшего и модного тогда стиля свинг. По сути, Паркер вернулся на несколько столетий назад, обратившись к великим образцам академической музыки, преобразовав отдельные ее принципы в джазовой сфере. Если проанализировать соло великого саксофониста, то мы заметим, что импровизации Птицы зачастую строятся на мелодической основе другого великого композитора – Иоганна Себастьяна Баха. Используя баховские фразеологизмы и учение об альтерациях, почерпнутое из академической музыки XVIII века, уплотнив функциональную составляющую и ускорив темпы джазовых композиций, усугубив специальные артикуляционные возможности, Паркер создал абсолютно новое направление джаза.
И все это не имело бы смысла, если бы при четкой теоретической базе Паркер не привнес в свое творчество самое главное – полет, фантазию, надежду. В музыке великого саксофониста воплотились моцартовская легкость и романтизм Шопена. «Отпуск без конца» не лишен этой легкости Паркера-саксофониста за счет пробивающейся сквозь рутину мечты и фантазии. Важны отсылки к джазовой сфере, параллели с образом великого бибопера. Способен ли герой Джима Джармуша на такие открытия и откровения, как его кумир? Способен ли он преодолеть ощущение потерянности, бессмысленности существования, попытаться найти себя в этом мире? В эпоху общей обезличенности герой теряет самого себя, шатаясь по грязным переулкам города и слыша вдалеке недосягаемый джаз, вышедший когда-то на новую ступень развития благодаря его легендарному однофамильцу. Благодаря этому противостоянию и противопоставлению далекой вдохновенной мечты парящему саксофону гения Паркера движение героя фильма к идеалу кажется бесконечным.
Алексей Круглов«Отпуск без конца», 1980
Отпуск без конца начинается, собственно, в конце, о чем извещает меланхолический закадровый монолог главного героя, он же рассказчик. Он стоит на палубе корабля, отплывающего из Нью-Йорка в сторону Европы, и под финальные титры смотрит вместе с нами на панораму удаляющегося Манхэттена. Над водой кружат чайки.
Хотя и то, за чем мы наблюдали больше часа перед этим, работой не назовешь. Фланер Олли бродит по родному городу, встречаясь с разными людьми – знакомыми и случайными; он перекати-поле, непоседа, бездомный, путешественник во вполне романтическом каноническом смысле слова и таким остается даже у себя дома. Но долго на одном месте ему не усидеть, и он плывет куда подальше, в Европу. На причале перед отплытием встречает другого такого же путешественника, одинокого, молодого, прячущего растерянность за самоуверенной повадкой. Тот только что прибыл из Парижа в надежде найти в Нью-Йорке «свой Вавилон». Олли, перекинувшись несколькими фразами с нежданным двойником, плывет на поиски собственного Вавилона – соответственно в Париж.
Принято считать, что дипломный фильм Джима Джармуша «Отпуск без конца» – едва ли не автобиографический. Ни в одной из других его картин нет такого выразительного и подробного портрета Нью-Йорка, как здесь, – а с этим городом так или иначе связана вся творческая биография и жизнь режиссера. Кроме того, в «Отпуске без конца» сыграла роль медсестры его ассистент и сопродюсер, а также многолетняя спутница жизни Сара Драйвер, а снимал картину его однокурсник Том Дичилло. В кадре есть афиша «Невинных дикарей» (1960) Николаса Рэя, классика американского кино, старшего товарища и вдохновителя Джармуша, которому в финале вынесена специальная благодарность. Рэй читал сценарий и давал начинающему режиссеру бесполезные советы, требуя добавить любовных сцен или перестрелок, но до премьеры не дожил. В «Отпуске без конца» есть и еще одна цитата из Рэя – сценка с сигаретой, парнем и девушкой, повторяющая эпизод из «Бунтаря без причины». Ну да, Олли – такой беспричинный бунтарь, да и сам Джармуш отчасти тоже, пусть бунт у них обоих тихий, молчаливый, пассивный. С другой стороны, и эпоха сменилась.
Наконец, пресловутый Париж, мировая столица синефилии и свободных искусств. Именно туда за пять лет до того на год уехал сам Джармуш, а приехав, работал в арт-галерее и не вылезал из Синематеки, где пересмотрел всю классику кинематографа. Знание об этом, конечно, не позволяет предположить, что Олли в конце фильма отбывает «в никуда», и отпуском эту спонтанную поездку тоже можно назвать лишь с известной долей условности.
Но осторожно. Джармуш известен тем, что не терпит разговоров о своей личной жизни и биографии. Он не отказывает «Отпуску без конца» в определенной документальности – здесь практически нет профессиональных артистов, а многие ситуации взяты из жизни. Однако считает его жизнеописанием вовсе не своим, а Криса Паркера, сыгравшего главную роль и послужившего источником вдохновения для создания фильма. В книгах или интернете вы не отыщете его творческой биографии; он – андеграундный бродяга и одиночка, мелкий мошенник и интеллектуал-самоучка, долговязый, нескладный, независимый. Примерно такой же, как его персонаж, и, по словам режиссера, на протяжении съемок ассоциировавший себя с ним, не желавший проводить разделительную черту. До такой анекдотической степени, что периодически исчезал со съемочной площадки неизвестно куда (а все съемки должны были уложиться в две недели и двенадцать тысяч долларов) и обнаруживался спящим на квартире у очередного шапочного знакомого. Так же ведет себя по сценарию и Олли.
Олли – это Алоизиус, имя, придуманное персонажу самим Крисом Паркером; фамилия осталась той же, и это не случайно. Уже не разобрать, кто в большей степени, актер или режиссер, увлечен Чарли Паркером, гениальным американским джазовым композитором и саксофонистом, дух которого витает над картиной. Дух невидимый и неслышимый; саксофон играет с первых кадров до последних, в кадре и за кадром, но ни звука из записей самого Паркера здесь нет. Роль одного из важных персонажей – уличного саксофониста – сыграл Джон Лури, вся звучащая музыка принадлежит ему, за исключением мотива «Over the Rainbow», песенки-мечты о другом мире из «Волшебника страны Оз», и звучащего в записи саксофонного соло Эрла Бостика, пионера нью-йоркского послевоенного ритм-н-блюза.
Тем не менее сам лейтмотив саксофона принципиально важен для конструкции и содержательного ряда фильма. А он указывает именно на Паркера. Просто Джармуш слишком деликатен для такого лобового хода, как саундтрек из его мелодий: много лет спустя он таким же образом обойдется без цитат из Уильяма Карлоса Уильямса в «Патерсоне», фильме, вдохновленном поэзией Уильямса и даже конкретной его поэмой. Вместе с тем в начальном монологе Олли прямо говорит, что если у него родится сын, он назовет его Чарльзом – в память о музыканте. И умереть он хотел бы как Паркер, молодым, чтобы его похоронили в белом костюме-тройке. Таким образом, вся жизнь, от эфемерного рождения до такой же воображаемой смерти, связана с Чарли Паркером.
В каком-то смысле «Отпуск без конца» – в неменьшей степени фильм о нем, чем о Крисе Паркере или самом Джармуше. Основатель бибопа, носивший прозвище Птица, чья нью-йоркская карьера начиналась с работы посудомойщиком, героиновый наркоман, принявший на пике карьеры ислам, он умер в 1955-м тридцати четырех лет от роду. О нем существует немало апокрифов, поскольку сама его жизнь оказалась летучей и непрочной – из самого продуктивного периода карьеры, начала 1940-х, не осталось ни одной записи из-за забастовки Американской федерации музыкантов, видеозаписей тоже крайне мало.
Один из апокрифов пересказывает Джармуш (сам он его придумал или где-то слышал?), причем в сцене, действие которой происходит в фойе кинотеатра. Безымянный незнакомец – единственный чернокожий из встреченных Олли, будто намек на Чарли Паркера, – говорит о саксофонисте, который никак не мог найти заработка в Штатах, поскольку играл в новаторском стиле, а переходить на традиционный не желал. И он эмигрировал в Париж, понадеявшись на продвинутость тамошней публики, но та же проблема поджидала его и за океаном. Он решил покончить с собой, забрался на крышу дома со своим саксофоном и, когда внизу собрались люди, начал играть первые такты «Over the Rainbow». Только продолжения вспомнить никак не мог. Когда он упал на землю, то в последние минуты жизни услышал сирену машины «скорой помощи» и узнал в ее звуках забытый такт.
Чарли Паркер, насколько известно, никогда в Париже не был (эта деталь, как уже говорилось, из жизни самого Джармуша), и неизвестно, исполнял ли когда-либо «Over the Rainbow». Но музыка и судьба как попытка полета над радугой, неизменно завершающаяся падением, – это, разумеется, о Паркере. Когда герой фильма сразу после диалога с незнакомцем бредет по ночной улице и встречает там саксофониста, до этого виденного из окна, он просит сыграть что-нибудь – и тот начинает импровизацию с музыкальной фразы из той же песенки. Возможно, тогда же Олли задумывается об отъезде из Нью-Йорка. Во всяком случае, его финальное плаванье проходит под ту же (воображаемую?) музыку.
Человек из фойе говорит об эффекте Доплера – изменении звука в движении. Звук саксофона Паркера, который уже не принадлежит ему, а на правах призрака блуждает по мифологическому пространству Нью-Йорка, меняется так же, как и вымышленная биография автора, героя и их кумира, а популярная песенка из старого сказочного фильма трансформируется в гимн всех путешественников. Ведь Олли постоянно пребывает в движении. Именно поэтому, видоизменяясь, эти звуки не оставляют ни его, ни нас.
В «Ночи на Земле» Джармуш определил Чарли Паркера жильцом в отель «Гений» рядом с Шекспиром, Данте и Леонардо. Собственно, по его версии, других американцев там нет. «Отпуск без конца» – фильм о парадоксе творчества, которое не может быть целенаправленной «профессиональной» работой, а только призванием, одновременно легкомысленным и болезненным. Весь он построен по принципу большой джазовой пьесы, где солируют новые и новые инструменты (персонажи), а ритм-секция остается прежней – негромкой, ненавязчивой, верной сама себе: такова линия Олли, бездействующего героя.
Хотя именно музыкально Джармуш оформляет музыкальный ритм совершенно иначе. Олли блуждает по городу под звуки яванского гамелана, мелодичный стук которого напоминает бой часов или даже колоколов. Это будто бы тот отсчет времени, о котором фланирующий герой, вечный мальчик, пытается изо всех сил забыть. Но в то же время ассоциирует себя с этим звучащим в вакууме звуком: «Allie – total blam!» – такое граффити он делает на стене в начале фильма.
За горой звенит металл певучий, Срыв глухой и тонкая струна. Гамеланг – как смерть сама – тягучий, Гамеланг – колодец снов, без дна[44].Олли утверждает, что блуждает по городу от бессонницы, при этом грезя наяву. И конечно, логика абсурдной череды сновидений – лучшая из тех, которыми можно было бы объяснить текучую структуру фильма, лишенного и явного сюжета, и каких-либо кульминаций. Но сон – еще и то состояние, в котором субъективное представление о ходе времени может возобладать над объективной реальностью. Это именно то, что происходит в «Отпуске без конца».
Вся картина – огромный флешбэк; Олли ведет рассказ о своем прошлом из невидимого для нас будущего (вероятно, Парижа). Но когда он описывает чужой город, мы видим на экране покинутые, пустые пейзажи и даже натюрморты родного для него – и чужого для нас? – Нью-Йорка. Мы видим, как под властью воспоминаний в квартире вдруг появляется Лейла, подруга Олли, с которой у него завязывается разговор. До этого явления, почти призрачного, мы проходим через череду пространств, с которыми сам Олли сравнивает встреченных им в прошлом и ныне покинутых людей: переулок и перекресток, бильярдная и бар, шикарная столовая и фешенебельная гостиная, номер в бедном отеле и тюремная камера. Покинутый мир, фантомы безвозвратного прошлого. Даже явственно документальные кадры, которыми открывается фильм, – море людских голов на оживленной улице Нью-Йорка – замедленны, будто во сне, и сопровождены причудливой музыкой уличного саксофониста. Кстати, известно, что когда Чарли Паркер плотно сел на наркотики и отчаянно нуждался в деньгах, он зарабатывал именно так, играя на улицах Манхэттена.
Олли ускользает от времени, вспоминая воображаемое прошлое – отнюдь не идиллическое, впрочем. Там, в прошлом, даже была война, и Нью-Йорк подвергся жестоким бомбардировкам от противника; кажется, то были китайцы. Он возвращается на руины родного дома, разрушенного в придуманной войне, и идет мимо них, пригнувшись, слыша взрывы и шум канонады идущей где-то в параллельном пространстве войны. И тут же из того, что когда-то было домом, выбирается сумасшедший – как ни странно, он слышит те же звуки, что и Олли (и мы): так субъективный, воображаемый саундтрек вытесняет обычный деловой шум Нью-Йорка. К тому же придуманная «военная зона» отделена от знакомых высоток непреодолимым пустырем, будто Зоной из «Сталкера» Тарковского, снимавшегося одновременно с дебютом Джармуша. Тогда Олли, будто опомнившись, успокаивает напуганного безумца – это не шум военных самолетов, это обычные вертушки, нет никакой войны. Позже невидимые вертолеты аукнутся в «Пределах контроля», где будут следить с неба за безоружным убийцей – агентом Джармуша и других людей с воображением.
Заходя в квартиру к Лейле, Олли смотрит из окна на улицу. Там его галлюцинации смешиваются с реальностью. Обходя развалины дома своего детства, вновь заглядывает в окно, но уже снаружи смотрит внутрь. У него нет собственного жилища, сами представления о «внутри» и «снаружи» ничего не значат. Недаром второй человек, который появляется в кадре «Отпуска без конца» после самого Олли, – полуголый бомж; Олли проходит мимо, они молча приветствуют друг друга.
«Отпуск без конца» – настоящий каталог бездомных, которые так и существуют в размытом хронотопе, вне времени, а потому неспособны ужиться ни с каким пространством. Причем если с одними герой находит общий язык, вообще обходясь без слов, то другие – например, расхристанная девушка-латиноамериканка с размазанной помадой – отказываются вступить в любую коммуникацию, которая ограничивается тем, что ненадолго они оказываются в одном кадре. Это, конечно, предвестье тех диалогов-без-знания-языка, из которых состоят и «Мертвец», и «Пес-призрак».
Бездомность, безъязыкость, существование вне времени – признаки и поэтического сознания, и безумия. Впрочем, в конечном счете разница между ними не так велика. Олли буднично рассказывает о своем умершем отце и матери, которая после его смерти сошла с ума; спустя год он решает навестить мать в клинике для душевнобольных. Их встреча не сулит катарсиса – только будничное совпадение интимной способности слышать взрывы и канонаду несуществующей войны, которую помнят они оба.
Антисентиментальность этой сцены, сулившей, казалось бы, эмоциональный прорыв в анемичной ткани фильма, может служить своеобразным ключом к его прочтению. Отказавшись от элементов экшена, на которых настаивал Рэй, режиссер старшего поколения, Джармуш утверждает ту буддийскую покорность судьбе, которую излучает сама фигура Олли. Тот впадает в своеобразный транс, танцуя сам с собой под джазовую музыку, и даже не пытается вовлечь в танец девушку, которая отвернулась от него и задумчиво смотрит в окно, едва заметно двигаясь в ритм той же музыке. Никакого намека на страсть или драму, пусть даже скрытую от нескромных глаз зрителя. А когда Олли просыпается на неведомой крыше и, беря голову в руки, пытается прийти в себя, то долго играет в гангстера с невидимой пушкой в руке – то ли пародируя другого беспокойного нью-йоркского странника, таксиста Скорсезе, то ли всерьез оппонируя ему. Вероятно, поэтому и гамелан, и джаз звучат вне определенного мажора или минора. С самого начала и навсегда музыка в джармушевском кинематографе никогда не указывает ни зрителю, ни персонажам, что им положено чувствовать здесь и сейчас, надежду или грусть. Даже привычная «Over the Rainbow» прерывается и противоречит сама себе в причудливых атональных руладах саксофона.
Другой повседневный безумец и гений, которого здесь открыто цитирует Джармуш, – граф Лотреамон, он же французский предтеча сюрреализма и постмодернизма Изидор Дюкасс. Его «Песни Мальдорора» и «Стихотворения» были полностью опубликованы лишь посмертно (Дюкасс был еще моложе Паркера, когда умер в 1870-м, – всего 24 года!), их воспели сюрреалисты и философы уже ХХ века. Олли читает Лейле вслух тот эпатажный фрагмент, в котором демонический злодей Мальдорор, а затем его бульдог надругались над бедной девочкой. Никаких сильных эмоций у них обоих это не вызывает: Лейла даже вырывает из книги страницу и делает из нее бумажный кораблик. Однако полемики с Лотреамоном здесь нет в помине. Напротив, Джармуш обнажает свой метод. Подобно домоседу и книгочею Дюкассу, он наслаждается цитированием чужого текста и лечит пафос отстраняющей иронией стилизации.
«Я не оставлю после себя Мемуаров»[45], – писал Дюкасс в своей второй и последней, незавершенной книге – «Стихотворениях», состоящих почти исключительно из чьих-то «мудрых мыслей», по-абсурдистски вывернутых наизнанку и превращенных в собственные противоположности (вдобавок, вопреки названию, в этой книге нет ни одной поэтической строчки). Так же и «Отпуск без конца» лишь по наивности можно принять за лирическую исповедь Джармуша. На самом деле автор скрыт за личинами своих героев и культурных кумиров. Отплывая в Париж, где и умер Дюкасс – Лотреамон (тоже путешественник из Нового Света, он родился и провел детство в семье дипломатов в Уругвае), Олли будто бы отсылает зрителя ко множеству подтекстов и параллелей, которые в этом раннем фильме Джармуша еще очевидны, пока лежат на поверхности.
Беседуя с «ветераном войны» (так обозначен в титрах странный обитатель руин родного дома Олли), герой рассказывает ему о красивом автомобиле, привидевшемся ему несколько раз во сне и наяву. Потом, стоя на улице без дела, он встречает двух девушек, явно обеспеченных, которые подъезжают к нему на шикарном кабриолете. Одна отбегает по делам, вторая просит Олли помочь бросить в почтовый ящик письмо, до которого она из-за руля не может дотянуться. «Я не почтальон», – неожиданно высокомерно бросает он. Та выбирается из автомобиля со своим письмом, и тут вдруг Олли ныряет за руль и моментально срывается с места (почти такая же сцена с похищением «Ягуара» возникнет потом в «Псе-призраке»). Уже в следующей сцене он продает машину какой-то темной личности за 800 долларов. И на них, видимо, покупает билет на корабль, отправляющийся в Европу.
Он не отправляет чужого письма и в собственном письме Лейле признается, что писем писать не умеет. То есть не верит в связь между оторванными друг от друга пространствами или по меньшей мере не желает эту связь поддерживать. Уходя – уходи, уплывая – уплывай. Отказавшись от возможности стать водителем автомобиля, храня и блюдя пассивность, он по старинке, как когда-то Дюкасс, садится на борт парохода (а не прагматичного и стремительного самолета). Чтобы время путешествия было долгим, длящим бесконечные каникулы и освобождающим от гнета пространства пустотой своих просторов. «Привет тебе, о древний Океан!» – как сказал бы никогда не существовавший граф Лотреамон.
Вера Павлова
новый фильм последний ряд сновиденье напрокат старый фильм последний раз сновиденье на заказ всхлипнуть застелить кровать буквами оцифровать полюбившийся кошмар VHS DVD-RДжим Джармуш. Интервью
2003, Венеция
Белый – это сигареты, а черный – кофе. Были ли еще какие-нибудь причины, заставившие вас сделать фильм черно-белым?
Люблю черно-белое кино, оно дает зрителю меньше информации. Идея этого фильма – очень минималистская, такова и форма: люди просто сидят и разговаривают друг с другом. Чем меньше информации, тем лучше. Кстати, черно-белое кино делать легче цветного. Я человек очень дотошный. Если я выбираю место съемок, а потом смотрю в объектив и мне не нравится цвет, то я могу стены перекрасить. Выбор черно-белого изображения снимает эти проблемы.
Откуда пришло решение сделать полнометражный фильм из многочисленных короткометражек-фрагментов?
Я люблю формы… любые формы. Один критик назвал мои картины бесформенными, никак это не обосновав, и ошибся. Использовать некую фиксированную форму для самовыражения – ничего не может быть лучше. Поэтому я так преклоняюсь перед Ларсом фон Триером: он куда больше меня преуспел в изобретении и соблюдении форм и правил. Формы важны везде. Возьмем литературу: все формы одинаково значительны, будь то огромный роман или крошечное стихотворение. В кинематографе форма – вопрос еще и коммерческий, поэтому так трудно живется режиссерам короткометражного кино. Но для меня короткий фильм – одна из лучших форм на свете. Он не подчиняется идиотским законам вроде «фильм должен длиться полтора часа, потому что тогда мы поставим в кинотеатрах шесть сеансов в день вместо пяти и соберем больше денег». Фильм должен длиться столько, сколько должен длиться. Представьте, сказать художнику: твоя картина должна быть размером 42 сантиметра на 67 сантиметров. Абсурд! Я люблю ограничения в кино, но никто не имеет права мне их навязывать.
Как вы выстраивали одиннадцать сюжетов по порядку?
Вообще-то я не думал о порядке, пока не собрал все короткометражки. Первые три я в таком порядке и снимал, но в остальных не придерживался хронологии. Просто надо было увидеть, как они станут рядом друг с другом, постараться сделать все характеры разными.
Вы действительно снимали этот фильм на протяжении долгих лет?
Первую новеллу я снял в 1986-м, а к тому моменту, когда появилась на свет вторая, я понял, что они лишь звенья одной цепи, которые необходимо собрать в единое целое. Первые три я показал публике, потом сделал еще две, которые никогда никому не показывал – мне хотелось уже подождать, пока не удастся сделать полнометражный фильм. Эти фрагменты можно смотреть по отдельности, но лично для меня это полнометражный фильм, разделенный на главы. Я повторяю мотивы, использую схожие шутки, так что получается настоящее кино.
Во многих ваших фильмах люди встречаются и подолгу разговаривают, причем не о важных вещах, а преимущественно о ерунде…
Спасибо вам большое за такую высокую оценку! Если серьезно, то многие режиссеры могут снимать кино о высоких и драматических материях, а я на такое не способен. Эпические темы важны, я их сам люблю, но в своих фильмах больше интересуюсь деталями, которые другие люди выбросили бы не глядя. Я сделал фильм «Ночь на Земле» – пять историй в такси – по конкретной причине. В любом фильме если кто-то с кем-то созванивается, то один говорит: «У меня проблема», а другой отвечает: «О’кей, я возьму такси», а потом монтажная склейка, и – бац! – один оказывается дома у другого. Что было в такси, мы не знаем, потому что это неважно для сюжета. Поэтому мне захотелось сделать фильм именно об этих маловажных моментах жизни. Мне менее интересны точка отправления и точка назначения, чем то, что лежит между ними. Я не аналитик, не берусь исследовать свое творчество, но могу сказать: мне хочется делать кино о том, что не принято считать важным, но что составляет бóльшую часть нашей жизни.
Почему из всех мелочей жизни вы избрали именно кофе и сигареты?
Знаете, сам я уже много лет безуспешно пытаюсь бросить курить, а кофе попросту перестал употреблять. Просто кофе и сигареты – самые распространенные бытовые наркотики, за исключением, быть может, алкоголя. Если человек занят работой, ему часто хочется остановиться, сделать перерыв на кофе или перекур. Кофе и сигареты – специальное приспособление для того, чтобы свести людей вместе, помочь им завязать разговор. Иногда я преувеличиваю значение этих наркотиков, как в первой новелле: там Роберто Бениньи – очевидный маньяк кофе; а в конце таким предстает Билл Мюррей.
У вас есть любимая короткометражка в «Кофе и сигаретах»?
Нет, не могу я их сравнивать. Представьте, у вас одиннадцать детей, и какой же будет самым любимым? Одни умнее других, кто-то грубее, но все они дети, и невозможно отделять их друг от друга.
Трудно было заполучить известных актеров вроде Кейт Бланшетт или Билла Мюррея для столь независимого и малобюджетного фильма?
Альфред Молина играл в «Мертвеце», с тех пор мы и дружим. С Кейт мы вместе пили чай или кофе, не помню уже, в Нью-Йорке пару лет назад. Я большой ее поклонник, она мне кажется безумно убедительной в любой роли. Вспомните хотя бы «Рай» Тома Тыквера, где она ходит бритая наголо, – просто потрясающе! Стоит мне начать смотреть любой фильм, где она играет главную роль, и через пять минут я настолько погружаюсь в персонажа, что забываю имя актрисы. Мы с ней тогда хорошо поговорили. Я ей сказал, что в ней есть что-то криминальное – очевидно, гены кого-то из предков, высланных в Австралию за те или иные преступления каторжников. Кейт похожа на служанку-воровку, которая по ночам переодевается в шикарные платья хозяйки. Типичная авантюристка. Взял у нее телефон, перезвонил через пару дней и спросил, хочет ли она сыграть у меня. Она согласилась. До сих пор не понимаю, как ей удалось сыграть двух настолько разных героинь.
Многих из моих актеров я знал заранее, кроме разве что Стива Кугана. С Биллом Мюрреем мне давно хотелось поработать, причем снять его в большой серьезной роли, дать пространство не только для шутовства. Пока что сотрудничество сложилось только в такой короткой форме. Я ему позвонил, предложил, а он спрашивает: «Это много времени займет?» Я говорю: «Один день», а он: «Как насчет того, чтобы уложиться в полдня?» Я говорю: «Не получится», а он: «Давай все-таки постараемся!» Я постарался.
Вы платили им гонорары?
Платил, как ни странно, хотя невысокие. Впрочем, многие режиссеры расценивают такие роли как камео и вообще за них не платят. Я в этом смысле отличаюсь от других в выгодную сторону. Но, разумеется, такие вещи делаются актерами не ради денег.
Трудно было работать со столь разными актерами?
Я работал с ними по-разному. Если ты одинаково относишься к разным актерам, фильм у тебя просто не получится. Я не диктатор, ничего не навязываю актерам, хочу работать не над ними, а вместе с ними. Каждый актер – отдельный сюжет, надо только найти, как его прочитать. Одни импровизируют блестяще, другие на это не способны. Феллини говорил: «Я могу сделать одинаково гениальную сцену с Марлоном Брандо или со знакомым рабочим – надо только, чтобы они одинаково доверяли мне». Хотел бы я сказать то же самое. Но я учусь, учусь. И продолжу учиться до самой смерти.
Почему практически всех персонажей зовут точно так же, как их исполнителей?
В большинстве случаев актеры играют в «Кофе и сигаретах» преувеличенные версии самих себя. Я знал многих из них давно, поэтому и сценарий писал в расчете на конкретных людей. Например, сюжет о Мэг и Джеке Уайт: мы случайно встретились с Джеком несколько лет назад и разговорились о Николе Тесле. Выяснилось, что мы оба интересуемся его деятельностью, и поэтому в короткометражке Мэг и Джек беседуют именно об открытиях Теслы. Том Уэйтс в новелле «Где-то в Калифорнии» называет себя доктором, а потом эту же шутку повторяет рэпер RZA, но, как ни смешно, RZA действительно считает себя медиком! Мы как-то сидели с ним, и я себя плохо почувствовал, а он тут же стал мне давать советы, чем растираться и что принимать внутрь. Я был просто поражен, говорю: «Погоди минутку, ты что, доктор?» А он так обрадовался и закричал в ответ: «Конечно, доктор, я два года в мединституте отучился!» Такие вещи и вдохновляли меня на сценарии «Кофе и сигарет».
У вас сразу две новеллы посвящены двоюродным братьям-сестрам. В первой кузин играет одна актриса, Кейт Бланшетт, а во второй Стив Куган и Альфред Молина неожиданно оказываются кузенами. Откуда взялась такая странная идея?
Я написал сценарии специально для этих актеров, но Альфред и Стив очень много импровизировали, так что результат заметно отличается от моего текста. То же можно сказать и об остальных фрагментах – в каждый из них маленькие, но важные нюансы привносили именно исполнители. В новелле о кузенах характеры родились из моего разговора со Стивом Куганом. Я спросил, кого бы он хотел сыграть, а он ответил: «Знаешь, хотелось бы сыграть гомосексуалиста, только не такого симпатичного и обаятельного, как это обычно бывает в кино, а очень противного». Стив вовсе не гей, и человек он вовсе не противный – просто ему было интересно сыграть такого странного персонажа. Новелла с Кейт Бланшетт следовала сценарию слово в слово, потому что она играла обе роли и пространства для импровизации почти не оставалось. Но еще до начала съемок она кое-что дописала к сценарию, чтобы посмеяться над самой собой, своей любовью к дорогим шмоткам!
А почему все-таки братья, сестры, кузены, кузины, близнецы?
Не знаю… У моей матери есть брат-близнец – мой дядя. Всегда было очень интересно наблюдать за ними: иногда кажется, что они способны читать мысли друг друга. Идея кузенов мне нравится потому, что двоюродный брат может быть человеком, который совсем на тебя не похож и даже тебе не нравится, но существует рядом и с этим ты ничего поделать не можешь. Сделать из Кейт двух кузин было забавно, Альфреда и Стива я долго убеждал, что им придется стать кузенами, а рэперы RZA и GZA – на самом деле кузены! Представьте, быть связанным с кем-то, на кого ты никак не можешь повлиять. У меня, например, с двоюродными братьями и сестрами нет решительно ничего общего. Но они – моя семья, и мы очень близки.
Вы всегда уделяете много внимания выбору музыки. Здесь она постоянно звучит за кадром как фон, хотя ее едва слышно. Однако она вряд ли выбрана наобум?
Конечно, нет! Музыка – один из главных компонентов. Она звучит фоном, но помогает мне определить каждый характер, каждое место действия. Кстати, из этих фрагментов получится отличный саундтрек. Не знаю только, когда он будет выпущен, ведь даже дата выхода фильма пока неизвестна. Старая песня Игги Попа и The Stooges звучит во фрагменте с Мэг и Джеком Уайт, потому что они, как и Игги, родом из Детройта и Мэг с Джеком сами играют похожую музыку. Во фрагменте с Кейт Бланшетт звучит отрывок из Генри Пёрселла – минималистская музыка, которая ограничивает пространство, где существует гламурная и шикарная Кейт. Во фрагменте с RZA и GZA звучит, разумеется, хип-хоп – редкий трек, который я отыскал специально для фильма. Именно музыка создает атмосферу в каждой из историй, и ничто иное.
А как вам пришла в голову идея выдуманной рок-группы со странным названием SQÜRL?
Я еще в «Ночи на Земле» придумал несуществующую рок-группу… Не знаю, нравится мне придумывать названия для групп и все тут. Например, представьте хеви-метал-группу PILGRIM – по-моему, супер. Что до этого конкретного названия, то есть у меня знакомая англичанка – она замечательно произносит слово «белка» (squirrel), так нежно и красиво! А в Америке то же слово произносят как-то грубо и даже угрожающе – sqürl. Вот и родилось название для альтернативной группы. Мы даже хотим футболки выпустить: на груди надпись SQÜRL большими буквами, а на спине чашка кофе и сигарета.
В последнем сюжете два старика произносят тост за Нью-Йорк 1970-х годов. Почему?
Ничего с собой не могу поделать: люблю Нью-Йорк 1970-х! Экономический кризис, начало маргинальной культуры, андеграундного кинематографа, первый хип-хоп, панк-рок, а я только переехал в город к 1975 году. В те времена все казалось возможным, было полно интересных людей вокруг… Во время репетиций я попросил актеров произнести этот тост, и они были просто поражены: почему? Для них это было жуткое время! Однако в конечном счете согласились. Нью-Йорк меняется ежегодно, ежедневно, и если вы не любите перемен, вам нечего делать в этом городе. Кстати, лично мне не нравится, в какую сторону он меняется в последние десять лет.
Потому и ищете утешения в «старом добром» рок-н-ролле?
Постоянно. В музыке, как и в живописи или литературе, я люблю все старое (например, обожаю смотреть давние черно-белые фильмы). Однако и в новом нахожу немало интересного – например, популярные и, безусловно, повторяющие творчество групп 1970-х коллективы The Strokes и The White Stripes. Второй я снял в «Кофе и сигаретах», потому что они ближе мне по духу. Послушать новый рок-н-ролл – что может быть более оздоровляющим?
А другую музыку тоже слушаете?
Я люблю все формы музыки. Очень ценю фанк, блюз, бибоп, слушаю с удовольствием джаз самых различных направлений – от раннего свинга до эйсид-джаза. Люблю и классику, в особенности Антона Веберна. Он мой любимый композитор, потому что никто другой не мог написать струнный квартет длиной в три минуты! Люблю Пёрселла и Уильяма Бёрда. Кроме того, часто слушаю Малера. Но и хип-хоп люблю. Представить, чтобы я слушал только рок-н-ролл… я бы скорее застрелился.
«Кофе и сигареты» трудно назвать коммерческим фильмом. Осознание этого мешало вам в работе над картиной?
Япония и Италия с самого начала вложили деньги в мой проект, не ища никакой выгоды, а остальные я вложил сам, противореча основному правилу кинопроизводства: никогда не финансируй собственный фильм, ты что, дурак?! Но «Кофе и сигареты» – такой скромный и камерный проект, что я долго не сомневался. Кстати, я всегда делаю фильмы, которые в процессе производства принадлежат лишь мне одному и только потом получают возможность распространения по всему миру. Год назад я был в Каннах с идеей сценария, и отношение людей с деньгами к самой идее меня просто убило: «Приведешь нам Джонни Деппа и Брэда Питта, тогда, может, и дадим тебе полмиллиона долларов, а ты нам за это – право самостоятельно монтировать твой фильм». Я сказал: «Простите, что?» Хотелось бросить кинематограф навсегда после этого разговора. К счастью, все мои проекты относительно скромны. Мне остается быть оптимистом и стараться делать то, что хочется.
Каковы ваши отношения с Голливудом?
Для Голливуда я маргинальное насекомое. Я стараюсь хранить независимость духа, поэтому политика современного Голливуда больше расстраивает меня по-человечески, чем влияет на мой кинематограф. Если я не могу свободно высказывать то, что думаю, значит, Америки для меня больше не существует и сам я больше не американец. Ведь единственное, чем хороша Америка, – это возможность свободы самовыражения. Голливуд пытается уничтожить ее… Посмотрим, что у них получится. За гигантов киноиндустрии я не отвечаю. Не назову их своими врагами – они всего лишь люди, которых я не уважаю. Я не игрок на их поле, я не живу в Голливуде и не работаю там. Они не могут меня контролировать, они могут только помогать мне или не помогать. Но и помочь мне они на самом деле не могут, поскольку я не нуждаюсь в их поддержке. Это мой сознательный выбор.
Голливудские продюсеры когда-нибудь предлагали вам проекты?
Теперь все меньше и меньше, а раньше предлагали. Смехотворные сценарии, какие-то молодежные комедии. Бессмыслица, до конца дочитать невозможно. Мне кто-то рассказывал, что в пятидесятых по Голливуду скитался сценарий под названием «Я женился на коммунистке из ФБР», который использовали специально для того, чтобы предлагать режиссерам и проверять их таким образом: кто согласится – тот коммунист! Ник Рэй получил сценарий и тут же им перезвонил со словами: «Потрясающе! Я согласен, готов приступить немедленно! Когда начинаем?» Они были напуганы, как не пугались никогда в жизни.
В Америке сейчас стало хуже с творческой свободой – хотя бы в области кино?
Знаете, если внимательно посмотришь на новое поколение режиссеров, балансирующих между коммерческим и авторским кино, вроде Пола Томаса Андерсона, Уэса Андерсона, Александра Пейна, то понимаешь: подобных им немало. Разнообразие режиссерских подходов заставляет подумать, что сейчас далеко не худшие времена для американского кино. С другой стороны, современные США – темное и депрессивное место… Странным образом жизнь в подобных государствах как раз и будит в человеке творческие силы. Я в культурологии мало что понимаю, но похоже, что мы живем в хорошую эпоху – с точки зрения искусства.
Прокат вам улыбается нечасто, зато ваши фильмы с руками отрывают фестивали…
На фестивале фильмам уделяется столько внимания, что в конечном счете именно фестивали помогают мне сохранять творческую свободу. Ведь я продаю свои работы на фестивалях. Я получаю деньги за фильм после того, как он сделан, и это меня полностью устраивает: это значит, что надо мной не нависают люди, объясняющие мне, как делать кино! Получить деньги за картину после того, как она сделана по моему вкусу, – настоящее счастье. Благодаря этому я остаюсь свободным. Так что мне везет с фестивалями. И фестивальная публика мне очень близка.
С «Кофе и сигаретами» покончено?
Идей у меня полным-полно, и, может быть, лет через десять вы увидите еще один полнометражный фильм на эту тему. Например, с Софией Копполой и дочерями Кассаветиса – давними подругами. Или с участием индейцев. В конце концов, именно они – коренные жители Америки, где происходит действие моего фильма.[46]
2013, Канны
Паузы между вашими фильмами все длиннее. «Выживут только любовники» – картина камерная, небольшая. Что отняло так много времени?
Все просто. Никто не желал давать на фильм деньги. Понятия не имею почему. Идея казалась мне хорошей. Мир меняется, найти инвестора все сложнее. Думаю, не стоит искать сложных причин: я снимаю некоммерческое кино, и никто не рискует вкладываться в то, что, возможно, не окажется прибыльным.
Что привлекло вас в вампирской теме?
Я всегда любил давние, испытанные жанры. Вампиры – это воплощенная история кино. Да и сами они мне всегда были по душе. Они странные, они аутсайдеры: чудовища, злодеи? Или ситуация сложнее? Эта двойственность заложена уже в первых легендарных вампирских фильмах: «Носферату» Мурнау, потом старый голливудский «Дракула» с Белой Лугоши. И удивительный, странный, неописуемый «Вампир» Карла Дрейера. В 1950-х в Мексике сняли прекрасную картину «Эль Вампиро», где впервые показали вампирские клыки. Вы, наверное, думаете, что Макс Шрек уже был клыкастым, но ошибаетесь! Я проверял. Меня вообще ужасно интересовали стереотипы жанра: откуда они пришли, как менялись с ходом времени. Это поэтический процесс. Если копнуть глубже, к литературным истокам, то вампиры пришли из английского романтизма, основатели которого тоже были аутсайдерами, предельно далекими от мейнстрима.
К разговору о вампирских стереотипах. Откуда взялась идея с перчатками, которые носят вампиры?
Перчатки добавил я. Надо же было хоть что-то новое привнести в традицию. Пусть среди стереотипов будет еще один, мой собственный! Я старался быть очень внимательным к их одежде: вампиры должны смотреться круто. И перчатки… Когда они их стягивают, сцена моментально превращается в эротическую.
Вампиры сразу начинают казаться такими хрупкими, уязвимыми.
А они такие и есть. Представьте, каково это – укрываться от всего человечества, прятаться от властей, питаться исключительно кровью. Превратил кого-то в вампира, и ты должен заботиться о последствиях. Но сегодня вампирам сложнее, чем когда-либо. Вы только подумайте, как сложно найти качественную кровь! Повсюду наркотики и болезни, риск заражения невероятно высок. Один из моих персонажей умирает, выпив зараженной крови, – а ведь до этого он прожил сотни лет. Вампиры – хрупкие создания.
Практически как художники.
Придется согласиться. Вампиры могут служить и метафорой: не только художники, но и ученые, да и вообще любые люди с воображением. Корпорации захватили мир, мейнстрим атакует на всех фронтах, и все мы выпадаем из времени.
Поэтому вас так привлекают виды романтических руин цивилизации.
Да, я заметил за собой эту склонность несколько лет назад и сначала подумал, что это возрастное. А потом вспомнил, что мне с самой юности нравились странные пейзажи и необычные места. Эта эстетика у меня в крови. Мой Нью-Йорк, когда я туда только переехал, был таким же. Мусор повсюду, отщепенцы, заброшенные дома… Я полюбил их всей душой. Знаете, как говорят о такой любви в Детройте? Ее называют «руинным порно». Европейцы специально приезжают в Детройт любоваться руинами и получают от этого зрелища наслаждение, сопоставимое с сексуальным. Но детройтцы говорят об этом без негативной оценки, просто констатируют факт. И меня тоже привлекает зрелище чего-то ушедшего в прошлое, но оставившего след в настоящем. Такие виды можно, впрочем, найти повсюду. Весь Рим состоит из них.
Признайтесь, вы правда верите, что Шекспира не было, а его пьесы писали вампиры?
Самым трудным было убедить в этом Джона Хёрта, который сыграл в моем фильме роль Кита Марло, настоящего автора шекспировских пьес. Меня вообще потрясает вдумчивость Джона. Он не только над каждой репликой из сценария подолгу размышляет – он и любую новость, услышанную по радио, обдумывает так же. А потом находит какую-то философскую интерпретацию. Однако Джон никогда не подозревал, что Шекспир был подделкой, а пьесы за него писали другие люди. Я стоял на своем и продолжал давать ему книги, а он читал все запоем… Пока однажды не позвонил мне ночью: «Джим, ты абсолютно прав! Шекспир – это мошенничество!» Теперь – с его даром убеждения – он объясняет это другим.
Вы не только шекспировские пьесы приписали вампирам, но и музыку Шуберта.
Только адажио из Струнного квартета. Его действительно написал вампир Адам. Для меня эта музыка – из числа самого прекрасного, что удавалось создать человечеству, и я решил отдать ее ему.
Вы назвали самых хрестоматийных вампиров. А можете рассказать о своих любимых? Ведь явно ваши Адам и Ева – результат продолжительной селекции, наследники великих вампиров мирового кино.
О, их так много… Из позднего канона – наверное, «Голод» Тони Скотта с Катрин Денёв. Шведский «Впусти меня» – конечно, потрясающий фильм. Из классики – «Носферату», он непобедим. С другой стороны, в этом жанре много ответвлений. Например, вампиры-лесбиянки заслуживают отдельного исследования и в литературе, и в кино: помните «Насилие вампира» Жана Роллена? Или фильмы о графине Батори, еще одно направление. А если вспомнить «Бал вампиров» Романа Полански, то приходит на ум еще один поджанр, фильмы об охотниках на вампиров. Или кинобиография Ван Хельсинга. Экранизации Брэма Стокера – тоже отдельная тема…
Интересно, что европейских картин в вашем списке больше, чем американских. Как вы относитесь к тому, что вас в Штатах считают европейским режиссером?
Они неправы. Я плыву в лодочке где-то посреди Атлантического океана, между Европой и Америкой. Хотя меня тянет и в Тихий океан тоже: японское кино потрясающее, я рад числить себя среди его поклонников и последователей. Мне интересно слишком многое, чтобы приписывать себя к какому-то одному месту на Земле.
Почему все-таки тогда вы выбрали именно эти два места – Танжер и Детройт?
Вам, что, они не понравились? Жаль, если так. Мне они нравятся, и я постарался объяснить фильмом почему. Если не получилось, то любые мои слова будут бессмысленны. Нет, это естественный вопрос, я бы сам такой задал. Но вот отвечать бы не стал. Разве я обязан заниматься публичным самоанализом?
Ладно, если не хотите рассказать, почему снимали в этих городах, расскажите хотя бы, как это было.
В Танжере было ужасно интересно. Мы снимали на улицах, поздним вечером и ночью, с минимумом искусственного освещения. Мне запомнились допотопные автомобили на улицах, марокканская еда. Много где было не проехать на машине, и мы пересадили съемочную группу на мотоциклы… Ладно, черт с вами, расскажу, что мне нравится в Танжере. Этот город был изнасилован каждой культурой, которая в нем поселялась, но не позволил себя изменить. Он – как шлюха, которая пронесла себя через всех своих клиентов, оставшись верной самой себе. Вы можете купить и продать что угодно в Танжере. На его улицах вы встретите геев, чудаков, хиппи, панков, писателей. Никому не удивятся, никого не прогонят. И услышите любой язык: эти люди, возможно, не умеют читать, но говорят по-испански, по-арабски, по-французски, по-немецки, по-английски. Языки текут сквозь этот город, как потоки воды. В Танжере все возможно, и никто вас не осудит. Это город свободы. Алкогольная культура там не принята – это город гашиша, что меня полностью устраивает: я, как житель Нью-Йорка, устал от алкоголя. Ну и еще одно: это потрясающе – в XXI веке просыпаться посреди города от крика петуха. Вы себе это можете представить? Такое я испытывал только в Танжере. И знаете, хоть Испания совсем рядом, эта культура удалена от нее на тысячи миль. Я мог бы поселиться там навсегда.
Но Нью-Йорк не отпускает?
Странно, но когда-то я полюбил его именно за это. В Нью-Йорке ты можешь напялить парик клоуна и высокие каблуки, но на тебя не обратят внимания: «И не такое видали». Теперь многое изменилось, Нью-Йорк стал городом богачей. А Танжер никогда не будет таким. Вдохни запах марокканского кофе, и ты сразу это поймешь. Там я чувствовал себя вором, настолько дешево все стоило. «Это не шутка?» То, за что я плачу в Европе 10-12 евро, в Танжере стоит один евро, не больше. Нет, конечно, там много мусора, вода попахивает гнильцой, и преступность тоже выше, чем в Европе, но красота этого места сильнее. Эх, зря вы меня об этом спросили, я мог бы еще часами говорить.
Тогда давайте отправимся в Детройт. Вы действительно сняли настоящий дом Джека Уайта?
Да! Мне показал его двоюродный брат Джека. Но сам Джек не знал, что я снял в фильме его дом. Я до сих пор не знаю, как он отреагировал, увидев его на экране. Надеюсь, для него это был все-таки приятный сюрприз.
Сам Джек выглядит как типичный вампир.
Это точно. Плюс он все-таки потрясающе талантливый музыкант, и фантазия у него работает что надо. А еще я преклоняюсь перед ним за то, какой он трудоголик. Он же не только песни пишет, но и разрабатывает дизайн обложек к пластинкам… Да что там пластинки, он даже дизайн ботинок для членов своей группы придумал сам. Он одержимый перфекционист. Хотя все это, конечно, поверхностно. Важнее то, какая сила и красота звучит в его музыке.
Детройт вы все-таки выбрали не из-за пейзажей, а из-за музыки, не так ли?
Не знаю, но музыка там в самом деле рождалась волшебная. И самая разная. Весь Motown оттуда – а еще Джон Ли Хукер, R’n’B, андеграунд, гаражный рок, панк-рок… Хаус, техно, всего не перечислить. The Stooges и другие основополагающие группы 1960-х. Знаете, что такое грибница? Нечто вроде подземного коллективного мозга. Мне кажется, для музыки Детройт – такая грибница. Что бы там ни происходило, музыка – в ДНК этого города.
Расскажите о вашей собственной музыке. Вы придумали группу SQÜRL в качестве шутки десять лет назад, в фильме «Кофе и сигареты», а теперь она действительно существует, и вы играете там на гитаре. И более того, пишете саундтрек к своему фильму.
Пока нас в группе трое: я, Картер Логан – кстати, сопродюсер фильма – и музыкальный продюсер Шейн Стоунбек. А началось все именно с Джека Уайта. Много лет назад он попросил меня и Мишеля Гондри сделать по ремиксу на песню The White Stripes. Он сказал, что уважает наши фильмы и знает нашу любовь к музыке – и потому нам доверяет. Но я сам в себе сомневался и прибег к помощи совсем молодого блестящего музыканта: это и был Шейн. С тех пор мы сработались, а потом Шейн познакомил меня с Картером. Вместе мы записали атмосферную гитарную музыку для «Пределов контроля», моей предыдущей картины: я честно пытался отыскать то, что мне было нужно, но безуспешно, и тогда решил сыграть это сам, с помощью друзей. Тогда мы назвали группу Bad Rabbit, а потом, к своему стыду, выяснили, что уже существует группа под названием Rabbit. Тогда мы и переименовались в SQÜRL. Когда мы работали над «Выживут только любовники», я сдружился еще с лютнистом Йозефом ван Виссемом, и он стал играть с нами. Я с ним в прошлом году записал два альбома-дуэта, теперь он – тоже постоянная часть группы, хотя официально считается приглашенным музыкантом.
Концерты вы тоже даете?
Вовсю! Недавно выступали, а потом читали рецензии – разгромные, все как одна. Повеселились. Чем хуже рецензия, тем интереснее ее читать.
Удивительное свойство ваших вампиров – способность продолжать постоянно удивляться тому, что они видят и испытывают, хоть и живут сотни, если не тысячи лет.
Конечно, а зачем еще жить так долго? Чтобы постоянно брюзжать о том, как ухудшается мир? Это же невероятно скучно, а вампиры не могут быть скучными. Способность удивляться странным, удивительным вещам и превращает их в вампиров. Иначе они стали бы обычными зомби.
Адам в вашем фильме – музыкант, но его жена Ева – библиофил; отправляясь в далекое путешествие, она берет с собой чемоданы, набитые любимыми книгами. А у вас есть список таких книг, без которых вы никуда?
Невозможно. Вы можете назвать пять любимых фильмов? Да и она выбирает их наугад, потому что всего увезти не в состоянии. Мой список огромен, и я не хочу даже пробовать сузить его до десяти или двадцати названий. Без книги я из дома не выхожу, но читаю очень разное. Фикшен, нон-фикшен, книги о путешествиях, о музыке, о литературе, о кино…
Читаете бумажные книги? Или листаете их на каком-то электронном устройстве?
Айпад у меня есть, но книг я на нем не читаю. Книги только бумажные, я иначе не могу. А на айпаде я в интернет выхожу, посмотреть, что творится в мире. У меня при этом нет электронной почты. Айпад меня, кстати, постоянно спрашивает, готов ли я ее завести, а я отвечаю – нет, спасибо, пока обойдусь. Собственно, не только айпад, а все меня спрашивают: как ты живешь без электронной почты? Ты что, идиот? Но мне хватает электронного ящика в офисе. Ну и СМС я тоже читаю время от времени. А так стараюсь встречаться с людьми и общаться лично. По-настоящему.
Почему вы не заведете почту?
Я в ужасе от того, как мои знакомые тратят на эту фигню по три-четыре часа в день. Мне едва хватает времени, чтобы играть музыку, читать книги и придумывать фильмы! Не до того мне. Не хочу ходить на поводке. Один у меня уже есть – мобильник; без второго как-нибудь обойдусь.
Странная позиция для профессионала.
Я с некоторой гордостью называю себя дилетантом. Я не способен сконцентрироваться в жизни на чем-то одном, специализация не для меня. Но я одержимый синефил, читаю книги запоем, обожаю музыку и стараюсь ее изучать, при этом не забываю и о происхождении животных и растений, которое меня тоже ужасно интересует. Невероятно, как много всего вокруг, глаза разбегаются, и все наводит на неожиданные мысли. Научные открытия, удивительная живопись… А телескоп «Хаббл»? Как прекрасны сделанные им снимки! А исследования в области ДНК? Потрясающе интересно. Но нельзя забывать и об андеграундном хип-хопе, рождающем время от времени настоящие шедевры. Вдруг рэперы найдут в речи какой-то такой причудливый ритм, о котором я прежде и не подозревал? И я учусь, постоянно учусь чему-то новому.
Назовете кого-то из учителей?
Тильда Суинтон первая приходит на ум. Она вдохновила меня на этот фильм. Ей интересно решительно все, от новых режиссеров до ядерной физики. Она богиня богемы, серьезно вам говорю. Мне так повезло, что мы подружились. Хотя все мои артисты… Джон Хёрт, к примеру: я считаю, что он, возможно, величайший из живущих на земле актеров. До сих пор не верю: «Он что, правда у меня снялся?» Он сам не знает себе цены. Такой утонченный, глубокий человек.
А Том Хиддлстон? С ним, в отличие от Суинтон и Хёрта, вы работаете впервые.
Он был последним, кого я позвал. Сначала это должен был быть Майкл Фассбендер, но у него время съемок накладывалось на какой-то другой фильм, и все разладилось. Это был серьезный кризис. Я не мог найти актера на главную роль! Тогда Тильда сказала: «Не волнуйся, мы найдем его, и он сыграет лучше всех. Осталось только понять, кто это будет. Ужасно интересно, да?» Меня это сразу успокоило. А потом я увидел Тома в фильме Вуди Аллена «Полночь в Париже». Роль у него была небольшая, сама картина мне не понравилась, а Хиддлстон запомнился. Когда он должен был прийти на пробы, я не верил, что он мне подойдет: у меня была депрессия. Но стоило ему заговорить, как я почувствовал: «Это просто фантастика, я нашел лучшего кандидата». Мне предлагали актеров старше, мужественней, опытней, но я знал, что мне требуется: красавец с необычной внешностью, странный, дикий, но скрывающий свою дикость. Мой Адам – очень сложная личность, и Том такой же. Мой Адам – худощавый и утонченный, в точности как Том. Правда, Том не так склонен к меланхолии и тоске, как Адам, но он превосходный актер и способен сыграть что угодно. К счастью, все совпало, и фильм сложился. Ведь я ни за что не стал бы снимать мою картину с кем-то, кто бы мне не понравился. Потом я позвонил Тильде и сказал, что выбрал Хиддлстона. «Блестящая идея, Джим!» – вскричала она.
«Выживут только любовники» – ваша первая love story. Удивительно, что до сих пор у вас не было ни одного фильма о любви.
Вероятно, я просто не был готов. Да, это история любви. Для меня это картина о том, что любовь – способность принять близкого человека таким, какой он есть, и дать ему возможность остаться таким. Если ты пытаешься изменить того, с кем ты вместе, это уже не любовь. Это одна из самых важных вещей, которым я научился за свою жизнь, и я хотел, чтобы она попала в фильм. Любовь – это принятие. Идет ли речь о друге, ребенке или любовнике. Как только ты начинаешь его переделывать, любовь разрушается.
А любовь к науке или искусству устроена так же?
Нет, ведь мы имеем дело уже не с конкретными людьми, а с отражением их взгляда на мир. Его мы способны оценивать критически, даже если любим. Но мне трудно сравнивать такие вещи.
Как вам кажется, сегодня жизнь для музыкантов, режиссеров, писателей во всем мире стала такой же тяжелой и невыносимой, как для вампиров?
Мир меняется. Планета со все бóльшим трудом переносит то, как ведут себя люди. Но люди забывчивы и беспечны. Поэтому вселенную захватили глобальные корпорации, которым чихать на культуру. И андеграунд вымирает. А может, нет? Я часто встречаюсь с молодыми людьми, которые меня поражают. Недавно я был на одном фестивале в Барселоне и услышал там столько потрясающей новой музыки, что вернулась надежда: нет, не все еще потеряно. Независимый рок жив и здоров, в нем хватит энергии еще надолго. Но в кино все иначе. Кино требует большего времени и денег, ты не можешь снимать фильмы за свой счет.
У вас есть какой-то неосуществленный проект, который вам не удалось довести до конца из-за денег?
Я собирался снять фильм о The Stooges. Эта группа – важнейшая веха в истории музыки: их песни полны восхитительной примитивной силы, которая не выветрилась с годами. Но я хотел сделать фильм по-своему, ни с кем не считаясь, а потом вложил в него свои деньги – и даже потратил около 35 000 долларов. На этом мои деньги кончились, и я пошел искать продюсеров. Знаете, что мне ответили продюсеры, к которым я обратился? «Отличная идея, только монтировать картину мы будем сами». Чего?! Я принес вам свою идею, а вы хотите ее присвоить?! Об этом не могло быть и речи. А денег-то мне было надо совсем чуть-чуть. Причем я уже отснял немало прекрасных сцен, и я прекрасно знаком с самими музыкантами. Но неужели я продам свою независимость за деньги? В общем, пока так ничего и не получилось. Хотя сам Игги Поп умолял меня снять этот фильм: «Джим, пока мы оба не умерли, сделай про нас кино в своей поэтической манере, как ты умеешь». Я за, но не знаю как.
Если забыть о финансовой стороне вопроса, какова роль музыки и кинематографа в вашей жизни?
Они тесно связаны, и то и другое основано на ритме и на коллективной работе. Я не рисую раскадровки, и наша работа с оператором Йориком Ле Со была чем-то вроде совместной музыкальной импровизации, джем-сейшена. Мы говорили с ним об абстрактных вещах – свете, цвете, настроении… А в день съемки просто приходили на площадку и на месте решали, как обустроить и сделать эту сцену. Доверялись инстинктам, а не мыслям. Как и с музыкой, в кино важно не потерять эмоцию. Невозможно думать над тем, как играть рок-н-ролл, иначе у тебя получится плохой рок-н-ролл. Послушайте U2: чего-то очень важного им не хватает! Световое шоу у них, правда, отличное, но меня это мало интересует. Так же и в кино: эмоции и инстинкт важнее всего. Поэтому так сложно моей съемочной группе. Они меня спрашивают: «Что и как снимаем сегодня?» А я отвечаю: «К вечеру поймем». Именно так достигается эффект той чувственной элегантности, который для меня безумно важен.
Многие ли сегодня делают фильмы так?
За многих не скажу. Но есть у меня, к примеру, брат, Том Джармуш. Недавно он снял фильм под названием «Иногда город», посвященный Кливленду. Это андеграундная картина, в которой нашлось место гангстерам, художникам, фабричным рабочим, байкерам, рокерам… Это портрет чего-то прекрасного и невыразимого. Фильм лишен сюжета – это скорее эссе, снятое на старые видеокамеры и пленку «Супер-8», смонтированное в подвале. Разумеется, рецензии были ужасные! Но я, посмотрев его, почувствовал себя продажным мейнстримщиком. Фильм Тома настолько чище и инстинктивней всего, чем занимаюсь я, что у меня перехватило дыхание. Кому-то понравится, кому-то нет, но это неважно. Он поймал и передал то, чего не удавалось никому другому. Даже Кливлендский фестиваль отказался показывать эту картину! Мой брат потрясающий, и он нередко помогает мне выбирать места для съемок.
Я помню, как много лет назад, получая каннский Гран-при, вы начали перечислять имена коллег, которые сидели в зале и не получили наград. Это звучало впечатляюще. А кто ваши ролевые модели сейчас?
Человек, на которого мне хотелось бы равняться, – это Игги Поп. Ему сильно за шестьдесят, но он увлекается самыми разными вещами, как мальчишка. Услышит какой-нибудь авангардный джаз, и глаза загораются. Прочитает книгу о Древнем Египте и пересказывает ее в восторге. Уверен, он и на смертном ложе схватит меня за лацкан и начнет делиться впечатлениями о какой-нибудь новой книге. И, знаете, Игги заставляет меня забыть о том, что такое возраст. Я встречал много молодых людей, которые вели себя как потерявшие интерес ко всему пенсионеры. И видел стариков, которые наслаждаются окружающим миром, будто они дети. Молодость – это способность быть открытым к жизни. Жизнь может быть ужасно неприятной, но это не должно нас останавливать. Еще один человек, который меня вдохновляет, – это Дэвид Боуи. Он тоже типичный вампир. Мы хотели бы показать ему наш фильм. Может, Тильда затащит его на сеанс? Они вроде дружат.
Ваш вампир подумывает о самоубийстве и даже заказывает себе деревянную пулю. Это не автобиографический момент, хочется надеяться? Ведь вы не собираетесь уйти из кино?
Честно, понятия не имею. «Выживут только любовники» дался мне очень трудно. Несколько раз руки опускались. А потом я сказал себе: «Если бы я умирал, о каком брошенном проекте сожалел бы больше других?» И понял, что именно об этом. Я должен был довести его до конца. Это отняло семь лет, много раз рассыпалось на куски, и каждый раз я твердил себе: «Должна быть причина. Просто еще не пришло время». Я уперся и добился своего. Но ужасно устал. Времена изменились. Я не прекращу заниматься самовыражением – это моя работа, но, возможно, сменю профиль. Начну снимать фильмы еще меньше этого. Или окончательно перейду с кинематографа на музыку и литературу. Я люблю кино, я хотел бы продолжать снимать фильмы! Однако, похоже, вселенная не хочет, чтобы я этим занимался. Я столько лет убил на эту картину, влез в долги… Мне плевать на деньги, это не проблема: деньги – лишь воображаемая ценность, которую мир нас вынуждает признать реальной. В итоге этот фильм, в отличие от предыдущих, даже не принадлежит мне. Неужели оно того стоило? Не знаю. Не уверен.[47]
2016, Канны – Париж: интервью для «Афиши Daily»
«Патерсон» похож на поэму или стихотворение в форме фильма.
Спасибо! Тогда это тихая и маленькая поэма. Знаю, что поэзия для меня – самая вдохновляющая форма искусства. И я действительно часто отсылаю зрителей к поэтам в моих фильмах – Рембо, Фрост, Чосер… Знаете, ни разу в жизни не встретил поэта, который занимался бы этим ради денег. Уильям Карлос Уильямс, которого я цитирую в «Патерсоне», был доктором, например. Это была его основная работа: педиатр. Уоллес Стивенс работал в страховой компании. Чарльз Буковски – на почте.
Ваш друг Роберто Бениньи – тоже любитель поэзии и сам поэт-импровизатор.
Да, он открыл мне целый мир, такому меня научил! Я уж не говорю о невероятном чтении «Божественной комедии» и комментариях к ней, которые он записал.
С какими поэтами вы открыли для себя поэзию?
Будучи тинейджером, я начинал с французских символистов – читал их в переводе, разумеется. Бодлер, потом Рембо. Затем переключился на американских поэтов: первым был Уолт Уитмен. Когда я сбежал из Огайо, где родился и вырос, и поселился в Нью-Йорке, то открыл для себя нью-йоркскую школу. Сначала читал Кеннета Коха и Дэвида Шапиро, который был моим учителем. Вместе с Роном Паджеттом, написавшим стихи для «Патерсона», они составили и издали сборник «Антология нью-йоркской поэзии». Я его обнаружил в середине 1970-х, и эта книга стала для меня своеобразной Библией. Эти поэты очень важны для меня с тех пор. Если отыскали бы кинематографический аналог для Нью-Йоркской школы поэзии, то я мог бы записаться в нью-йоркскую школу режиссуры.
Основные принципы движения были сформулированы поэтом Фрэнком О’Харой, одновременно с этим – куратором Музея современного искусства. Это была его «настоящая работа», стихи он писал в свободное время – примерно как мой Патерсон. Так вот, он создал своеобразный манифест под названием «Человек». Там он объяснял, что стихи надо писать для другого человека, а не для всего мира сразу. Пиши стихи так, будто это личное письмо. Именно таковы стихи Уильяма Карлоса Уильямса, которые цитируются в моем фильме: это буквально записка, оставленная близкому человеку. Стихи нью-йоркских поэтов ужасно забавные, в них много восклицаний – буквально, восклицательных знаков. Одно из стихотворений Фрэнка О’Хары начинается с фразы: «Нью-Йорк, как ты прекрасен сегодня – словно Джинджер Роджерс во “Времени свинга”!» Они – мои гиды…
Паджетт специально писал стихи для вашего героя?
Да, я попросил его об этом, но также спросил разрешения использовать некоторые из его уже существовавших стихов, которые показались мне подходящими.
У Уильяма Карлоса Уильямса есть поэма «Патерсон». Она стала для вас источником вдохновения? Или сначала вы придумали название и имя главного героя, а затем пришла эта параллель?
Уже и не знаю. Ведь первую заявку на этот фильм я написал почти двадцать лет назад. Что было сначала – стихи Уильямса или прекрасный водопад в Патерсоне, – сегодня сказать трудно. Потом я увлекся историей города; очень странный маленький город.
Может показаться, что вы воспроизводите здесь пейзаж своего детства или юности.
Может, но это не так. Я вырос в предместьях, на фоне индустриального пейзажа – так выглядят и мой родной Акрон, и соседний Кливленд. А Патерсон – в двух шагах от Нью-Йорка, где я живу сейчас, но в самом Нью-Йорке никто не слышал о нем. На сегодняшний день самый известный уроженец Патерсона – рэпер Fetty Wap. Одна его песня была очень популярна прошлым летом. Я большой поклонник хип-хопа, хотя, честно говоря, его стиль – не то, что я люблю… слишком коммерческий… но все равно он – король Патерсона.
Что вас так привлекает в хип-хопе?
Хип-хоп – прекрасное расширение того, что миру дали блюз, соул, фанк, даже регги; Кул Гёрк, один из прародителей хип-хопа, был с Ямайки. А главное для меня – стихи: иногда они могут быть невероятно сложными и вообще потрясающими. Я много лет спорю на эту тему с одним другом, рок-критиком из Rolling Stone, большим поклонником блюза. Он говорит: «Джим, ты белый мальчик из Огайо, что у тебя общего с этой эстетикой наркодилеров?» На что я отвечаю: «Ты вот блюз слушаешь – а когда в последний раз вел своего мула на водопой, подстегивая его хворостиной?» Понимаете, я люблю самую разную музыку, а хип-хоп – невероятно богатая и разнообразная культура. Конечно, мне не все в ней нравится. Апология денег, блеска и успеха – это не по мне.
А сегодня вам какие рэперы по-настоящему близки?
Мне нравится хип-хоп западного побережья, например Эрл Свэтшот. Некоторые еще менее коммерческие исполнители. Кендрик Ламар – настоящий гений, бесспорно.
Рэпер в «Патерсоне» – это кто?
Method Man из Wu-Tang Clan. Он цитирует в своем спиче строчку из Уильяма Карлоса Уильямса: «Все идеи – в вещах». И это не я его попросил, он сам. Очень близкая мне идея: ты начинаешь с эмпирического постижения мира, основа основ – маленькие незаметные детали жизни. В этом философия Уильямса и нью-йоркской школы.
Вы себя считаете близким поэтам, а Тильда Суинтон однажды назвала вас рок-звездой от кинематографа.
Никогда не осмелюсь спорить ни с чем из того, что скажет Тильда! Она мой лидер, мой бесстрашный лидер. Хотел бы, чтобы она стала королевой Вселенной. Не можете себе представить, как я ее люблю! Так что в ее слова вдумываться не буду. А то застесняюсь и начну все отрицать.
Во всяком случае, ваш стиль – седина, например, – отлично соответствует имиджу.
С этим мне всю жизнь было нелегко. Я начал седеть еще тинейджером. Хорошо помню, как девчонки на парте за мной потешались и одна говорила другой, смеясь: «Он, наверное, родителям помогал дом красить летом, краска в волосах осталась». А я про себя думал, как это несправедливо: я ни в чем не виноват! Потом вышел «Страннее, чем рай», я тогда ходил весь в черном, как подросток, – подражал Гамлету, Зорро или Рою Орбисону, – и один критик написал в рецензии: «Какой претенциозный придурок – красит волосы белым, носит черное и делает черно-белые фильмы, в которых ничего не происходит!» Тогда я научился не доверять ничьему суждению о моей внешности. Пусть идут к черту. Это их проблемы, не мои, а я не буду из-за этого переживать.
У вас, кстати, и в «Патерсоне» чем дальше, тем больше черно-белых элементов. Хотя снят фильм в цвете.
Я люблю черно-белое! И старое кино, и живопись Франца Клайна…
А вы ходите в кинотеатры повторного фильма и синематеки, как Патерсон с его женой? Чтобы почувствовать себя в XX веке?
О да, как же без этого. И в MOMA, и в другие кинотеатры, где показывают архивное кино. И, разумеется, в Anthology Film Archives неподалеку от моего дома – великий кинотеатр, которым руководит сокровище мирового кинематографа Йонас Мекас. Чудесный, щедрый, невероятный человек.
Какие последние фильмы видели? Не только там, но вообще?
Я, как безумный, пахал, заканчивал сразу два фильма, так что смотрел мало что. Старые нуары… И кое-что из нового. Мейнстримное в основном. «Игру на понижение», «Безумного Макса: дорогу ярости», «Девушку без комплексов». Мне иногда нравятся фильмы, совершенно не похожие на мои.
«Звездные войны» последние посмотрели? Как-никак главный злодей оттуда у вас в центральной роли.
Нет. Ни одной серии не видел! И не собираюсь. Об Адаме Драйвере я и без того достаточно знаю. Да и о «Звездных войнах». Чтобы знать про R2D2 и джедаев, не обязательно смотреть сами фильмы. Так зачем?
Однако и у вас герой Драйвера – военнослужащий. Просто в прошлом, если вспомнить фотографию в мундире в его спальне.
Один из моих любимых поэтов Уильям Блейк, который играет такую важную роль в «Мертвеце», однажды сказал: не вините ни в чем солдат, они всего лишь делают свою работу и рискуют жизнью по причинам, которые непонятны им самим. Я сам пацифист, выступаю против любой войны, мне ужасно не нравится внешняя политика США. Но против солдат я ничего не имею. Адам Драйвер действительно был военным в прошлом, так я и решил вставить в фильм эту деталь. Это сразу в сценарии было: Патерсон умеет обращаться с пистолетом, он быстро справляется с экстремальной ситуацией. И жена у него с Ближнего Востока! Хотя в Патерсоне много кто из тех краев. Я допустил, что Патерсон в прошлом был морским пехотинцем. Это не хорошо и не плохо, это просто часть его биографии.
Как вышло, что вы одновременно выпустили два фильма – «Патерсон» и «Gimme Danger»? Так задумывалось с самого начала?
Это чистое совпадение. Игги Поп впервые обратился ко мне лет восемь назад: мол, кто-то собирается сделать фильм о нем и The Stooges, и почему бы этим кем-то не оказаться тебе? Я ответил: «Ты, что, правда предлагаешь мне поставить фильм о The Stooges? Да я хоть завтра готов приступить». Он ответил: «Это моя мечта!» Мы тут же взялись за дело, и, пока не нашли продюсеров, я вложил собственные деньги – примерно 40 000 долларов. Потом, когда мне уже за квартиру было нечем платить, опомнился. Пришлось остановиться и переждать. Мы сняли «Выживут только любовники», затем вернулись к «Gimme Danger», тут на горизонте забрезжил «Патерсон», во время съемок которого мы нашли, что тинейджеры Патерсона признали Игги Попа королем красоты! Все связано. Это синхронность, это гармония.
А почему именно «Gimme Danger»?
Так называется одна из лучших и самых моих любимых песен The Stooges, лучших именно с точки зрения текста. У них вообще есть удивительно сильные стихи. Название для истории этой группы показалось подходящим. Есть там сцена, где младшая сестра братьев Эштон описывает момент распада The Stooges: они разорены, плотно сидят на наркотиках, возвращаются домой побитыми и раздавленными, а им всего по 24 года… Что ж, это было счастьем, что они просто выжили! Мало ли что могло с ними произойти. Музыка – вообще опасная вещь. Правда, мы обсуждали еще одно потенциальное название, тоже позаимствованное из песни: «Your Pretty Face Is Going to Hell» («Твое хорошенькое личико идет в пекло»). Но выяснилось, что кто-то уже собирается снимать байопик об Игги Попе под этим названием, так что мы отказались. Рабочее название было «We Will Fall» («Мы падем»), еще одна их песня, однако это звучало слишком трагично. Фильм у меня все-таки не такой.
Многих смутила безапелляционность заявления, что The Stooges – «величайшая группа в мире».
Ну не величайшая, конечно, а одна из величайших! Но я готов заявить, что их альбом «Fun House» – лучшая рок-н-ролльная запись всех времен. Для меня. Индустриальная пролетарская атмосфера Среднего Запада нашла уникальное выражение в их энергии, задоре, драйве, где слышится не только радость, но и мрак. Мне нравится заложенное в музыку The Stooges противоречие: с одной стороны, что-то примитивное, почти первобытное, а с другой, тяготение к сложности и авангардности, что-то от экспериментального джаза. У них лучший в мире фронтмен – и с точки зрения физических данных, и по части вокала. А каковы концерты! Ведь они первыми сломали невидимую стену между сценой и залом. Игги смешал все, ныряя в самую гущу публики или вытаскивая зрителей на сцену. Я мог бы продолжать часами!
Как и когда вы сошлись с Игги Попом? Это ведь было до «Кофе и сигарет» или «Мертвеца», где он снимался.
Я услышал музыку The Stooges еще подростком, мне было лет шестнадцать. Тогда я жил в предместьях Акрона, штат Огайо. Сошлись мы уже в конце 1980-х, в Нью-Йорке. У нас оказался общий друг и коллега, барабанщик. Зависали вместе, потом стали настоящими друзьями. Мы оба со Среднего Запада, у нас схожее чувство юмора и профессиональная этика: мы оба не принимаем всерьез себя, но принимаем всерьез работу, которую делаем. С тех пор миновало четверть века, и мы друзья до сих пор.
Считается, что взять музыканта или рок-звезду в фильм вместо актера – это риск. Но вы, кажется, считаете иначе и предпочитаете именно музыкантов.
Все потому, что я пришел в кинематограф из музыки. Эти люди всегда были кругом моего общения, многие – моими близкими товарищами, соратниками, друзьями. Впрочем, тогда, на рубеже 1970–1980-х, никому не хотелось замыкаться в рамках одной только музыкальной карьеры. Этого казалось недостаточно. Патти Смит была музыкантом и писательницей, а другие люди совмещали рок-сцену с кинематографом, как это делал и я. Иные исполняли музыку и занимались живописью. Разобраться иногда было невозможно, кто есть кто, музыкант или актер: разве что с Эстер Балинт из «Страннее, чем рай» я сразу знал, что она считает себя актрисой. Хотя ее театр был независимым, почти подпольным. И она тоже занималась музыкой! Так и повелось с тех пор.
Вы вообще предпочитаете живые концерты или прослушивание музыки в записи? «Год лошади» когда-то был совершенно концертным фильмом, «Gimme Danger» устроен чуть иначе.
Когда есть такая возможность, я всегда выберу живой звук и концертное исполнение. Пространство заполняется музыкой, это создает эффект неповторимого, единственного в своем роде момента. Это чувство висит в воздухе, объединяет публику с музыкантами. Таинственное и волшебное ощущение. Тем не менее я слишком люблю музыку, чтобы отказаться от постоянного прослушивания записей: история переполнена великими записями, и вернуть тот момент, когда они создавались, мы все равно не в силах. К тому же в студии каждый музыкант пытается создать идеальную версию своего произведения, и мне интересно услышать и оценить то, что он сам считал идеальным. Хотя магии в концертной музыке больше.
Игги Попа часто называют предтечей панка. А что о панке думаете вы? Себя к панкам не относите?
Само клеймо «панк» мне не нравится. Но когда мне было двадцать с небольшим, я проводил очень много времени в манхэттенском клубе CBGB, и там дух той эпохи ощущался очень отчетливо. Тогда я влюбился на всю жизнь в группу Television, чьи концерты – лучшие на моей памяти из всех, на которых я бывал. Эта сцена меня покорила и засосала: все делились идеями, никто не думал только о музыке или только о кино. Недавно, кстати, вышла книга фотографа Дэвида Годлиса, который запечатлел те годы в CBGB, конец 1970-х – начало 1980-х, и я даже написал об этих черно-белых снимках, которые меня сильно впечатлили. Важная эпоха в моей жизни.
Многие артисты – не только в музыке – начинают с независимого творчества, но постепенно становятся частью индустрии. Вам удается удержаться от этой трансформации на протяжении всей жизни.
Как я могу это анализировать или комментировать? Я просто занимаюсь тем, что считаю правильным, и чувствую себя счастливым, что у меня есть такая возможность. Это вопрос упрямства, наверное. Я никогда не хотел, чтобы парни с деньгами объясняли мне, что делать за их деньги. Или чтобы меня кто-то учил, как снимать кино. Меня это просто не интересует. Когда-то мне предлагали невероятно странные коммерческие проекты, и я ломал голову, пока меня не осенило: да они и фильмов моих не смотрели, просто прочитали, как меня похвалили в Variety.
То есть вы будете и дальше настаивать на своем – снимать малобюджетное кино?
Это очень тяжело. Алгоритм сломан, скромные фильмы делать сложнее с каждым годом. Из-за профсоюзов и других причин снимать все дороже, а возвращать деньги в прокате – все труднее. Думаю, в Европе я мог бы снять «Патерсон» за треть его бюджета. Но город Патерсон находится в Нью-Джерси, что мне было делать? В Гамбург его перевести? Я «Выживут только любовники», кстати, немалой частью в Гамбурге и снял, но нельзя же так всегда поступать. Причем продюсеры еще на меня давили, подгоняли, требовали уложиться в 28 дней вместо запланированных 30, но я послал их куда подальше. Бóльшую часть денег ведь все равно добыл я.
Причем раньше это было гораздо проще. «Вниз по закону» стоил миллион долларов. Я еще до съемок продал права на фильм трем странам – Франции, Германии и Японии. Снял кино, показал и стал продавать дистрибьюторам в другие страны, от США до Италии, и деньги уже вскоре стали возвращаться тем, кто вложился в производство. Мы все честно поделили с инвесторами, пятьдесят на пятьдесят! А «Патерсон», кажется, должен заработать миллиард долларов, прежде чем я получу хоть какую-то прибыль.
Как в музыке или поэзии, в вашем фильме есть постоянно возникающие и повторяющиеся мотивы. Близнецы, например.
Я люблю вариации и повторы, это правда. За это высоко ценю и Баха с его вариациями, и Энди Уорхола. Повторения помогают придать фильму структуру. В «Патерсоне» мне хотелось показать, что каждый день – всего лишь вариация дня накануне. Близнецов моя героиня упоминает в начале фильма, они ей приснились. И я стал вставлять их во все сцены, куда только мог. Понимаете, не хотелось, чтобы в конце она объявляла: «Я беременна, у нас будут близнецы!» Поэтому действовал по-своему. Меня интересует любая синхронность. А еще такая особенность нашего восприятия: стоило мне отобрать бульдожку на роль Марвина, как я стал встречать бульдогов везде, буквально на каждом шагу. Они следят за мной! Что-то всплывает в разговоре, а потом вдруг преследует тебя повсюду. Кстати, близнецов в сценарии не было вовсе. Только упоминание о них. Но после этого они вдруг оказались в фильме.
Где вы отыскали атмосферный бар, в котором Патерсон каждый вечер пьет пиво?
С конца 1970-х один из моих ближайших друзей – Стив Бушеми. Лет двадцать назад он как режиссер снял фильм «Под сенью крон». Он весь был снят в этом баре, который на самом деле находится в Квинсе. Я умолял его отвести меня туда, и он согласился. Там все оказалось просто идеальным, как я и задумывал, – бар на отшибе, в старомодном духе.
А где и как нашли бульдога?
В сценарии был джек-рассел-терьер. Но я начал работать с собачьими тренерами. Один из них, отличный парень, брал собак из приюта и тренировал их. У него в этот момент не было джек-рассела, хотя он обещал мне достать одного через полтора месяца. И он сказал: «Не знаю, получится ли трюк с почтовым ящиком, но давай я попробую тебя убедить взять бульдога – у меня как раз есть отличная бульдожка. Во-первых, Адам Драйвер – здоровый парень, и никто в зале не поверит, что джек-рассел способен утянуть его не в ту сторону, куда он собирался идти. Бульдог вдвое больше, мускулистее, это будет правдоподобнее. Во-вторых, там у тебя гангстеры предупреждают Патерсона, что его собаку могут украсть. Так вот, бульдоги на черном рынке ценятся гораздо выше, чем джек-расселы, бульдога могут украсть с гораздо большей вероятностью. Итак, хочешь познакомиться с моим бульдогом?» И я сказал: «Да!» Нелли была потрясающей, я был под огромным впечатлением. Увы, она умерла через два месяца после окончания съемок.
Откуда обычно к вам приходит вдохновение для очередного фильма?
Откуда угодно! Как угодно, когда угодно… Это таинственный процесс, словами не передать. Я хожу с блокнотом, записываю всякое, смотрю по сторонам, а потом что-то начинается.
Как Патерсон с его тетрадкой!
Я не способен анализировать сам себя таким образом. Все персонажи во всех моих фильмах – части меня, я должен за ними ухаживать и думать о них… В каждом есть что-то, что я люблю. Из чего не следует, что я люблю себя. Вот вы статью пишете: эта статья – вы? Ваш автопортрет?
Многие тем не менее уже провозгласили «Патерсон» вашим самым личным фильмом…
С моим предыдущим фильмом «Выживут только любовники» была та же история – «Ага, это ваш самый личный фильм!» Да и со «Сломанными цветами» припоминаю что-то в этом роде. Они все личные. И все – нет. Не знаю, что еще тут можно сказать. Я плохо умею сравнивать мои фильмы друг с другом или в них копаться. Понятия не имею, что они значат. Следую за инстинктами, вот и все.
«Патерсон» – уже второй ваш фильм подряд о любви.
Да, это правда. Это портрет двух людей, которые не только любят друг друга, но и готовы безоговорочно принять друг друга такими, какие они есть. А не добиваться, чтобы партнер стал таким, каким они хотели бы его видеть. Для меня это чистейшая форма любви: принятие, даже если тебе не все нравится в близком. Принимай, а не суди. Буддийский подход. Я-то сам чаще сужу, никак с этим не справлюсь. Главное – не спрашивайте меня об американской политике, тут уж я бы развернулся…
Это удивительно гармоничная картина. А что для вас значит понятие «гармония»?
Гармония в музыке – сложная штука. Для одних ушей определенные сочетания тональностей и звуков звучат гармонично, для других – нет. Гармония субъективна. Я, знаете ли, буддист – конечно, не системный и убежденный, но занимаюсь тайчи и читаю много буддийской литературы… Понятие гармонии для меня связано с идеей, что все явления суть одно. Что бы это ни значило.
Вы когда-то ушли из музыки в кино, но теперь вернулись, вовсю записываетесь и выступаете. Не скучаете по тем временам, когда приглашали в полноценные соавторы по части музыки кого-то вроде Нила Янга или Тома Уэйтса?
Не знаю. В разных фильмах получается по-разному. Я знал с самого начала, что хочу электронную музыку для саундтрека «Патерсона», потому что никогда раньше этого не делал. И долго искал что-нибудь подходящее. Исследовал современную и старую замечательную электронную музыку. Честно пытался собрать из нее саундтрек, причем из некоторых моих любимых авторов, но что же делать, если ничего не подошло? Слишком мрачно, слишком сладко, слишком абстрактно… Потом посоветовался с разными людьми, и они в один голос сказали: «Ты и Картер Логан из SQÜRL оба музыканты, у вас обоих есть по синтезатору, так что вас останавливает?» Так мы вдвоем записали саундтрек. Вручную, сами. Получился эдакий эмбиент с маленькими вкраплениями акустической гитары. Музыка звучит как сон, одновременно со звуками поэзии. Я этого не планировал, но обстоятельства вынудили. С другой стороны, зря мы, что ли, синтезаторы покупали!
Есть у вас как меломана любимый чужой саундтрек? Который вы переслушиваете?
Трудно выбрать. Много классических и вполне хрестоматийных. В последнее время был увлечен саундтреком к «Запретной планете», это электронные звуки, которые синтезировали вдвоем Луис и Биби Бэррон. Их тогда даже в титрах не указали! Там, правда, не столько музыка, сколько звуковые эффекты.
Можно спросить, что еще в вашем плеере? В последние дни?
Мой плейлист постоянно меняется, чего только я не слушаю! Много слушаю Тайондая Брэкстона, сына легенды фри-джаза Энтони Брэкстона. Он невероятно талантлив и самобытен, не знаю даже, какими словами описать то, что он делает: ни к одной категории не припишешь. Слушаю много нового кантри, особенно Стёрджила Симпсона. Но слушаю еще, например, исландскую группу Dead Skeletons или Стивена О’Малли, который из группы Sunn O))). Огромное количество классической арабской и индийской музыки. Английскую музыку XVI–XVII веков. Хип-хоп-дуэт Run the Jewels и Кендрика Ламара. Много женской музыки – The Casket Girls, Warpaint, а еще Noveller, сольный гитарный экспериментальный проект Сары Липстейт. Много всякого! И все время нового.
Ваша жизнь заполнена музыкой, но в фильмах часто едва ли не более важную роль играют паузы.
Наверняка так и есть. Черт его знает. В хороших стихах пробелы между строфами столь же важны, как и строки. И когда Майлз Дэвис посреди той или иной композиции вдруг перестает играть, это звучит не менее выразительно, чем любая его музыкальная фраза.
Вы не думали когда-нибудь снять немой фильм?
Такого плана у меня не было. Если искушение однажды возникнет, я попробую.
Тем не менее ностальгия по старому кино и старой музыке все время слышится в ваших словах. Как вы переживаете взросление?
Определенного ответа у меня нет. Два дня назад в Нью-Йорке я ехал в аэропорт на такси. Были жуткие пробки, так что мы отправились в объезд через Бруклин и Квинс. Была середина дня субботы, прекрасная погода. Я ехал, смотрел в окно и думал, что даже если опоздаю в аэропорт, то волноваться не о чем. За окном дети гоняли мяч, кто-то чинил дверь своего дома, кто-то шел за покупками и громко смеялся над чьей-то шуткой… Я ехал и думал: «Иногда мир совершенен». Кажется, несколько лет назад мне труднее было это почувствовать. Хотя, конечно, и сегодня мне многое не нравится в мире. Слишком мало времени отпущено человеку на нашей планете, отсюда и большинство трагедий. Так что надо учиться быть благодарным за маленькие детали жизни. Вот мы сидим и говорим о фильмах – ерунда какая-то… Но иногда кажется, что и важнее ничего не существует. Пока кто-нибудь не скажет: «Ребята, да расслабьтесь вы наконец. Это всего лишь кино».[48]
Фильмография
«Отпуск без конца» / Permanent Vacation, 1980 (77 минут)
Продюсер, режиссер, автор сценария и монтажер Джим Джармуш.
Оператор Том Дичилло.
Композитор Джон Лури.
В ролях: Крис Паркер, Лейла Гастилл, Мария Дювал, Джон Лури и другие.
Будни нью-йоркского бездельника, который скитается по городу в поисках старых друзей и новых знакомых.
«Страннее, чем рай» / Stranger than Paradise, 1984 (89 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Том Дичилло.
Композитор Джон Лури.
Монтаж Мелоди Лондон.
В ролях: Джон Лури, Эстер Балинт, Ричард Эдсон и другие.
Молодая иммигрантка из Венгрии приезжает к кузену в Нью-Йорк, затем переезжает в Кливленд. Год спустя они вместе с другом семьи отправляются на каникулы во Флориду.
«Вниз по закону» / Down by Law, 1986 (107 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Робби Мюллер.
Композитор Джон Лури.
Песни Тома Уэйтса.
Монтаж Мелоди Лондон.
В ролях: Джон Лури, Том Уэйтс, Роберто Бениньи, Николетта Браски и другие.
Сутенер и диджей попадают в тюрьму по ложному обвинению. При помощи итальянского туриста, осужденного за убийство, они совершают побег в леса Луизианы.
«Таинственный поезд» / Mystery Train, 1989 (110 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Робби Мюллер.
Композитор Джон Лури.
Монтаж Мелоди Лондон.
В ролях: Юки Кудо, Масатоси Нагасэ, Николетта Браски, Джо Страммер, Стив Бушеми и другие.
Три новеллы в Мемфисе, городе Элвиса Пресли. Пара японских туристов, итальянка и трое неудачников, совершивших преступление, проводят ночь в соседних номерах одного отеля.
«Ночь на Земле» / Night on Earth, 1991 (129 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Фредерик Элмс.
Композитор Том Уэйтс.
Монтаж Джея Рабиновица.
В ролях: Вайнона Райдер, Джина Роулендс, Армин Мюллер-Шталь, Исаак де Банколе, Беатрис Даль, Роберто Бениньи, Матти Пеллонпяя и другие.
Пять новелл о таксистах и их пассажирах в пяти разных городах в течение одной ночи – в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки.
«Мертвец» / Dead Man, 1995 (120 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Робби Мюллер.
Композитор Нил Янг.
Монтаж Джея Рабиновица.
В ролях: Джонни Депп, Гэри Фармер, Роберт Митчем, Джон Хёрт, Лэнс Хенриксен, Игги Поп и другие.
Бухгалтер из Кливленда отправляется на Дикий Запад в надежде получить работу. Там его смертельно ранят. Скрываясь от погони в компании индейца-изгоя, он постепенно учится убивать.
«Год лошади» / Year of the Horse, 1997 (107 минут)
Режиссер Джим Джармуш.
Операторы Джим Джармуш и Л.А. Джонсон.
Композитор Нил Янг.
Монтаж Джея Рабиновица.
В ролях: Нил Янг, Фрэнк «Пончо» Сампедро, Билли Тэлбот, Ральф Молина и другие.
Фильм-концерт, основанный на турне группы Нила Янга Crazy Horse в 1996 году.
«Пес-призрак: путь самурая» / Ghost Dog: The Way of the Samurai, 1999 (116 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Робби Мюллер.
Композитор RZA.
Монтаж Джея Рабиновица.
В ролях: Форест Уитакер, Исаак де Банколе, Джон Торми, Камилла Уинбуш и другие.
В современной Америке считающий себя самураем наемный киллер работает на мафию, пока не вступает с заказчиками в конфликт. Он пытается разрешить его, не нарушая правил чести и вассальной лояльности господину.
«Кофе и сигареты» / Coffee and Cigarettes, 2003 (95 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Операторы: Том Дичилло, Робби Мюллер, Эллен Кёрас, Фредерик Элмс.
Монтаж Мелоди Лондон, Терри Каца, Джея Рабиновица, Джима Джармуша.
В ролях: Роберто Бениньи, Том Уэйтс, Игги Поп, Мэг Уайт, Джек Уайт, Кейт Бланшетт, Альфред Молина, Стив Куган, Билл Мюррей, RZA, GZA и другие.
Одиннадцать короткометражных новелл, снятых в течение семнадцати лет. Их объединяет то, что персонажи, как правило, пьют кофе и курят.
«Сломанные цветы» / Broken Flowers, 2005 (106 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Фредерик Элмс.
Композитор Мулату Астатке.
Монтаж Джея Рабиновица.
В ролях: Билл Мюррей, Джеффри Райт, Шэрон Стоун, Джессика Лэнг, Тильда Суинтон, Жюли Дельпи, Хлое Севиньи и другие.
Немолодой сердцеед получает письмо от одной из бывших любовниц, что у него есть девятнадцатилетний сын. Он отправляется в путешествие, надеясь узнать, кто отправил послание.
«Пределы контроля» / The Limits of Control, 2009 (116 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Кристофер Дойл.
Композиторы Boris.
Монтаж Джея Рабиновица.
В ролях: Исаак де Банколе, Тильда Суинтон, Пас де ла Уэрта, Джон Хёрт, Гаэль Гарсиа Берналь, Билл Мюррей и другие.
Таинственный одиночка путешествует по Испании, готовясь к выполнению миссии, о которой он сам пока ничего не знает. Получая подсказки от связных, он движется к цели.
«Выживут только любовники» / Only Lovers Left Alive, 2013 (106 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Йорик Ле Со.
Композиторы: Йозеф ван Виссем и SQÜRL.
Монтаж Аффонсо Гонсалвеса.
В ролях: Том Хиддлстон, Тильда Суинтон, Миа Васиковска, Джон Хёрт, Антон Ельчин и другие.
История любви двух вампиров, Адама и Евы, которые живут вечно – хоть и в разных городах. Их очередная встреча приводит к непредвиденным последствиям.
«Gimme Danger», 2016 (108 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Том Крюгер.
Композиторы The Stooges.
Монтаж Аффонсо Гонсалвеса и Адама Кернитца.
В ролях: Игги Поп, Рон Эштон, Скотт Эштон, Джеймс Уильямсон, Стив Маккей и другие.
Документальная история основателей протопанка The Stooges, первой группы Игги Попа, которую сам Джармуш считает величайшей в истории рок-музыки.
«Патерсон» / Paterson, 2016 (106 минут)
Режиссер и автор сценария Джим Джармуш.
Оператор Фредерик Элмс.
Композиторы SQÜRL.
Монтаж Аффонсо Гонсалвеса.
В ролях: Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Барри Шебака Хенли, Масатоси Нагасэ и другие.
Водитель автобуса по фамилии Патерсон живет и работает в городе Патерсон. Он любит жену Лору и бульдога Марвина, а еще пишет стихи.
Примечания
1
Уильям Карлос Уильямс, из поэмы «Патерсон». Перевод Антона Нестерова.
(обратно)2
Рон Паджетт. «Бег». Перевод Наталии Хлюстовой.
(обратно)3
Джим Джармуш. «Вердикт с гитарой». Перевод Антона Нестерова. Впервые опубликовано в The New Yorker 09.11.2015 г.
(обратно)4
Игги Поп. «Я хочу быть твоим псом». Автора найденного в интернете перевода обнаружить не удалось.
(обратно)5
Уильям Шекспир. «Гамлет». Перевод Михаила Лозинского.
(обратно)6
Кристофер Марло. «Трагическая история доктора Фауста». Перевод Евгении Бируковой.
(обратно)7
Марк Твен. «Дневник Адама». Перевод Татьяны Озерской.
(обратно)8
Абдуллаева З. Кофе и совершенство. «Предел контроля», режиссер Джим Джармуш // Искусство кино. 2009. № 10 (kinoart.ru/archive/2009/10/n10-article7 (дата обращения: 05.12.2016)).
(обратно)9
Артюр Рембо. «Пьяный корабль». Перевод Бенедикта Лившица.
(обратно)10
Артюр Рембо. «Пьяный корабль». Перевод Владимира Набокова.
(обратно)11
Алексей Толстой. «Дон Жуан».
(обратно)12
Александр Пушкин. «Каменный гость».
(обратно)13
Николай Гумилев. «Дон Жуан».
(обратно)14
Танэда Сантока. Перевод Александра Долина (как и последующих хайку).
(обратно)15
Масаока Сики.
(обратно)16
Одзаки Хосай.
(обратно)17
Хино Содзё.
(обратно)18
Накацука Иппэкиро.
(обратно)19
Иида Дакоцу.
(обратно)20
Маэда Фура.
(обратно)21
Мацумото Такаси.
(обратно)22
Огивара Сэйсэнсуй.
(обратно)23
Исии Рогэцу.
(обратно)24
Ямамото Цунэтомо. «Хагакурэ». Перевод Андрея Боченкова и Владимира Горбатько.
(обратно)25
Ямамото Цунэтомо. «Хагакурэ».
(обратно)26
Там же.
(обратно)27
Ямамото Цунэтомо. «Хагакурэ».
(обратно)28
Там же.
(обратно)29
Ямамото Цунэтомо. «Хагакурэ».
(обратно)30
С. Маршак. «Дон Кихот». © С. Маршак, наследники, 2017.
(обратно)31
Автор перевода неизвестен. Перевод взят с сайта .
(обратно)32
Уильям Блейк. «Черный мальчик». Перевод С. Маршака. © С. Маршак, наследники, 2017
(обратно)33
Уильям Блейк. «Предоставь меня печали!..» Перевод Веры Потаповой.
(обратно)34
Уильям Блейк. «Изречения невинности». Перевод Владимира Топорова.
(обратно)35
Уильям Блейк. «Больная роза». Перевод Григория Кружкова.
(обратно)36
Л. Витгенштейн. Замечания по основаниям математики.
(обратно)37
«Она пришла чуть раньше, он чуть позже». У.Х. Оден.
(обратно)38
Том Уэйтс. «Возвращаясь в старый добрый мир». Перевод Сони Шефин.
(обратно)39
Джеффри Чосер. «Кентерберийские рассказы». Перевод Ивана Кашкина и Осипа Румера.
(обратно)40
Лудовико Ариосто. «Неистовый Роланд». Перевод Михаила Гаспарова. © А.М. Зотова, 2017.
(обратно)41
Уолт Уитмен. «Я видел дуб в Луизиане». Перевод Корнея Чуковского. © Д.Д. Чуковский, 2017.
(обратно)42
Роберт Фрост. «Другая дорога». Перевод Григория Кружкова.
(обратно)43
Шандор Каняди. «Мечтатель». Перевод Натэллы Горской.
(обратно)44
Константин Бальмонт. «Гамеланг».
(обратно)45
Лотреамон. «Стихотворения». Перевод Марии Голованивской.
(обратно)46
Долин. А. Уловка XXI: Очерки кино нового века. М.: Ад Маргинем Пресс, 2010. С. 169–186.
(обратно)47
Впервые опубликовано в «Ведомости. Пятница» 04.04.2014 г.
(обратно)48
Интервью для сайта daily.afisha.ru <;, впервые опубликовано в ноябре 2016 года.
(обратно)



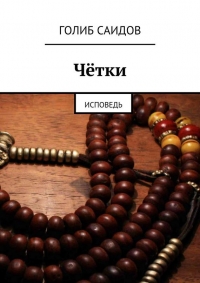
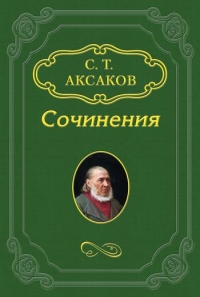

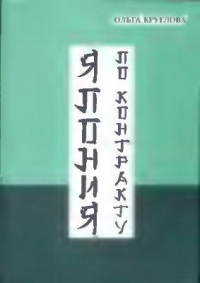
Комментарии к книге «Джим Джармуш. Стихи и музыка», Антон Владимирович Долин
Всего 0 комментариев