Владимир Маяковский СЕМИДНЕВНЫЙ СМОТР ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИВОПИСИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Смотр — иначе не назовешь мое семидневное знакомство с искусством Франции 22-го года.
За этот срок можно было только бегло оглядеть бесконечные ряды полотен, книг, театров.
Из этого смотра я выделяю свои впечатления о живописи. Только эти впечатления я считаю возможным дать книгой: во-первых, живопись — центральное искусство Парижа, во-вторых, из всех французских искусств живопись оказывала наибольшее влияние на Россию, в-третьих, живопись — она на ладони, она ясна, она приемлема без знания тонкостей быта и языка, в-четвертых, беглость осмотра в большой степени искупается приводимыми в книге снимками и красочными иллюстрациями новейших произведений живописи. Я считаю уместным дать книге характер несколько углубленного фельетона. Меня интересовали не столько туманные живописные теории, философия «объемов и линий», сколько живая жизнь пишущего Парижа. Разница идей сегодняшней французской и русской живописи. Разница художественных организаций. Определение по живописи и по встречам размеров влияния Октября, РСФСР, на идеи новаторов парижского искусства. Считаю нужным выразить благодарность Сергею Павловичу Дягилеву, своим знанием парижской живописи и своим исключительно лойяльным отношением к РСФСР способствовавшему моему осмотру и получению материалов для этой книги.
Вл. МаяковскийО ЧЕМ?
Эта книга о парижской живописи + кусочки быта.
До 14 года не стоило выпускать подобной книги.
В 22 году — необходимо.
До войны паломники всего мира стекались приложиться к мощам парижского искусства.
Российские академии художеств слали своих лауреатов доучиваться в Париж.
Любой художник, побывший год в Париже и усвоивший хотя бы только хлесткость парижских картиноделателей, — удваивался в цене.
Меценаты России, напр., Щукин, совершенно не интересовались современной русской живописью, в то же время тщательно собирали искусство парижан.
Париж знали наизусть.
Можно не интересоваться событиями 4-й Тверской-Ямской, но как же не знать последних мазков сотен ателье улицы Жака Калло!
Сегодня — другое.
Больше знаем полюсы, чем Париж.
Полюс — он без Пуанкарей, он общительнее.
Еще политика и быт — описываются.
Товарищи, на неделю тайно въехавшие во Францию на съезд партии, на съезд профсоюзов, набрасываются на эти стороны французской жизни.
Искусство — в полном пренебрежении.
А в нем часто лучше и яснее видна мысль, виден быт сегодняшней Франции.
ИСКУССТВО ПАРИЖА
До войны Париж в искусстве был той же Антантой. Как сейчас министерства Германии, Польши, Румынии и целого десятка стран подчиняются дирижерству Пуанкаре, так тогда, даже больше, художественные школы, течения возникали, жили и умирали по велению художественного Парижа.
Париж приказывал:
«Расширить экспрессионизм! Ввести пуантиллизм!» И сейчас же начинали писать в России только красочными точками.
Париж выдвигал:
«Считать Пикассо патриархом кубизма!» И русские Щукины лезли вон из кожи и из денег, чтобы приобрести самого большого, самого невероятного Пикассо.
Париж прекращал:
«Футуризм умер!» И сразу российская критика начинала служить панихиды, чтоб завтра выдвинуть самоновейшее парижское «да-да», так и называлось: парижская мода.
Критики газет и журналов (как всегда, художники, отчаявшиеся выдвинуться в живописи) были просто ушиблены Парижем.
Революция, изобретения художников России были приговорены заочно к смерти: в Париже это давно и лучше.
Вячеслав Иванов так и писал о выставке первых русских импрессионистов — «Венок» (1907 г.) Д. Бурлюка:
Новаторы до Вержболова! Что ново здесь, то там не ново.Дело доходило до живописных скандалов.
В 1913 году в Москве открылась совместная выставка французских и русских художников. Известный критик «Утра России» Ал. Койранский в большой статье о выставке изругал русских художников жалкими подражателями. В противовес критик выхвалял один натюрморт Пикассо. По напечатании статьи выяснилось, что служитель случайно перепутал номера: выхваляемая картина была кисти В. Савинкова — начинающего ученичка. Положение было тем юмористичнее, что на натюрморте нарисованы были сельди и настоящая великорусская краюха черного хлеба, совершенно немыслимая у Пикассо. Это был единственный случай возвеличения русских «подражателей». Это было единственное низведение знаменитого Пабло в «жалкие». Было до того конфузно, что ни одна газета не поместила опровержения. Даже при упоминании об этом «недоразумении» на живописных диспутах Бубнового Валета — подымался всеми приближенными невообразимый шум, не дающий говорить.
Достаточно было раструбить по Парижу славу художественного предприятия — и беспрекословный успех в Америке обеспечен.
Успех — доллары.
Еще и сейчас Парижу верят.
Разрекламированные Парижем, даже провалившиеся в нем, напр. театр «Летучей мыши» Балиева, выгребают ведрами доллары из янки.
Но эта вера стала колебаться.
С тревогой учитывает Париж интерес Америки к таинственной, неведомой культуре РСФСР.
Выставка русской живописи едет из Берлина по Америке и Европе. Камерный театр грозит показать Парижу неведомые декоративные установки, идеи российских конструктивистов приобретают последователей среди первых рядов деятелей мирового искусства.
На месте, в РСФСР, в самой работе, не учтешь собственного роста.
Восемь лет Париж шел без нас. Мы шли без Парижа.
Я въезжал в Париж с трепетом. Смотрел с учащейся добросовестностью. С внимательностью конкурента. А что, если мы опять окажемся только Чухломою?
ЖИВОПИСЬ
Внешность (то, что вульгарные критики называют формой) всегда преобладала во французском искусстве.
В жизни это устремило изобретательность парижан в костюм, дало так называемый «парижский шик».
В искусстве это дало перевес живописи над всеми другими искусствами — самое видное, самое нарядное искусство.
Живопись и сейчас самое распространенное и самое влиятельное искусство Франции.
В проектах меблировки квартир, выставленных в Салоне, видное место занимает картина.
Кафе, какая-нибудь Ротонда сплошь увешана картинами.
Рыбный ресторан — почему-то весь в пейзажах Пикабиа.
Каждый шаг — магазин-выставка.
Огромные домища — соты-ателье.
Франция дала тысячи известнейших имен в живописи.
На каждого с именем приходится тысяча, имеющих только фамилию. На каждого с фамилией приходятся тысячи — ни имя, ни фамилия которых никого не интересуют, кроме консьержки.
Нужно заткнуть уши от жужжания десятка друг друга уничтожающих теорий, нужно иметь точное знакомство с предыдущей живописью, чтобы получить цельное впечатление, чтобы не попасть во власть картинок — бактерий какой-нибудь не имеющей ни малейшего влияния художественной школы.
Беру довоенную схему: предводитель кубизм, кубизм атакуется кучкой красочников «симультанистов», в стороне нейтралитет кучки беспартийных «диких», и со всех сторон океаном полотнища бесчисленных академистов и салонщиков, а сбоку — бросающийся под ноги всем какой-нибудь «последний крик».
Вооруженный этой схемой, перехожу от течения к течению, от выставки к выставке, от полотна к полотну. Думаю — эта схема только путеводитель. Надо раскрыть живописное лицо сегодняшнего Парижа. Делаю отчаянные вылазки из этой схемы. Выискиваю какое-нибудь живописное открытие. Жду постановки какой-нибудь новой живописной задачи. Заглядываю в уголки картин — ищу хотя бы новое имя. Напрасно.
Все на своих местах.
Только усовершенствование манеры, реже мастерства. И то у многих художников отступление, упадок.
По-прежнему центр — кубизм. По-прежнему Пикассо — главнокомандующий кубистической армией.
По-прежнему грубость испанца Пикассо «облагораживает» наиприятнейший зеленоватый Брак.
По-прежнему теоретизируют Меценже и Глез.
По-прежнему старается Леже вернуть кубизм к его главной задаче — объему.
По-прежнему непримиримо воюет с кубистами Делонэ.
По-прежнему «дикие» Дерен, Матисс делают картину за картиной.
По-прежнему при всем при этом имеется последний крик. Сейчас эти обязанности несет всеотрицающее и всеутверждающее «да-да».
И по-прежнему… все заказы буржуа выполняются бесчисленными Бланшами. Восемь лет какой-то деятельнейшей летаргии.
Это видно ясно каждому свежеприехавшему.
Это чувствуется и сидящими в живописи.
С какой ревностью, с какими интересами, с какой жадностью расспрашивают о стремлениях, о возможностях России.
Разумеется, не о дохлой России Сомовых, не об окончательно скомпрометировавшей себя культуре моментально за границей переходящих к Гиппиусам Малявиных, а об октябрьской, о РСФСР.
Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм. Даже удивляешься, что это слово есть во французском лексиконе.
Не конструктивизм художников, которые из хороших и нужных проволок и жести делают ненужные сооруженьица. Конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерию, нужную для оформления всей нашей практической жизни.
Здесь художникам-французам приходится учиться у нас.
Здесь не возьмешь головной выдумкой. Для стройки новой культуры необходимо чистое место. Нужна октябрьская метла.
А какая почва для французского искусства? — Паркет парижских салонов!
ОСЕННИЙ САЛОН
2395 номеров (не считая художественной промышленности).
А ведь Осенний салон — это только одна из многочисленных выставок Парижа.
Считая в году приблизительно 4 выставки, это 10 000 картин. Примите во внимание, что выставляется не более 10 % производства. Получится солидная цифра: 100 000 ежегодных картин.
Еще сто лет — и у каждого француза будет собственный Луврик. Луврики — больше ничего, самые здоровые, самые молодые люди вместо работы сидят и удваивают свое имущество сомнительным живописным путем. Раньше была одна жена, а теперь две: одна в натуре, другая на картинке (как живая!), а живая и работать не может, потому что позирует. Раньше была одна собачка, а теперь две, и т. д. и т. д.
Слабоватая промышленность!
Хотя, может быть, и это имеет значение: посещение Салона дает иллюзию занятий бесконечным выфранченным бездельникам.
Все время существования Салона — тысячные толпы.
Прохожу раз по бесчисленным комнатам, просто чтобы найти вещь, приковывающую гуляющее внимание парижан.
Только в одном месте настоящая давка, настоящая толпа.
Это номер 870, картина художника японца Фужита — «Ню». Разлегшаяся дама. Руки заложены за голову. Голая. У дамы открытые настежь подмышки. На подмышке волосики. Они-то и привлекают внимание. Волосики сделаны с потрясающей добросовестностью. Не каким-нибудь общим мазком, а каждый в отдельности. Прямо хоть сдавай их на учет в Центрощетину по квитанции. Ни один не пропадет — считанные.
Еще одна толпа, уже меньше. Сюжет не такой интересный. Это 1885 номер. Елена Пердрио. Тоже дама, но в рубашке. Рубашка сеткой. Вот эту сетку, сделанную бог весть чем, но, безусловно, чем-то самым тонким, и рассматривают.
Мимо остального плывут плавно.
Прохожу еще раз медленно, хочу, чтобы меня остановила сама живопись. Но живопись висит спокойно, как повешенная. Приходится прибегнуть к каталогу, стараясь по именам искать картины.
Ищу кубистов.
Вот Брак. 18 солидных вещей. Останавливаюсь перед двумя декоративными панно. Какой шаг назад! Определенно содержательные. Так и лезут кариатиды. Гладенький-гладенький. Серо-зелено-коричневый. Не прежний Брак, железный, решительный, с исключительным вкусом, а размягченный, облизанный Салоном.
Леже. Его сразу выделишь яркостью, каким-то красочным антиэстетизмом. Но и его антиэстетизм, в его мастерской кажущийся революционной силой, здесь тоже рассалонен и выглядит просто живописной манеркой.
Смотришь на соседние, уже совсем приличные академические картинки и думаешь: если все это вставить в одну раму и чуточку подтушевать края, не сольется ли все это в одну благоприличную картиночную кашу? Кубизм стал совсем комнатным, совсем ручным.
Нажегшись на школах, перехожу к отдельным.
Матисс. Дряблый. Незначительный. Головка и фигурка… Испытываю легкую неприятность, будто стоишь около картинок нашего отечественного Бодаревского.
Ван-Донжен. Картина «Нептун». Еще невероятнее: оперный старик с трезубцем. Желто-зеленого цвета — яичница с луком. Сзади пароход. Плохонькая живопись, дешевенькая аллегорийка.
Остальное еще унылее.
Некоторое исключение представляет Пикабиа. Его картина — «Принцип французской живописи» — черный мужчина на белом фоне и белая женщина на черном фоне — интересна. Но это формализм даже по заданию. Во всяком случае, это не разрешение задачи живописью.
Из «национальной вежливости» разыскиваю русских. Нелегкое занятие. Уже найдя, должен не выпускать его из глаз ни на минуту (лучше всего держаться рукой за раму), а то сейчас же забудешь и спутаешь с соседом.
Григорьев. Хороший? Нет. Плохой? Нет. Какой же он? Какой был, такой и есть. Повернет карандаш боком и водит по бумаге. От долгой практики выучился таким образом всякие фигурки делать. А так как кисть уже сама по себе повернута боком, то тут на манере не отыграешься, приходится сюжетом брать. Какой же может быть сюжет для нашего тамбовца, приехавшего в первый раз в Париж? Разумеется, Монмартр и апаши. Мне скучно. Скучно французам. Григорьеву тоже. Ноет: в Москву! Интересуется: пустят ли? Напоминаю ему картинку его на какой-то заграничной выставке — какая-то непроходимая физиономия, и подпись — комиссар. Григорьев кается: это я нашего парижского фотографа рисовал, а название «комиссар» ему уже на выставке устроители для эффекта присовокупили.
Хороший пример высасывания из пальца антисоветской агитации.
Шухаев. Академическая баба. Думаю, как это он за это время успел в Африку съездить. Баба самая реальная, черная негритянка. Приглядываюсь. Оказывается, ошибся. Это тени наложены. Этим и славится — светотенью.
Яковлев. Портрет. Сидит дама. Живая. В руках и на столе книжки: Кузмин «Вторник Мери», Ахматова «Подорожник». Заглавийки книжек выведены с потрясающей добросовестностью. Удивительно. Зачем делать от руки то, что можно напечатать (на то и Европа, на то им и техника). По причине избегания ими меня сей вопрос остался невыясненным.
До полного цинизма дошел Сорин. Портрет Павловой. Настоящий куаферо-маникюрщик. Раскрашивает щечки, растушевывает глазки, полирует ноготочки. Раньше привлекали вывески — «Парикмахер Жан из Парижа», теперь, очевидно, привлекают — «Парикмахер Савелий из Петербурга».
Адмирал Битти заказал ему портрет. Недалеко уедешь там, где вкусом правит этакий адмирал. Хорош был бы английский флот, если бы адмиралов к нему подбирал Сорин.
Я знаю, эстеты Парижа, русские тоже, обидятся на мой «отчет» Сам, мол, столько говорил о форме, а подходит со стороны сюжетца, как старый репортер «Биржевки».
Скажут:
Вы, говорящий о нашем стоянии, разве вы не видите это совершенство работы, это качество: Qualitè[1] (модное сейчас словечко французов). Может быть, в вашей Чухломе есть лучшие мастера картин?! Назовите! Покажите!
О нет! Я меньше, чем кто-нибудь из русских искусства, блещу квасным патриотизмом. Любую живописную идею Парижа я приветствовал так же, как восторгаюсь новой идеей в Москве. Но ее нет!
Я вовсе не хочу сказать, что я не люблю французскую живопись. Наоборот.
Я ее уже любил. От старой любви не отказываюсь, но она уже перешла в дружбу, а скоро, если вы не пойдете вперед, может ограничиться и простым знакомством.
Посмотрите приводимые здесь иллюстрации Салона. Они взяты из проспекта, даваемого при каталоге, ясно подчеркивая гордость выставки.
Обычное ню, где интерес голизны не менее живописного интереса.
Приглаженный, красивенький быт идеализированных рыбаков.
Пейзаж до Сезанна и до Ван-Гога.
Композиция: Матисс в ботичеллевской обработке, и т. д.
Но, конечно, российское производство картинок не ровня парижскому. Париж выше на много голов. Париж первый.
Конечно, я отдал бы весь наш бубнововалетский стиль за одну вариацию из этого цикла Пикассо или Брака.
Дело не в этом.
Дело в том, что время выдвинуло вопрос о существовании картинок. И их мастеров вообще. Выдвинуло вопрос о существовании общества, удовлетворяющегося художественной культурной украшения картинами Салона. Эта культура уже изжила себя. Я охотно отдаю французам первенство в писании картин.
Я говорю: наши пентры должны бросить писать картины, потому что французы пишут лучше. Но и французы должны бросить писать, потому что они лучше не напишут.
Мелкота картиночной работы выступает со всей ясностью, когда от картин Салона переходишь к промышленно-художественному отделу.
Здесь тоже номеров пятьсот.
Книжные обложки. Драгоценнейшие. Под стеклом. Пергаменты. На всех тоненькие виньеточки и рисуночки. Многоцветные. Костер, золотой, от него голубенький дымок, разворачивающий загогулинки по всей книге, а на фоне розовые облачишки. И никакой работы ни над новым шрифтом, ни над ясностью, ни над старанием типографски подчеркнуть сказанное в книге.
Вот убранство квартирок, столики и шкафики в ампире. На дверцах бронзовые веночки, со шкафов и с полочек спущена парча с бурбонскими лилиями. На подставочке, разумеется, бюст Наполеона. И все в этом стиле. Никакого придумывания, никакого изобретения, никакой конструкции. Механическое варьирование обломков старых, великих, но изживших себя и ненужных стилей.
Попробуй, обставь дом — общежитие на тысячи рабочих — этими шкафиками.
С удовольствием выхожу из салонного гроба к автомобилям Елисейских полей.
Салоном не исчерпывается французская живопись. Это средний обывательский вкус.
Чтобы знать водителей вкуса, нужно пройти по галереям частных торговцев и по мастерским художников.
Эстеты кричат о свободе творчества! Каждый ребенок в Париже знает, что никто не вылезет к славе, если ее не начнет делать тот или иной торговец. Этот торговец всесилен. Даже Салон подбирает он. Так и делятся художники и картины. Это художники Симона, это художники Леона.
КУПЦЫ
Париж весь кишит художественными лавочками. Осматриваю две наиболее значительные из них, — это лавочка Симона Розенберга и Леона Розенберга. Конечно, французское ухо резали бы эти слова — купец, лавочка. Для него эти купцы — носители вкуса, носители художественных идей Франции. Лучшие картины художников отдаются этим купцам. У них выставлены лучшие Пикассо, лучшие Браки и т. д. Большинство приводимых мной иллюстраций — снимки с ихних галерей.
Эти купцы делают славу художникам. Это они намечают гения, покупают у него картины за бесценок, скапливают их в своих подвалах и после смерти через тысячи состоящих на службе рецензентов раструбливают славу умерших и за многие десятки и сотни тысяч франков распродают шедевры.
Эти купцы поддерживают славу Пикассо. Эти купцы заставляют изо дня в день интересоваться им весь мир. Это купец, в отместку другому купцу, вдруг начинает выдвигать какого-нибудь молодого Сюрважа и каждой пришедшей даме, покровительнице искусств, каждому пришедшему коллекционеру старается в лучшем освещении, с лучшими рекомендациями, с передачей лучших отзывов показать какую-нибудь весьма сомнительную картинку. Если нет живых, купцы извлекают мертвых.
Злые языки утверждают, что повышенный интерес к Энгру, этому посредственному ложноклассическому рисовальщику, объясняется тем, что у одного из этих Леонов скопилось большое количество рисунков. Во французском искусстве сразу поворот к классицизму. Это, конечно, схематическое, памфлетное изображение настроений, но франк в этой схеме все же играет первенствующую роль. Для этих купцов, или чтобы перепрыгнуть через них, прорваться сквозь их блокаду, работают все французские художники.
МАСТЕРСКИЕ
Чтобы понять действительные двигающие силы того или другого направления, того или другого художника, надо пройти закулисную лабораторию — мастерские. Здесь искание, здесь изобретаются направления, здесь в отдельных штрихах, в отдельных мазках еще можно найти элементы революционного искусства, сейчас же за дверью ателье тщательно обрезываемого вкусом Салона, вкусом купца. Здесь настоящая борьба художников, борьба направлений; здесь Пикассо небрежным кивком отстраняет вопросы о Делонэ; здесь Делонэ с пеной у рта кроет «спекулянтом» Пикассо; здесь видишь то, чего никогда не увидишь в магазинчиках.
ПИКАССО
Первая мастерская, в которую нужно пойти в Париже, это, конечно, мастерская Пикассо. Это самый большой живописец и по своему размаху и по значению, которое он имеет в мировой живописи. Среди квартиры, увешанной давно знакомыми всем нам по фотографиям картинами, приземистый, хмурый, энергичный испанец. Характерно и для него и для других художников, у которых я был, это страстная любовь к Руссо. Все стены увешаны им. Очевидно, глаз изощрившегося француза ищет отдыха на этих абсолютно бесхитростных, абсолютно простых вещах. Один вопрос интересует меня очень — это вопрос о возврате Пикассо к классицизму. Помню, в каких-то русских журналах приводились последние рисунки Пикассо с подписью: «Возврат к классицизму». В статейках пояснялось, что если такой новатор, как Пикассо, ушел от своих «чудачеств», то чего же у нас в России какие-то отверженные люди еще интересуются какими-то плоскостями, какими-то формами, какими-то цветами, а не просто и добросовестно переходят к копированию природы.
Пикассо показывает свою мастерскую. Могу рассеять опасения. Никакого возврата ни к какому классицизму у Пикассо нет. Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации: девочка совсем серовская. Портрет женщины грубо-реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом. Его большие так называемые реальные полотна, эти женщины с огромными круглыми руками — конечно, не возврат к классицизму, а если уж хотите употреблять слово «классицизм» — утверждение нового классицизма. Не копирование природы, а претворение всего предыдущего кубического изучения ее. В этих перескакиваниях с приема на прием видишь не отход, а метание из стороны в сторону художника, уже дошедшего до предела формальных достижений в определенной манере, ищущего приложения своих знаний и не могущего найти приложение в атмосфере затхлой французской действительности.
Смотрю на каталог русской художественной выставки в Берлине, валяющийся у него на столе. Спрашиваю: неужели вас удовлетворяет снова в тысячный раз разложить скрипку, сделать в результате скрипку из жести, на которой нельзя играть, которую даже не покупают и которая только предназначается для висенья и для услаждения собственных глаз художника?
Вот в каталоге русский Татлин Он давно уже зовет к переходу художников, но не к коверканию прекрасной жести и железа, а к тому, чтобы все это железо, дающее сейчас безвкусные постройки, оформилось художниками.
— Почему, — спрашиваю, — не перенесете вы свою живопись хотя бы на бока вашей палаты депутатов? Серьезно, товарищ Пикассо, так будет виднее.
Пикассо молча покачивает головой.
— Вам хорошо, у вас нет сержантов мосье Пуанкаре.
— Плюньте на сержантов, — советую я ему, — возьмите ночью ведра с красками и пойдите тихо раскрашивать. Раскрасили же у нас Страстной!
У жены мосье Пикассо, хоть и мало верящей в возможность осуществления моего предложения, все же глаза слегка расцвечиваются ужасом. Но спокойная поза Пикассо, уже, очевидно, освоившегося с тем, что кроме картин он ничего никогда не будет делать, успокаивает «быт».
ДЕЛОНЭ
Делонэ — весь противоположность Пикассо. Он симультанист. Он ищет возможности писать картины, давая форму не исканием тяжестей и объемов, а только расцветкой. (Это духовный отец наших отечественных Якуловых.) Он весь в ожесточении. Кубизм, покрывший все полотна французских живописцев, не дает ему покоя. Купцы не охотятся за ним. Ему негде и не для чего приобретать классицизм. Он весь, даже спина, даже руки, не говоря о картинах, в лихорадочном искании. Он видит — невозможно пробить стены вкуса французских салонов никакими речами, и какими-то косыми путями подходит тоже к революции. В картинах, разворачиваемых им, даже старых, 13 и 14 года, например, известной всем по снимкам Эйфелевой башни, рушащейся на Париж, между буревыми облаками, он старается найти какое-то предчувствие революции.
С завистью слушает он рассказы о наших праздниках, где художнику дается дом, где направлению дается квартал, и художник его может расфантазировать так, как ему хочется. Идея эта близка ему. Его картины даже в его мастерской выглядят не полотнами, а стенами, настолько они многосаженные. Его расцветка иллюминаций так не нужна, так не подходяща к серым стенам мастерской, но ее не вынесешь на улицу: кроме сержанта через дорогу еще и серое здание Академии художеств, откуда, по утверждению Делонэ, при проходе на него замахиваются кулаками.
Художественными путями он тоже пришел к признанию величия русской революции. Он пишет какие-то десятки адресов с просьбой передать, корреспондировать, обмениваться с ним художеством России. Он носится с мыслью приехать в РСФСР, открыть какую-то школу, привезти туда в омолаживание живопись французов.
А пока что и к его ноге привязано ядро парижского быта, и он разрешает вспышки своего энтузиазма раскрашиванием дверей собственного ателье. Тоже кусок жизни.
Не думаю, чтоб он делал это «от души». Во всяком случае, он определенно завидовал моему возврату в страну революции, он просил передать привет от революционеров французского искусства русским, он просил сказать, что это — те, кто с нами, он просил русскую московскую аэростанцию принять в подарок два его огромных полотна, наиболее понравившихся мне: цветной воздух, рассекаемый пропеллерами.
БРАК
Брак — самый продающийся (фактически, а не иносказательно) художник Парижа. Во всем — в обстановке, фигуре старание охранить классическое достоинство центра. Он все время балансирует, надо отдать ему справедливость — с большим вкусом, между Салоном и искусством. Темперамент революционного французского кубизма сдавлен в приличные, принимаемые всеми формы. Есть углы, но не слишком резкие, кубистические. Есть световые пятна, но не слишком решительные и симультанистические. На все мои вопросы, а что же можно было бы получить из последнего, чтобы показать России, у него горделивое извинение: «Фотографий нет, у купца такого-то… Картин нет, извиняюсь, проданы». Этому не до революции.
ЛЕЖЕ
Леже — художник, о котором с некоторым высокомерием говорят прославленные знатоки французского искусства, — произвел на меня самое большое, самое приятное впечатление. Коренастый, вид настоящего художника-рабочего, рассматривающего свой труд не как божественно предназначенный, а как интересное, нужное мастерство, равное другим мастерствам жизни. Осматриваю его значительную живопись. Радует его эстетика индустриальных форм, радует отсутствие боязни перед самым грубым реализмом. Поражает так не похожее на французских художников мастеровое отношение к краске — не как к средству передачи каких-то воздухов, а как материалу, дающему покраску вещам. В его отношении к российской революции тоже отсутствие эстетизма, рабочее отношение. Радует, что он не выставляет вперед свои достижения и достиженьица, не старается художественно втереть вам очки своей революционностью, а, как-то отбросив в сторону живопись, расспрашивает о революции русской, о русской жизни. Видно, что его восторг перед революцией не художественная поза, а просто «деловое» отношение. Его интересует больше не вопрос о том, где бы и как бы он мог выставиться по приезде в Россию, а технический вопрос о том, как ему проехать, к чему в России его уменье может быть приложено в общем строительстве.
Как только я заикнулся о том, что товарищей моих может заинтересовать его живопись, то увидел не дрожащего над своими сокровищами купца-художника, а простое:
— Берите всё. Если что через дверь не пролезет, я вам через окно спущу.
— До свидания, — выучился он по-русски на прощание, — скоро приеду.
Этими вот четырьмя перечисленными художниками исчерпываются типы художников Парижа.
ГОНЧАРОВА И ЛАРИОНОВ
Русские художники не играют, во всяком случае об этом не говорят, особой роли в живописи Франции. Правда, влияние их несомненно. Когда смотришь последние вещи Пикассо, удивляешься красочности, каким-то карусельным тонам его картин, его эскизов декораций. Это несомненно влияние наших красочников Гончаровой и Ларионова. Высокомерное отношение победившей Франции к каким-то не желающим признавать долгов русским сказывается и в этом. Не хотим считаться ни с какими фактами. Париж во всем лучше.
В лавках купцов Парижа вы не найдете картин Гончаровой или Ларионова. Зато на заграничных выставках, при свободной конкуренции, в Америке, в Испании или в Голландии — сразу бросается в глаза непохожесть этих русских, их особенный стиль, их исключительная расцветка. Поэтому они продаются в Америке. Поэтому у Гончаровой десятки учеников американцев и японцев, и, конечно, хочет-не хочет Пикассо, а влияние русской живописи просачивается. Но когда дело переходит на работу в Париже, сразу видишь, как художественный темперамент этих русских облизывают салоны. Их макеты и костюмы до неприятности сливаются с Бакстом.
Радует отношение этих художников к РСФСР, не скулящее и инсинуирующее отношение эмигрантов. Деловое отношение. Свое, давно ожидаемое и ничуть не удивившее дело. Никаких вопросов о «сменах вех». Приезд в Россию — техническая подробность.
Приятно констатировать на этом примере, что революционеры в области искусства остаются таковыми до конца.
БАРТ
Если высокомерное отношение Франции не отразилось на Ларионове и Гончаровой, сумевших продвинуться в другие страны, то русским без энергии Париж — крышка. Я был в мастерской Барта, очень знакомого нам художника до войны, человека серьезного, с большим талантом, — в его крохотном поднебесном ателье я видел десятки работ несомненно интересных и по сравнению с любым французом.
Он голоден. Ни один купец никогда не будет носиться с его картинами.
Эта группа уже с подлинным энтузиазмом относится к РСФСР. Барт рассказывает мне грустную повесть о том, как он был единственным офицером, не соглашавшимся после Октября с культурной манерой французов хоронить не желающих идти против революционной России в африканских ямах. Худоба и нервное подергивание всем телом — доказательство результатов такого свободолюбия. Эти, конечно, нагрузившись жалким скарбом своих картин, при первой возможности будут у нас, стоит только хоть немножко рассеять веселенькие французские новеллы о том, что каждый переехавший русскую границу не расстреливается ГПУ только потому, что здесь же на границе съедается вшами без остатка.
ВЫВОД
Начало двадцатого века в искусстве — разрешение исключительно формальных задач.
Не мастерство вещей, а только исследование приемов, методов этого мастерства.
Поэты видели свою задачу только в исследовании чистого слова: отношение слова к слову, дающее образ, законы сочетания слова со словом, образа с образом, синтаксис, организация слов и образов — ритм.
Театр — вне пьес разрешается формальное движение.
Живопись: форма, цвет, линия, их разработка как самодовлеющих величин.
Водители этой работы были французы.
Если взять какую-нибудь отвлеченную задачу — написать человека, выявив его форму простейшими плоскостными обобщениями, — конечно, здесь сильнее всех Пикассо.
Если взять какое-то третье измерение натюрморта, показывая его не в кажущейся видимости, а в сущности, развертывая глубину предмета, его скрытые стороны, — конечно, здесь сильнейший — Брак.
Если взять цвет в его основе, не загрязненной случайностями всяких отражений и полутеней, если взять линию как самостоятельную орнаментальную силу, — сильнейший — Матисс.
Эта формальная работа доведена была к 15 году до своих пределов.
Если сотню раз разложить скрипку на плоскости, то ни у скрипки не останется больше плоскостей, ни у художника не останется неисчерпанной точки зрения на эту живописную задачу.
Голый формализм дал все, что мог. Больше при современном знании физики, химии, оптики, при современном состоянии психологии ничего существенного открыть (не использовав предварительно уже добытого) нельзя.
Остается или умереть, перепевая себя, или…
Остается два «или».
Первое «или» Европы: приложить добытые результаты к удовлетворению потребностей европейского вкуса. Этот вкус не сложен. Вкус буржуазии. Худшей части буржуазии — нуворишей, разбогатевших на войне. Нуворишей, приобретших деньги, не приобрев ни единой черточки даже буржуазной культуры. Удовлетворить этот вкус может только делание картин для квартиры спекулянта-собственника, могущего купить «огонь» художника для освещения только своего салона (государство не в счет, оно плетется всегда в хвосте художественного вкуса, да и материально не в состоянии содержать всю эту живописную армию). Здесь уже не может быть никакого развития. Здесь может быть только принижение художника требованием давать вещи живописно не революционнее Салона. И мы видим, как сдается Брак, начиная давать картины, где благопристойности больше, чем живописи; мы видим, как Меценже от кубизма переходит к жанровым картинкам с красивенькими Пьерро.
Мы видим гениального Пикассо, еще продолжающего свои работы по форме, но уже сдающегося на картиноделание, пока еще полностью в своей манере, но уже начинаются уступки, и в его последних эскизах декораций начинает удивлять импотенция приличного академизма.
Нет, не для делания картинок изучали лучшие люди мира приемы расцветки, иллюминирования жизни. Не к салонам надо прикладывать свои открытия, а к жизни, к производству, к массовой работе, украшающей жизнь миллионам.
Но это уже второе «или» — «или» РСФСР. «Или» всякой страны, вымытой рабочей революцией. Только в такой стране может найтись применение, содержание (живописное, разумеется, а не бытовое) всей этой формальной работе. Не в стране буржуазной, где производство рассматривается капиталистом только как средство наживы, где нельзя руководить вкусом потребителя, а надо ему подчиняться. А в стране, где производят одновременно для себя и для всех, где человек, выпустивший какие-нибудь отвратительные обои, должен знать, что их некому всучить, что они будут драть его собственный глаз со стен клубов, рабочих домов, библиотек.
Это оформление, это — высшая художественная инженерия. Художники индустрии в РСФСР должны руководиться не эстетикой старых художественных пособий, а эстетикой экономии, удобства, целесообразности, конструктивизма.
Но это второе «или» пока не для Франции.
Ей нужно сначала пройти через большую чистку французского Октября.
А пока, при всей нашей технической, мастеровой отсталости, мы, работники искусств Советской России, являемся водителями мирового искусства, носителями авангардных идей.
Но… это все еще из теории должно перейти в практическое воплощение, а для этого надо еще поучиться, и в первую очередь у французов.
[1923]
Комментарии
«Семидневный смотр французской живописи». Книга, подготовленная Маяковским в начале 1923 года к изданию, при жизни Маяковского опубликована не была. Впервые — в альбоме рисунков Маяковского, Изогиз, 1932.
В книгу вошли три очерка, публиковавшиеся ранее в «Известиях ВЦИК»: «Париж (Записки Людогуся)» (24 декабря 1922 г.), «Осенний салон» (27 декабря 1922 г.) и «Париж. Художественная жизнь города» (13 января 1923 г.). Первый очерк был сокращен за счет главок, не имеющих отношения к живописи, и сатирически заострен, два вторых были частично переработаны в том же духе. Для книги были написаны предисловие и послесловие «Вывод».
Щукин, Сергей Иванович (1854–1936) — московский коллекционер произведений искусств.
«Бубновый валет» (1910–1925) — объединение московских живописцев, порвавших с традициями реалистической живописи и выступавших с формалистических позиций против идейности искусства.
Камерный театр — драматический театр в Москве (1914–1950).
«Ротонда» — кафе в Париже, в котором собирались русские поэты и художники.
«Ню» (франц.) — изображение обнаженного женского тела.
Бодаревский, Николай Корнилиевич (1850–1921) — русский художник-портретист и жанрист. В 80-е годы XIX века проявил себя как талантливый художник реалистического направления, с 1884 года — член Товарищества передвижников. В дальнейшем отошел от реализма и демократической тематики, сделавшись салонным портретистом; его жанровые картины этой поры рассчитаны на примитивные вкусы буржуазной публики.
Пикабиа, Франсис (1879–1953) — французский живописец формалистического направления.
Григорьев, Борис Дмитриевич (1886–1939) — русский художник-экспрессионист учился в 1903–1907 годах в Строгановском художественно-промышленном училище и в 1907–1912 годах в Академии художеств, в мастерской Репина. В 1912–1914 годах работал в Париже, с 1919 года постоянно проживал за границей.
В записной книжке 1922 года № 18 (ГММ) Григорьев оставил свой адрес и тоскливую запись: «Не забывай».
Шухаев, Василий Иванович (род. 1887) — русский художник, окончил Строгановское училище, а затем в 1912 году Академию художеств (мастерская Кардовского). Заслуженный деятель Грузинской ССР, профессор Тбилисской академии художеств. В 20-е годы проживал некоторое время за границей, в Париже.
Яковлев, Александр Евгеньевич (1887–1938) — русский художник, окончил в 1913 году Академию художеств (мастерская Кардовского) и получил заграничную командировку (1914–1915), в 1917 году предпринял поездку по Китаю, Японии, Монголии и проживал в дальнейшем за рубежом.
Кузмин, Михаил Алексеевич (1875–1936) — русский писатель, примыкал к символизму, затем акмеизму, был близок с художниками «Мира искусства», в его поздних произведениях усиливаются модернистские тенденции.
Ахматова, Анна Андреевна (1889–1966) — известная русская и советская поэтесса, примыкавшая в ранние годы творчества к акмеизму.
Сорин, Савелий Абрамович (1878—?) — русский художник, ученик И. Е. Репина, после Октябрьской революции проживал за границей.
Павлова, Анна Павловна (1881–1931) — знаменитая русская балерина, с огромным успехом гастролировавшая за границей в балетных спектаклях С. П. Дягилева в 1904–1929 годах.
Битти, Дейвид (1871–1936) — граф, британский адмирал.
«Биржевка» — петербургская газета «Биржевые ведомости» (1880–1917).
Сезанн, Поль (1839–1906) — французский художник-импрессионист, в дальнейшем один из родоначальников постимпрессионизма.
Ван-Гог, Винсент (1833–1890) — голландский художник, начинавший как реалист, а в дальнейшем, с переездом во Францию, один из крупнейших представителей постимпрессионизма.
…в боттичеллевской обработке… — Боттичелли, Сандро (1445–1510) — великий итальянский живописец эпохи Возрождения.
Пентр (франц.) — художник.
Бурбонские лилии — эмблема французской королевской династии Бурбонов.
Елисейские поля — улица в Париже; здесь в Большом дворце устраивались художественные выставки-салоны.
Энгр, Жан Огюст Доминик (1780–1867) — выдающийся французский живописец и рисовальщик. Классицистическим тенденциям в его творчестве, которые со временем приобрели консервативный, оторванный от реальной жизни характер, следовали многочисленные академические салонные художники XIX века.
Руссо, Анри (1844–1910) — французский художник.
…девочка совсем серовская… — Серов, Валентин Александрович (1865–1911) — великий русский художник.
Татлин, Владимир Евграфович (1885–1953) — родоначальник русского абстракционизма; после Октябрьской революции обращается к конструированию так называемых контррельефов из различных материалов. Эти его опыты нашли практическое применение в декоративном искусстве, в архитектуре и художественном конструировании. Был автором проекта монумента III Интернационалу.
Якулов, Георгий Богданович (1884–1928) — художник из «Мира искусства».
Гончарова, Наталия Сергеевна (1881–1962) — русский живописец и декоратор левого направления. Училась в московском Училище живописи (1901–1909), принимала участие в 1910 году в выставке «Бубновый валет».
Ларионов, Михаил Федорович (1881–1964) — русский художник левого направления, один из главарей ищущей художественной молодежи еще в годы учения в московском Училище живописи, ваяния и зодчества (исключен оттуда в 1910 году). Принимал участие в выставке футуристов «Бубновый валет», а в 1911 году вместе с Н. С. Гончаровой (см. выше) основывает общество живописцев-формалистов «Ослиный хвост», объединившее русских футуристов и лучистов. В 1915 году по приглашению Дягилева начинает работать, как и Гончарова, в области театральной живописи, навсегда связывает себя с дягилевской антрепризой и поселяется в Париже. Эпизодически обращаясь к станковой живописи в последующие годы, он постепенно отходит от лучистских и футуристических крайностей.
Бакст, Лев Самойлович (1866–1924) — художник из «Мира искусства», модернист, жил и работал преимущественно в Париже, где особую известность завоевал театральными декорациями в дягилевских антрепризах и рисунками дамских мод.
«Смена вех» — сборник статей, изданный в 1921 году в Праге белоэмигрантами Н. Устряловым, Ю. Ключниковым, А. Бобрищевым-Пушкиным и другими. Сменовеховцы, полагавшие, что с переходом к НЭПу Россия встала на путь капиталистического развития, объявили об отказе от борьбы с революцией и признании Советской власти. Такой поворот буржуазной интеллигенции к сотрудничеству с Советской властью, с одной стороны, свидетельствовал о косвенном признании нового строя, с другой стороны, таил в себе большую опасность, так как под знаменем «сменовеховства» объединялись силы, заинтересованные в восстановлении капитализма в России. На это неоднократно указывал В. И. Ленин.
Барт, Виктор Сергеевич (1887–1954) — русский художник, работавший в Париже.
С. СтыкалинПримечания
1
Качество (франц).
(обратно)
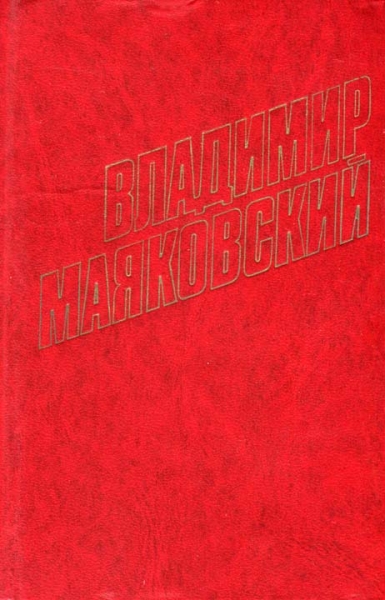


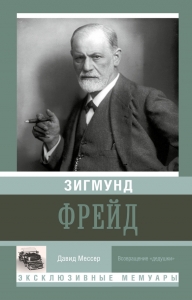



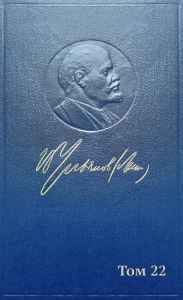
Комментарии к книге «Семидневный смотр французской живописи», Владимир Владимирович Маяковский
Всего 0 комментариев