Смольный институт. Дневники воспитанниц
© ООО «ТД Алгоритм», 2017
Софья Дмитриевна Хвощинская. 1824–1865. Воспоминания институтской жизни
…Недавно случилось мне встретиться с тремя бывшими сверстницами по Московскому Екатерининскому институту. Мы не видались с самого выпуска, и теперь, вместе, как-то живее припоминалось старое время.
Это старое время ушло очень далеко. Мы кончили курс около шестнадцати лет тому назад. С тех пор уже всеми нами прожита лучшая часть жизни, и у каждой из нас она вышла такая особенная, такая непохожая на жизнь другой, и так мы стали несходны ни в характерах, ни в образе мыслей, ни в малейшем движении, – что невольно обратились к прошлому. Казалось, каждая, не узнавая друг друга, хотела допроситься у этого прошлого, почему ж не осталось между нами хоть тени, хоть самой маленькой тени сходства? Шесть лет под одною кровлей, единственно отданных воспитанию, совершенное равенство этого воспитания, глубоко обдуманного, строго выполненного, и с такою определенною целью – приготовить будущих членов семейства, общества. Казалось, как бы не уцелеть хоть общим чертам этого приготовления? Если не из чего другого, то Институт наш – заведение первоклассное, стоит выше всех частных пансионов, выше других институтов. У нас допускаются только самые благородные девицы, только одной шестой дворянской книги. Ясно, что это правило всегда имело целью украшать верхушки общества такими представительницами, которые могли бы служить примером женщинам более смиренного круга. Ясно, что для выполнения этой цели были потрачены на нас всевозможные заботы. Мы, конечно, должны были оправдать их, выйти тем, чем в институте желали, чтобы мы вышли. Институтские правила и склад должны были сберечься в нас, как неоцененный дар, чрез все житейские перевороты. Нам следовало бы узнавать друг друга с полуслова. Но вышло иначе. Встретясь, мы заметили, что стали так разнохарактерны, как будто учились на противоположных концах земного шара.
Московское училище ордена св. Екатерины, также Московский Екатерининский институт благородных девиц, – одно из первых женских учебных заведений в России
Странно, эта встреча была похожа на первую, когда нас, «новеньких», только что свозили учиться тоже с разных концов родины… Из глубины пустынных деревень, из уездных городов и губернских, и тут же, из переулков и аристократических улиц самой Москвы, родители привозили девочек. Святилище знания гостеприимно растворяло пред ними двери…
Какое далекое время! С тех пор, конечно, многое изменилось в институте. Не знаю; с самого выпуска мне не удалось быть там ни разу…
Я была своекоштная, или, как говорят у нас, «своя». Своекоштные съезжались раньше казенных; те должны были поступать по баллотировке, в августе, после летней вакации. Некоторых «своих» отдавали еще в феврале и марте, то есть в самое время выпуска кончивших курс и перемещения меньшего класса на их место в старшие отделения. В то время институтский курс разделялся таким образом: два класса, меньшой и старший; в каждом ученицы должны были пробыть по три года; в классах по три отделения, 1-е, 2-е и 3-е в старшем, 4-е, 5-е и 6-е в меньшем. Приемной программы для поступления не было. Если «новенькая» девочка, казалось, знала что-нибудь, особливо если говорила порядочно по-французски или по-немецки, и к тому же, имела выдержанные манеры, ее сажали в четвертое отделение. Минут пять экзамена решали дело. Из этого четвертого отделения, высшего по наукам в маленьком классе, девицы прямо переходили в первое отделение старшего. Туда же они уводили с собою и своих классных дам, на все остальные три года. Девочек, смотревших робко, с намеками на знание священной истории и французских слов, с физиономиями, обещавшими почему-то исправиться, сажали пятое отделение, откуда они шли во второе. Девочек, с физиономиями совсем тусклыми или уже некстати острыми, когда все их познания заключались в одной грамоте, таких девочек отводили в шестое отделение. Оттуда все они, с редкими исключениями, переселялись в третье отделение и клеймились грустным прозвищем дритток. Там программа учения едва равнялась с программой высшего отделения маленького класса. Было еще в институте крошечное отделение, седьмое, куда помещали совсем безграмотных, или крошек, которым суждено было пробыть девять и больше лет вместо шести. Последние еще достигали почетных скамеек, но первые непременно кончали дриттками. Таким образом все дальнейшие познания девиц зависели все-таки от того, чему девочку выучили прежде, дома, а между тем, институт не требовал никакого приготовления заранее, ни по какой программе. Институт вполне брал на себя обязанность выучить нас так, как лучше уже не могут быть выучены женщины в России…
Нас привозили, но пора стояла хлопотливая, шумная; готовился выпуск, а наше время было все впереди. Нас кое-как, внаглядку, рассадили покуда с воспитанницами, которые недели через две-три, должны были уйти в старшие отделения.
Я попала в четвертое. Первое мое впечатление было ужасно смутно. Определить его едва ли не труднее, чем вспомнить первые сознательные минуты раннего детства… Длиннейшие коридоры, огромнейшие залы, бесконечные дортуары, лестницы и лестницы, – простор и неуют после домашней тесноты; запах курения уксусом, и с ним еще другой, кислый с сыростью, от мокрых полов, вымытых шваброю, – запах, который с первой минуты навеки остался у меня в памяти и почему-то стал неразлучен с мыслью обо всем казенном… Я убедилась, что я в другом мире, а о том, где жила прежде, уже и думать нельзя, да его уже и вовсе нет; я даже ни о чем не жалела. Покуда меня вели к директрисе, я оглядывалась на однообразную, беспредельную желтую краску стен, и (как теперь помню) мне вообразилось, что это должно быть такое место, где ничего не едят. Лицо директрисы мне очень понравилось. Я никогда, ни прежде, ни после, не встречала почтенной женщины прекраснее ее. У нее был гордый вид, но он не отталкивал, а напротив, подчинял себе невольно. Она очень мило сморщила на меня брови, улыбнулась покровительственно и ласково и, кликнув какую-то пепиньерку (воспитанница закрытого женского учебного заведения, окончившая его и готовящаяся к педагогической карьере), игравшую в ее зале на фортепьяно, велела отвезти меня в класс. Мать моя оторопела за меня. Это была минута разлуки. Мать робко заплакала, я ее целовала почти равнодушно. От взгляда ли чужого лица, от чужих ли комнат кругом, только во мне не осталось никакого чувства. Я даже не заметила, как уехала моя мать. Директриса сама подала ей знак прощанья.
Меня увели в четвертое отделение. Мой приход прервал на минуту урок; сделалось маленькое замешательство. Солнечный свет ударил мне в глаза, – я ничего не могла разобрать. Пепиньерка сказала что-то кому-то сидевшему в простенке; оттуда вышла дана и взяла меня за руку. Она стала тихонько протискивать меня между сидевшими девицами и их пюпитрами, и наконец сказала: «ici». Я села. С обеих сторон на меня глядели соседки, беленькие, в беленьких фартуках и с голыми шейками. Мое пестрое платьице, казалось, им не нравилось. Помню, однако, что оно было сшито по моде, а зеленые камлотовые платья на девицах были вовсе не модны… Кое-как, однако, я осмотрелась. Классная комната была далеко не нарядна; желтые штукатурные стены, обвешанные плохими ландкартами; две черные доски на станках, исчерченные мелом, и ряды скамеек с пюпитрами, горою возвышавшиеся от середины комнаты до стены. Скамейки, выкрашенные темно-зеленою краскою, смотрели немного мрачно… В простенке был такой же крашеный столик, и за ним сидела классная дама; другой столик стоял посреди комнаты; и за ним сидел учитель. Девицы, на скамейках впереди меня, смотрели не шевелясь на учителя. Я вглядывалась, как искусно были они причесаны, в две косички, когда над моим ухом произнесли: «écoutez le maître, mademoiselle…» Классная дама воздушно проходила между рядами.
Я начала слушать. Шел урок русского языка. Учитель, краснощекий, плотный старик с черными бровями, объяснял что-то, и вдруг сказал: «г-жа Мезинцева».
Я обернулась и чуть не ахнула. Рядом с девицей, ставшею на самой высокой скамейке, чтоб отвечать, сидело маленькое существо, от которого была видна одна голова. Это была моя кузина, Варенька Г.
Мы жили в одном губернском городе, и я знала, что Вареньку тоже отдают в институт; но ее родные прежде нас уехали в Москву. Варенька, как она сказала мне потом, поступила только часом раньше меня. С высоты своей скамейки она увидала мой взгляд и весело кивнула мне головой. Затем она не глядела на меня больше, навострив глаза и уши на учителя.
Варенька была девочка крошечная ростом и прелестная собой; я ее ужасно любила. Еще дома у нее была страсть учиться, пылкая страсть, не то что наше обыкновенное детское желание знать урок, чтоб избежать наказания. Книжка или серьезный разговор имели для Вареньки такую притягательную силу, что часто нам, сверстницам, приходилось просто тащить ее к себе, за ее длинные косы. Она и для нас была золото. Она устраивала нам театры, втянув в дело и старших, сочинила нам пиесы для этих театров, выдумывала всевозможные игры. Без нее ничто не клеилось. Это был маленький домашний дух, разнообразный, умненький и добрый; он обещал быть еще умнее и добрее. Варенька с восторгом узнала о намерении отдать ее в институт; она бредила, как будет много учиться, воображала, что будет хватать с неба звезды. Институт – это уже такое место, где с нею будут говорить много-много, все хорошее и дельное, и где сама она будет много говорить. Счастливое, любимое и любящее дитя, Варенька все-таки торопила отца и мать отвезти ее поскорее. Она обещала, даже побожилась непременно выйти первою, то есть достигнуть того горнего места, где теперь заседала. Это не было ни педантство, ни гордость. Вареньке хотелось быть первою, потому что, как говорила она, первая бесспорно уже все знает и у нее все добродетели, – а это так хорошо!
– Il faut écouter le maître, mademoiselle, – повторили мне.
Я было загляделась на Вареньку. Клочок ее розового платьица весело алел на солнце – платьице мне знакомое… Как бы с ней уйти? Кругом все серьезные лица и никому до нас дела…
Но первая ученица, m-lle Мезенцева, начала что-то громко читать. Варенька приклеилась к ее локтю и раскрыла рот. Это было сочинение на заданную тему: «Бегство Наполеона из России». Потом кто-то прочел наизусть: «Везувий пламень изрыгает». Пробило двенадцать часов, в коридоре зазвонили к обеду, учитель встал, и все за скамейками ему присели. Классная дама скомандовала «par paires» (парами (фр.). Мне продели руку под руку моей соседки…
Я решительно была в полусне и все молчала. Зато Варенька моя была как дома. Ей, казалось, и тепло, и привольно. Она вскочила с лавки, поцеловала меня, потом бросилась и облобызала классную даму. Удивленная дама улыбнулась и поставила ее в пару. После я узнала, что она точно так же облобызала и директрису, и поручила ей, ей самой, чтобы пирожки и пряники, привезенные Варенькой из дома, были отнесены в тот дортуар, где Вареньке назначат спать. Затеи она опять повисла у директрисы на шее. Только позднее, когда Варенька стала институткой, она поняла, какие натворила беззакония…
За обедом нас посадили возле классной дамы. Я ничего не ела; Варенька кушала с аппетитом. Она бойко рассказывала классной даме о своих родных, хотя ее не расспрашивали. Дама только слушала снисходительно, а Варенька смотрела ей в глаза, будто ожидая, что вот ее сейчас уже чему-нибудь научат. После обеда нас повели в рекреационную залу. Это была огромная комната, совсем пустая, с двумя, тремя скамейками, к которым допускались только не совсем здоровые девицы. Вареньку обступили. Она была такая хорошенькая и любопытная, что к кружку подошли и другие классные дамы. Они смотрели на Вареньку, на эту невоспитанную юность со сдержанною ужимкой, которую я поняла только в последствии, когда у меня самой явилась такая же ужимка, когда я оценила превосходство институтской manière d’être и совершенства автоматической выправки… Варенька казалась теперь маленькою шутихой. Она, моя голубушка, так и тараторила. Ей очень не понравилось сочинение первой ученицы в еще менее объяснения учителя, и поймав эту первую ученицу, она выражала свое мнение: – «Что такое вы написали: “подъяв свое победоносное оружие!” Мне кажется, это тяжело написано. А учитель еще приказал, напишите: сей великий полководец, а не этот великий полководец… Сей… Я читала в одном журнале, уже нынче не пишут, не хорошо…»
M-lle Мизинцева презрительно не отвечала; ей было шестнадцать лет, и она уже заранее, как и вся «первая лавка» была, зачесана не в косички, а почетно в косу, предвестницу старшего класса. На первый раз Вареньке спустили. Она, однако, не унималась. Рядом с ней что-то заговорили две воспитанницы, и должно быть, интересное, потому что Варенька так к ним и кинулась. «Ах, что вы сказали, повторите!» Ей не повторили, но я тоже услыхала эти фразы, и мне с новинки показалось дико. Девицы говорили о предметах своего обожания. Одна сказала: «elle est belle comme, je ne sais, царица»; а другая: «je l’aime comme, je ne sais, херувим…» Дело в том, что русское слово сильнее выражает качество, а чтоб иметь право употребить его, надо было непременно оговориться словами: «je ne sais», иначе вам передавали картонный язык за нарушение приказа говорить по-французски. Когда я стала сама говорить такие вещи, я употребляла только один диалект. Может быть похвалы выходили и слабее, за то безопаснее… Язык на моей спине производил на меня ощущение ползущего таракана…
Улучив минуту в вечернюю рекреацию, я шепнула Вареньке, как я рада, что мы вместе, и ни с кем не будем связываться. Она меня немножко задушила (целуя, она имела привычку немножко душить), но сказала с восхищением: «Зачем же нам сидеть одним. Я хочу быть со всеми, это будут все мои друзья, непременно…» И когда мы пришли спать в дортуар, помолились и разделись, Варенька пошла с поцелуями ко всем девицам по очереди. Дортуарная служанка отдала Вареньке ее пирожки и пряники; она разложила их по табуретам всех девиц. Девицы тихонько засмеялись, поблагодарили и сели. Эта гастрономическая нежность ко всем, без исключения, и душевные излияния, казалось, были не совсем в нравах жителей… Варенька все просила о дружбе.
– Но ведь вы останетесь в маленьком классе, какая же дружба? – сказала ей наконец одна девица, тоном неопровержимого отказа.
С Вареньки, вообще, скоро сбили спесь и веселье. На другой день нас повели в закройную и одели в камлотовые платья. Маленькая оригинальная личность моей кузиночки стала стираться в одну общую форменную краску…
До устройства будущего маленького класса, то есть до перехода настоящего в старший, мы, новенькие, были под надзором его классных дам, сидели в его отделениях, спали в его дортуарах. Уроков нам почти не задавали; учители не обращались к нам с вопросами. Нас отдали в распоряжение первым ученицам. В свободные «перемены» они обязаны были занимать нас диктовкой, и по мелочи, вопросами из разных предметов. Та, которой меня поручили, была девушка по шестнадцатому году, красавица. Она принялась учить меня с покровительственным тоном, который очень шел к ее изящной холодной наружности. Я ее невзлюбила. Хотя у меня не было Варенькиных претензий на братство, нежность и ласки, но все же я была так глупа, что вертелась волчонком, от серьезных минок моей учительницы. Мы, маленькие, еще не понимали магического слова: «скоро быть большой». Заплесть волосы в одну косу, знать две косички только как наказание, выйдти из morveuses, не знать презренного угла, угрозы розгой (впрочем, никогда невиданной), – да тут поднимешься на три аршина! Как с такой высоты смотреть на крошечный мирок, где девчонкам шьют платья нарост, со складочкой, где непокорные ноги топчут башмаки набок, а удлиняющиеся руки то и дело требуют новых холщевых перчаток?.. Взрослые девицы поселили в нас, наконец, должный страх и уважение. И Варенька присмирела так, что в одном горестном обстоятельстве, при всей правоте своей, даже не возвысила голоса. Обстоятельство это поразило Вареньку в самое сердце. У нее похитили книжки. Варенька привезла с собой какие то хорошенькие, в прелестных переплетах. Одну книжку попросили дать прочесть; Варенька дала. Книжка не возвратилась. Затем из табурета в дортуаре унесли и другие. Варенька видела и книжки, и свою злодейку; издали, несмелым шагом, и ломая свои маленькие пальчики, следила она по рекреационной зале за злодейкой. Та видела Вареньку, но Варенька промолчала. Книжки так и пропали.
Помню, что об эту самую пору совершила я свой первый подвиг, или, вернее, вдруг показала неожиданную прыть. Сама не понимаю, как это со мной случилось. Две недели я была как сонная, двигалась и раскрывала рот только по неизбежности, и не чувствовала никаких самолюбивых поползновений явить перед институтом черты моего характера. Несмотря на то, в мою голову села дурь. Она села с первого дня, и мучила меня. Мне было досадно, зачем кругом такая тишина. Тихо так, что душно, что почти физически тошно… Когда же будет шум? Утром встанем – говорим тихо; помолимся богу, позавтракаем – тихо; там учитель – опять тишина. Парами ведут к обеду – молчи; за обедом говорят вполголоса. После обеда, положим, рекреация, но не кричат, не хохочут, а более идет шуршанье ногами; там опять учитель до пяти часов; с пяти до шести хотя и рекреация, но, должно быть, тоже нельзя шуметь слишком много, пепиньерка напоминает: «Pas autant de bruit, mademoiselles…» (Не так шумно, барышни…) С шести до ужина приготовление уроков, и больше шепотом; в восемь ужин, и поведут безмолвными парами. А там и спать ложись, и наступит тишина мертвая.
Я думала, думала, и вдруг протестовала. Нас вели спать, мы выступали на цыпочках. Классная дама была сердита и шикала. В дверях дортуара сделалось маленькое замешательство. На нас еще шикнули. Тогда я опустила голову и стукнула в пол ногою, что было мочи. Эхо прокатилось по коридору…
После молитвы начался разбор… Никто не заметил, что козья выходка была моя, никто меня не выдал. Все отпирались и я отперлась. Классная дама грозила поставить нас на колени до полуночи. Она ушла к себе, а мы ждали приговора. Я начала дремать стоя, и совесть не мучила меня за безвинных. Должно быть, классной даме самой наконец захотелось спать. Не добившись правды, она выслала нам приказ, чтоб и мы ложились. Я заснула приятнее всех дней, будто сделала доброе дело.
Припоминаю этот случай, образчик того, как мои душевные побуждения сбились с толку. Позднее, таких случаев было много…
Наконец, нам дали простор. После недели экзамена, девиц перевели; опустелые скамьи маленького класса, по всем отделениям стали быстро наполняться вновь приезжими. Образовался новый мирок из разных племен, наречий, состояний, и как в каждом вновь создающемся мирке, в нем шла неурядица. Боролись чувства, кипели страсти – но недолго. Классные дамы, собравшись с новыми силами, скоро привели его в гармонию.
Передо мной, как в тумане, проходят наши маленькие лица… Вот и моя скамейка, и мои соседки…
Вот дочка непременно рачительных, зажиточных, но строгих родителей; она причесана волосок к волоску. Платьице темненькое, под душку, приседает хоть неловко, но почтительно, смотрит, если не со смыслом, то послушно. Родители передали классной даме денег на непредвиденные расходы девочки. Девочка знает, сколько их, до копейки, и будет тратить немного и аккуратно, – тратить покуда не на лакомства, а на покупку носового платка, если случится насморк и казенного полотна будет недостаточно. У нее есть и сундучок, прочный, с крепким замком и ключиком. Там щетки, гребенки, мыло, все нероскошное, там наперсток, нитки, иголки, чтобы не сметь одолжаться пустяками, потому что стыдно. Девочка так сначала и смотрит, что не одолжится. Вот уроженки Москвы, но у них непременно есть сытная, степная деревня, они не из «тонного» семейства; все это видно с первого взгляда: барышни полные, высокие, краснощекие, одеты по замоскворецкой моде. Маменька их такая же, только покрупнее; манеры у нее размашистые. Дома у них, верно, много шуму и даже крупной брани, но семейство от этого только здоровеет. Маменька будет ездить часто, и в залу, и к классной даме, и в неприемные дни; дочки не будут ее стыдиться (как это зачастую бывает в институте); маменька так непоколебимо и независимо смотрит с своими манерами, не признает необходимости быть потише, что покорит даже деликатные нервы классной дамы. Здоровье и безмятежность еще долго продержатся на лицах барышень. Вот еще здоровая и богатая, но это уже совсем степная. Она из многочисленного семейства, где предположили сбыть с рук одну, и чтобы в семье была одна воспитанная. Она смотрит так, что долго не поймет никакой науки. После обеда она грустно обводит глазами стол, будто ищет пирожного или лакомства, но не изящного. Корсет вызовет ее первые горькие слезы; назидания классной дамы покуда отскакивают от нее, как от стены горох. Но вот зато сейчас привезли двух очень воспитанных девочек; классная дама тоже засуетилась, и выговаривает их имена Adele и Zina с особенною изысканностью. Это две аристократки; фамилия громкая. Девочки вялые, болезненные; покуда нам будет с ними, наверное, скучно; они станут втихомолку кривляться или сидеть вдвоем, подняв носики… Но это только покуда… Им позволят обедать за лазаретным (хорошим) столом и во время уроков не снимать пелеринки. Маменька их будет видеться с ними у директрисы, а не в приемной; у них знакомые и родственники между членами совета, сенаторами. Сенаторы, приезжая (всегда в обеденное время), потреплют Зину и Адель по плечу, спросят, здорова ли маменька и хороши ли кушанья. Вот и сама маменька входит с директрисой в классную комнату. Дама худая, в шали, гордо-кислая, разоренная аристократка… Богатых аристократических детей в московском институте почти не бывает (при мне, по крайней мере, не было). Такие отдают в петербургский институт, особенно в Смольный, из честолюбивых или блестящих видов. Шестнадцать лет тому назад Москва не была сцеплена с Петербургом железною дорогой, и высокие посетители приезжали к нам очень редко… Аристократка-маменька обводит нас тусклым взглядом. Вот она прошла мимо лавки, сронила тетради, и даже не сказала pardon… Впоследствии Адель и Зина будут немножко стыдиться своей маменьки… Года через полтора им будет особенно неприятно, когда маменька, узнав, что лучший друг Адели и Зины – какая-нибудь «mlle Кривухина из Сувалок», сделает дочерям кислую гримасу… Рядом с Зиной и Аделью сидит девочка. Она красавица, одета от Рене, и в прелестных ботиночках. На первых порах кажется, нам не будет от нее житья. Она капризница, избалованная, у нее нет старших, кроме молодой замужней сестры, она выгнала из дома десяток гувернанток, институт она уже бранит, она брезглива, у нее все одно слово: détestable (отвратительный, гнусный – фр.). Она не проживет у нас долго, а если проживет, то до конца останется сама собой; ее уже не переделаешь. Это будет наша мучительница, она притягивает к себе, потому что она прелесть, мы будем искать ее дружбы, дрожать ее гнева, обожать ее, даром что она маленькая. У нее все каприз: и ее благородное заступничество в общей беде, и презрение к маленьким низостям, и желание учиться, все на минуту, все, покуда не наскучит… Вот она поглядывает на свою соседку слева, поглядывает, как на маленькое животное. Недаром: та всю рекреацию не перестает жевать яблоки, варенные в меду. Можно поручиться, что эта девочка – единственная внучка у богатой бабушки, сирота, и жила под бабушкиною кацавейкой. Старуху едва не стукнул паралич в день отправления внучки. Она с своею Алефтиночкой снарядила в институт и няньку, а в комнату классной дамы снесли целые кульки съестного и вручили ей письмо старухи, писанное крючками, чтобы при Алефтиночке оставили няню и больше кормили ее, сироту божию. Алефтиночка ест и плачет; она выйдет из института, не смекнув, зачем ее отдавали. А покуда ее отведут в седьмое отделение, начинать азбуку.
Москва в XIX веке
Вот еще две-три генеральские дочки, еще несколько дочек богатых помещиков и значительных чиновников. Их будут часто навещать, у них не прервется связь с родным гнездом. То дяденька и тетенька, то кузены и кузины, то посторонние привезут конфет, изредка даже светских новостей, рассказов о театрах и т. п. (Светские новости, впрочем, мало нас интересуют.) Любезность этих посетителей к классным дамам смягчает иногда отношения классной дамы к посещаемой институтке и умиротворяет многое. Такие институтки большею частью обожают не институтку, а какого-нибудь далекого, редко видаемого кузена, или никогда не виданного актера и актрису. Это, может быть, единственные головы у нас, мечтающие (и то весьма слабо) о будущих балах, нарядах, любви и замужестве…
Но вот целые ряды других маленьких личностей… Это существенная часть институтского населения. Родные этих детей – губернские и департаментские чиновники, гнущие спину за делом или перед начальником, берущие взятки, чтобы воспитать семейство или откладывающие честную, трудовую копейку; помещики ста душ, а если более, то душ запутанных, заложенных или разоренных; господа в отставке или вдовы с пенсией, учители гимназий, профессора университетов, обремененные семействами. Все люди, то с колеблющимися средствами к жизни, то хотя прочно, но зато скудно обеспеченные… Эта категория небогатых и скромного происхождения девиц, в сравнении с первою категорией, богатых и знатных, – многочисленна.
Большая часть небогатых родителей редко навещает дочерей. Из губерний далеко; хорошо, если случатся дела в Москве, так заодно. Московским дорого: институт не ближний свет кому, например, из Замоскворечья; в ростепель не выдержит не только карета, но и все выдерживающий ванька. Некоторые же родители просто побаиваются института. Иным помещикам, зажившимся на деревенском просторе, от всего жутко: и швейцар слишком важный барин, и залы такие прибранные, и классная дама будто косится… Другого отца запугает сама дочка: на второй год своего курса она придет в немой ужас, если ее на всю залу назовут «дочуркой» и раскроют для нее широкие объятья. Отцы вообще ездят в институт редко и сидят недолго. Кому некогда, кого (приезжего) затянет опекунский совет и московские веселости, да и вообще, сколько я заметила, отцы у нас не охотники вести беседы с десятилетними или даже пятнадцатилетними «дочурками». Больше ездят матери и родственницы. Но эти дамы (если они не богатые или не знатные или не были знакомы прежде с институтскими властями) часто совершают эти поездки как подвиг; величие института внушает им робость. В приемные часы они тихонько наговорятся с дочерьми, отклоняют возможность знакомиться с директрисой и с затруднением приступают к знакомству с классными дамами. Очень, очень немногие родители любят институт искренно. От многих после выпуска случалось мне слышать другое…
Но покуда мы, небогатые девочки, вступаем в первый период нашего воспитания, еще не стушевалось влияние дома, особенности привычек, миниатюрная свобода мнений. Из этой категории небогатых девочек выйдут самые прилежные, едва ли не самые способные к труду; между ними надо искать и самые лучшие характеры. В младенчестве они испытали лишения, но не горькую нужду, убивающую детские силы; они видели нравственные страдания, вытерпели и свою долю страданий. Эти девочки будут у нас самые честные в дружбе, более других самоотверженные; они же сумеют придать нашей жизни разнообразие и прелесть. Это не дело богатых: те большею частью монотонны, тяготятся институтом, это не дело и беднейших.
Вот передо мной и маленькие лица этих беднейших… И сколько, сколько их! Что было исписано просьб под бедными кровлями, что было страха, примут или не примут девочку? Она лишняя; под этою дворянскою кровлей тесно; там, право, нечем жить. Надо выучить дочь; воспитание – кусок хлеба. Вот здесь эти девочки на всевозможных иждивениях… Идет баллотировка, билет не вынулся, мать упала сенатору в ноги. Он принял ее дочь на свой счет. Прелестная крошка крестится и смеется; за ней идет другая, тоже крестится и вынимает счастливый билетик… Дома, верно, отслужат молебен. Дом опустел, но зато на шесть лет какая экономия в расходе! Удастся ли в эти шесть лет хоть раз увидать ребенка?.. Иному вряд ли. Иная мать не соберется приехать и к выпуску; благотворители доставят дочь, а бог милостив, и совсем не привезут: дочери посчастливится остаться в пепиньерках…
Нечего делать себе иллюзий; между дворянскими семьями даже шестой книги, этими «сливками» общества, встречается страшнейшая бедность.
Из этого последнего отдела вспоминаются мне оригинальные личности…
Какие уморительные девочки! Вот две сестры – они выросли в походах своих отцов, пехотинцев-майоров; в их приемах есть что-то военное. Вот сибирячка – у нее дикая фамилия, недаром же она из дальних-дальних тундр; она молча дивуется на все, и на себя, что она тут, и на науку, особенно на немецкого учителя и танцевальную учительницу; она долго будет дивиться и, сидя за черным столом (стол ленивцев), может быть, не раз вспомянет свои тундры. Вот дочери привольных садов Малороссии: одна – это ясно – ничего не видала дальше огорода; она, кажется, глазами ищет огорода в классной комнате; ей душно, перо не хочет выводить французских каракуль; лучше бы полазить по лавкам, как, бывало, по деревьям за грушами… Другая – из тихого Конотопа; она глупенькое, но добросердечное дитя; она будет осклабляться, когда мы, злые, подскажем ей в классе вздор; она будет нашею маленькою шутихой, и мы будем ее любить. Вот какая-то грузинская княжна: крошечная, черненькая, коротко остриженная, волосы торчком стоят на маковке: она ничего не смыслит. Но эта девочка откуда? неужели тоже из «сливок» общества? Нет, невозможно, – это из какой-то такой глуши, где живут первобытные люди, где плохо учит сама мать-природа. У нее привычки великороссийских дикарей… Институт может прийти в ужас. Но зачем отчаиваться? все пройдет, и даже лоск наведется. Вот ее слушают две-три бойкие девочки и смеются. Эти смотрят так независимо, так свободно, что на их упрямые натуры потратится много труда…
О бедные наши будущие дриттки, бедные mauvais sujets! Где вы теперь? Сколько из вас теперь на свете хороших женщин! Добрые существа, как кротко и беспечно простили вы вашему прошлому!..
В одно утро к нам влетели две бабочки, прелестные, в беленьких платьицах, в розовых газовых шарфиках. Они влетели в один особенно пасмурный день: класс смотрел угрюмо, шла арифметика; у черной доски стояли две несчастные, без передников – в наказание; они омывали слезами ряды неправильно изображенных триллионов. Под пером раздраженного учителя выводился нуль; классная дама бранилась. Бабочки присели на скамье. Они говорили на неведомом языке (английскому не учили у нас в то время). Взросшие в холе родного дома, бабочки ничего не знали. Бедненькие! Наука показалась им чудовищем, прикосновение грубых одежд помяло им крылышки. Вместо запаха цветов, в столовой (время было постное) встретила их атмосфера копченой селедки. Не прошло и полугода, как наши бабочки улетели обратно. Их взяли потому, что они буквально ничего не могли есть…
Впрочем, такие эфемериды бывали у нас редки. Вообще двенадцатилетним детям, избалованным, в кружевах и бархате и уже светским от пеленок, не место в казенных заведениях; они не выживут. Наш же институт шестнадцать лет тому назад был далеко не роскошен. Он был даже беден в сравнении с другими заведениями. Александринский (впоследствии Николаевский при Воспитательном доме) был перед нашим настоящий дворец, и отделкой помещения, в хозяйственною частью. Потом здание этого института было обращено в кадетский корпус. Мне удалось быть там. Великолепные коридоры, паркетные полы, бронза… Невольно навертывался вопрос: к чему?..
Признаюсь, мне теперь с удовольствием вспоминается тогдашний небогатый вид нашего института. Из всех зал только одна большая приемная была отделана под мрамор с великолепным плафоном, и только она и другая приемная, маленькая, имела паркетные полы. Во всем остальном, громадном здании, полы были или каменные, или крашеные. Зеленые скамейки в классах, подновляемые по временам, были, право, удобны. (При мне, однако, уже их заменили дубовыми, дорогими.) Как залы, так и классы освещались лампами незатейливого фасона; в дортуарах висели с потолка ночники, в виде лодочек. В дортуарах же стояли простые умывальные столы, медные, но удобные; дортуарные служанки приносили воду в жестяных ведрах. Конечно, это патриархально в сравнении с залами, где бронзовые бассейны в миг наполняются водою, но за то не стоило десятков тысяч. Также не было у нас подъемных столов, волшебством подающих блюда из кухни; блюда попросту подавались в кухонное окошко поваром на руки служанок, разносивших кушанье по рефектуару. Конечно, тут не было волшебства, но зато руки опять не стоили десятка тысяч, если не более. За исключением отвратительных каморок, где помещались некоторые наши служанки, в остальном мало что требовало радикальных перемен. Мне кажется, для казенного заведения прежней скромной обстановки было очень достаточно.
У нас могла бы быть другая роскошь, недорогая, но необходимая: библиотека, о которой не было у нас и намека, и хотя бы небольшая коллекция гравюр по стенам. В дортуаре могли бы быть допущены зеркала; мы причесывались перед осколками, привезенными из дома. Наконец – но, быть может, такая мысль преступна – если бы решились отступить хотя немножко от идеала казенной форменности, институт, быть может, оправдал бы для нас название «родного приюта». Не будь этого моря желтой штукатурки, – если бы были стены зеленые, голубые, хоть полосатые, какие угодно, нам было бы как-то теплее, уютнее, глазам нашим было бы веселее. Это, быть может, глупо, но дети – птицы; птицам недаром втыкают в клетку зеленые ветки или красный лоскут… Если бы допустили в дортуарах неслыханную роскошь: свой домашний образок над изголовьем или портрет матери; свои пяльцы где-нибудь в углу, цветочные горшки по окнам, хотя бы мы там вздумали сажать тыкву. Нет сомнения, такие крошечные уступки личным вкусам, проявлениям личной свободы, привязали бы нас к институтам несравненно больше чем роскошь мраморных лестниц. Полагаю, что роскошь в заведениях имеет отчасти целью привязать нас к ним; ведь там все делается для нас…
Но если чем был точно плох институт, так это пищей. Бабочки наши улетели недаром. Будь мы все бабочки, мы бы также разлетелись. Не то чтобы порции были малы, не то чтобы стол был слишком прост, – у нас готовили скверно. Часто и сама провизия никуда не годилась. Бывали, конечно, исключения, но редко. Я даже радовалась посту, потому что на столе не являлось мясо. Исключая невыразимых груздей, остальное в постные дни было кое-как съедомо. Можно было по крайней мере вдоволь начиниться опятками и клюквенным киселем, или киселем черничным. От последнего весь институт ходил сутки с черными ртами, но это не важность. Зато скоромный стол! Мясо синеватое, жесткое, скорее рваное, чем резаное, печенка под рубленым легким, такого вида на блюде, что и помыслить невозможно; какой-то крупеник, твердо сваленный, часто с горьким маслом; летом творог, редко не горький; каша с рубленым яйцом, холодная, без признаков масла, какую дают индейкам… Стол наш был чрезвычайно разнообразен. Мы не понимали, зачем это разнообразие. Школьничий желудок неприхотлив, предпочитает пищу несложную, простую, лишь было бы вдоволь и вкусно. Этого-то и не было. Часто мы вставали из-за стола, съевши только кусок хлеба; оловянные, тусклые и уже слишком некрасивые блюда – относились нетронутыми.
Впрочем, иные воспитанницы ели даже всласть и просили прибавки. Они, казалось, никогда не ели подобных прелестей. Мы удивлялись им, а потом, с горя, приступали к тому же… Иногда голод наталкивал нас на поступки не совсем дворянские. Мы крали. За нашим столом (первого отделения старшего класса), на конце, ставили пробную порцию кушанья, на случаи приезда членов. Девицы вольнодумно начали находить, что образчики лучше. И если член не приезжал, образчик съедался, подмененный на собственную порцию… Вообще мы были весьма кротки, не приносили жалоб, и даже любили своего эконома. Этот эконом был веселый старик и, что называется, балагур. Приходя в столовую, он садился с нами, называл всех столбовыми барышнями, помещицами и сам расхваливал свои блюда. Мы у него просили пирожков и картофеля. Пирожки являлись, но скверные (кроме слоеных по воскресеньям), и картофель. Картофель мы ели, остальным нагружали наши громадные, классным дамам неведомые карманы. Туда же присоединялся черный хлеб, намазанный маслом. Это масло мы сбивали на тарелках из распущенного, подбавив квасу. Черные тартинки тайком подсушивались в дортуарной печке (что иногда сопровождалось угарным чадом), и полдник или таинственный ужин выходил чудесный.
Полдника мы буквально алкали. С утренней булки и чая, т. е. с восьми часов, иногда не пообедав, или проглотив что-нибудь противное, что еще хуже, мы не знали, как дожить до пяти часов вечера. Тут, едва выходил учитель, мы стаей налетали на классную служанку. Она вносила булки. Эти булки (половина хлеба в 5 коп. серебром) съедались мгновенно. Горе той, которая имела неосторожность спросить всю свою булку в утренний завтрак! Она не находила сострадания. Известно, что такое эгоизм голодного: возьмите историю кораблекрушений и других тому подобных несчастий.
Таковы были печали (печали желудка, конечно, но все же уважительные), которые встретили нас при начале нашего поприща…
Маленький класс наполнился; им перешли заведовать те классные дамы, воспитанницы которых только что были выпущены. Учители проэкзаменовали по отделениям, сочли баллы, и сделали пересадку. Мы разместились. Кузину Вареньку посадили третьей: выше ее были две девицы, оставшиеся в маленьких от прежнего четвертого отделения. Варенька была в восторге. Она потащила на свою высокую скамейку свои книжки, беленькие тетрадки, образок чтобы поставить его в углу пюпитра и целовать перед уроком. Я пошла водворять ее. Но увидав пюпитр, мы обе вскрикнули. Класс сбежался. На закраине пюпитра была огромная дыра; в нее входил целый кулак…
Поверит ли кто-нибудь, чтоб эта дыра была проедена не мышами? Ее проела девица, ковыряя дерево концом булавки. Щепочки легко отделяются, их глотать удобно. Эта девица объела точно также стол в лазарете, – в лазарете, куда утром и вечером ездил доктор, где средним числом бывает не более шести-семи больных, в надзор над ними, казалось, был незатруднителен… Обглоданный край стола мы видели собственными глазами…
Еда дряни царствовала при мне во всей силе. Надо отдать справедливость нашим классным дамам: они преследовали ее жестоко. Но, вероятно, против такого зла мало было одних наказаний… Странно, что никто из нас до института не пробовал ничего подобного. Эта еда – изобретение чисто институтское. Всего страннее, что вкус к дряни не прививается от одного подражания: можно один раз проглотить клочок кожаного переплета, а на другой выплюнуть; нет, эта еда – неудержимая зараза, страсть, против которой бессильны даже угрозы розог… Печатная бумага, глина, мел (его тоже толкли и нюхали как табак), уголь, и в особенности грифель – все у нас поглощалось. От грифелей, длиною в четверть, к концу месяца после выдачи, часто не оставалось ничего. Лакомки брали у неевших, и отламывали углы своих грифельных досок. Ели просто для еды, потому что находили вкусными; очень немногие с целью приобресть интересную бледность. Кокетство пришло к нам позднее, едва ли не перед выпуском, а есть мы принялись с первого дня. Страшно вспомнить, какие были между нами зеленые лица. Страшно вспомнить, как умерла одна – ее задушил грифель… Да и вообще цветущее здоровье было у нас редкостью. Невнимание ли классных дам, дурные ли корсеты, только у нас вышло множество кривобоких. Иные, розовые и толстенькие девочки, принимались расти болезненно и вяло, у многих к выпуску от когда-то пышных волос едва оставались жиденькие пряди. Мы дурнели и худели. Причин и без дряни было много. Иных буквально сжимал и заедал страх, на других нападало отчаяние. Одна девушка, особенно мрачного характера, пила у нас уксус. Она тихонько докупала бутылки самого крепкого и пила стаканами. Ей хотелось умереть, потому что в институте было ей тошно, да и на свете, должно быть, везде было ей тошно…. Помню, ее пример увлекал. Она еще выдумала, что если есть много апельсинных и лимонных зерен, то скоро умрешь. Апельсинов родные привозили мало, но попробовать хотелось. Даже и веселые девочки пробовали…. Для юности в ранней смерти есть что-то заманчивое. Умереть в шестнадцать лет, – это так интересно! Институтская церковь полна; подруги, рыдая, поют панихиду; злая классная дама стоит и кается, а сама лежишь в гробу, в цветах, красавицей… Лежишь и глазком выглядываешь, что такое кругом…. А там уже опять как-нибудь жива, но дома, или где-то на земле….
Мы мечтали, а лакомая дрянь помогала не на шутку. И ели ее вовсе не дуры-девочки, ели и умные. Месяц спустя после приезда Варя, даже моя Варя, лизнула запретных конфеток. Она сделала мешок из бумаги, набила его толченым мелом и стала купать в нем носик как в листьях розы. Слава Богу, впрочем, она скоро одумалась. Через неделю ей показалось это глупо. За ней бросили еще две-три. Их поймала пепиньерка, да еще пригрозила нам одною неизбежною бедою…
Эта беда чуялась нам как-то грозно и неумолимо. Она должна была прийти к нам скоро, в образе нашей классной дамы, Анны Степановны. Анна Степановна была больна; она заболела еще до выпуска своего старшего отделения, после которого по очереди должна была достаться нам, четвертому отделению. Покуда ее заменяла у нас пепиньерка, дежуря поденно с другою нашею классною дамой, Вильгельминой Ивановной. Я была в дортуаре Вильгельмины Ивановны. Дортуар Анны Степановны ожидал своей начальницы. Дортуар – это половина отделения, и заведующая им классная дама имеет над ним непосредственную власть. Нравственность девиц, их занятия, их здоровье состоят на особой ответственности дамы дортуара. Можно сказать, что от этой ближайшей начальницы зависит вся судьба девочки.
Нам много шептали об Анне Степановне. Нельзя вообразить, какой сердечный трепет навели эти рассказы на тех особенно, кто должен был поступить в ее дортуар. Варенька попала туда. Она очень приуныла. Вообще, выражение ее лица неузнаваемо изменилось в короткое время… Наконец, в одно утро, нам объявили, что Анна Степановна вступает в должность. Она заняла свою комнату подле дортуара, до тех пор пустую, и запертая дверь ее внушала нам таинственный ужас…
После вечерней молитвы эта дверь отворилась. Там видна была синенькая мебель, стол да этажерки, ничего особенного, но у многих девиц побелели губы. Мы ждали, стоя в рядах. Из комнаты приносился острый запах какого-то лекарства. Что-то шевельнулось… и наконец тихо на пороге показалась фигура в темном капоте. Лицо ее мы не могли, не смели рассмотреть. Фигура подошла. В руках ее был список ее дортуара. Она вызывала поименно своих, взглядывала им в глаза, потом наклонением головы возвращала каждую девицу на ее место. Губы ее были сжаты, щеки желчного цвета, блестящие карие глаза смотрели исподлобья, хотя были посажены так, что могли смотреть прямо. Кончив, она отошла на два шага, с неудавшимся величием, и произнесла: «je verrai voire condhaite» (Я буду следить за вашим поведением (фр.).
Общий книксен, и двери затворились.
Впечатление было произведено…
Не могу иначе назвать это время, как «похоронным». Выражение неверно, но оно явилось тогда в уме, и удержалось в нем на веки. Точно мы кого-то похоронили, или нас похоронили… В глубине прошедшего мелькают мрачные дни и наши убитые страхом лица. Страх напал на богатых и бедных, на робких и строптивых, он уравнял всех, и в общем бедствии мы стали подавать друг другу руку. Вот начало нашей дружбы: она расцвела среди гонений…
Детство все преувеличивает, но тут желание гнать нас было очевидно. Мы видели, что Анна Степановна торжествовала, когда весь класс сидел, не смея возвесть очи; она, конечно, должна была понимать, что делалось в это время с нашими сердцами и внутренностями…
Канцелярия. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.
Она, конечно, нас не била, и не бог весть как бранила. Но ее физиономия и тон имели способность уничтожающую. Довольно было этой физиономии, чтоб убить в зародыше самое малое покушение на шалость. Мы и не шалили. Не помню, чтобы в продолжение этих первых месяцев в институте кто-нибудь у нас точно провинился. Тем не менее Анна Степановна так и сыпала наказаниями.
Мы думали, нет злее женщины в мире. Позднее мы поняли ее иначе, но еще хуже. Приговоры наши были страшны…
Анна Степановна доводила нас в особенности «тишиной». Чуть шорох или смех в классе, и виновная уже у черной доски; слово в оправдание, и она без передника; шепот неудовольствия – и весь класс «debout» (стоя (фр.) или без обеда. Начинается грозный разбор; Анна Степановна не возвышает голоса; она больше глядит и ждет… о, лучше бы, кажется, умереть!..
Чтобы соблюсти ту тишину, которой хотелось Анне Степановне, надо было родиться истуканом. Особенно было тяжко, когда мы ложились спать: тут-то бы и хотелось поговорить друг с другом, на просторе. Рекреаций мы не любили; во время рекреаций надо непременно ходить, и все спешат выучить урок к послеобеденным или завтрашним «переменам»; да тут же и она, сама Анна Степановна; не побранишь ее, не облегчишь сердца. Но в дортуаре ужасно… Рядом она отворила свою дверь и ждет, чтобы в секунду водворилось гробовое безмолвие. Раз мы засмеялись, раздевая друг друга… Тогда, как стоял ряд, так его и повалили на колени, как карточных солдатиков. На коленях простояли до полуночи…
Страх наш начал принимать колорит фантастический. Кто, например, видел тень Анны Степановны, блуждавшую по дортуару среди ночного мрака; кто утверждал, что Анну Степановну посещают видения, три черные кошки. Варенька не верила, но трусила не хуже других; она просто терялась. Раз она уже совсем легла в постель, когда Анна Степановна кликнула ее взять шпильки и булавки, чтобы раздать девицам. Варенька влетела к ней как была, даже без башмаков. Это не помешало, однако, Вареньке сделать книксен…
Другие отделения нам не завидовали, конечно. У них житье было гораздо лучше, и если подчас не доставало справедливости в толку, за то не было такого удушья. Их классные дамы ставили нас в пример своим, но не пускались в рабское подражание. Быть может, сердца их были даже тронуты зрелищем наших бедствий, но ни одна не решилась на дружеский совет Анне Степановне. Дружбы между нашими классными дамами не было; случалась скорее вражда. В свободные от дежурства дни они не собирались между собою потолковать о живом мире, который не совсем был заперт от их глаз. Дежуря через день, каждая дама половину года была почти свободна. У иных было даже большое знакомство, а молодые не лишались удовольствия поплясать где-нибудь на бале… Но ни внешний мир, ни институтские интересы, ничто не сближало наших дам; большая часть их предпочитала жить особняком, избегая интимности, держалась как-то странно настороже и будто сберегая друг против друга камень за пазухой…
Зачем? Ни зависть, ни самолюбие, ни честолюбие, ничто не могло служить тому побудительною причиной. Классной даме нечем было отличиться; классной даме не было повышений, ни каких-нибудь особенных льгот; наконец, сколько я помню, ни одна из них не заискивала и любви директрисы. Любовь эта могла быть только бесплодною, значит, не о чем было хлопотать; к тому же они хорошо знали директрису, равнодушную к ним до некоторого презрения…
Не думаю также, чтобы наши классные дамы скрытничали друг от друга из необходимости скрытничать. Поведение их было безукоризненно, и если кто из нас увлекался впоследствии, тот не мог сослаться на пример своих классных дам. Бывали, пожалуй, у них уклонения, но или пустые, или глупые… Чего-нибудь более серьезного институтские стены не видали в мое время… И наконец, наши классные дамы были большею частию или стары, или дурны.
Однако они все же не ладили. Нам, конечно, до этого не было никакого дела, лишь бы с нами обходились милостиво. Но так как все они, в большей или меньшей мере, держались системы безгласия, делали из мухи слова или пребывали в олимпийской недоступности, то немногие и были любимы, и то немногими…
Наша неприязнь, должно быть, мало их огорчала. Наши классные дамы были только институтские дамы, а не воспитательницы. Ни одна, сколько я помню их теперь, не поступила к нам по призванию. С небольшими исключениями все даже были очень плохо образованны; были даже крайне тупоумные дамы. Такие ломили, как говорится, зря, наказывали нынче за то, что спускали вчера, сбивали с толку, и получали название индюшек за выражение, которое принимали их лица в минуту гнева. Детство чутко; их мало боялись, и под надзором этих дам выросли более независимые характеры. В пятом отделении была классная дама кислейшей наружности и кислейшего характера. Пятнадцать лет она подвизалась на своем поприще. Быть может, когда-нибудь она была образованна, но с тех пор как выучилась, не сочла нужным идти вперед ни для себя, ни для своих учениц, которым помощь классных дам при повторении или приготовлении уроков была бы необходима. Может быть, прежде она усердно исполняла свою обязанность; умная и справедливая, может быть, сформировала несколько твердых и честных характеров, и наказания ее точно приносили пользу. И теперь еще можно было видеть, что она бывала когда-то справедлива. Но дама соскучилась. За стенами института у нее не было знакомой души. Она обленилась и устала. Она, видимо, только дотягивала до полного пансиона, чтоб уйти, может быть, в монастырь, и доживать на покое. Лицо ее наводило скуку. Она не придиралась к пустякам, но дежурила как-то нетерпеливо, чтобы поскорее отделаться от дневной работы. Ее уважали, но и только.
Ее сослуживицу по отделению тоже уважали. Она была еще молода и воспитанна, но какая-то сухость сердца или нежелание немножко сблизиться с нами, ставили между нею и ученицами постоянную преграду. Ее наставления не трогали. «Дортуар» был для нее что-то постороннее, содержимое в порядке и вежливо, уважаемое в массе, но не более. И то уже было хорошо.
В третьем отделении, у старших, дежурили две противоположности: шестидесятилетняя старуха и двадцатипятилетняя молодая девушка. Старуха давно получила полный пансион и неизвестно зачем заживала в институте чужое место. Она только брюзжала. Вставать в семь часов и быть на вытяжке до восьми вечера было ей не по силам. Когда она вела парами своих, быстрые шаги девиц подкашивали ее выплывавшую впереди фигуру. Над нею глупо школьничали, наливали воды в ридикюль и чуть не прикалывали бумажек. Старуха часто хворала. Другая, молодая, была очень хорошенькая девушка, очень бедная, и только начинала свою карьеру. Ей гораздо больше хотелось выйти замуж. Эти невинные и очень понятные хлопоты продолжались все шесть лет, покуда я была в институте. Мне грустно о ней вспомнить… Она правила дортуаром скрепя сердце, и была аккуратна, чтобы не потерять места. Собственные интересы заметно ее мучили. На дортуар свой она глядела немного желчно, – она видела в нем существа, которые скоро будут на свободе, и иногда немножко свысока, чтоб отвести душу хоть в проявлении власти…
Наша Вильгельмина Ивановна была добрая женщина, но немного ограниченная. Она часто ни с того ни с сего принималась злобствовать вроде Анны Степановны, что вовсе не шло к ее смиренной физиономии. Но это сходило с нее скоро. Она, кажется, сама недоумевала, зачем надо быть строгою, и не умела отвязаться от этой будто бы неизбежности. У нее и выражение, и манеры были какие-то свои домашние, а не казенные. Иногда она была вовсе мила, вовсе запросто, и какое-то материнское чувство проглядывало в ее глазах. Заболевшая девица была для Вильгельмины Ивановны не субъект, который надо отправить в лазарет, и только; Вильгельмина Ивановна страдала за нее и тормошилась, как бы скорее помочь. В дортуаре своем она имела фавориток. Мы прощали ей это пристрастие, потому что в нем было безотчетное искреннее чувство, без всякой тени какой-нибудь корыстной причины. Фавориток своих она даже баловала. Она зазывала их к себе в комнату, и там, за перегородкой, у постели, где потеплее и потеснее, стоял самовар и разные сласти. Она любила покормить как барыня-помещица. Тут девушки болтали всякий вздор; из памяти исчезали желтые стены, разница лет и положения. Они даже целовали Вильгельмину Ивановну. На ее глазах бывали слезы…
Но Вильгельмина Ивановна была единственная. К сожалению, впечатление ее ласки скоро проходило, – и не далее, как на другой же день, когда Вильгельмина Ивановна, вся пунцовая, принималась кричать на весь класс и решительно без цели…
А наша Анна Степановна? А другие, и еще другие?..
Да что же было с них и взыскивать? Разве добрая воля привела их под институтскую кровлю? Всех привела нужда. Конечно, очень многие свыклись потом с своею профессией, даже привязались к ней, но все равно исполняли ее дурно. Трудно было и выполнять ее иначе. Двадцать лет назад не очень многие понимали, что такое должно быть воспитание… В казенных заведениях отсталые понятия передавались из рода в род; вновь поступавшие классные дамы принимали эти понятия совсем готовыми и усваивали их легко, потому что они были удобны. Чинность, безгласие, наружная добропорядочность и повиновение во что бы то ни стало – вот качества, которых можно добиться от подчиненных только вооруженною силой. Быть вооруженным очень приятно, и к тому же, добиваясь таких результатов, власть остается спокойна и умом, и сердцем.
Не думаю, чтоб учредители института имели цель образовать в нас только эти качества. Отчасти, может быть, но не в такой уродливой мере. Классные дамы злоупотребляли, директриса не доглядывала. Никто не чувствовал потребности изменений в этой мертвой среде, никто не искал лучшего.
Одна любовь творит чудеса, живит то, что ее окружает; она одна, лучше всякого мудреца, умеет найти, что нужно: то простое слово, тот склад отношений, которые воспитывают молодую душу в добре и свободе. Но требовать любви от классных дам было бы нелепо. Где эти обширные сердца с запасом любви на шестьдесят человек или, по меньшей мере, на тридцать (то есть на воспитанниц всего дортуара)? За неимением таких в природе институтское начальство, конечно, их не ищет.
Если это было невозможно, то было возможно другое: женщина, человечески образованная, понимающая, что придирчивость только роняет кредит власти, а преследование мелочей глупо, – понимающая, одним словом, что власть страшно обязывает, а не дается для самоупоения, – женщина пытливая, для которой любопытно видеть рост детского ума и приятно направлять его во имя здравого смысла.
Но где же двадцать лет тому назад были у нас такие женщины-воспитательницы по праву и по призванию? Много ли их и теперь?..
Черты женщин любящих и женщин умных попадались и между нашими классными дамами, но только черты микроскопические. У них недоставало главного: чувства долга, который сказал бы им, что пора оставить заведение, когда ослабели нравственные и физические силы, или когда каждый собственный шаг ясно говорит им, что они не способны занимать свое место.
Но до такого самопознания, до такого самоотвержения общество не доросло и теперь. Классные дамы наши были не виноваты.
Теперь, пожив на свете, мы, воспитанницы, прощаем им многое, почти все, объясняя их нравы духом времени. Но тогда мы решительно не прощали… Злоба наша изливалась втихомолку, но тем не менее, очень красноречиво. Имена и фамилии классных дам перевертывались на все лады. Эпитеты сыпались, и vilaine было самое милостивое.
Узнала ли об этом впоследствии хоть одна классная дама, так, из откровенного разговора с бывшею воспитанницей? Не думаю. Мы выросли такою трусливою мелкотой, а там попали в общество, так мало радеющее о правде, что, конечно, ни одна из нас не отваживалась на слово правды, как бы оно ни было полезно, и даже в том случае, когда сказать это слово можно было с полною безопасностью.
Вспоминается мне наше первое говение вместе. Никогда, в последние годы курса, ни потом, дома, я не была под влиянием такого особенного чувства. Почти весь класс испытывал то же. Серьезный ли характер нашего законоучителя, непривычка ли ответственности за себя (потому что дома казалось еще, что за нас перед Богом отвечали родные), или мрак и грусть, напущенные Анной Степановной, были тому причиной, – не знаю; но только мы каялись, будто совершили десятки преступлений. Мы даже старались не говорить друг с другом, чтоб не нагрешить еще больше. Нам казалось, наконец, что мы виноваты перед целым миром. Мысленно мы просили прощения у родных; между собой сводили итоги, от похищенной булавки до обидного слова. Но одно затруднение для нашей совести было непреодолимо. Мы не знали, как нам быть с Анной Степановной. Совесть требовала найти в себе преступление и против Анны Степановны, а между тем искать его как-то не хотелось, и стыд нас брал, что оно не находилось, стыд за закоснелость души, потому что все же мы, верно, были виноваты перед Анной Степановной… Надо призваться ей, но в чем, – и неужели признаться?.. В таких мучениях приходил и день исповеди, и час исповеди.
Раздавался церковный колокол. Все мы инстинктивно, в раз, поднимались с места. Не помню, чтобы кто-нибудь пожелал отстать и явиться одною с своим «pardonnez-moi» перед Анной Степановной. Тесною толпой подходили мы к ее двери, имея самых недовольных и притесненных внутри кружка, где не так видно. Объявить о нашем приходе избиралась девица, что ни есть невиннее и безответнее из всего дортуара.
Анна Степановна выходила. «Pardonnez-nous», раздавалось глухо в кружке. «Que Dieu vous pardonne, mesdemoiselles». И если ничего больше, какое счастие! Но в этом счастии мы не смели признаться и самим себе. Мы только робко обращали тыл и не озираясь, чтобы как-нибудь не кликнули.
Коллективное раскаяние и прощение снимали тяжесть с души. Значит, так должно было быть, если так было.
Позднее, к пятнадцати годам, молитва наша стала мечтательнее, или восторженнее; раскаяние и прощение «врагу» не просилось наружу из сердца, а как-то застенчиво оставалось в глубине его; взамен слов явились слезы, но нервные, горячие, неопределенные. Мы пролили их много перед образом Спасителя, в церкви, покуда, бывало, стоишь и ждешь своей очереди; а там, у противоположного окна, за ширмами, где священник, идет тихая исповедь.
К шестнадцати годам, многое изменилось. «Pardon» у дверей стал почти простым обрядом, и мурашки уже не бегали по плечам от страха погони. Наконец, молитва приняла совсем институтскую складку. Перед исповедью мы стали записывать грехи на бумажке и твердить, как уроки. «Mesdames, дайте списать грешков, я свои забыла», слышалось со всех сторон, в то время как благовестил колокол.
Это было искренно и, быть может, даже очень трогательно; но, мне кажется, в детстве было лучше. В детстве, кроме времени говения, бывали иногда просто случаи, которые вызывали такую потребность раскаяния, на какую уже неспособен немного взрослый человек. Вот один случай: свое покаяние рассказывала нам потом наша первая ученица, оставшаяся от предыдущего класса.
Раз, в институте, произошло следующее. Был большой праздник, Рождество Христово, и, по правилу заведения, институтки проводили его в дортуарах. Три дня в дортуаре и полнейшая свобода – какое счастие может с этим сравниться? Было шумно, лакомств было вволю; к довершению прелести вечера и рассказы нашлись самые святочные. Только неделю перед тем умерла в институте одна старая дама, бывшая распорядительница в классе вышиванья. Она давно не служила, и жила у дочери, своей преемницы по классу. Покойницу отпевали в институтской церкви, и, говорят, мертвая была очень страшна. Так эту-то покойницу видели накануне Рождества. Она прошла по хорам церкви, оттуда по хорам приемной залы и там во что-то обернулась. Кто видел, еще не знали, но происшествие комментировалось под звуки приятного щелканья кедровых орешков во всех углах дортуара. Беседа лилась, когда совсем неожиданно ее прервали.
– Par paires, ко всенощной, – скомандовала, входя, классная дама.
А сказали, что будет заутреня, в шесть часов утра. Неохотно все встали и пошли молиться.
Молились что-то долго, будто гораздо дольше обыкновенного. Дьячок уныло тянул на клиросе, свечи что-то плохо горели; в лазарете били часы протяжно, долго… а всенощная была только в половине.
Вдруг раздался крик, страшный, неестественный, и кто-то в дальних рядах грянулся об пол. Секунда тишины, и закричали все. Все заволновалось, заметалось, ряды бросились на ряды, толкаясь, сшибая с ног, падая грудами, задыхаясь в ужасе… Бледные лица, растерянные башмаки, крики: «пожар, покойница, светопреставление!» Кто-то влетел на клирос, хочет в алтарь, дьячок хватает ее за косички; кто-то со стоном бьется под десятками тел; швейцары держат дверь у входа в залу, там приезжие. Побежали за директрисой, из лазарета тащат воду. Вышел священник с крестом: «Мир вам, мир вам». Понемногу все утихают, становятся в ряды, и тихо, еще дрожа, идут прикладываться к Евангелию.
Но что ж было такое, что видели? Да ничего: просто, одной ученице сделалось дурно… Панический страх.
Всенощная кончилась, и пошли ужинать. Тут уже все, опомнясь, понурили головы. Никто не тронул ни одного блюда. Молчание в столовой было торжественное, все чего-то ждали. Наконец в дверях засуетился эконом и полицеймейстер. Зашелестело платье, и директриса вошла.
На лавках встают; тишина мертвая.
– Кто осмелится сказать хоть слово своим родным о том, что произошло, тот будет высечен, говорит директриса громовым голосом, по-французски. – С завтрашнего дня все по классам, и берегитесь у меня, вы!
Еще грозный жест, и она удаляется.
Институтские стены тонки, и тайна вылетела. Родные смеялись, как обыкновенно смеются над стадом баранов. Но «беда», в глубине институтских сердец, была понята иначе, по крайней мере очень многими. Что там, «la verge»? Что даже в самое торчанье в пустых классах, за уроком, в святки? Дело не в том. Вина перед Богом, искушение, и грех-то, грех-то какой, еще в церкви!
Многие наложили на себя обеты, кто земные поклоны, кто воздержание от страстей (то есть брани на классную даму). Ученица, которая рассказывала нам это происшествие, каялась тоже. Она отверглась земных благ. Ей к святкам прислали крымских яблок. Она сложила их в передних, и, как преступница и недостойная, отнесла истопнику, даже избегая благодарного взора.
…Первый светлый праздник в институте я провела очень скучно. Родные мои были далеко, Варенькины – тоже. И другим, сколько я помню, было не веселее. Все мы смотрели какими-то одичалыми птицами, еще не спевшимися друг с другом, сидели по дортуарам и ничего не делали. В дортуаре Анны Степановны было несносно. Хотя по закону была позволена полная свобода, но там никто ею не пользовался. Дверь Анны Степановны стояла настежь, и она слышала все, до невинного желания яйца вкрутую. Зная это, воспитанницы ее предпочитали сидеть тихонько, каждая на своем табурете у кровати, и рыться в каких-нибудь пустячках, то есть лентах, коробочках в перстеньках, привезенных из дому, и грустно ненужных теперь.
У вас, то есть у Вильгельмины Ивановны сравнительно было гораздо веселее. Она затворяла свои двери, и мы праздновали на покое. Всякий делал что хотел. Иные, находя что лучшее дело – сон, спали целый день без просыпу. Другие, усевшись по окнам, глазели на двор, пустой, облитый весенним солнцем, и слушали далекий праздничный трезвон; третьи, от нечего делать, только ели. Многие счастливицы ждали, что к вечеру приедут их родные. В ожидании шли кое-какие разговоры…
Только не о родных, не о недавней жизни дома. Странно, я не помню, чтобы мы расспрашивали друг у друга о своих биографиях, о биографиях наших семейств, чтоб это особенно вас интересовало. Всю прежнюю жизнь мы больше оставляли про себя, и если память о ней вырывалась вслух, то только отрывками. Самое чувство прежних привязанностей как-то уходило в глубь души, смятое, в день ото дня у многих теряло свою живучесть. Оно глохло, как глохнет вьющееся растение, которому не к чему лепиться… Притом молодость, а особенно детство любит жить не прошедшим, и не тем, чего уже нет на глазах, а настоящим, какое бы оно ни было… Мы и говорили о настоящем.
Помню, как один раз зашла к нам Варенька. Без книг, без дела, как-то разом лишившись всех прежних способностей веселить и веселиться, она бродила, не зная, куда девать руки. Мы предложили ей кулича и загадку, предмет нашего разговора.
– Варенька, что такое: S-deux, D-huit, B-trois? Mesdames, qu’est que c’est M. P. R?
– Laissezmoi en repos, – отвечала одна девица, уткнув нос в подушку, и почему-то обиженная. Последняя загадка относилась к первоначальным буквам ее имени и фамилии.
– Варенька, отгадывай же!
Варенька качала годовой.
– Mais ce sont les premières beautés de l’institut! Mesdames, quelle bonté, elle ne sait pas ce que c’est Sdeux!
Дортуар. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.
– Что же тут разгадывать – метки белья! – возразила Варенька. – S – значит дортуар Анны Степановны, deux – номер белья mademoiselle…. я не знаю кого….
– Mesdames, а кто разгадает, что такое t. d. t.? – спросила кто-то. – Пари, что никто!
Вареньке казалось это дико, а мы занимались загадками целый день. Я ломала голову над мудреным шифром, но к ночи разгадала.
– Mesdames, «tablier de tique!» закричала я на весь дортуар, так что на меня даже шикнули….
Страшное слово: «Тиковый» передник было самое крайнее наказание в институте. Кто один раз его заслужил, на том лежала печать отвержения. Об этом переднике говорили только шепотом. Даже сама Анна Степановна редко грозила нам этою казнью. Говорили нам, что будто бы в одном из предыдущих выпусков надели тиковый передник на девушку, уже кончавшую курс. Она будто бы написала пасквиль, где была обругана классная дама и весь институт. Не знаю, была ли это правда, – дело было давно, и может быть, дошло до нас в неточном виде. Мысль о t. d. t. не дала мне заснуть ночи….
Наши праздничные заседания прерывались прогулками. Так как в начале апреля в саду бывало еще сыро, то вас водили гулять по двору. Это делалось иногда и зимою, в теплые дни. Кругом двора был узкий деревянный тротуар, по которому можно было идти только парами. Мы этого гулянья терпеть не могли, по крайней мере большинство из нас. За чугунною решеткой бывало иного приманок. Разносчики и булочники сбирались там, ожидая практики. Торговля происходила на ходу. Покуда мы бесконечным хвостом извивались вдоль решетки, пятачки и гривенники летели за нее, и проворные руки подхватывали оттуда серые свертки бумаги, иногда о чем-нибудь несъедобным… Но большинство институток предпочитало спокойный способ покупки чрез верных служительниц дортуара.
Костюм наш во время этих гуляний был уморительный. Кожаные ботинки невероятной толщины, величины и вида; темные салопчики солдатского сукна и фасона, как у богаделенок; коленкоровые шляпки в виде гриба, с огромным коленкоровым махром на маковке. Если бы не этот махор, мы были бы совсем галки. Потом нам сшили что-то поизящнее. И вообще, год от году, при мне все наши туалеты стали заметно улучшаться, и будничные, и праздничные, и бальные…. Ведь у нас тоже бывали балы.
Оркестр, всегда великолепный, и ни одного кавалера, разве-разве два-три кадета из неранжированной роты. Перед выпуском, впрочем, появилось несколько кадетов постарше, из семейства коротко знакомого директрисе. Мы обожали их всех, без исключения. Протанцевать с этою редкостью было счастьем великим. Нетанцующие посетители – три-четыре маменьки, изредка учитель с своими детьми, родственники директрисы, – вот и все. Бальные угощения открывались шоколадом. Два служителя несли его в ведрах, продетых на палки, и в боковой заде шоколад разливался по чашкам. Он был скверный; немногие пили с удовольствием. Пило особенно маленькое шестое отделение, скакавшее всегда свои кадрили в дальнем уголку залы. Вообще мы, маленькие предоставляли более обширное поприще старшему классу….
Помню, что на первом балу у Вареньки случилось огорчение. У нее не было крахмаленной юбки. Казна не отпускала тогда ничего подобного для бального туалета ученицы. Надо было запастись дома или сшить свою. Варенька не сделала ни того, ни другого. Она вошла в залу в виде белой дудочки, перевязанной красною ленточкой. Вошла, и поскорее в уголок. Там было много таких дудочек. Из них одна, самая тоненькая и маленькая, лицом черномазая с торчком волос на маковке, невозмутимо ела свою долю cochonneries. Это была наша грузинская княжна.
– Qu’est ce que c’est, eh, qu’est ce que c’est? вдруг послышался голос инспектрисы, и рука ее затеребила княжну за пояс.
Кругом привстали.
– Eh, les petites, estce que l’on vient ainsi?… Eh, la Gribkoff, mais allez donc mettre des jupes…. eh, des jupes, les petites. Allez donc!
И она удалилась вперевалку. Девочки спрыгнули с мест, и сунулись было в смежную залу, ища юбок.
– Restez, – воротила их сухо классная дама.
Варенька встала тоже, чтоб уйти совсем в дортуар, но ей не позволили….
В этом запросе несуществовавших юбок – вся наша инспектриса. Вообще, я не знаю, что она у нас делала. Хозяйственная часть не лежала на ее ответственности; верховная власть сосредоточивалась в директрисе; за ученьем смотрел инспектор классов; за моралью смотрели классные дамы. Сколько я помню, в мои шесть лет к инспектрисе мало за чем относились. Суд и расправа обходились без нее; директриса отлучалась редко, и в ее отсутствии ее легко могла бы заменять любая классная дама. Должность ли эта была бесполезна, или инспектриса наша сумела сделать ее бесполезною? Последнее было очевидно. Эта женщина была олицетворение бесполезности. Было ли это скромным желанием стоять в тени перед величием директрисы? Может быть; они ладили, хотя та видимо ее не уважала…. Инспектриса только одним занималась в совершенстве – шиканьем. Она шикала как никто: неистово, со свистом, шикала на нас как на цыплят, не видящих коршуна в поднебесье…. Мы узнавали ее за версту. Каждый день она приходила в класс, при учителе, но никогда не предлагала вопросов. Посидит минутку, посмотрит, кто без передника и в косичках, и уйдет. В рефектуаре она бывало первая, и едва войдут пары, уже кричит: «chantez le Отче наш; les chanteuses, chantez». Тут же так, зря, она усугубляла наказания, уже положенные классными дамами: девиц без передников и в косичках выдвинет к столбам, и пойдет дальше. Особенно ее беспокоила леность. «Eh, vous, les paresseuses, ici….» И paresseuses выступали на середину рефектуара. Там часто воздвигался черный стол, – маленький столик, без салфетки и приборов; на нем черный хлеб и кувшин с водою. Девочки плакали, инспектриса тащила их, суетилась…. Мы заметили, что она особенно любила оказывать эту пользу институту.
Кроме этой инспектрисы, была еще другая, «инспектриса пепиньерок». А число пепиньерок не превышало у нас двенадцати! Дама эта была добрая, но буквально ничего не делала. Пепиньерки тоже ничего не делали, потому что нельзя считать во что-нибудь дежурство от пяти до шести часов вечера, или изредка за больную классную даму, и чрезвычайно редкие классные занятия с девицами.
Инспектриса наблюдала за их поведением. Труд более чем легкий. Для того чтобы в наших крепко запертых стенах могло совершиться что-либо, – надо было, чтобы начальство само потворствовало, или было бы уже совсем слепо….
За пепиньерками могла бы наблюдать и директриса, или по очереди, недежурные дамы. Было бы все то же. Свободного времени у наших властей оставалось очень много, нисколько не посвященного юношеству…. Да и посвященное-то время!..
Грустная жизнь! Никто, никогда из этих старших не собрал нас вокруг себя, попросту, как делают добрые люди, сбросив чинность, искренно и сердечно… прочесть вместе хорошую книгу, поработать вместе с нами, в тесном кружке, посмеяться нашим шалостям, потолковать о Божием мире, об его радостях и горе, и о своем горе… мы за него сумели бы полюбить. Но мы не знали ничего подобного. Да и не те были люди!
После Пасхи, в которую мы немного отдохнули, Анна Степановна опять принялась за свое. Ее сердитое лицо сводило нас с ума; мы не знали, что делать…
В один прекрасный день, Варенька написала следующее: «Милые папа и мама, мне очень скучно, а наша классная дама – ведьма, какую вы не можете себе вообразить…»
Письмо было отправлено. Но чему оно могло помочь в настоящем? В настоящем, мы, наконец, решились покориться. Так в одно дежурство Анны Степановны нам точно удалось мастерски просидеть истуканами. Никто даже не чихнул в несвободное время. Лицо Анны Степановны немного расправилось. Мы дружно удвоили усилия.
Шорох шагов, шелест бумаги, скрип пюпитра, скрип пера, – все утишилось, замерло, обратилось в ничто…
Какая странность! с отчаяния, что ли, или мы прониклись пользой безгласия, но наши усилия стали нам нравиться. Мы стали даже придумывать, как бы перещеголять одна другую. Мы сумели прожить так две недели.
Анна Степановна торжествовала.
И в одно утро, к крайнему нашему изумлению, она объявила нам, что директриса, уведомленная о нашем хорошем поведении, приказала «наградить» нас.
Сюрприз не вызвал в нашей душе и тени благодарности. Мы только сбились в понятиях об Анне Степановне. Она сама сбила нас с толку еще более. Почти с того времени она видимо перестала требовать того, о чем до сих пор так усердно хлопотала. Мы стали двигаться, как прочие отделения, даже шумнее. Страх сошел с дортуара, то есть с массы; с тех пор он являлся только в частных бедствиях, но и здесь принял другой характер…
Сообщая о «награде», Анна Степановна сказала:
– Sachez, mesdemoiselles qui je puis faire, tout au monde…
Вот это-то самое «tout au monde», часто и не у места повторенное, и подорвало в последствии ее власть. Мы подросли, поняли, какой ум смеет, а какой не смеет приписывать себе всесилие…
Награждены мы были «днем в дортуаре». Эта милость, гораздо вернее, была дана нам за прилежание. Целый месяц мы учились так хорошо, что половину класса записали на красную доску…
Когда я вспоминаю о нашем учении вообще, мне становится грустно. Какие мы бывали подчас ленивые и беспонятные! Как мало кого из нас точно интересовала наука! Редко кто учился не из страха нуля; прилежание просто являлось оттого, что нравился какой-нибудь учитель. Но главная причина наших неуспехов заключалась в распределении курса. Право поступать в институт без всякой подготовки было, конечно, большим добром, потому, что не стесняло приема; но многолюдство наших классных отделений, их трехлетняя неподвижность, были большим злом; от него страдали прилежные и хорошо приготовленные девочки, а ленивые и незнающие выигрывали чрезвычайно мало. Проходило довольно много времени, покуда учитель узнавал способности и степень познаний своих учениц, и тут поневоле овладевало им недоумение. Иногда в одном и том же классе, на расстоянии двух скамеек, сидели девочки, еще дома опередившие двухгодичный курс институтского учения, и девочки такие, которые очень трудно подвигались вперед. Что было делать учителю? Он и принимался подгонять последних; по милости их каждый предмет преподавания начинался с самого начала, даже и в четвертом отделении. Знающие девочки, между тем, были обречены твердить старое; натурально, на них нападала скука, и они ленились. Тяжкую работу задавали мы педагогам. Мы и обожали, и бранили, и одно не мешало другому. Общим расположением нашего четвертого отделения особенно пользовался французский учитель. Он был мастер своего дела. Должно быть, он знал какое-нибудь симпатическое средство против грамматических ошибок, которое искусно передавал нам, потому что мы учились у него успешно. К концу третьего года в маленьком классе мы писали прекрасные lettres de condoléance и d’invitation, а тетради диктовки стали безукоризненны. Обожательницы, чтобы доказать свою любовь, обертывали эти тетрадки разноцветною и золотою бумагой; соревнование в красоте обертки было страшное. Учитель очень любил нас, своих «têtes de linotte», как он, по обыкновению, вежливо журил ленивиц, но иногда желал бы быть посердитее. Бывали такие случаи: например, как-то переводили мы басню le Loup et le jeune Mouton, с французского на русский, потом опять на французский, потом разобрали ее по членам, потом сбирались еще что-то сделать. Вдруг на некоторых тетрадях появился уже не «mouton», а «bouton». Почему? никто не знал; но каково положение учителя! Такие печальные уклонения нашего разума бывали нередко. Учителя арифметики мы озлили совсем. В тот год, когда он добрался с нами до дробей, у него верно убавился год жизни. Он не мог постичь, как могли родиться такие нематематические головы как наши… В классе законоучителя мы тоже не отличались особенною логикой. Не потому, чтоб от нас не требовали рассуждения, напротив. Но Катехизис и Литургию мы обязаны были учить наизусть, а от этих стараний у нас исчезал самый смысл дела. Потом, священник толковал, но мы с большим трудом понимали его толкования, и когда он приказывал повторить, то большая часть из нас сбивалась и путалась. Не помню, чтоб из этого класса мы выносили то сердечное впечатление, которое он должен был давать нам… Мы ждали прихода священника со страхом, и звонок в конце его урока имел на нас освежающее действие.
Класс русского языка бывал довольно оригинален. Вероятно, убедясь по предшествовавшим ученицам, что синтаксис не скоро уляжется в наших головах, учитель преподавал его более в отрывочных сказаниях, без руководства книги; мы записывали летучие заметки, которые потом заучивали. Иногда он учил нас просто внаглядку. Так, большой палец его рука обозначал подлежащее, указательный сказуемое; он широко раздвигал их, и связь являлась перед нами сама собой. Быстро пробежав таким образом синтаксис, мы бросились должно быть словесность. Должно быть, потому что нельзя дать определительного названия той тетрадке заметок, которая появилась у нас на второй год курса. Тут на двадцати страничках были изложены и правила стопосложения, и определение поэзии, и тропы, и фигуры, и размышления о простом и среднем слоге, и правила для составления писем, и построение умозаключений, дилеммы, теоремы, все вместе, все в каком-то странном виде. Господь один знает, что это было такое. Учитель был поклонник Державина и Хераскова, мы твердили их оды наизусть, перекладывали их в прозу, разбирали на всевозможные лады. Особенно приятно было находить в них признаки иронии и синекдохи, фигуры прохождения, видения и какого-то поправления. Но разум наш решительно отказался служить, когда дело дошло до умозаключений. Закон исключения третьего, скачки и кружения в ошибочных доказательствах, доставили нам множество хорошеньких нулей в списке баллов.
Историю и географию преподавал у нас один и тот же учитель в продолжение всех шести лет. Это был у нас самый любимый учитель; десятки девиц обожали его постоянно; его приход оживлял все лица, его проницательная и вместе добродушная наружность вселяла и доверие, и какое-то смутное желание понравиться не одним прилежанием. Но он смотрел на нас как на детей, и гораздо более дорожил признаками нашего ума нежели расположением к его особе. Мне тяжело вспомнить об этом человеке. Он не знал, как ему быть с нашим невежеством, как к нему приступиться. Ему хотелось придать жизнь своему обширному предмету, а между тем домашние познания половины класса были чрезвычайно скудны, учебники плохи; учителю приходилось многое добавлять, во многом восстановлять смысл; все это не удерживалось у нас в памяти, или мало интересовало. Тогда, махнув рукой и уже в дурном расположении духа, он приказывал попросту заучить страницу в книге, чтобы там ни было. Помню, что в такие грустные дни он больше обращался к географии Испании или Америки.
«Госпожа (такая-то)!» – И, например, я бойко высыпаю имена испанских провинций: «Галиция, Астурия, Аррагония (иногда Патагония)..» Перевру еще пяток имен, и долетаю до Мажорки и Минорки.
«Госпожа (такая-то), какие племена населяют Северную Америку?» А сам, бывало, нарочно смотрит в книжку, где изображены эти племена, которым трудно поверить. Девица между тем крестит кого-то в шапсугов и чеченцев, и наконец, добирается до «присказки». «Ну, что ж еще в Америке?» спрашивает учитель, открыв пошире свои маленькие быстрые глаза. – «Попугаи, кокосы, антилопы, и они любят получать от иностранцев бисер и занимаются мягкою рухлядью»… Тем временем другая стоит перед ландкартой и робко ищет палочкой чего-то, от одного конца Европы до другого. Со всех лавок раздается неудержимое «ici, cherchez ici»… Классная дама шикает… Ужасно!.. Однажды, шел урок об итальянских государствах. «Назовите города Северной Италии и чем они замечательны?» был вопрос. За ним четверть часа молчания. Девица стоит и думает. «Так что же-с?» Скрипки, отвечает она наконец, и высказавшись таким образом, замолкает.
Но не всегда же мы были так ленивы и тупоумны. Иногда весь класс отличался блестящим образом, и лицо учителя сияло. Радость, впрочем, увлекала его слишком далеко. Вдруг, положившись на силы избранных учениц, он принимался диктовать чрезвычайно подробные прибавления к учебнику географии, и статистические таблицы, и обширную географию древнего мира. Весь класс записывал, но выучить всего этого не могли и первые ученицы за недосугом и занятиями по другим предметам, в которых они были слабее. Курс истории волновал учителя еще больше. Мы проходили всеобщую историю по учебнику Преображенского. Никогда не забуду кислой гримасы нашего учителя, когда мы сгребали в кучу имена греческих мудрецов или нанизывали названия варварских народов один за другим, точно будто они пришли все разом, и все разом съели Римскую империю. Мне, по крайней мере, долго казалось, что дело было так. Учебник гласил немного иначе, но был изложен так плохо, так безжизненно, что судьбы человечества не приобрели в наших глазах никакого значения. Что римские войны, что Тридцатилетняя война, – все равно, и так же скучно. С хронологией мы погибали, да какой же интерес могли иметь для нас эти мертвые цифры? Прилежные девочки зубрили как могли; были даже такие прилежные, с такою огромною памятью, что зубрили по собственной охоте. Одна такая знала у нас от доски до доски «древнюю историю» Преображенского, и если уж где было написано «подстрекаемый» честолюбием, то она никак не позволяла себе сказать: «движимый». При таком рвении одних и очевидной способности некоторых других девиц учитель вдруг оживлялся. Он приносил свои исторические записки или, выбрав какую-нибудь эпоху, пускался красноречиво и подробно излагать ее. Класс принимал вид университетской аудитории. Но это бывало редко, потому что оказывалось бесполезным. Для последних в классе лекции были непонятны, для первых – слишком отрывочны, не в связи с их остальными историческими познаниями… Средину между учебником Преображенского и университетскими лекциями учитель наш искал постоянно и как-то не находил… При всем его желании, образованности и самой симпатичности его характера, он все-таки не достиг того, чтобы мы полюбили его предмет…
По-немецки наше отделение знало очень плохо, а искусства совсем хромали. Музыке учились только те, кто хотел, на собственный счет, а пение предстояло нам впереди, в большом классе. Рисовать учила у нас одна старая дама, у которой ослабело зрение. Мы никогда не рисовали с натуры, и только копировали с литографий, карандашом и красками. Лучшими нашими художницами мы считали тех, которые умели рисовать что ни на есть мельче, точечками и штришками. Нужды нет, что попорчен контур, – было бы затушевано мягче пуха. Помню, что я рисовала какую-то женщину в созерцательной позе; я изобразила ее с флюсом, и любовалась. Потом еще у меня вышла удачная картинка, тушью: семейство, катающееся в лодке. Ручки у всех вышли грабельками, а губки и ноготки – черными точками. Другие девицы, не такие артистки, рисовали на тетрадях глаза и уши самых причудливых форм, и съев уголь, бегали из класса чинить огрызки. Чинил постоянно и перья, и карандаши наш дьячок. Он заседал в уединенном месте, неподалеку от класса, и сумрачно исполнял свое дело. Он чинил перья как никто, – великолепно. Мы относили ему целые связки. «Прошу вас, двадцать пять перьев, и вот пятачок серебра…» И затем, положив скромную дань на стол, непременно почему то покраснеешь…
В резвых танцах и изящных телодвижениях с венками и шалью мы сделали успехи позднее, уже в большом классе; в маленьком многие из вас были порядочные увальни. Класс танцевания в первое время имел весьма унылую физиономию. В огромной зале зажигались лампочки, приезжал учитель и с ним музыкант с самою плачевною скрипицей, какую я когда-либо слыхала. Нас строили в шеренгу, и в полумраке начинали производиться бесконечные jetée assemblée. Сначала мы страшно шуршали ногами. Но наконец, после долгих стараний, учитель добился от нас некоторой воздушности, и мы приступили к какому-то pas de basque. В этом па есть особенное движение ногой назад и нечто волнообразное. Которая из нас была пожирнее, та выплывала в этом па как утка. Учитель бил в ладони, скакал сам, выходил из себя. Тернистым путем добрались мы до кадрили. Одно время, для большей выправки и практики в изящных манерах, кто-то из ваших властей придумал следующее: После танцев маленький класс оставляли в зале. Нас ставили одну за другой вдоль балюстрады. На балюстраду мы клали книжку, по которой твердили урок, и в то же время, легонько придерживая платьице, делали ногой battement. После четверти часа, по команде, мы поворачивались другим плечом, и делали battement другою ногой, – сто человек разом, в совершенном безмолвии. Кто бы посмотрел со стороны, тот подумал бы, что это дом сумашедших…
Скучное бывало время – вакация в маленьком классе. Мы постоянно проводили ее в саду, откуда выгоняла нас только дурная погода и время еды. Большим отведены были аллеи, а маленькому классу три беседки при входе в сад. Это, вернее, были не беседки, но купы вековых лип, под которыми ставили столы в скамейки, Здесь мы сидели, постоянно на виду у наших дам, повторяя множество старых уроков, а часто и новое, заданное на вакацию. Кроме этого ученья, на вакацию приезжали еще заниматься с вами кандидатки из Воспитательного дома. Отучившись, мы были свободны кейфовать или бегать сколько нам было угодно. Но резвиться мы как-то отвыкли. Мы предпочитали бродить и болтать, так, что-нибудь, потихоньку. Под вечер, мы гурьбами расходились по дорожкам так называемого маленького сада, обсаженным кустами сиреней и жимолости и прилегавшим к аллеям где гулял большой класс. Этим садом заканчивались институтские владения; за его решеткой лежал огромный пруд, который тянулся вдоль всей нашей садовой границы. Мы очень любили ходить к этому пруду, не затем, чтобы мечтать или смотреть на закат солнца, – нисколько! Вообще, я заметила, мы были чрезвычайно равнодушны к красотам природы. Дорожка у пруда вам нравилась, потому что там была маленькая глушь, в акации щебетали миллионы воробьев, а поблизости, в перспективе аллей, можно было видеть, как гуляют наши objets.
Урок танцев у младших классов. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.
«Objet!» «Она!» – магическое слово, наполнявшее восторгом нашу душу… Выбрать себе из старшего класса «предмет для обожания», и любить, любить его – иногда Бог знает за что. Бегать за нею повсюду, всегда, хотя бы в неузаконенный час, хотя бы за это сто раз сняли передник; благословлять ее, и где-нибудь, прижавшись в коридоре, покуда она идет, осыпать ее самыми сладчайшими именами, какие только можно давать небожителям… А счастье на просторе закричать ей во все горло «céleste», «divine», поцеловать в плечико или хоть край ее пелеринки. Я обожала мой objet до сумасшествия. У меня были целые тетради, где разноцветными красками был нарисован ее вензель, и во всех возможных прилагательных воспевались ее совершенства. Я писала ее вензель на песке, вырезывала его на своем пюпитре, на колоннах в зале, на полу в дортуаре у своей постели, где молилась в другой раз после общей молитвы. Она меня «счастливила». То есть она позволяла мне переписывать ей тетрадки набело, а один раз – о богиня! она приняла из моих рук шоколадную собачку, которой тут же удостоила откусить голову!..
Конечно, с виду это чрезвычайно глупо. Наши родные и светские судьи остроумно смеялись, и вообще, при удобном случае, еще смеются над институтским обожанием. Они не совсем правы. Нельзя так холодно нападать на чувство, хотя бы преувеличенное, но искреннее, на избыток ребяческой нежности. Ей нечем больше выказаться в наших стенах. Нам бы хотелось осыпать щедротами любимое существо, а между тем возможен только какой-нибудь кусок шоколада или пучок перьев, перевязанных розовою ленточкой. Обожание кончается институтом; оно может существовать только там. Напрасно говорят, что иные институтки переносят эту ложную чувствительность в свет, и именно потому бывают готовы влюбиться в первого встречного. На это равно способны и не институтки. А главное, между обожанием и влюбчивостию такая противоположность, что в последствии одно очень часто уничтожается другим. Мне удалось заметить это из жизни многих моих сверстниц. «Обожание» относится более к духовным совершенствам, воображаемым или существующим, чем к красоте; в нем есть даже что-то сердобольное и желание доставить предмету как можно более материальных благ. Дома оно переходит в попечительность и хлопоты об окружающем. Из наших присяжных обожательниц вышли особенно заботливые матери, и такие девушки, которых не очень легко было прельстить завитым хохлом и черными усиками…
Точно такая же любовь простиралась и на учителей, и наконец, мы обожали особ недосягаемых, то есть всех высоких покровителей института. Мы их видали редко, и уж, конечно, ничем не могли выразить своей любви, кроме листков с их вензелями, которые тщательно хранились в пюпитрах. Известие, что будет царская фамилия, встречалось общею радостью. Мы ждали посещения как праздника, но особенно было это весело уже в большом классе; в маленьком ожидания омрачались приготовительною выправкой и усиленным внушением морали. Помню, как в первый год, осенью, у нас готовились к подобному посещению. Большие разучивали какую-то итальянскую кантату, а танцевальная учительница придумала особенный польский с фигурами, в котором должны были участвовать и маленькие. В число избранных попала и я, и нас всех велено было завить в кудри. Анна Степановна, как мастерица, взялась завивать избранных из нашего отделения. Помню, что канун торжественного дня была суббота, и чуть у нас не случилось большой сумятицы. Меня кликнули к Анне Степановне. Я побежала, дрожа всем телом, потому что шутка ли просидеть с нею глаз на глаз целый час? Хотя с нее давно сошло желание делать нас немыми, но, все равно, я ее боялась. В то время вышла в классе неприятная история, и Анна Степановна была очень сердита. История поразила меня в самое сердце, потому что случилась с Варенькой. Анна Степановна безмолвно встретила мой трепетный книксен, притворила дверь и, усадив меня на скамеечку у своих ног, приступила к кудрям. Она напомадила мою голову и разделила ее на пятьдесят квадратиков. Она делала это деликатно, аккуратно, искусно и с желанием сделать хорошо. Я утупилась, вся пунцовая от одержанного дыхания, и только смотрела на тень свою. Каждая минута, покуда на моем затылке прибавлялся новый рожок, казалась мне вечностью. Вдруг Анна Степановна взяла меня за подбородок, повернула к себе и сказала: «Tenez, je fais bien les bouclée; dites moi merci».
Она ласково улыбалась. Я вскочила, потому что дело было кончено, официально приложилась к плечу, и была уже за дверью. В коридоре шла уже суматоха. Директрисе доложили, что высокие посетители будут сейчас, ко всенощной. Неожиданность подняла тревогу по всему институту. «А папильотки!» – вскричала Анна Степановна. Бумажки полетели с моей головы, но уже было поздно: по двору прогремели кареты. Анна Степановна заключила меня в своей комнате, где я плакала и ничего не видала. Наши между тем опрометью бежали в церковь, завитые рвали папильотки; те, которые были уже в церкви, наскоро поправляли волосы, неуспевших прятали в ряды, классные дамы бросались к полу, сгребали бумажки в карманы, волновались ужасно; их волнение сбило с толку диакона, говорившего ектению… Кое-как наконец все пришло в надлежащий порядок…
На другой день царская фамилия была опять, и было торжество. Кузина Варенька не участвовала в танцах. Она стояла в своем ряду, очень грустная; ее не мог развеселить и праздник. Она знала, что завтра, когда он кончится и занятия войдут в свою будничную колею, ей опять будет плохо.
На Вареньку было воздвигнуто гонение. Анна Степановна знала, за что гонит, и Варенька хорошо знала, за что ее гонят; но дело началось безмолвно, и обе партии не объяснились никогда. Через полгода после того, как Варенька сообщила родным об Анне Степановне, что она «ведьма», Анна Степановна это узнала. Это случилось таким образом. Родные Вареньки рассказали о письме одному родственнику, москвичу; он в свою очередь рассказал своему родственнику, тоже москвичу. Этот последний родственник был лицо богатое, когда-то сановитое, но теперь уже на покое. Этого старого вельможу почитала вся Москва. Старик позволял себе говорить в глаза всякому, что заблагорассудится. Не знаю, каким образом, но от сановника зависела и семья Анны Степановны, и ее положение в институте. Один раз Анна Степановна была у него. Старик без дальних околичностей сказал ей о ведьме. «Вот, матушка, – прибавил он, – как Грибкова тебя называет; держись получше, не то может быть худо». Потом, при случае, сановник передал родственнику, как он пугнул Анну Степановну. Родственник, навещая Вареньку, передал ей все. Таким образом, дело, описав огромный круг, пришло к своему началу. Родственник, незнакомый с нравами казенных заведений, наивно радовался «острастке». Варенька была в ужасе. Что делать теперь с Анной Степановной? Объясниться – нет! на это никогда недостанет духу! Товарищи потерялись тоже…
Только теперь, пожив на свете, можно беспристрастно судить о прошлом. Что должна была чувствовать Анна Степановна, выслушав хоть и заслуженный, но грубый выговор от постороннего человека, и могла ли она простить той, которая вызвала его? И пословица гласит, что «виновный не прощает». Наша Анна Степановна стала поступать только как существо неисключительное. Думаю даже, что если бы Варенька просто в пылу увлечения выговорила ей эту «ведьму» вслух, было бы лучше. Поднялся бы спор, шум, история, мы все бы увлеклись и высказали бы, что было на душе у каждой. Первую минуту мы потерпели бы страшно, но наконец Анна Степановна почувствовала бы, что правда на нашей стороне. В детстве столько добрых инстинктов, – только сознайся она немножко, мы бы ей простили, посовестились бы даже своего торжества и, каясь в нем, немножко полюбили бы Анну Степановну, потому что она от нас потерпела. Но мы не умели даже шуметь. Нечего и говорить после того, как мы были неспособны на мужественное и спокойное слово…
На Вареньку обрушилась не гроза, но туча мучительных придирок. Это называется по-институтски s’accrocher. Анна Степановна мстила. То, чему когда-то подвергался весь класс, взыскивалось теперь с одной Вареньки. Лишний шорох, булавка не на месте, книга, спрятанная не вовремя, стоили ей передника. Оказии для этого могли быть очень частые. В антрактах Анна Степановна преследовала ее убийственными взглядами. Мы смотрели, втихомолку выходили из себя, но не заступались за Вареньку ни одним словом. Правда, мы делали гримасы Анне Степановне, даже грубили ей страшно, но только совсем не из-за дела. Из числа таких задорных была и я. Однажды учитель поставил мне нуль, и Анна Степановна приступила к моим «косичкам». Я наговорила ей ужасов.
– Demandez pardon! (Извинитесь! (фр.)), – вскричала она в гневе.
Ни за какие блага!.. Она билась надо мною два дня, подняла и Вильгельмину Ивановну, и та уже кое-как со мною сладила. Это я будто бы мстила за Вареньку.
Придирки длились очень долго, целые месяцы. Варенька бледнела и худела. «Как же я буду жить так несколько лет?» – повторяла она, заливаясь слезами.
Но вдруг все кончилось самым неожиданным образом, без всякой видимой причины. В одно утро в класс вошла директриса. Она просидела долго, урок французского языка шел превосходно, директриса была особенно приветлива и весела. «Eh bien, êtes-vous contente des votres?» (Ну, вы довольны своими? (фр.)) – обратилась она к Анне Степановне, а между тем улыбнулась первой скамейке самою милою улыбкой.
– Parfaitement, – отвечала Анна Степановна, – j`ai des élèves si distinguées dans mon dortoir, mademoisselle Gribcoff par exemple (Прекрасно, у меня есть воспитанницы, и очень способные в моем дортуаре, например м-ль Грибкофф (фр.)).
К вечеру Варенька заболела. Анна Степановна ухаживала за ней, освободила от класса чистописания и в пять часов повела к себе в комнату пить чай.
– Куда ты? В пасть ко льву! – шептали мы, а сами крестились, что прошла беда.
Почувствовала ли Анна Степановна свою несправедливость, утомило ли ее тщетное преследование, – но только она стала совсем другая с Варенькой. Она отличала ее перед всеми при каждом удобном случае, делала ей маленькие подарки, покупала помаду, перчатки и пр., когда родные Вареньки опаздывали высылкою денег. Эти отношения установились прочно и не прерывались до самого выпуска. Варенька страдала ужасно, но не имела силы ни противиться ласкам, ни объясниться. Она была недовольна собою в высшей степени, но и только. Недовольство изменило ее характер в какой-то унылый и преждевременно старый. Мы допрашивали, что с нею.
– Меня убьет это лицемерное великодушие, – отвечала Варенька, опуская голову….
Тогда мы разделяли ее мнение о гнусности Анны Степановны. Теперь мне хочется думать иначе. Вряд ли это было лицемерие. Тогда бы заискивание началось с первого дня, с той минуты, как сановитый родственник Вареньки, он же благодетель Анны Степановны, прочел свою нотацию. Мне кажется, она просто одумалась, и к ней пришло настойчивое желание внушить Вареньке доброе мнение о себе. Пусть даже оно и было притворно, – но Анна Степановна выдержала характер целых шесть лет! Уже за один такой труд нельзя до конца осуждать человека…
Другая история, подобная этой, случилась в нашем отделении незадолго до перехода в большой класс. Анна Степановна стала придираться к одной ученице из дортуара Вильгельмины Ивановны. Та написала родным, но письмо не дошло. Вильгельмина Ивановна, озлобленная, что смеют гнать ее любимицу, одну из лучших в классе, и питая постоянную вражду к Анне Степановне, не послала письма, а показала его директрисе. Мы проведали дело, и в ужасе ожидали, что будет. Анна Степановна дежурила, когда директриса вошла в класс. Ученица сидела ни жива, ни мертва. Она была у нас самый веселый товарищ, мы ее чрезвычайно любили. Урок кончился, учитель вышел, нам приказали остаться на месте. Анна Степановна была сконфужена, директриса смотрела недовольно.
– Правда ли, – обратилась она ко всему классу, – что Анна Степановна несправедлива и дурно обращается с Mlle Петровой?
Общее безмолвие.
– Отвечайте же, mesdemoiselles.
Мы молчим.
– Mlle Petroff, говорите за себя, сказала наконец директриса, подозвав ее к себе. – Вы жаловались вашим родным? бранила нас Анна Степановна? называла вас morveuse? Отвечайте.
– Oui, maman.
Она была бледна как полотно, от стыда, мы не смели взглянуть ей в глаза.
Директриса молчала, глядя на подсудимых. Анна Степановна с минуту казалась уничтоженною.
– C’était un mésentendu… j’espère que nous serons bons amis, j’estime tant mademoiselle… – проговорила она в волнении, и вдруг, с быстрым порывом бросилась к девушке и приложилась к ее плечу…
Директриса молча встала со своего места и вышла.
Мы торжествовали. Унижение врага, и еще его самоунижение, окончательно погубило его в наших глазах. Мы потеряли последнее доверие даже к его смыслу. О собственном поступке мы уже не думали… О, как нам было весело, и как мы смеялись!..
Суд директрисы показался мне тогда великолепным… Но этот случай был почти единственный: распри наши с классными дамами доходили до нее чрезвычайно редко. Жалеть ли теперь об этом или нет, не знаю. Если бы наша высшая власть постоянно действовала таким образом, я не думаю, чтобы мы получили правильное понятие о том, каким образом должны решаться дела справедливо для обеих враждующих сторон… Что же касается до того, как директриса обходилась лично с нами, институтками, то наш выпуск сохранил о ней прекрасное воспоминание; всегда приветливая, и с таким вниманием к нашим успехам, что хотелось учиться хорошо, лишь бы только получить ее одобрительный взгляд и улыбку. С течением времени у многих из нас приязнь к «maman» доходила до робкого обожания… Это официальное название не было тягостно ни для кого… В последний год маленького класса, она стала приглашать к себе «отличных» учениц. Там, в ее комнатах, они могли в свободные часы играть на фортепьяно, сидеть на просторе с ее внучками, тоже нашими приятельницами, видеть гостей maman, видеть ее. Сама она, иногда, вступала с девицами в разговор. Это была женщина глубоко религиозная и, кажется, очень образованная, – кажется, потому что ни тогда, ни после выпуска мы не имели случая узнать ее вполне. В ее суждениях, высказанных привлекательно, слышалось что-то дельное, что вызывало любопытство молодого ума и могло бы хорошо удовлетворить его. Но разговоры бывали чрезвычайно редки и до того отрывочны, что из них нет возможности припомнить на одного! Осталось только смутное понятие о директрисе как о женщине, которая на своем месте, при своих средствах могла бы принести огромную пользу. Но, к несчастию, у ней были семейные обстоятельства такого рода, что невольно поглощали ее внимание. Они отнимали у нее здоровье, портили характер, убивали деятельность. Если бы не эти заботы, до того близкие сердцу, что невозможно не оправдать их, эта бескорыстная и проницательная женщина, наверное, отдала бы нам все свое время, не производила бы опрометчивых судов и доглядела бы беспорядки, которые творились вокруг нее. В свете нам приводилось слышать, как ее осуждали. В ней смешивали женщину – главу семейства с женщиной-начальницей; между тем и другим была большая разница. Институтки, моего выпуска, по крайней мере, не могут слышать этих обвинений без досады и огорчения.
Мы все и уважали, и любили ее. Положим, у половины из нас чувство это было безотчетное; но, верно, сердце знало, что есть за что любить, если любили все.
Она умерла давно, но институтки благоговейно чтут ее память. Память держится, несмотря на множество лет, отделяющих от прошлого, несмотря на новую жизнь, в которой погасли последние его искры…
Годы бегут быстро, и вот мы уже сами в большом классе…
Путь пройден до половины. Остальная половина уйдет еще скорее, и нам заранее грустно.
Мы уже любим институт. Кто не бывал в казенном заведении, тот никак не поймет этой странной привязанности к какому-то общему, отвлеченному представлению места, где живешь, между тем как в частностях многое в этом месте по-прежнему не мило. Конечно, мы втянулись в институтскую жизнь, и привычка освятила то, что сначала казалось диким; потом, с течением лет, немного изменились наши отношения к классным дамам; наконец, нам минуло четырнадцать лет, наступил возраст, в котором столько беспричинного веселья, что против него нет возможности устоять даже самому угрюмому блюстителю порядка. Но не в этих причинах был источник нашей любви к институту. Его надо искать в нашей дружбе…
Какими словами помянуть эту дружбу?.. Но для нее нет слов. Пусть та из вас, у которой сохранились хотя клочки записок, которые мы тогда писали друг к другу, взглянет на них теперь…
Над этим невозвратимым чувством можно заплакать. Никогда ничего подобного не давала вам светская жизнь, и не могла дать. Самое нежное внимание, святость клятв, жертва имуществом в пользу друга, слезы ревности, когда чужая завладеет сердцем друга, бесконечные ласки, маленькие тайны…
Откуда бралось это, на чем держалось? Клятва – это какое-нибудь обещание подсказать урок; жертва, это домашнее лакомство, уступленное голодному другу; внимание, это бирюзовое колечко, подаренное другу, в день именин; тайна – это имя «objet», или вместе задуманная шалость… Серьезный человек захохочет. Но напрасно. Наша дружба тем и была хороша, что умела держаться на немногом…
В большом классе она обрисовалась вполне. Все, что когда-то было в нас враждебного институтскому складу и занесенного из дому, все давно исчезло. Выше институтских интересов мы уже не видали ничего; никто вам и не указывал, что впереди будут другие интересы. Вот почему и все наши радости сосредоточились в тесном мирке дружбы. Здесь, к чести классных дам, надо сказать, что они держались мудрого начала невмешательства: мы пользовались между собой полною свободой и выбора, и действий.
Кружки друзей образовывались смотря по характерам. Тот, в котором считалась я, был самый веселый. Мы были то, что называется из отъявленных, то есть насколько это возможно при почетном названии девицы первого отделения. Это отделение должно было служить светилом для всех прочих. Здесь «будущие бессмертные» в институтских летописях, будущие шифры и прочие награды…
Не без некоторого чувства гордости перешагнули мы через порог святилища. Нам приятно было взглянуть друг на друга. Мы очень подросли и были такие выправленные. Исключая немногих, все в вашем отделении выработали себе, в манере держаться, ту институтскую складку, которая уже считалась нами высшею степенью женского существа. Маленькие, наполнившие оставленный нами класс, и посетители института, если хотя немного отступали от нашего идеала или не походили на институток, уже казались нам смешными и странными. У нас был тихий и осторожный голос, воздушная и вместе торопливая походка движения и спокойные, и робкие. Яркая краска беспрестанно разливалась на наших щеках, а, приседая, мы наклоняли голову о неподражаемою скромностью. Сколько я помню, в этих приемах была точно своего рода прелесть, какая-то монастырская. Но натура часто брала свое, и на просторе, когда мы были не на глазах у старших, на нас нападала отвага, мы вдруг становились не те. Вместо грациозно запуганных созданий мы просто делались неудержимыми ребятами. Избыток жизни так и просился излиться в шуме, крике, хохоте на весь институт, в проказах над чем ни попало… о, если бы только дали волю!
Наше первое отделение насчитывало много хорошеньких девушек. Мы были в восторге, что институт прославится их красотой, и с неописанным счастьем восхваляли своих «célestes beautés» в глаза, даже не стесняясь повелением молчать, хоть, например, во время класса. Мы шептали им это с отдаленных лавок или передавали клочки бумажек с троекратным «incomparable», троекратно подчеркнутым, чтобы «beauté» прочла и зарделась как роза. Мы не питали ни малейшей зависти и красот наших подруг, вернейший признак дружбы между женщинами. А что касается до зависти к успехам в классе, о ней не было и помина.
Первое отделение смотрело очень нарядно сравнении с прочими. По стенам висели хорошие ландкарты, стоял шкаф с «физикой», как говорили у нас, и ящик с «ботаникой». Другие отделения ничем не отличались от маленького класса. Жизнь этих отделений шла совсем иначе чем у вас; мы мало сближались с ними, и даже почти не знали, что делается у соседок. Мы едва были знакомы с ними, исключая пяти, шести девушек, которые особенно пришлись нам по сердцу, да певиц. Класс итальянского пения соединил нас в залах у maman, и потом обедня, когда мы вместе стояли на клиросе. Второе отделение смотрело как-то особенно тихо и бесцветно. За то в третьем, когда случалось пройти мимо его двери, слышался постоянный шум, шиканье инспектрисы и голос учителя в раздраженном состоянии. Кажется, что там до самого выпуска дела шли не лучше, чем в шестом отделении. Выправка не удавалась, и наказания не уменьшались нисколько…
Персонал классных дам. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.
Со вступлением в большой класс мы должны были познакомиться с некоторыми новыми учителями. Каждая новость подобного рода возбуждала у нас множество только будем ли мы обожать его или нет? А если нет, то не долго придумать ему и прозвище: на это мы были мастерицы. Как он будет спрашивать? Вызывать ли на средину комнаты, или на местах, где подсказать удобнее? Последним обстоятельством волновалась особенно моя лавка, скромно состоявшая последнею в списке класса. С умилением глядели мы на наших первых: там почти не знали этой тревоги. Лавка первых была наша слава и гордость, наша доска спасения в критические минуты жизни. Так зачастую изготовлялись на все отделение разные письменные задачи, заданные учителем. Работа выходила двойная или тройная для наших милейших оракулов, но мы никогда не слыхали отказа…
Способности и характеры этого отборного кружка были очень разнообразны. Припоминаю их, чтобы сообразить, на сколько наши самые даровитые девушки могли бы сделаться в последствии учеными и специалистками наравне с мужчинами, так как в настоящее время поднят вопрос о равенстве мужчин и женщин в деле науки… Говорю только о врожденных способностей, которые всегда можно приметить, а не о том, на сколько их развило ученье в институте… Что ни одна из этих девушек после выпуска не приступила без какой-нибудь печальной необходимости, а добровольно, к серьезному занятию какою-либо наукой, это положительно. Может быть, это произошло оттого, что десяток дет назад никто не говорил им, что они смеют, иметь эту охоту, в уже имеют ее в себе… Десяток лет тому назад время было совсем иное…
У нашей первой ученицы была огромная память. За пять минут до начала класса ей стоило взглянуть в книгу, чтобы знать и всегда помнить заданный урок. Училась она всему равно хорошо и всему равнодушно. Когда случалось ей сделать какое-нибудь верное определение, дельно объяснить вопрос, она не казалась особенно довольна собою. Она не смиренничала, нет, ее просто не радовали силы ее ума. Это было для нее нечто такое, чему она не видела цели, что-то второстепенное в ней самой и не Бог знает какое ценное, – силы, которые пусть себе развиваются, если хотят, и только тогда, когда чужой ум потянет их на деятельность. Она, конечно, отчасти и любила занятия, она даже очень любила читать, – книги попадались нам редко, без всякого выбора, – но и тут она не желала делиться впечатлениями. В наших недоразумениях по части уроков мы беспрестанно прибегали к ней. Она объясняла, но без нашего вызова или необходимости никогда не пускалась в толки. И это вовсе не из эгоизма: она была предобрая. Просто в ней не было насущной потребности видеть знание вокруг себя, знать самой и давать знание другим…
Ее соседка, вторая ученица, не имела ни такого соображения, ни такой памяти. Она любила исключительно два предмета, историю и литературу, и не пренебрегала другими затем только, чтоб удержаться на своем месте. Насколько было возможно при сухом и ограниченном преподавании у нас наук вообще, эта девушка умела находить в учебниках страницы по своему вкусу. Она привязывалась к ним всем сердцем. Ее привлекали имена гениальных писателей и подвиги героев, их воинская слава, хотя бы то была слава Батыя, – все громадное, блестящее, эффектное, все великое, конечно, с точки зрения наших руководств. Другой точки зрения ей взять было негде. Она училась как-то нетерпеливо и порывисто. Все, что требовало кропотливой работы ума, долгого обдумыванья, усидчивости, мучило ее и удавалось ей плохо.
Кузина Варенька была третьею с тех пор, как поступила, и до самого выпуска. Она принималась за все с одинаковою охотой, за многое с лихорадочным жаром, и постоянно была не довольна собою. Ей казалось, что она самое беспонятное существо на свете, и она молила Бога дать ей побольше способностей. Память у нее была удивительная, но училась она чрезвычайно неровно. Иногда по целым месяцам на нее нападала лень, какая-то совершенная невозможность взять книгу в руки. На то бывало много причин. Ссора с другом, прилив ласк Анны Степановны, которые действовали на нее мучительным образом, грустное письмо из дома… В такие дни Вареньку выручало только удачное подсказыванье или снисходительность учителя.
Рядом с Варенькой сидела Фанни Каменецкая, та нарядная девочка, мучительница наша, о которой я говорила прежде. Теперь это была прелестная пятнадцатилетняя девушка, грациозная, но не по-институтски, а с совершенною уверенностью в себе. Едва ли она не была самая способная во всем классе, но училась чрезвычайно капризно. Она, кажется, была прилежна потому, что прилежание шло к ней, как контраст с ее кокетливым и презрительным личиком, а главное, потому что образование – тоже недурное средство нравиться в свете. Похвалы учителя были ей приятны во всех отношениях: когда он обращался к Фанни с своим «très bien, mademoiselle», не мог же он не заметить ее красоты… Но иногда Фанни была несносна. На нее нападал дурной стих, и тогда конец всему. Она проклинала и «cette détestable couronne» (то есть казну) и «ces bêtes de livres», глядела на учителя такими глазами, что он не смел спрашивать, повелительно дергала соседок, чтобы подсказали, раздавала по всему классу свои тетрадки, чтобы за нее сделали переводы и заметки, дурно ли, хорошо ли, все равно. Класс исполнял беспрекословно, кто из страха, кто – принимая работу как особую милость, лишь бы Фанни сказала за труды: «merci, charmante»…
Она не любила своей соседки, пятой ученицы, быть может, потому, что между ними было некоторое сходство характеров. Соседка Фанни была прекрасно одаренная девушка, но впечатлительная в высшей степени. Она училась прилежно только тогда, когда нравился учитель. Если его заменял другой, тот же самый предмет становился ей противен. Например, она училась истории лучше всех нас, добывала исторические книги, делала выписки, твердила их наизусть, – заданный урок выходил у нее вдвое обширнее нашего, – и все это оттого, что она любила учителя истории. Чувство это доходило у нее до степени страсти еще не сознанной, но пылкой. Вдруг как-то ей полюбился учитель ботаники, в вмиг история была забыта. Приготовлять другие уроки стоило ей огромных усилий. Тогда она призывала на помощь свою соседку, Дунечку Ярославцеву, – шестую ученицу, которою заканчивалась лавка первых. Твердить вместе с нею считалось у нас благодатью, как будто от одного ее товарищества должны были сойти с нас и лень, и нетерпение. Мы называли ее «святою». И точно, эта Дунечка была кротка как ангел. В жизнь мою я не видала подобного прилежания при очень ограниченных способностях. Она трудилась как никто, и тяжелый труд, вместе с беспокойством от самой крошечной неприятности в классе, делали ее характер и физиономию постоянно печальными… Характер этот с течением лет, вероятно, не переменился.
Остальные в классе были более или менее похожи на первых. Поменьше способностей, побольше лени и одинаковый склад в занятиях. То какой-то поверхностный дилетантизм, то прилежание из моды и тщеславия, то прилежание из каприза души, – все непрочные задатки того, чтобы впоследствии наши девушки, особенно с молодых лет, могли сериозно отдаться науке, с пользою для себя, для других и для самой науки. И у тех, кто был подельнее, и у всех других, интересы сердца стояли выше интересов науки; чувство брало перевес над разумом, – чувство, которое трудно ограничить, потому что оно в натуре женщины, и которому в жизни предстояло еще более обширное поде… Мне кажется, что самобытная любовь к науке могла бы исключительно овладеть нави только тогда, когда мы покончили бы с молодостью, или когда удовлетворенное сердце уже устроило бы, по возможности спокойно и счастливо, ту среду, в которой жило бы и любовью и долгом.
Насколько новое поколение женщин, выросших после нас, изменилось или перевоспиталось в отношении к чувству, судить не буду…
Не знаю, почему нашему новому русскому учителю вздумалось для первого знакомства спросить у нас азбуку. Меня вызвали даже написать ее на доске. Если б это видел наш прежний педагог, он бы, верно, оскорбился. Но проба была всего только один раз, а там мы опять принялись за синтаксис по Востокову и Гречу. Мы стали учиться усерднее, потому что сам учитель был человек усердный, не охотник шутить; но дело от того не пошло лучше. Половина класса все-таки не достигла того, чтобы вытвердить наизусть и запомнить синтаксические правила, изложенные пространно и сбивчиво для нас. Время, между тем, не терпело; надо было еще учиться многому. Тогда учитель разделил свое преподавание таким образом один класс – повторение синтаксиса, другой практический, а к третьему мы готовили уроки из риторики. Кроме повторений, нам было приказано писать примеры на всевозможные синтаксические случаи, и чтобы примеры были изящные, и чтоб у всего класса разные. Для изящества была одна хрестоматия и изредка книги, приносимые самим учителем. У меня сохранилась огромная тетрадь этого труда, и половина его не моя. Работали за нас первые. О, какие отчаянные письма писались к этим ангелам!
…«Incomparable et céleste Mariel Au nom de Dieu trouvez moi pour cet affreux….. un exemple du родительный движения мысленного!!! Celle que vous détestez. Connue».
«Anastasie, je vous supplie pardonnez moi de vous avoir copié vos exemples de la частица к с дательным, означающим движение по направлению к наружной части предмета, et puis!» безсоюзие: рыщеть, пенится, сверкает et le многосоюзие… Vous en trouverez d’autres, parceque vous êtes un génie. Ne me méprisez pas.
Или наконец:
«Divine, Варенька, vite, tout ton cahier, car je n’ai rien fait pour aujourd’hui…» Этим последним способом обыкновенно взывала я.
В практическом классе делали мы переводы или поправляли заданные прежде. Мы переводили разные разности: «Обриеву Собаку», «Молчаливую академию или эмблемы», потом отрывки из Ламартина и Шатобриана. Мы учили наизусть множество стихов Дмитриева, Батюшкова, Жуковского, Кольцова, Пушкина и несколько произведений графини Ростопчиной. Припоминаю теперь, что ее талант казался нам выше всех названных поэтов. Это не было мнение учителя, нет, но, должно быть, в его добросовестном преподавании не было того убедительного красноречия, которое прививает вкус и способность поражаться истинно прекрасным. Помню, один раз он принес «Мертвые души» и сам читал вслух отрывки. Он прочел описание деревни Плюшкина; мы не почувствовали красоты ни малейшей. Потом визит Чичикова к Собакевичу. Но тут уж мы ровно ничего не поняли.
Мы сочиняли и сами. Упражнение в авторстве во время класса было для многих наказанием Божиим, а многие и любили. Две наши первые, Marie и Anastasie, исписывали свои листки единым духом. Кузину Вареньку, напротив, эти импровизации приводили в нервное состояние. У нее дрожали руки, щеки пылали, строчки на бумаге являлись и тут же вычеркивались; кончив, она с тоской отдавала тетрадь, и цифры 9 и 10 (высшие баллы), выставленные учителем, не могли ее успокоить… На дальних лавках, между тем, происходило печальное грызение перьев. Иные еще скребли по бумаге, а другие, отказавшись совсем, равнодушно выдвигали из пюпитра кончик тетради «Христианских обязанностей», и принимались твердить урок к завтрему. Классные дамы, завидев злоупотребление, отбирали эти тетради, но сочинения от того не подвигались. Раз, я помню, почти никто не мог сочинять в классе. Было первое мая, погода великолепная, деревья все в зелени, окна наши были открыты; из них, в отдаленной улице, виднелись вереницы экипажей и толпы пешеходов. Москва отправлялась гулять. В самом воздухе веяло праздником; даже звонарь на церкви Иоанна-Воина, стоящей в нескольких саженях от института, даже этот звонарь, прилежнейший человек в мире и звонивший всегда так усердно, что заглушал наши голоса, – даже он опоздал с вечерней. Мы сидели и сочиняли. Учитель дал темы: «Гулянье в Сокольниках» и «Спустя лето по малину в лес не ходят никогда». На последнюю тему велено было работать нашей лавке. Мы потребовали объяснить сюжет. Нам объяснили, но все равно я ничего не делала. Зато соседка моя, Соня Иванова, находилась в страшном волнении. Уже в два подобные класса перо ее не произвело ничего, и учитель объявил, что теперь непременно спросит ее задачу. Соня смотрела в окно.
– Что ж ты? – шепнула я.
– Détestable, – проговорила Соня, взглянув на учителя. И затем с ожесточением принялась марать бумагу.
– Кончили? – спросил учитель, когда она сложила руки. – Прочтите.
«Спустя дето по малину в лес не ходить некогда. Это то же, если человек в цветущей молодости своей не старается приобресть святых добродетелей, которые так угодны Всевышнему и Всеблагому Богу. Злой человек, терзаемый адскими пороками, погибает, и тогда он падает в провал, в пропасть диавола…»
Нас увели в сад освежиться чистым воздухом. Но не всегда на дворе было первое мая. Иногда нам случалось всем отличиться. Раза два мы решительно привели в восторг учителя. Это произошло при одном покровителе просвещения, который посетил институт. Такая нашла счастливая полоса, что даже на синтаксические вопросы мы отвечали превосходно. Довольный посетитель пожелал убедиться, как мы сочиняем. Он предоставил нам самим выбор сюжета. Наши гении Marie и Настенька превзошли себя. Marie бойко выставила вверху своей странички «Океан». Она не написала морского пейзажа, имея более в виду провести параллель между водною пучиной и глубиною души человеческой, Настенька избрала себе в сюжет «Пожар Москвы». Мы чуть не ахали от восхищения, когда она прочла вслух, как Наполеон бежал, гонимый призраком пылающей столицы, и потом – как контраст мрачному прошедшему – заключение, где царица русских городов, возрожденная из пепла, являлась в венце из алмазов и жемчуга… Кто написал «Осень», «Восхождение солнца», «Письмо к другу о прелестях деревенской жизни», и т. п. Кто не знал, что написать, тот попользовался старыми произведениями первой лавки. Литературное воровство было скрыто легкими изменениями, и дело обошлось благополучно. Посетитель насказал нам самых лестных комплиментов, и даже увез с собою несколько сочинений.
…В первом отделении, исключительно против других отделений, прибавились у нас еще два класса: физики и естественной истории. Преподаватели этих двух предметов были наши мученики. Учитель естественной истории, француз, был человек изящный и деликатный в высшей степени; он смотрел на нас как на рассадник нежнейших цветочков, и твердо веровал, что всем jeunes filles candides должна быть любезна его наука, по крайней мере, хоть та ее часть, которая касается цветов и птичек. Приступим к делу, он горько ошибся. Мы, дуры (то есть большинство), никогда не учили ему уроков, и знали, что мы никогда не поставит нам нуля. Он имел терпение диктовать нам руководство по всем отраслям своего предмета, старался быть по возможности кратким и занимательным, сам просматривал продиктованное. На нашей лавке во время его класса было превесело. Болтаешь под шумок; учитель добрый; услышит, улыбнется, иногда спросит, и если ему не соврешь хоть на десятую долю, то он уж совершенно счастлив. Взглянешь тетрадку. А там записаны такие моллюски и зоофиты, каких нет ни в одном море. Чтобы привлечь своих «aimables élèves» к науке, учитель принес в дар институту ящик с небольшим гербарием, образчиками минералов, две-три чучелы птиц и чучелу маленького крокодила. Половина ящика скоро опустела. Что было можно, то мы съели; перышки наклеились на бумажки и виде вензелей, а крокодил, как фаворит, долго жил между нами на лавке, потому что нам было весела пугать им соседок. Хотя бы мы за это удовольствие потрудились запомнить, к какой породе относил его учитель! Этот человек, исключение из своей породы по крайнему незлобию, иными днями бывал-таки взбешен. Бывали дни, в которые он нам не улыбался. И Москве, у него было занятий по горло, и несмотря на то, он еще находил досуг приезжать к нам иногда, во время вакации и сад, с твердым намерением побеседовать о ботанике. Мы обступали его, и покуда две или три девицы внимательно слушали о пользе семейства graminées, – другие, стоя поодаль, шептали ему «céleste, incomparable», и уходили. Мы обожали его, и его жену, и его юное поколение. Он привозил своих детей на наши балы, и обожательницы дарили их конфетами от Люке, о которых заранее шла жаркая переписка с московскими родными.
Другой наш мученик и его поколение никогда не получали конфет. Учитель физики был старик, больной и немного желчный. Мы бессовестно выводили его из терпения. Три четверти класса так и вышли, не желая смекнуть, что такое за птица физика и зачем ей учат? Старик был отчасти и сам неправ. Он объяснял ужасно торопливо, приносил такие огромные листы, чтоб мы их списали и выучили, что у нас не доставало ни понятия, ни терпения, ни времени. И классном шкафе лежало и небольшом количестве экземпляров, руководство к физике Двигубского. Иногда мы брались за него. Книги эти были и странном состоянии. У одних недоставало телячьего корешка, у других корешков не было бумажной внутренности. Зачем так поступил с ними предыдущий выпуск – не понимаю. В шкафе с физикой были у нас любимые предметы. Электрическая машина и крашеные стеклянные куколки и виде бесиков. Нам ужасно хотелось их украсть; кажется, около выпуска это и совершилось.
Когда вспомню о наших педагогах, становится и горько, и стыдно. Мы и не подозревали тогда, каков это был труд – учить прелестный пол, соблюдая подобающую вежливость. Целых шесть лет ни разу не сорвать сердца, когда, я думаю, хотелось бы разругать нас, как мальчишек! И если такие дела делались у нас, в первом отделении, что же творилось во втором и третьем?
…В сущности, даром что нас величали большими, мы были все те же дети. Та же беспредельная веселость, ни малейшего помышления о будущем, радость, когда удастся хорошо поесть… Особенно бывали приятны заседания в каморках у классных служанок, которым заказывалась сковорода картофеля или блины. Это случалось в рекреацию или в антрактах танцевального класса. Из каморок мы выходили чрезвычайно веселые, или грустные, если, бывало, поймают или помешают. Веселье и слезы приходили к нам странными приливами. Помню, как-то, перед Светлым праздником, мы были в дортуаре и одевались к заутрене. На весь дортуар напал неудержимый смех, пошла возня, шалости; одна приятельница, постоянно грустная и все пившая уксус, тут же, не дожидаясь розговин, схватила три яйца вкрутую и съела. Пробила полночь: кто бросился целоваться, кто творить земные поклоны, «чтоб исполнились три желания»… Пришли в церковь, стали на клиросе, – и принялись плакать. Едва-едва сладили канон Пасхи…
Беспредметная тоска приходила, впрочем, редко. Гораздо чаще являлась какая-то отвага, желание испробовать на чем-нибудь свою свободу и свои душевные силы… Взобраться на церковные хоры, когда, бывало, идешь в лазарет (есть и другая дорога) – и остаться на хорах одной, совсем одной… Это мы любили. Церковь пуста и темна; одна лампада пред иконостасом, ни шороха, ни звука… А там, за церковью, «верхний» лазарет, совсем необитаемый, куда помещают больных только во время эпидемии. Вот и «мертвая комната» со столом для покойниц. Чтобы спуститься в нижний лазарет, надо идти мимо… Идешь, а в душе разливается какая-то гордость…
Свободу свою мы пробовали беспрестанно. Сбегать в дортуар между переменами учителей, и вообще в неположенное время, было у нас первым удовольствием. Иногда так, ни за чем, лишь бы сбегать. Шестьдесят ступеней по чугунной лестнице были нам нипочем. Помню однажды я провела критические минуты. Трое нас забрались и еще в дортуар Анны Степановны. Она была не дежурная. Вдруг совсем неожиданно скрипнула ее дверь. Мы юркнули под постель. Рядом со мной очутилась моя приятельница, Олимпиада Митева. Она была огромного роста, и прозывалась Большою Лапой. Юркнув, она забыла о своих длинных ногах, которые остались наружи. Анна Степановна вошла, и как она вас не приметила, не понимаю. Она открыла дортуарный комод с бельем и стала считать его. Мы лежали. С невероятным усилием, чтобы не изменить себе, Лиза подобрала наконец свои ноги. Три четверти часа прошли таким образом. Мы задыхались. «Лиза, я умру», – прошептала я в ужасе. «А разве я на розах лежу?» – отвечала она, я чуть мы обе не покатились со смеху… Но, слава Богу, Анна Степановна в эту минуту удалилась.
С грустью вспоминаю, как об эту пору наши ложные отношения к классным дамам, взаимное непонимание долга уже во многом сильно нас испортили. Солгать, обмануть нам ровно ничего не стоило. Ни тени стыда и даже похвалы от товарищей. Не понимаю, за что третье отделение страдало больше нас. Вероятно, там был народ более прямой и откровенный, чем мы, грубили там попросту, скрываться не умели, и за это попадали в mauvais sujets навечно. Там иные девушки были совсем несчастные и совсем тупоумные от природы. Не понимаю опять, почему, замечая совершенную неспособность их выучиться, не могли бы распорядиться таким образом, чтоб этих девушек, при знании русской грамоты и закона Божия, занять одним рукодельем? Работать они могли отлично. Это могло бы им, по крайней мере, пригодиться впоследствии… Нам бывало и жалко, и смешно смотреть на них. Бедненькие питали к нам робкое уважение… Впрочем, одного mauvais sujet мы очень любили. Это была девушка удивительной доброты, вместе наивная и бойкая, но которую так часто лишали передника и «расчесывали в косички», что она вообразила себя чем-то вроде заброшенного сорванца или институтской шутихи. Она слыла у нас отличным куаффером, и первое отделение счастливило ее своею практикой. Вскочив раньше всех (не последняя жертва) она приходила в наш дортуар и устраивала нам великолепные прически «Clotilde», то есть передние косы, заплетенные в мельчайшую решетку. Причесав, она бежала к себе сломя голову и опаздывала одеться к молитве, что не обходилось даром. Помню, в одно воскресенье приехал мой отец и дожидался, когда кончится обедня и мы выйдем из церкви. Едва я подошла к нему, как подошел и мой милый mauvais sujet. Ей хотелось спросить что-то о своем брате, которого знали мои родные. Она спрашивала очень искренно, очень развязно, и чрезвычайно понравилась моему отцу. Классная дама покосилась на нее, нам тоже показалось это дико. «Без позволения mademoiselle… совсем незнакомый человек, и так щебетать…» Поступок был поистине вне институтского понимания…
Раздача книг в библиотеке. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.
Она пять лет не видала никого из своих… Не для нее по четвергам и воскресеньям наполнялась приемная зала, шел тихий разговор, передавались конфеты, рукопожатия, поцелуй… А были иные девушки, которые не понимали, может ли даже существовать воскресенье, пропущенное родными… Но здесь, вспоминая наших счастливиц, мне приходит на ум одна странная вещь. Несмотря на частые сношения с родным домом, эти девушки (об исключениях нечего говорить) так же мало знали и думали о средствах своих родных, как и забытые девушки. Страх ли это огорчить милую дочь, недоверие ли старшего к младшему вообще, или мысль, вкоренившаяся во многих семьях, что только сын в состоянии понять и разделить семейные заботы, а дочь – так себе, дорогая игрушка, будущее бремя, которое надо сбыть кому-нибудь на руки… Бог знает отчего это было, только так было. Может быть, и самый наш институтский склад, сконфуженно-торопливый даже в излияниях детской любви, наша рассеянность и невнимание ко всему, что не касалось сражений с классными дамами и учительских баллов, – может быть, и эти причины останавливали на время курса откровенные разговоры родных с дочерьми-институтками. Мы и точно смотрели обитательницами другого мира, к которому трудно приступиться. Помню, одна старушка прозвала нас всех «чистыми ангелами». Это была славная женщина, мать одной девицы нашего класса, женщина бедная и простая, получившая доступ даже в самый дортуар. Мы ее очень любили и ласкали. Но никогда не забуду одного гнуснейшего поступка, который может простить себе разве крайняя молодость. К одной воспитаннице приехала мать. Она нам встретилась… «Mesdames! Dieu! Voyez quelle horreur!» (Мадам! Боже! Смотрите, какой ужас! (фр.) – ахнули мы в голос… Дочь поняла, и горько заплакала тайком. Дама точно была страшная; но нас столько же испугал ее старомодный чепец и пестрое старое платье, как предметы, которые не должны были бы являться в стенах института… Помню также наивную мину и непростительное смущение одной институтки, когда ей попался листок газеты, где объявлялось о продаже имения ее близких родственников. В газете принесли ее приятельнице колбасу из лавочки. Приятельница, во всем мире не имевшая ни одной крепостной души, ни клока поземельной собственности, прочла, засмеялась и показала другу: «Как это, Танечка, у тебя пять душ продается с аукциона? Que c’est drole (Как это забавно (фр.), иметь только пять душ!» – «Какие пять, – возразила Танечка, вспыхнув от стыда, – видишь, вот еще три, еще семь… Et puis се n`est pas à moi, с`est à un oncle que je ne connais pas du tout… (И потом это не я, а дядюшка, которого совсем не знаю…(фр.))
Добро бы нас держали в роскоши, тогда бы подобные выходки были понятны… Но если наши родные молчали о себе, все же мы могли бы знать о горестях остального белого света. И в этом незнании я также решительно виню и наше начальство… Мы были в маленьком классе, когда над нами пронесся один страшный и всем памятный год. Половина России бедствовала; кругом Москвы горели леса; аллеи наши были буквально выжжены. Нам было душно, но вот и все. Что сделало это губительное солнце с нашей родиной, нам не сказал никто. Довольно того, что только после моего выпуска я узнала, как народ божий тысячами валил из селений в города, падая по дорогам в мучениях голодной смерти… Странное нерадение о нашем сердце, нерадение, которое могло бы впоследствии сделать из нас или эгоисток, или трусливых автоматиков, неспособных даже вынести первого столкновения с горем… И если б еще молодость не желала делать добра! Но мы бывали рады каждому удобному случаю. К сожалению, во все шесть лет нам дали их только два. Один раз как-то обмолвился эконом, что сгорел большой губернский город, и мы попросили вместо казенного бала послать бальные деньги туда. Да еще дала случай Анна Степановна. Раз мы подсмотрели в ее комнате бедную женщину с кучей ребят. Анна Степановна, вывернув весь свой бедный комод, раздавала по рукам от платья до обуви. Эта черта нас поразила… Мы попросили позволения сделать то же, и совсем вывернули наши еще более тощие кошельки и дортуарные табуретки…
Сколько помню, вакация на второй год в большом классе вышла превеселая. С нашими дамами мы были в каком-то особенном согласии. Мир не нарушился ничем, так они были снисходительны, мягки, даже шутливы. Эта чрезвычайная неровность в обращении понятна мне только теперь. Это было и бессознательное выражение потребности чувства, и смутное недовольство собой. Подобное соображение, способное разжалобить в пользу власти, конечно не являлось нам в то время. Мы были только до смерти рады, что с нами не воюют. Притом лето в этот год было чудесное. Наши вековые липы оделись непроницаемою тенью, притаив тысячи гнезд, до которых мы были большие охотницы. Весело было, закинув книгу, улечься в густой траве и ничего не делать. Солнце легонько пропекает сквозь листву, глаза смыкаются, а по губам пробегает какая-то безотчетная улыбка… улыбка молодости, которая думает, что ей не будет конца… Из-за полузакрытых ресниц нам видны дальние пределы сада; там мелькают зеленые платья, белые пелеринки и ручки с тетрадями. Вот по средней аллее, откуда можно обозревать нас всех, полтора часа не садясь, снуют наши классные дамы; синие платья так и сверкают. «О противные!» – и отвернешься…. Нам и в голову не приходило, каково им и что это за тоска – поневоле стеречь такое стадо! Что ж, что перед этими женщинами не заперты двери света? Не для них там любовь и домашний очаг: они там вечно останутся гостьями. Вот этого-то высочайшего счастья, быть своею, они не узнают никогда. Годы, десятки лет пройдут, и все то же, и все то же… Одно стадо сменит другое, синих платьев износится без счету, покуда, наконец, последнее ляжет в гроб вместе с его обладательницей… Но какое нам было дело до всего этого?.. В вашем мирке дружбы жилось привольно, без размышлений. Нам было весело. Маленький класс уже кричал нам «adorable»; иные красавицы насчитывали у себя десятки адоратрис. У меня была всего одна, и то преневзрачная девочка, но и та доставляла мне большое удовольствие. Я ее мучила нарочно, не давалась «целовать в плечико», не глядела на ее умильные рожицы. Она делала для меня тьму глупостей. Раз, после обедни дьячок мне подал просвиру, такую огромную, какою ни один архиерей не награждал заезжего гостя-архиерея. При ней была бумажка с золотым узором и словами: о здравии такой-то… Священник приказал сказать моей обожательнице, что в другой раз он такой просвиры не примет. Но предмет общих воздыханий была Фанни Каменецкая. Одна девочка прыгала от радости, что ей прописали пить скверный декокт, потому что Фанни пила тот же. Когда она приходила к маленьким, дежурная, с красным бантом на рукаве, спросить qui des dames s’abgente et quel maître a manqué, – по всем лавкам со свистом и удушьем раздавалось: «Oh, céleste beauté, ne nous rendez pas malheureuses!» Фанни останавливала их равнодушным взглядом. Это была счастливая девушка, которая прожила свою жизнь в институте особенно спокойно. У нее никогда не было ссор с классными дамами. Даже в общих бедах, распеканьях, стояниях на лавках и за обедом Анна Степановна как-то осторожно не относилась к ней с своею речью, а проходила далее, будто Фанни попалась так только, нечаянно, с другими. Встретясь с нею после выпуска, я как-то вспомнила об этой разнице обращения… – «On m’a ménagé parce que j’étais fière, – возразила Фанни: – je tolérais la couronne mais je ne la craignais point». Точно, она казалась горда, не столько на словах, потому что не любила доводить себя до разговоров с классными дамами, сколько презрительным выражением своего личика. Оно ясно говорило, что Фанни считает институтскую жизнь временем переходным, а наши мелочные волнения такою глупостью, для которой не стоит тратить сердца. Впереди свет, блестящий, нарядный; она будет в нем, конечно, не последняя. За тех из нас, кто страдал институтским страхом, она возвышала голос, и, зная свое странное влияние на классных дам, ошибалась редко. Для Фанни прощали виноватую. Она не раз оказала мне эту услугу, хотя я с ней ссорилась беспрестанно. В дортуаре она была моею парой по одеванью. Она находила, что я неловка, и бесилась страшно. Один раз, точно злобный котенок, она вонзила мне десяток булавок в руку, и в тот же день выручила меня из какой-то беды. В большом классе каждому отдельному дружескому кружку хотелось притянуть Фанни к себе. Мы смутно чувствовали, что у нее был, в сравнении с нами, какой-то перевес ума, вместе практического и насмешливого, который был нам необходим противу излишков восторженности и чувствительности. Мы ее и любили, и ненавидели. Часто Фанни служила нам яблоком раздора. В эту самую вакацию, о которой я теперь говорю, Фанни произвела страшную ссору между двумя приятельницами. Наша первая, Marie, долго обожала учителя немецкого языка. Вдруг ей понравился один толстый кадет на нашем бале. Ее соседка, Настенька, была постоянною поверенною ее сердца. Но в этот раз Marie скрыла от нее свою измену. Тайну о кадете она передала Фанни, удержав как-то за крылья ее ветреную дружбу. Фанни захохотала и рассказала кому могла. Узнав о столь гнусном обоюдном поступке, Настенька разразилась гневом. Ссора вышла на все отделение. Из одной аллеи в другую полетели курьеры с записками, наконец созвали свидетельниц, в том числе и меня. Первое из этих грозных посланий осталось в моих руках. Послания наши всегда писались по-французски.
«Marie, vous vous étonnerez, peut-être, que je prends la hardiesse de vous écrire, mais il faut noue expliquer. Je vous ai appliqué le terme de «lâche» qui vous a paru choquant, un terme que je ne me serais jamais permis de prononcer, si… Mais vous conviendrez que vous avez trompé bien cruellement mon aveugle confiance. Vous, que je croyais être l’idéale du beau, du sublime, vous, que je prenais pour modèle de vertus, vous vous laissez gouverner par une tête légère, par une personne perverse… Ce que j’ai appris relativement à votre objet m’a extrêmement étonné… Mais je ne veux pas y croire, c’est trop indigne de vous. Mais vous l’avez caché de moi, moi qui voue ai longtemps supplié… Ah! n’en parlons plus, je n’étais pas digne de votre confiance. D’autres personnes obligeantes, douces, dévouées, ont gardé votre secret de manière que la moitié de l’Institut le sait. Je vous assure que votre compagnie ne me fait ni chaud ni froid; je me suis mêlée à l’affaire unipuement parce que je vous ai vu là dans la révoltante compagnie d’une personne dont le caractère noir ne vous est que trop connu. Vous voue querellez avec Dounitchka Yaroslavtzeff parce qu’elle est en querelle avec elle. Je ne vous reconnais plus. Adieu. Je vous parle librement, tandis que tout le monde vous admire. Il y a y ait aussi un temps où je tous ai admiré. Déchirez ce billet. Epargnez-moi l’horreur de voir mes sentiments servir de jouet à vos amies…
Дело, разумеется, кончилось мировой. Под вечер этого дня враги уже ходили вместе, рука под руку, забыв и гнев, и слезы…
Я чрезвычайно приятно проводила свою вакацию. Наш кружок выбрал себе отличное местечко в аллее, у пруда, и заседал там. Мы вышивали по papier-piqué сувениры и закладки для книг, а одна приятельница, уткнувшись в траву, читала Байрона. Запретная книга огромного формата ловко пряталась в бездонных карманах, и перебывала у всего первого отделения. Мы в ней ровно ничего не смыслили, но, все равно, прочли. Более прилежные, удалясь от света, занимались своим делом. Его, по-нашему, было немало. Одному «божественному» Б. надо было приготовить повторение всей русской истории до самозванцев, да еще из всеобщей среднюю, по Смарагдову. Это руководство учитель наш принял в большом классе, а русскую историю имел терпение диктовать нам сам, в продолжении четырех лет… История лежала у меня на совести, но я откладывала дело сколько возможно к концу милого сезона. Особенно Смарагдов становился несносен под вечер дня, когда с запада потягивало прохладой. Так бы и ушел Бог знает куда, далеко, далеко… Уйти было некуда, и мы бежали к купальне. Вид пруда был наше наслаждение. Там громкий хор лягушек, которых весело дразнить, туда можно бросаться, тормошить трусливого друга, обдавать его водою… После купанья, впрочем, случалось несчастье: являлся волчий аппетит, в блаженна была та, которая имела гривенник! Если он был, мы пировали. Гривенник посылался к работнице священника, и оттуда приносили горшок молока и ломоть ржавого хлеба. Провизия исчезала в секунду, но помню, что одна моя приятельница приступала к ней с особым благоговением. На то был резон: она обожала священника. Священник наш был человек немолодой, болезненный и очень сериозный. Он никогда и не узнал об этом шестилетнем обожании, так оно было почтительно и всегда хранилось в тайне. Девушка эта была существо замечательное. Я никогда не видала более резкого типа будущей деревенской хозяйки, рачительной и благочестивой. Все в ней, от ее щепетильно-расправленного и разглаженного фартучка, головки причесанной волосок к волоску, до голоса, движений, почерка руки – все дышало аккуратностью. Поведения она была примерного; ее табуретка в дортуаре была образцовая по своему внутреннему порядку, но все-таки не могла не вмещать в себе чего-нибудь хозяйственного. Так, этим летом она солила грибы. Она заключала их в миниатюрную банку с душистыми травами, закрывала кирпичиком и прятала в табурет. Где она брала эти грибы, не понимаю. Мы никогда не участвовали в поисках. Под вечер, собравшись гурьбой, наша компания обходила все аллеи, оглашая воздух самым разнообразным пением. Тут было и quando le trombo squille, известный хор для мужских голосов из Пуритан, и квартет из Лучии, все спетое на самых тончайших дискантовых нотах. «Басов» мы «презирали», находя вообще, что это смешной голос, даже у мужчин, и приличен только зверю. Один басистый московский диакон, который как-то служил в нашей церкви, чуть было не уморил нас со смеху. За италиянским концертом шел духовный. В это лето певицы решительно замучили уши и несчастных классных дам и своей непоющей братии. Наш хор (в том числе и я) готовился венчать дочку эконома. Нам обещали за труды много конфет и винограду. Мы спевались и в классе, и кричали «Исаия, ликуй» в аллеях, что было сил… Вдруг, на нас нападала грусть… «Mesdames, панихиду, отпевайте меня», требовал кто-нибудь в кружке. И затем, на фальшивейших нотах, раздавалось в воздухе «со святыми упокой», «житейское море»… и так далее, и так далее – покуда наконец все это пение, утомив надзирательский слух, вызывало благоразумное: «Assez, mesdemoiselles… Eb bien, pour l’amour de Dieu!..»
Настроенные на грустный лад, мы обыкновенно просились навестить больных. Для молодости нет ничего несноснее нездоровья. Из лазарета часто долетали к нам записки, наполненные самых отчаянных возгласов о тоске разлуки, самых преувеличенных воззваний к счастливицам, которые на воле забывают, и проч. Кто просил списать стихов на память, кто требовал хоть так, сувенира; кто не считая себя в среде живых, спрашивал, уже нет ли перемен в институте и обожают ли там по-прежнему? Тут же сводились счеты по части дружбы. Помню, когда мне случалось быть больной, я бывала ужасно сердита.
Одну мою приятельницу я постоянно доводила до слез. Раз, под влиянием лихорадки, я настрочила ей четыре страницы, где выговорила ей все, все…
«Divine, incomparable Olga! Vous m’abandonnez… tous qui étiez ma seule consolation dans cet abîme! Vous, à laquelle je confiais mes douleurs, où êtesvous? Est ce donc ainsi que Ton aime? Quelquefois tous me chassez quand je viens tous demander quelque chose… Ah, au nom du ciel, que’est donc ce mépris! Si vous saviez combien je suis jalouse! Si j’ai un billet de vous, ne tremblez point, il sera sous clef comme un trésor, personne ne le verra. Oh, que je vous idolâtre! Avec quel transport j’ai écouté aujourd’hui du fond de mon abîme quand vous avez chanté. Ange, descendu du ciel! Au nom de votre ame, envoyez moi à l’infirmerie votre cahier de statistique pour B. Je sais que vous êtes capable de le donner à tout le monde excepté moi. Remettez à notre premier génie ma vilaine composition cijoint, mais si elle en rit, je suis perdue!.. Heureuse, vous êtes en classe, et moi!.. Adieu, pardonnezmoi mon audace. Déchirez ce billet, il ne doit être vu de personne, ne conservez pas même les traces de mon existence. Bien connue et bien détestée…
Меня спешили навестить. С своей стороны я была такая же усердная. Притом, идя в лазарет, можно было зайти к аптекарю и приобрести кусочек девьей кожи, или еще какой-нибудь дряни. А удовольствие пошататься с лестницы на лестницу? Оно чего-нибудь да стоило. В это лето на многих из нас напал решительный припадок дурачиться, хоть как-нибудь, да новеньким образом. Раз мы втроем взобрались на чердак, и что это было за наслаждение увидать себя в новом мире! Громадный лабиринт переходов, бесчисленное множество печей, перекладин, слуховых окон… только и видно, что небо да далекие московские трубы!.. Шалость осталась втайне. Но вслед за ней мы сделали другую, которую оплакали горькими слезами. Наша компания, убежав из саду, заседала на третьем этаже, в каморке у дортуарной горничной. Так было чрезвычайно приятно. Мы ели и посматривали в окошечко. Из окошка был виден угол глухого переулка, а внизу (как это мы забыли!) приходился в нашем саду балкончик из гостиной директрисы. Вдруг в переулке показались гуляющие, дама и мужчина. Дама была наша институтка, Lise Василькова, за полгода перед тем вышедшая из заведения, потому что родные приискали ей покуда жениха. Она уже была замужем, и шла под руку с супругом. Мы ее за что-то терпеть не могли… Завидев чету, мы с криком высунулись из окошка.
– Mesdames, Лизок идет, voyez c’est Лизок, est elle drôle, voyez!..
– Vos tabliers, mesdemoiselles, – сказала, входя, инспектриса классов.
Она сидела на балкончике с maman, и там видела все. Maman сама прислала наказать нас. Мы заливались горькими слезами. Три дня сряду, даром что нам давно уже возвратили передники, мы робко приходили в коридор, к кабинету maman, чтобы встретить хотя ее взгляд. Наконец, она нас заметила.
– Pourquoi me donnez vous du chagrin, mesdemoiselles, i moi qui Vous aimetant? – сказала она.
Ее прощение и улыбка сделали нас счастливыми на целый месяц.
Вообще об эту пору институтская жизнь наша была гораздо легче прежней. Перебирая ее, я стараюсь не забыть самого маленького случая, который бы стоил благодарной памяти. Так, вспомнив об инспектрисе, спешу помянуть ее добрым словом. Об эту пору в большом классе она выказалась нам с такой хорошей стороны, какой мы не ожидали. Из самых крайних mauvais sujets она выбрала трех или четырех и взяла их под свое покровительство. Ее гостиная отворилась для них, как гостиная директрисы отворялась для первых.
Во время вакации обыкновенно бывали еще два удовольствия: визит А-ского института, и потом отдача визита.
А-ские приходили первые. Это делалось с большим торжеством. В назначенный день, в пять часов после обеда, одетые в новые зеленые камлотовые платья и тонкие передники, имея при себе инспектрису, всех классных дам и всех пепиньерок, мы выстраивались по отделениям вдоль главного проспекта, ведущего от крыльца к так называемому маленькому саду. В боковом липовом боскете стоял оркестр. Швейцар, в полной парадной форме, ждал у крыльца. Вдруг, по данному полицеймейстером знаку, двери на крыльцо отворялись, и музыка начинала польский. Показывалось шествие. Наша директриса и член совета, встретив предварительно директрису-гостью, вводили ее в сад. За ними тянулась бесконечная вереница гранатного цвета платьев, чужие классные дамы, чужой эконом, полицеймейстер. Гранатные платьица приседали на ходу, мы, стоя, приседали то же. Дойдя до маленького сада, директриса раскланивалась, мы трогались с места, и оба института, мигом, врассыпную, покрывали извилистые дорожки. Целые партии шли в аллеи, другие скорее искали скамеек. В саду даже было тесно. Но если бы в нашу толпу проник какой-нибудь наблюдатель нравов с твердым убеждением, что тут-то и увидит умилительную фратеринализацию юных поколений, он был бы крайне огорчен. Гранатное не мешалось с зеленым. В маленьком классе это еще бывало, но в большом почти нисколько. Мы находили что гостьи и неловки, и совсем нет хорошеньких, et qu’elles n’ont pas du tout l’air comme il faut. Вообще, при совершенном отсутствии гордости между своими, мы твердо помнили, что наш институт не какой-нибудь А – ский, а повыше, и выше всех других в иерархии женских заведений… Мы уходили своими компаниями, высоко поднимая голову. Кроме того, нас занимало, как отличится в этот день наш эконом. К торжеству всегда готовились ведра шоколаду, вороха смородины, и даже дыни. Все это бывало превосходно, но чужой эконом всегда как-то умел перещеголять нашего… Музыка между тем гремела. Классные дамы напоминали нам, чтобы мы шли приглашать. Кадрили с гостьями составлялись неохотно. Понемногу, однако, вечер одушевлялся, и к той минуте, когда на небе вспыхивали первые звезды, а мы доедали тартинки с телятиной, то есть вообще, к минуте расставанья, праздник в самом деле принимал вид праздника…
Коридор между музыкальными селюлями. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.
Тоже самое происходило и при нашем визите соседкам. Раз однако была вариация. Нашла громадная туча и нас поторопили домой. О, как было весело! Сумерки набегали все темнее и темнее, полуверстное пространство между строениями институтов так и исчезло под стадом институток… Только и мелькали что белые пелериночки, да белые переднички… Ударил гром и все пустилось бегом, вскачь, и швейцар и классные дамы, и начальство… Чудо как было весело!..
Наконец вот подкрался и он, последний год курса. Задумавшись над учебником, мы выводим его цифру… На душе все сильнее растет и радость, и печаль… Мы учимся очень прилежно; каждая спешит наверстать потерянное время. Дружба наша пылает до того ярко, до того восторженно, что нам кажется, будто мы развели ее неугасимый огонь… А между тем это ее последние вспышки.
Мы не предчувствуем этого, как и не замечаем многого, хоть бы того, например, что мы стали несравненно хуже… Нам кажется, что в нас выросли прекрасные силы, энергия, стойкость мнения… Ничего этого нет; мы только стали несправедливы. Мы дошли до этого постепенно. Сперва безответность, а там, для самосохранения – ложь; из удачной лжи – способность хитрить; а при этой увертливой и какой-то насмешливой силе могли ли мы уважать тех, кого обманывали своею хитростью? С ужасом скажу, мы их презирали. И когда подумаешь, что эта нравственная порча выросла на чего ж? – из чистейшего вздора, из придирок к пустякам. Вспоминая совершенно беспристрастно как наших старших, так и нас самих, мне бы даже хотелось найти за нами крупные вины, крупные пороки, чтоб оправдать тех… Ну, хотя бы грубое своеволие, врожденную дерзость (таких было едва ли две-три во всем институте); ну, хотя бы, наконец, неслыханный между девицами порок – воровство, или – чудеса из чудес под замками института, – любовная история… Но преступления нет и нет – и я ищу напрасно.
Мелочами началось, мелочи и довершили зло. Мы сами стали несправедливы, – и странно, именно к концу институтской жизни, когда классные дамы смягчили свое обращение. Может быть, эта самая милость, вместе с памятью гонений и изредка еще воздвигаемыми гонениями, произвели наше новое чувство. Стыдно сказать, мы почти не выносили даже дельного замечания. Наконец, мы мстили, – глупо, недостойно, но как было в наших средствах. Раз, шестнадцатилетние девушки, мы высыпали целую солонку в суп Вильгельмины Ивановны, кажется, только за то, что она лишний раз сказала: «tenezvous droite». Вильгельмина Ивановна съела, мужественно съела, глядя нам в глаза. Ей не хотелось лишней ссоры. Из нас никто не попросил прощенья. В этот последний год мы нанесли Вильгельмине Ивановне много печали. Чего от роду не бывало, мы пожаловались на нее директрисе. Преступление ее было самое обыкновенное, совсем в ее нравах. На эту простую и снисходительную женщину напал припадок строгости. Она была в дурном расположении духа, и в свободное время усадила нас на места. Мы и точно что-то расшумелись… Тогда она разбранила нас всех «vilaines», показала язык и зашикала. Мы не вытерпели, хотя ее выходка, скорее смешная, чем грозная, могла кончиться мировой. Помню, это случилось на масленице, в тот день, когда нас обыкновенно возили катать под Новинское. Мы собрались в классную комнату. Вильгельмины Ивановны там не было. Все отделение страшно волновалось. – «Mesdames, il faut nous plaindre, c’est abominable», – раздавались крики на всех лавках. – C’est l’affaire de la première… Marie, allez, allez tout dire à maman, puisque vous êtes la seule qu’on épargne… После долгих опоров наконец порешили. Первая, стремя ассистентками, отправилась к maman. Все они дрожали как лист. Как-то было и унизительно жаловаться, и стыдно, что пошли с жадобой, не предупредив открыто Вильгельмины Ивановны, но дело было сделано. Девицы вошли в кабинет директрисы. Там сидела она, и совсем неожиданно, сама Вильгельмина Ивановна. Она казалось убитой. Но присутствие ее придало силы побледневшей депутации; по крайней мере, судьба устроила так, что жалоба приносилась, по крайней мере, в присутствии самой ответчицы. – «Что вам нужно, mesdemoiselles? – спросила директриса. «Я очень рада, что Вильгельмина Ивановна здесь, – начала Marie. – Первое отделение притесняют, maman…»
Задыхаясь, она выговорила все. Вильгельмина Ивановна не произнесла ни слова. Директриса выслушала и спокойно-повелительным жестом приказала им идти. Что произошло между ею и классною дамой, мы не узнали. Вильгельмина Ивановна никогда не помянула нам о жалобе. Думаю только, что самолюбие ее должно было сильно страдать, когда историю узнали прочие классные дамы, вдесятеро хуже ее…
В тот же день нас повезли под Новинское. Садясь в кареты, мы были очень удивлены, когда maman отдала приказ, что кроме первой ученицы, которая всегда уже ездила с нею, поедет с ней еще другая. Назначена была одна из депутации. Эта девица никогда не ездила с maman… Помню, что и тогда выбор показался нам не совсем ловким… Если наш поступок стоил дельного внимания, все же он не стоил награды…
Маленькое недовольство собою и как будто сомнение в совершенном правосудии нашей высшей власти оставили нас очень скоро. В этот последний год мы уже до того привязались к нашей директрисе, что и помыслить не могли о ней дурного… Бог знает чем, но эта женщина закупала наше сердце. Если вам особенно нравилось быть в ее гостиной, то потому что она была там сама, и приветливо кивала вам головою. Гостей к ней приезжало не много, составлялись тайны, участвовали и мы, но очень мало и робко. В ее именины и рождение мы делали ей сюрпризы. Особенно мне памятны живые картины этого последнего года. Костюмы были взяты из театра; гостиная директрисы уставилась декорациями. Мы придумали три картины: Аполлон и Музы, Наталья Долгорукова и Розьерка. Спектакль едва-едва удался, потому что мы все перессорились. Фанни Каменецкая, которая должна была представлять Розьерку, вдруг закапризничала. Что это за глупости! Что за коронование добродетели! Надо было скорее найти другую. Аполлон чуть было совсем не пропал, потому что поссорился с Анной Степановной, а первая ученица, которая в заключение должна была произнести стихи, совсем их забыла. Она вышла, присела и не сказала ни слова. Только смех директрисы восстановил общее веселье.
Праздник этот был в начале года, а два месяца спустя у директрисы случилась страшная семейная неприятность, и потом траур. Оба эти обстоятельства взволновали весь институт. Директриса была в отчаянии, она не помнила себя, ничего на свете. Мы плакали потихоньку, точно будто на все первое отделение надели траур. Проходя мимо ее комнаты, мы слышали плач и крики… Не могу сказать, какой ужас напал на нас… Так продолжалось несколько дней. Помню снов тогдашнее чувство, – престранное. Мне было очень жаль maman, но я обходила подальше ее комнаты, чтобы не видать ее, и главное, чтоб она меня не видала. До такой степени мы чувствовали себя бессильными смотреть на горе и сказать искреннее слово. Искренность была в душе, но стеснение запрятало ее глубоко. Мы понимали, что к этой женщине, которая рвет на себе волосы, нельзя подойти с книксеном и поцеловать ручку; а подбежать, броситься на шею мы не умели. Поймет ли меня кто-нибудь из тех, кто вырос на свободе? Не знаю, но так было со мной, и с большею частию из нас. После первых отчаянных минут maman пожелала нас видеть. Эти слова, а отнюдь не приказание явиться, передала нам ее внучка. Класс понял таким образом, что надо идти только первым, потому что они ее обычные посетительницы. Свидание этих первых было тягостно. Девушки большею частию тоскливо молчали и спешили уйти назад. Из них Marie ходила к директрисе чаще всех. Она была ее любимица, знала это, но так же, как и другие, не могла пересилить свою тягостную робость.
Так прошло дней десять. В одно утро мы застали Marie и Настеньку в больших совещаниях. Совещания сперва были тайной, но когда нам их сообщили, мы пришли в восторг. Наши первые сбирались написать стихи. В этих стихах должны были выразиться «чувства институток к страждущей maman». На бумажке уже было изображено заглавие: «Плач и утешение». Затем рифмованные строчки, перемаранные, потом опять строчки:
Наш ангел, наша мать, под чьим благим покровом, Мы так цвели, так счастливо росли, Ты страждешь, крест несешь… —и прочее. Потом строчки покороче:
Отлетевшего ей сына Покажи на небесах, Без печали, без кручины, И в сияньи и в лучах…Мы заахали. Так у нас были свои поэты!
Стихотворение было написано и поднесено. Директриса плакала. Немудрено, когда так шевелили ее раны…
Но поверят ли, что рифмоплетство-то было искреннее? Да, вполне искреннее. Оно было последствием нашего бедного, извращенного чувства, которое умело высказаться только в какой-нибудь официальной форме…
Marie торжествовала. Хотя стихи были не ее мысль, а Настеньки, но она их написала. Они понравились. Бедный поэт и не подозревал, что над ним сбирается гроза…
Не понимаю, что сделалось вдруг с Анной Степановной. Marie была в ее дортуаре. С тех пор как она заняла свое первое место в отделении, постоянно отличенная учителями, инспектором, посетителями, всегда на первом плане в приезд царской фамилии, с тех пор Анна Степановна стала называть ее «своею гордостью». В ее дортуаре был будущий первый шифр; Анна Степановна могла, пожалуй, говорить, что это светило всем обязано ей, ее неусыпным трудам и заботам… Ссора с такою девушкой, казалось, была бы неуместна, хотя бы для собственного самолюбия Анны Степановны. Но ссора, однако, началась, и без малейшей причины.
Характер Анны Степановны решительно ускользал от нас, когда нам хотелось сообразить его. Она перепробовала над нашим отделением самые разнородные способы обращения, выказала свой ум, свое сердце с самых неожиданных сторон. То страшное запугиванье, то кичливость перед девчонками, то вдруг бессилие власти до уныния, до унижения; маленькая, не нужная лесть, внезапные, из меры выходящие ласки со вчерашним врагом, похожие и на лицемерие и на глубокое, проснувшееся чувство, – все одно за другим, часто все вместе, выказанное в один и тот же день над разными личностями ее класса. Анна Степановна была неуловима. Может быть, из всех классных дам она была самая нелюбимая. В ней не было прямоты. Теперь, когда я о ней думаю, мне просто кажется, что Анна Степановна страдала тщеславием и маленьким esprit d’intrigue. Недостатки эти, до того обыкновенные в обществе, что едва ли не считаются там невинными, прекрасно и почти безвредно разошлись бы там на разные разности, – на желание нравиться, перещеголять соперницу, отмстить ей, на умиление перед знатью и деньгами, на сплетню со всеми ее треволнениями, страхом, что узнают, и прелестью меткого удара. Наконец, в свете, Анна Степановна могла бы точно полюбить, быть любимой, успокоиться среди домашних забот, – кто знает? – измениться совсем… Но в четырех стенах института это было совсем не то. Неспокойная душа Анны Степановны металась, отыскивая пищи, наносила вред себе, страшно портила иных, и, наконец, всех сбивала с толку.
В истории с Marie она выказалась вполне. В один прекрасный день Анна Степановна начала коситься, так, ни с чего. Взгляды были знаменательны. Marie, уткнувшись в книгу, не обращала внимания. За взглядами настал повелительный голос; та терпела. Положение все становилось грознее, желание снять передник все отчетливее, но не было ни случая, ни причины, да они не могли и прийти. Класс недоумевал. Приятельницы ломали головы, и наконец открыли дело: Анна Степановна приревновала Marie к директрисе. «Но как же так невзначай? Почему, когда прежде Анна Степановна и не думала о Marie и вовсе не любила ее?..» и т. д. Толков было много.
При моем сильнейшем желании найти в Анне Степановне хорошие стороны я готова даже сделать натяжку: я хочу верить, что ее возмутительное обращение с Marie было точно следствием ревности. Рядом с ней любили другую; любовь эта в последней время стала так очевидна, о директрисе плакали, за нее молились… Может быть, Анне Степановне вдруг стало очень тяжело, очень завидно… Но злое чувство взяло верх…
Дело было на Святой неделе. После многих неудачных попыток Анна Степановна как будто немножко унялась. Подошла пятница. На другой день мы должны были опять ехать под Новинское. Катанье мы считали праздником из праздников. Как дорого нам было это удовольствие, можно судить по следующему образчику. Год перед тем, во время Масленицы, в Москве была какая-то эпидемия вроде гриппа. Наш доктор пришел в класс объявить, что кататься не пустит. «Monstre épouvantable!» – раздалось со всех сторон. «Mesdames, запустимте в него башмаками», – сказал кто-то на моей лавке. Орудие было уже в руках. Но доктор был человек весьма вежливый. Он приятно улыбнулся всей компании и на башмаки, и шаркнув ножкой, поскорее юркнул в коридор.
Зато об эту последнюю Святую погода стояла великолепная, здоровая, и мы непременно должны были кататься. Накануне мы гуляли в саду. Marie твердила уроки, но вдруг почувствовала небольшую головную боль. Она ушла в дортуар и прилегла на полчаса. Когда все воротились в класс, пришла и она. (Не помню, по какому случаю, мы проводили последние дни Святой не в дортуаре, а в классах.)
– Вы больны? – спросила Анна Степановна, встречая Marie с значительною ужимкой.
– Нет, благодарю вас, моя головная боль прошла, и я совсем здорова, – отвечала та, и взялась за книгу.
Анна Степановна помолчала.
– Вы больны, – произнесла она опять, через минуту, и так настоятельно, что мы отложили перья и тетради.
Marie подняла голову.
– Да, и скрываете нарочно. Вы очень бледны; по лицу видно, что скрываете.
– Уверяю вас, я здорова, – возразила Marie. – я всегда бледна, это не новость.
– Извольте идти в лазарет.
– Зачем?
– Извольте идти и оставаться там.
– Но завтра катанье, – заметила Marie, удивляясь все более и более.
– Из этого ничего не следует; вы больны, вам нельзя кататься…
– Напротив, Анна Степановна, доктор говорит, что мне воздух необходим…
– Я ничего не знаю, что вам необходимо, – прервала ее Анна Степановна. – Я знаю только, что я вам приказываю идти в лазарет.
Marie вспыхнула.
– Но меня не примут, возразила она. – Доктор тотчас увидит, что я здорова, и что тут другие причины.
Мы сидели тихо, тихо. Прошло несколько секунд.
– Ну что же? – сказала Анна Степановна, показывая на двери.
Marie встала с своего места.
– Послушайте, Анна Степановна, – сказала она. – Если я, здоровая, завтра не буду кататься, все будут вправе подумать, что я сделала Бог знает какую вину. Кататься не пускают только самых отъявленных ленивиц, только самых дерзких mauvais-sujets; вы это сами знаете… Да и тех другие классные дамы прощают для такого дня… Кажется, я ни в чем не виновата, за что вы меня наказываете?..
– Allez vous plaindre à maman, – зашептали мы.
– Это несправедливость, это кровная обида, – продолжала Marie, выходя из себя. – Я сошлюсь на весь класс. Лазаретная дама не поверит, доктор не поверит, чтобы меня прислали не поделом, что это ваша прихоть; я не хочу терять в их мнении…
– Как вам будет угодно. Извольте идти, – прервала ее Анна Степановна очень твердо.
Вся дрожа от гнева, Marie накинула пелеринку и вышла. Случилось так, как она ожидала.
– Зачем же вас прислали, сударыня? – встретила ее лазаретная дама, улыбаясь и покачивая головой. – Дурно изволите вести себя, верно… Еще Анна Степановна добра; менажирует вас в глазах отделения. Могла бы, просто, оставить в классе, а то придумала благовидный предлог, болезнь будто бы…
Она смеялась. Приехал доктор и пожал плечами.
– Ночуйте в лазарете и пробудьте завтра, – сказал он. – Вероятно, ваша классная дама имеет на это свои уважительные причины.
День в лазарете прошел, Marie не каталась. С этого дня она дала себе клятву, что не вымолвит с Анной Степановной ни слова до самого выпуска. Анна Степановна и сама не хотела с нею говорить. Она глядела на девушку непостижимыми глазами. Оба врага, с искусством, достойным лучшего употребления, стали обходить самомалейшие случаи относиться друг к другу. Ни лишней встречи, ни лишнего поклона, ни даже движения головою в ту сторону, откуда мог заслышаться неприятный голос.
Месяц они выдержали таким образом. Marie начала худеть. Стеснение целого дня разрешалось вечером слезами злобы и тоской, что завтра будет то же. Анна Степановна, должно быть, тоже, на просторе, давала себе волю. Один раз, позвав к себе безответную Дунечку Ярославцеву, она излила перед нею свое сердце. Дунечка стояла молча, принимая новые пелеринки, которые надо было раздать дортуару и пометить.
– Voue êtes une ame angélique, сказала вдруг Анна Степановна, в волнении обняв ее. – Maie l’autre… l’autre… elle est horrible… ah, ce que je sens en sa présence!
Дунечка передала разговор… У Marie был странный характер, какой-то неопределенный: смешение робости с порывами сильного гнева, настойчивости с терпением, доходившим до апатии… Когда она услыхала новость, ее забила лихорадка. Мы, наконец, перестали понимать, что это такое. «Поди разбранись с Нероном», – советовали одни. «Проси прощенья, если тебе так тяжело», – говорили другие.
– Прощенья? да в чем же? вскричала она. – Я пойду, я объяснюсь, узнаю…
У нее побелели губы, она была страшна. Дело происходило в дортуаре; мы ложились спать. Marie довольно твердо подошла к комнате Анны Степановны. Мы ждали. Минут с десять она еще постояла у двери и наконец решилась войти.
Анна Степановна, кажется, первую минуту не поверила глазам.
– Что вам нужно? – спросила она.
– Я пришла спросить, за что вы меня ненавидите? – сказала Marie.
– Ненавижу? я? Кто это меня оклеветал?
– Вы говорили mademoiselle Ярославцевой…
– Спирту, спирту, где мой флакон!.. – вскричала Анна Степановна, опрокидываясь в кресла.
Marie бросилась к столику. «Комедия», промелькнуло в ее голове, и сунув флакон, в негодовании, с пылающими глазами, она выбежала вон.
Бедная Ярославцева чуть не схватила горячку.
– Зачем ты на меня сказала? – повторяла она среди бессонной ночи.
– Но, наконец, что же я должна делать?.. – спрашивала Marie.
На завтрашний день оба врага опять принялись за прежнее. Ни слова друг с другом, ни встречи, ни объяснений. Так прошел месяц и еще месяц. Marie страшно похудела и даже подурнела от постоянного выражения злобы. История ее до того затянулась, молчание не нарушалось так долго и так упорно, что молодая девушка, наконец, пришла в ужас. Будет ли выход из этого положения? Должен ли он быть? «Зачем, зачем я не пожаловалась maman?» – говорила она, ломая пальцы.
В ней явилось даже какое-то раскаяние.
– Ну, что я, попросту не сказала: ayez la bonté de me pardonner… Но, да в чем же?..
Раз ей стало до такой степени тяжело выносить свою молчаливую битву, что мы встретили ее у дверей Анны Степавовны. Marie шла в самом деле просить прощенья.
Но той не было дома. А на другой день, как нарочно, сама Анна Степановна еще хуже испортила свое дело. Она вышла на дежурство особенно горделивая и сердитая. Мы пришли в класс. Перед началом всегда читалась глава из Евангелия. Очередь была за Marie. Она взяла книгу, но Анна Степановна остановила ее грозным жестом.
Столовая. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.
– Allez, vous n’êtes pas digne délire l’Evangile… lisez, mademoiselle Fanny…
– О, когда так… – проговорила молодая девушка.
И она еще сильнее повторила свою клятву.
Пришла вакация, а они все молчали. Так как человек привыкает ко всему, то и Marie привыкла к своему странному положению. Она даже успокоилась, стала весела, и тихо занималась уроками. Вакация была не хуже предыдущей; грустного было только то, что две славные девушки из нашего отделения оставили институт. Мы горько их оплакали, но от прежних подруг беспрестанно летали записочки самого нежного содержания. Мы, как обыкновенно, сидели в аллеях. Дела было много, и потому тенистые своды лип оглашались прилежным жужжаньем. Лучшим способом запомнить мы находили ученье вслух и зажав уши. Другие находили, что моцион в этом случае полезнее, и мерили аллеи до сумерек.
Ходишь, ходишь… Но вдруг книга забыта, глаза смотрят в другую сторону… Со стороны мелькает наша тень… такая тоненькая, грациозная. Как бы повернуться так, чтобы она стала еще грациознее?.. Как бы убавить корсет, чтобы в талии было девять вершков? Очаровательные девять вершков! Только у Фанни во всем институте такая фигурка! Недаром Санковская, как увидала Фанни, назвала ее сильфидой… А личико? Как бы так похорошеть!.. Говорят, сок из бузины хорош от загара; чернильные пятна он выводит, правда, но это что-то скверно…
Буало и Массильон, патриарх Никон и десятичные дроби, конституция Англии и papaveracees (маковые, из семейства маковых (фр.), все вылетело из головы, как птички из клетки…
Нам шестнадцать лет: кажется, этим все сказано. Хочется нравиться кому-то – нужды нет, что кругом нет никого… Кого-то даже любишь… У него будут огненные глаза и кудрявые волосы…
Из боковой аллеи летит записка… Там занимаются тем же.
«A quoi songez tous? dites le tout de suite. Avouez tout, et vous aurez aussi ma confidence…»
Ho за ней другая: «Incomparable, veuillez me dire ce qu’il y a de plus sublime dans les Martyrs? Le repas libre ou le discours d’Eudore? Excusez mon audace…»
Литературный вопрос возвращает к действительности. Как много в ней печального! Хотя бы, например, вот эта книжка логики… В ней страничка о рогатых силлогизмах; о них еще шесть лет тому назад твердил наш первый педагог. Теперь опять силлогизмы перед глазами, и мы все их не понимаем. И как нарочно, книжек этих накуплено тьма; нельзя отговориться, что не почем выучить.
– Mesdames, куда девать логику? – спросил кто-то однажды в аллеях.
Но прежде чем мы успели отвечать, одна книжка уже летела в пруд, за нею несколько других…
– Браво! браво, пусть учатся лягушки! Утопленница! Кто вытащит?.. Тащите, mesdames!
И веселые крики огласили воздух…
Если бы только не эта логика, наш русский учитель имел бы в это время много обожательниц… Например, во сколько раз бывало приятнее твердить продиктованные им тетрадки! У нас было до полусотни билетиков, которые мы вынимали на удачу и бойко отвечали на каждый… «О изобретении мыслей»… «Какие могут быть начала или приступы сочинений повествовательных?» и т. д. Потом, тетрадь поэзии. Помню, что на приватном экзамене я даже отличилась: так крепко вытвердила «понятие об одной философической», и затем пример из Державина, начало оды «На возвращение графа Зубова из Персии».
О юный вождь, сверша походы, Протек ты с воинством Кавказ, и т. д.Marie и Настенька особенно в это лето занимались русскою словесностью. Как я уже сказала, это был любимый предмет Настеньки. Учитель перед вакацией предложил нам множество тем для сочинений, и наши первые разбирались в этом богатстве. Что написать? «Избрание на царство Михаила Федоровича» или «Убиение царевича Димитрия»? Разбор ли Телеги жизни Пушкина или поучительное сочинение о чувствительности притворной и истинной?.. Должны были сочинять все, и мы толпами осаждали наших мудрецов. Что будет полегче: «Утренняя молитва» или «Гнев»? Настенька советовала обработать «Утреннюю молитву» как сочинение описательное, то есть с восходом солнца, а из «Гнева» сделать рассказ. «Тут можно наговорить много отличных вещей, прибавила она. – Да эти сюжеты легки, а мне хочется чего-нибудь потруднее». Она нас одушевила. Мы бойко взялись за перья и заглянули в тетрадь риторики. Там о конце описаний сказано было много. 1. Обращаться к предмету с прекрасным желанием; 2. если описании напоминало о близком подобии или противном, то оканчивать уподобляемым или главным противного предметом, или близким применением; 3. окончить высокою, разительною истиной…
Противного мы не желали, но где было взять разительную истину к концу листочка? Бог Всемогущ – превосходно. Утренняя молитва окончена и подписана.
Но покуда мы довольствовались малым, Настенька и Marie творили чудеса. Они отбросили все учительские темы, потому что Настенька растолковала Marie нечто об их праве на свободное творчество. Это был намек на стихи, посвященные maman. Затем обе приступили к делу. Стихотворения так и полились. Тут были и Голгофа, и Бородино, и Птичка, и Буря, – целые тетради. Показали maman, она расцеловала; приезжал учитель, он похвалял и поощрил; какой-то гость у maman выразился, что эти таланты несравненно выше Пушкина… Настенька была счастлива. Ее радость электризовала и Marie. Тогда общими силами они принялись уже за новый род поэзии. Они написали историческую драму, и едва кончили, как задумали уже другую. Первая была из времен Петра, другая должна была осуществиться в виде громадной трилогии и называлась Иоанн III.
Мы только читали и ахали. Восторг охватил весь класс, и чуть мы не запели сами. По крайней мере наши записки к гениям были очень похожи на поэтические песни.
«Pourquoi le don de la poésie ne m’est-il pas donné et que ne pnis-je célébrer en des chants harmonieux les vertus sublimes de mon adorée Marie! Délicieuse et immortelle poète, honore moi d’un petit écrit de ta main, et pardonne ce galimathias; il vient d’un être qui a perdu le cerveau…
«Anaetaeie, savez vous que si j’étais à votre place mon nom serait absolument parmis les rangs des poètes? Heureuse Nastinka, pourquoi chercher un autre moyen pour vous illustrer? Il y aura peut-être un temps, où je me compterai heureuse de vous avoir connue et d’avoir parlé à une femme poète. Oh, que je vous envie! Dieu qu’il est beau, votre monologue de la jeune et candide Kete Rabe quand elle salue l’aurore et attend l’arrivée du vertueux pasteur Gluck… Ah! j’en ai rêvé toute la nuit…
И многое тому подобное. Фимиам хотя и не очадил Marie, но выгнал из ее головы заботу о ссоре с Анной Степановной. Ссора все-таки продолжалась, и вдруг напомнила о себе. В одно утро, когда, по обыкновению, Marie ходвда у пруда с карандашом и тетрадкою, ей подали записку.
Она была от Фанни. Фанни готовилась покинуть институт, потому что зима в Москве предстояла веселая, и она намерена была выезжать. До выпуска оставалось немножко больше полугода, но Фанни закапризничала. Она мигом уговорила родных, и в один прекрасный день объявила властям qu’elle quitte la hideuse couronne. Ей уже шили множество нарядов, она не ходила в сад, a посиживала с Анной Степановной. Ta, в свободные дни, была совсем к ее услугам, рыскала по лавкам, покупала, меняла, хлопотала. Они были очень дружны…
«Marie (гласила записка), allez demander pardon à A. G. Hier elle m’a dit, que même le jour de sa fête vous n’avez pas voulu la oir.»
Marie опустила руки: она ничего не понимала. Вслед за этим посланием пришло другое, от одной недавно вышедшей приятельницы Анна Степановна была в гостях у ее матери. Приятельница писала конфиденциально.
«Mon ange, qu’est ce que cela que tous coûterait de lui dire que sa froideur vous fait de la peine? Rien que ces simples paroles. Croyezmoi, elle serait déjà à vos pieds. Je ne vous l’aurais pas dit si je n’en étais toutàfait sûre. Elle attend une parole de voue… Hier elle a fait sentir que cette seule parole suffirait pour… ous me comprenez…
– Не верь, – закричали мы хором, увидав записку, – не верь!
Marie однако заплакала. На нее напал страх, который мы тогда разделили с нею. Четырехмесячная ссора перед выпуском – а поведение аттестует Анна Степановна! Она может наговорить таких чудес! Положим, директриса не поверит, и Вильгельмина Ивановна заступится, она добрая; но Вильгельмина Ивановна ведь не прямая начальница. Анна Степановна может настаивать на том, что у ее ученицы дурной характер; выдут споры, скандал… Уж если не совсем лишат шифра, то дадут последний, потому что надо же будет все-таки уважить Анну Степановну… Marie очень дорожила своим будущим первым шифром, потому что о нем мечтали ее родные.
Ее опять взяла тоска. Но как мириться? Что сказать? Просить прощения – но ведь это нелепо!
Думая и думая, Marie чуть не слегла в постель. После каждого дежурства Анны Степановны, засыпая, она начинала бредить ее лицом. История, казалось, не могла уже иметь исхода… Но вдруг ее развязал непредвиденный и счастливый случай.
У Marie был родственник, пожилой вдовец, которого она не видала целый год. Прежде, навещая ее в институте, он постоянно бывал любезен с Анной Степановной, не пропускал и случая сказать ей комплимент; пожалеть, что она не участвует в светских удовольствиях, порассказать московские и петербургские новости. Он всегда просил позволения пройти в комнату Анны Степановны, чтобы пользоваться ее обществом и видеть племянницу на просторе. Теперь этот родственник приехал.
– Дядя, дядя, – тихонько закричала Marie, увидав его в приемной зале. Она наскоро передала ему все. – Умоляю вас, устройте как-нибудь, помирите нас.
Родственник улыбался.
– Но что же мне делать, моя душа? Вы, женщины, такие милые капризницы, что вас понять трудно.
– Что хотите, то и говорите ей, дядя, лишь бы поправить мою беду.
Тот встал.
– Так сиди здесь, – сказал он, смеясь, – я пройду к Анне Степановне, а потом попрошу кликнуть тебя…
Немного погодя Marie уже входила в комнату своего врага. Анна Степановна казалась очень оживлена и вовсе не сердита.
– Мне грустно, – начал родственник, – если какое-нибудь недоразумение заставило вас подумать, что моя племянница не любит вас, или что-нибудь подобное… Наконец, молодость, вы сами знаете, что такое молодость? Простите ее.
– Вашу племянницу Marie, мою бесценную Marie, мое дитя! О, но вы не знаете, как я люблю вашу племянницу!
Она вскочила, схватила остолбеневшую девушку, поцеловала ее в плечо и потянула к себе на колени.
Примирение длилось с полчаса. Marie целовала Анну Степановну. Родственник наконец уехал.
Так прекратилась эта странная институтская история, едва ли возможная в других нравах. Воротясь к нам, Marie казалась сконфуженною и грустною. Мы тоже были как-то недовольны. Всем казалось, что дело решено неладно; но как надо было поступить, не придумал никто. Впрочем, эта мысль заняла нас ненадолго. Подошел день выхода Фанни, и внимание наше обратилось на эту разлуку.
Она вылетела такая нарядная, прекрасная, пролив несколько жемчужных слезинок. Мы плакали и восхищались ее шляпкой. Месяца два от нее приходили записочки. Часто в них слышалась печаль и маленькие вздохи об институте, но скоро замолкли и они, и сама переписка. Издалека приходили еще письма, то с горькими слезами о «прежнем счастии», то радостные. Одна приятельница извещала, что у нее очаровательный жених; другая, что ее увозят в глушь, где можно умереть, не видав лица человеческого. Это были первые голоса иной, но уже близкой жизни.
Она подкралась скоро.
Вот последний экзамен в классах.
Много их было; каждый год приносил эту тревогу, и за нею трепет, когда считались баллы, начиналась «пересадка», понижения и повышения, упреки и похвалы учителя, грозные выговоры и похвалы директрисы.
Но из всех экзаменов особенно памятен последний. Какое чудесное время!
…Ночь. Но в дортуаре не спит никто; никто даже и не лежит в постели, разве какая-нибудь безмятежная душа, не помышляющая об утре. На дворе так поздно, что ночник, висящий посреди потолка, вспыхивает и потухает: в нем скоро недостанет масла. Но пусть себе гаснет: в дортуаре не будет темно. По всем концам огромной комнаты, на полу таинственно мерцают огоньки, рисуя по стенам уродливые тени кроватей. Кругом огоньков что-то шевелится. Это мы – тут все наше население. Бивак разбит по разным концам на полу; стеариновые огарки горят посередине (свечи и спички – дань наших fidèles adoratrices (верных обожательниц (фр.) маленького класса). Заседание окружено грудою книг, прочитанные тетради служат изголовьем той, которая на минуту позволяет себе опочить на лаврах. Назавтра Закон Божий, а там другой предмет, третий, и таким образом пять дней тревоги, пять ночей приготовления.
Прелестные ночи! Только и слышится сперва, что тихий, монотонный говор, отрывочные фразы. Из груды билетов рука наудачу вынимает один, другой. «Какие суть преимущественные выражения истинной любви к богу?» «Что такое суеверная надежда?» «L’épopée fut-elle cultivée au seizième siècle?» (Создавались ли героические поэмы в XVI веке? (фр.) «Начало папской власти». «Хронологический взгляд на историю Англии от основания королевства до дома Тюдоров».
– Тюдоры? Но когда же это было? Что это такое? Mon Dieu, mesdames, malheureuse que je suis! Я ничего завтра не отвечу! раздается внезапно жалобный голос.
– Не бойся, я подскажу.
– Нельзя; нас вызовут на средину.
– Подменим билет. Mesdames, как бы наметить билеты?
Начинается совещание. Затем, на секунду все тихо.
– Mesdames, я умираю с голода! Увы, увы, а колбаса съедена! пищит кто-то.
В углу хохот… Мы бежим смотреть. Книги, тетради, билеты, все брошено.
– Садитесь, mesdames. Тут пишутся стихи на Анету-Цербера… Да ну же, скорее рифму! Помогайте.
Кружок делается огромный. Вдруг в коридоре шорох. Тревога, тревога! Классная дама проснулась. И вмиг погашены огоньки, стихи юркнули в тетрадь, в дортуаре все тихо.
Прелестные ночи! Пора последних волнений! Экзамены сданы, и с ними кончен шестилетний труд. Еще, еще немножко, и мы будем дома. Отовсюду веет воздухом близкого родного берега. И этот воздух туманит нас; мы от него отвыкли. Каждая почта привозит в институт множество писем; в семьях поднялись хлопоты: скоро воротится дочь. Эти хлопоты, радостные и печальные, досадные и затруднительные, может быть в первый только раз поверяются дочери. Мы смущены, и письмо прячется от друга: первое недоверие, первая тайна, с тех пор как мы надели институтское платье.
Но раздумываться еще некогда. Идут приготовления к акту. Это почти праздник, маленькая суматоха. Учитель чистописания составил великолепный альбом из образчиков нашей каллиграфии; учителя рисования окончательно перерисовали ваши рисунки, забрав их предварительно на дом; русские и французские сочинения переписываются набело для публики; каждый день в приемной зале идет репетиция итальянского пения и танцев.
По другим отраслям нашего звания кипит такая же деятельность. Мы подготовляем ответы. Кто из нас будет отвечать, и что именно, это мы уже знаем. Мы только молим учителей, ради Господа Бога, чтоб они не сбились. Молят даже те, которые могли бы без обмана вынести испытание. Но публика… Вся Москва будет на акте; сконфузиться недолго.
Вот наконец и эта публика. Она наполняет залу сверху донизу. Она смотрит на полукруг стульев, на которых сидит юное, готовое выпорхнуть население института. Не знаю, слушает ли она экзамен. Речь идет о бессмертии души, о пользе термометра, об уложении царя Алексея Михайловича. Но вот, впрочем, внимание возбуждено: шляпки заколыхались в дальних рядах, мужчины привстали на месте. Настенька громким и уверенным голосом читает свое стихотворение «Последний привет подругам». Она кончила. Говор похвал слышится в первых рядах, присутствующие умилены, русский учитель в полной радости; он подходит к столу, покрытому красным сукном, и раздает почетным посетителям и любителям просвещения экземпляры «Привета». Публика сейчас развезет их по Москве. И там, на досуге, может быть, какой-нибудь критик разберет, что это новое, отрекомендованное свету дарование.
Назавтра вечером публика еще наряднее, еще блестящее. Зала ярко освещена. Хорошенькие личики кажутся еще прекраснее. Десятки лорнетов отыскивают и в разных концах залы. Оркестр гремит; хор ваших певиц распевает Лучию и Adieu à l’Institut; затем на средину вылетают легкие пары. Начинается грациозный pas de châle, венки и гирлянды из цветов; розовые и белые шарфы так и вьются в воздухе, встречаются, сплетаются; из-за движущегося арабеска выглядывают прелестные глазки. «Délicieux, délicieux!» не выдерживает кто-то. И все оживилось, поднялось с мест, звезды, голубые ленты, бархатныя пдатья. Где-нибудь, в углу, льются слезы радости, идут поздравления. «Cette sortie est vraiment distinguée… Votre fille est ravissanté; quel effet elle fera dans le rtonde!» Публика расходится, и еще долго слышно восклицаніе: «charmant, charmant!»
Торжество кончилось… Еще несколько дней, и мы совсем свободны. С разных концов России скачут на почтовых и плетутся на долгих разнородные экипажи с родителями и родственниками. В институтских стенах беспрепятственно ходят модистки, разные посланные со свертками покупок, с записками и деньгами. В дортуарах, рядом с казенным камлотом, лежит белый газ, кружева, великолепные вышивки. Тут же рядом есть и скромный mousseline suisse (швейцарский муслин (фр.) на коленкоре. Над этим коленкором льются чьи-то слезы.
– Ради бога, маменька, сшейте другое; в этом на выпуске показаться нельзя… Что это за гадость! Купите хоть пу-де-суа.
– Сударыня, да ты вспомни, мне и перчаток-то тебе не на что купить!..
И многое в этом роде… Домашняя жизнь уже столкнулась с институтскою жизнью, а вытесняет ее с неудержимою силой.
Подошли наконец и последние минуты… Шифры, медали, аттестаты розданы, пропет благодарственный молебен… Толпа родных выходит из церкви, торопят экипажи, дочерей… Пора!
По всему институту раздаются плач и рыдание. С третьего этажа до нижнего, от классов до каморок служанок, везде положено по земному поклону, везде пролетают слова: прощай, прощай…
Мы ловим друг друга, мы падаем без чувств в объятиях. Мы обнимаем директрису, классных дам, опять бежим по коридору в пустой лазарет… Со всеми ли простились! О, будут ли нас помнить!
И клятвы в неизменной любви, клятвы остаться институткой до гроба уже оглашают растворенные сени… Еще слезы, еще несколько секунд, и все кончено…
Лошади тронули. На сумрачном мартовском небе рисуется громадный профиль институтского здания… Вот он уходит все дальше и дальше… Там пусто теперь. Но что нужды? Скоро жизнь пойдет там своею обычною колеей, и двери, растворенные для нас сегодня, затворятся завтра, приняв новое поколение… еще и еще… и неизменно как самая вечность…
С тех пор прошло пятнадцать лет. Что же в этот огромный период жизни уцелело в нас от института?
Если вглядеться в сотню женщин, в одно время со мною сошедших со школьной скамейки, то придется сказать, что институтская жизнь дала нам очень, очень немного, чтобы не сказать ничего. Семейные и общественные наши добродетели и пороки во всех возможных проявлениях, наш характер, образ мыслей, наши страсти, наши вкусы и привычки – все это дело нашего детства до института и той среды, где каждая из нас очутилась, после выпуска. Эти шесть лет были только какой-то неопределенный промежуток времени, почти без связи с прошедшим, без влияния на будущее… Мы почти с первого дня в обществе совершенно то же, что другие женщины наших лет, не-институтки. В самом деле, кто же скажет, чтобы вот эта, ничего не делающая, капризная и вместе бездушная кукла, вот эта удивительная мать семейства и хозяйка, вот это самоотверженное существо, иссохшее за трудом и исполнением своего дочернего долга, вот эта блестящая женщина, съедающая сотни тысяч и бегающая за приключениями, вот эта ходячая сплетня, вот эта злобная барыня-«крепостница», и вот эта кроткая душа, которая изнывает при одной мысли о людской неправде, – кто же скажет, что все они вышли из одного гнезда…
…Какая семья (по крайней мере в мое время) готовилась к тому, что в нее воротится семнадцатилетняя дочь? Готовилась не с экономической, а с нравственной стороны? Покуда мы твердили своих Расина и Буало, под многими родительскими кровлями происходили те же беспорядки и нравственная разладица, которые видела дочь в своем детстве. Все это встретило нас, «милых невежд жизни», на пороге родного дома, и мы вошли в общую колею покорно, без размышлений. Да, мы все взяли из жизни домашней в светской, – взяли готовое, потому что из института ничего не принесли с собою.
Прием родственников. Фотограф Петр Петрович Павлов. 1902 г.
В самом деле, что из этих шести лет могло пригодиться нам для света?
Сейчас только они прошли перед моими глазами… Жизнь однообразная, лишенная всякого интереса для постороннего зрителя! Сколько мне удалось слышать от моих предшественниц, так провели и они свои шесть лет; значит, это обыкновенный ход институтской жизни. Наши маленькие волнения и страсти, точно бури в стакане воды, разыгрывались в самой ограниченной и замкнутой сфере; условия их развития зависели единственно от правил институтской жизни, а между ею и светом нет ничего похожего. Дурные стороны нашего характера, приобретенные во время воспитания, хитрость, скрытность, рабское безгласие и т. п. должны были или исчезнуть от соприкосновения с жизнью свободною, или принять совсем другую форму, смотря по тому, что нас встретило в семье и обществе.
Самое лучшее, что было в прошлом, – это наша дружба. Она выросла из равенства наших тогдашних понятий, из наших общих маленьких страданий. Вылетев из заперти, она не уцелела и на десятую долю. И характеры наши, которые выглянули с их настоящей стороны, и разница положений в свете, и новые понятия о людях, и тысячи других причин убили эту дружбу. Конечно, между многими из нас еще сохранилась приязнь; но в том виде, в каком она была в институте, продолжаться она уже не могла; а чтобы переработать ее в новую, крепкую форму, мы не нашли в себе никакой самобытной силы. Мы стали поступать так, как повелевали законы света, и от прежней, восторженной любви осталось одно вялое, пассивное чувство…
За дружбой надо помянуть наше знание… Но им воспользовалась горсть избранных, то есть те, у кого были богатые способности или кто был приготовлен дома. Несчастное распределение наших классов сделало свое зло. В свете не прибавилось воспитанных женщин; а недоучившиеся бедные девушки лишились возможности добывать кусок хлеба…
Что же еще пригодилось нам из прошлого?.. Не знаю.
Может быть, найдут, что этот приговор слишком строг. Скажут: «шесть лет – так немного! Дай Бог в этот короткий срок успеть приучить нас хоть к чистоте, аккуратности и порядочным манерам, дай Бог, хоть чем ни попало, удержать нас чинно на лавках, покуда наши головы наполняются бедными клочками науки…»
Неужели ничего больше… Нет, мы могли вынести из наших стен драгоценнейшее сокровище, которым только может обладать человек, – мы могли вынести понятие о справедливости, любви к правде.
Как бы потом ни встретила нас извращенная среда, энергическое желание правды было бы в ней опорой и средством действовать на окружающее. Как бы ни ломала, ни портила нас жизнь, все же от этого благотворного задатка уцелело бы в душе хоть что-нибудь, выросло бы скорее и крепче и не привело бы многих из нас, оглянувшихся, к печальной необходимости нравственного перевоспитания…
Пусть бы тогда институт наш и гордился своим первенством… Он дал бы свету поколение женщин, на руках которых с доверием и надеждой можно было бы видеть новое, подрастающее поколение…
1861
Мария Сергеевна Угличанинова. Ок. 1832–1896. Воспоминания воспитанницы сороковых годов
…Мы жили в Галиче Костромской губернии, где отец мой служил по выборам дворянства, на лето уезжая в усадьбу в трех верстах от города. <…> Он был, как говорили знавшие его люди, от природы человек очень умный, но не получивший никакого образования, о чем всегда скорбел, и, как он сам сказывал, поступив в 1799 году юнкером в полк, только там научился читать и писать, но писал правильно, как я могла судить по его ко мне письмам в Смольный. Он сделал кампании 1806, 1807, 1812, 1814 гг., был во многих сражениях и, как сказано в его формулярном списке, своей храбростью и отвагою служил примером воинам, за что награжден был орденом. Он вышел в отставку в 1815 году, женившись сорока лет на маме, когда ей было семнадцать <…>.
Приехал как-то к нам родственник моей мамы, С.Ф. К<упреянов>, бывший тогда губернским предводителем. В разговоре с отцом он спросил, почему тот не подал прошения о принятии меня в Смольный монастырь, где в этот год должна была быть баллотировка на прием воспитанниц.
На это отец ответил, что о старшей дочери он подавал во все институты, и все безуспешно.
– Одной счастье, другой другое, – сказал С<ергей> Ф<едорович> и советовал сейчас же написать прошение и послать с эстафетой в Кострому.
Так и сделали. И какова же была радость моего отца, когда через несколько времени пришла бумага о принятии меня в Смольный монастырь, куда я должна была быть представлена не позднее 1 сентября. Это было в 1839 году. Говоря о радости отца, я уверена, что мама ее не разделяла. Не проходило дня после этого известия, чтоб она не плакала.
– Ну как она может вынести тысячеверстную дорогу, – говорила она, с сокрушением качая головой и ломая руки, – да ее туда и живую не довезут.
Она тем более сокрушалась, что самой ей нельзя было меня провожать, так как находилась на последнем периоде беременности, отцу же нельзя было уехать от службы, и вот, посоветовавшись между собою, решились отправить меня с сестрой моего отца, которую мы все, дети, очень любили и звали ее тетей Верой. <…> Выдвинули из сарая зеленую бричку, осмотрели ее и нашли годною сделать тысячеверстную дорогу, подобрали тройку лошадей, могущих выдержать этот путь, и отец назначил день выезда 2 августа. <…> Прощай, Галич! Прощай, все родное, ставшее с этих пор таким дорогим.
Я не помню первых впечатлений в дороге, не помню городов, какими мы ехали, но знаю, что ехали не на Москву. Экипаж наш не ломался, и лошади шли хорошо. <…> Но вот мы уже въезжаем в Петербург. <…>
По приказанию отца мы остановились у нашего крепостного крестьянина, какого-то подрядчика. Помню, мы вошли в комнату с грязными стенами и таким же полом, из щелей которого страшно дуло.
– Вы бы, Вера Филипповна, свезли маленькую барышню в баню, – говорит наш хозяин, видя, что я вся дрожу, – здесь недалеко есть отличные нумера в две комнаты с коврами, и даже, если захочется пить, можно спросить меду.
Тетя Вера послушалась и не поскупилась взять хороший нумер, и, когда меня вымыли, мне очень захотелось пить, и я напомнила ей о меде, который она и велела нам подать, и вот мы с ней порядочно попили холодненького медку.
Как доехали из бани и что со мною было, я уже узнала после из рассказов тети Веры, которая страшно перепугалась, видя меня в жару и без памяти, и бросилась к знакомым моего отца, Адамс, усадьба которых была недалеко от нашей, и так как они жили в Петербурге, то отец как сосед делал им разные услуги по управлению имением. Когда мы поехали в Петербург, он дал тете Вере их адрес с наказом обращаться к Амалии Петровне Адамс во всех затруднениях по моему определению в Смольный.
Это были очень богатые люди, имели собственный большой дом, кажется, на Владимирской улице, и держали своих лошадей.
Она сейчас же с тетей Верой приехала в карете и увезла меня к себе. Когда я несколько пришла в себя, то вижу, что лежу в чистой кровати с кисейными занавесками и возле нее сидит мальчик, который, увидев, что я открыла глаза, сейчас же закричал:
– Бабушка, она очнулась!
Ко мне подошла пожилая хорошо одетая дама.
– Ах! Матинька моя, ведь надо тебя везти в Смольный, – говорит она, – а то, пожалуй, пропустим срок, и тебя могут не принять.
И вот они с тетей Верой, которая была тут же и заливалась слезами, начали меня одевать, но я и с их помощью едва держалась на ногах.
По выражению Амалии Петровны, у меня были только кости, обтянутые кожей, и до меня страшно было дотронуться, как бы я вся не развалилась.
Когда меня одели и тепло закутали, мы все втроем отправились в Смольный.
Помню, что меня ввели или, скорее, втащили в большую комнату, куда вышла очень дряхлая старушка в белом капоте и в белом чепчике с оборкой. Это была начальница Адлерберг в последний год ее жизни.
Меня подвели к ней, и, как мне после рассказывали, я упала к ногам ее без чувств, а она сказала: «Armes Kind»[1], – велела тотчас же унести меня в лазарет. <…> Я пробыла в лазарете, как мне сказали, ровно два месяца.
Надо сказать, что в то время лазарет был очень далеко от классов и обыкновенно больных сажали завернутыми в одеяло в особо устроенное кресло без ножек, по бокам с длинными палками, за концы которых брались два служителя и несли, а впереди шла классная дама. Несли долго, поднимались и опускались по каким-то лесенкам; но выздоравливающие уходили сами в сопровождении женской прислуги, которой было по две на каждый дортуар. Меня же <главный доктор> Романус и из лазарета велел таким же образом, завернутою в одеяло и в больничном белом балахоне, отнести в дортуар, наказав еще раз, чтобы две недели продержали меня в маленьком лазарете, в то время как другие пойдут в класс учиться.
Когда меня принесли, служащая девушка ввела меня в огромную комнату, по обеим сторонам которой, с проходом посередине, стояли кровати, возле каждой из них по столику, а в конце по табуретке. На обоих концах этой комнаты стояло по большому столу, за которым, когда я вошла, сидело много девочек. Был какой-то праздник, и классов не было. Меня подводят к одному из них, все смотрят с любопытством <…>. Классной дамы в это время не было за столом.
Начинается разговор. С-ва спрашивает меня:
– Ты ела жирандольки?
Я отвечаю, что не знаю, что такое жирандольки. Она меня толкает больно локтем в бок, так что у меня навертываются слезы.
– Mesdames, она не знает, что такое жирандольки! – а сама опять толкает в бок.
Одна из девочек поддерживает С-ву и говорит, что она ела жирандольки и что они очень вкусны. Все смеются. Продолжается допрос моей мучительницы.
– Ты кого обожаешь?
И на мой ответ, что не знаю, что такое «обожать», она меня больно щиплет, и я готова разрыдаться <…>. Но тут за меня вступились, закричали на С-ву, говоря, что пойдут жаловаться m-me Ma-вой[2], и начали мне рассказывать, что такое «обожать». Это стараться видеть обожаемый предмет, который был обыкновенно из девиц старшего класса, и когда она мимо проходит, то кричать ей вслед: ange, beauté, incomparable, céleste, divine et adorable[3], разумеется, не при классной даме, потом писать обожаемое имя на книгах и тетрадях с восклицательными знаками и с прибавлением тех же самых слов.
Но я иначе поняла это «обожание» и подумала, что, верно, няню обожала, но не смела сказать. Тогда вспомнила, что перед моим отъездом из дома старшая сестра моя, которую только за неделю перед этим привезли из пансиона, говорила мне, что в Смольном воспитывается одна из ее подруг Машенька Перелешина, которая вместе с ней одно время была в пансионе и которой она велела мне передать поклон, вот я и сказала, что обожаю ее, но предмет, выбранный мною для «обожания», я только увидела через две недели, так как должна была пробыть это время в маленьком лазарете, и оно было самое тоскливое для меня. <…>
Наконец прошли эти две недели. Мне принесли коричневое камлотовое платье, белый полотняный передник, пелеринку и рукавчики и поставили в пару, чтобы идти в класс.
Поместили меня с самыми слабыми ученицами, так как я и читать еще не умела, но после перенесенной мною болезни у меня оказались очень хорошие способности и отличная память, так что я скоро догнала и перегнала моих подруг и через год была переведена в 1-е отделение, где были лучшие ученицы.
Кроме того, из болезненного хилого ребенка я превратилась в здоровую краснощекую девочку и во все почти девять лет ни разу не была в лазарете; даже во время эпидемических болезней, например кори, скарлатины и прочего, была в числе немногих незараженных.
Когда я отправилась вместе со всеми в столовую, то просила показать мне Перелешину, которая в это время была в «голубом» классе; после объясню эти названия. У каждого класса были совершенно отдельные столы, и я могла только издали на нее глядеть, и вот внезапно у меня загорелась сильная к ней привязанность: ведь одно ее имя мне напоминало далекое родное! Я не кричала ей, когда она мимо меня проходила: ange, beauté и так далее, но когда ее видела, то темнело в глазах и билось сильно сердце.
Помню, что я просила одну из подруг передать ей поклон от сестры и, когда она подошла ко мне и стала расспрашивать о ней, я была в большом восторге и долго жила этим, вспоминая каждое ее слово.
Эта привязанность, единственная, не давшая мне никакого горя, продолжалась четыре года. Ее взяли из Смольного раньше выпуска.
Теперь буду говорить о своей классной даме Ма-вой, от которой была в зависимости все 8 лет и 9 месяцев, находясь в ее дортуаре. Когда я поступила, это была старая девица лет под шестьдесят. Лицо у нее было смуглое, испорченное оспой, с длинным носом и широким ртом с большими желтыми зубами, волосы были черные с проседью; носила она всегда чепчики с яркими лентами, синее платье и красную турецкую шаль. На третьем пальце у ней было надето черное эмалевое кольцо с золотыми словами, и если которая из девочек досаждала ей, то, сгибая этот палец, <она> старалась кольцом ударить прямо в темя провинившейся.
Она внушала нам, что мы не должны любить родителей, а любить только их, так как те только дали нам жизнь. Но эти внушения производили совершенно обратное действие; чувствовалась обида в сердце за своих родных, которые еще с большей любовью вспоминались, а к ней накипала в сердце ненависть.
Кроме того, она часто заставляла нас писать домой о присылке денег, на которые ничего почти не покупала, и они у нее бесследно исчезали.
Как вообще она к нам относилась, приведу следующий рассказ.
В маленьком классе, то есть в «кофейном», классные дамы по вечерам помогали нам приготовлять уроки к следующему дню. И вот однажды, года через два после моего поступления, сидим мы все за столом в дортуаре, я – по правую руку от Ма-вой. Приготовляли уроки из Закона Божия, и Ма-ва рассказывала, как Дух Святой снисшел на Деву Марию, и, желая объяснить это наглядным образом, нагнулась ко мне, открыв широко свой рот, и дохнула прямо мне в лицо. Я невольно отшатнулась, а глядя на меня, сидевшие напротив две девочки не могли удержаться от смеха. И вот она с силою вытаскивает нас всех трех из-за стола, толкает к стене и, грозя каждой перед носом пальцем, кричит с пеной у рта:
– Я лев, я зверь! Я мстительница! Не любите меня, но бойтесь хуже зверя! Я вам дам дурной аттестат, и вас никто замуж не возьмет!
Во время своего дежурства в классе она, постоянно дремавшая, вдруг проснется, и беда той, с которой она встретится глазами, сейчас же ей закричит: «Встань и стой!» – или вытащит ее за рукав и поставит среди класса, то есть накажет совершенно неповинную, и мы должны были молча сносить. Протест с нашей стороны сочли бы за дерзость. Конечно, это приучало нас к терпению, и в жизни, может быть, некоторым оно и пригодилось, и если бы практиковалось ею собственно для этой цели, можно было бы и извинить, но ведь мы чувствовали, что она нас всех за что-то ненавидит, и платили ей тем же.
Особенно она преследовала одну славную добрую девочку, которую мы все очень любили за ее кротость и, переделав фамилию, звали Курочкой.
И вот от этой-то особы мы должны были зависеть все девять лет, особенно те, которые были в ее дортуаре, так как под ее наблюдением вставали и ложились спать, а также, как я уже говорила, приготовляли с ней уроки. <…>
Говоря <…> о Ма-вой, не могу не вспомнить добром других классных дам, которые относились к нам справедливо, внушая хорошие и честные правила.
Особенно из них была прекрасная личность Радищева, которая обращалась с нами как мать с детьми, а потом сменившая ее Дитмар; классная дама Самсонова была очень строгая, но справедливая, мы уважали и боялись ее. Конечно, они все были большие формалистки и до нашего внутреннего мира им никакого не было дела, да и не было никакой возможности проникнуть в него. Ведь у каждой из них нас было по двадцати человек и более.
Свой внутренний мир мы открывали друг другу. От этой замкнутости получалось особенное единение и дружба. Мы интересовались всем, что касалось каждой из нас, и это была как будто одна дружная семья, состоящая из полутораста человек.
Тогда, как я поступила, в одном здании Смольного были две половины: одна, на которую я была принята, называлась «благородной» и там воспитывались дети дворянского происхождения, учение которых продолжалось 8 лет и 9 месяцев. Туда принимались девочки с восьмилетнего возраста.
Другая половина называлась «мещанской», хотя, кажется, мещанских детей там не было, а больше дети чиновников недворянского происхождения. Учение здесь продолжалось 6 лет. Воспитанницы обеих половин виделись только в церкви, хотя ухитрялись между собою ссориться. Так, я помню, под запертую садовую калитку подсунута была к нам с той половины записка в стихах, где нас упрекали в гордости, советуя чаще читать басню о гусях, и кончалась эта записка словами басни: «Да, наши предки Рим спасли»[4].
При нас произошло переименование обеих половин. Нашу стали звать Николаевской, а «мещанскую» – Александровской.
На нашей половине было три класса.
Младшие назывались «кофейными» и носили коричневого цвета платья. Средний класс назывался «голубым», и платья были голубого цвета, а старший, выходной, почему-то назывался «белым», хотя платья носили зеленого цвета. В «кофейном» и «голубом» должны были пробыть по три года, в «белом» – 2 года и 9 месяцев.
Переходили из класса в класс не по учению, а обязательно по истечении определенного срока. Так, в нашем классе были две воспитанницы, которые при выпуске едва умели написать свои фамилии, их учителя уже и не вызывали к ответу уроков, а только ставили в книге «нули», но они были смирные, и их держали, тогда как С-ву (которая спрашивала меня про жирандольки) исключили из Смольного, главное за то, что не могли отучить ее от постыдной привычки тащить все чужое.
При переходе из класса в класс мы меняли и помещение, но классные дамы оставались при нас те же и переходили вместе с нами.
Их было по восьми на каждый класс, состоящий из полутораста человек, значит, во всех трех классах было приблизительно 450 воспитанниц; некоторых брали раньше выпуска, и число это уменьшалось.
Обедали все в одной столовой, громадной зале, разделенной двумя рядами колонн, посредине их помещались «белые», а за ними с одной стороны «голубые», а с другой – «кофейные».
При каждом классе было по одной инспектрисе. В то время, как я поступила, в старшем классе была Денисьева, в «голубом» – Панчулидзева, а в нашем, то есть в «кофейном», инспектрисой была Бельгард, мать кавказских героев Карла и Валериана Александровичей, и я помню, как государь, приехавший к нам и которому начальница ее представила, хвалил их, назвав молодцами.
Главный фасад здания Смольного института
Начальницей на нашей половине, то есть на Николаевской, была Адлерберг, которая вскоре умерла, и место ее заступила Марья Павловна Леонтьева, урожденная Шилова, остававшаяся на этой должности до глубокой старости.
На Александровской половине была своя начальница, фамилия ее была Кассель.
Главный же начальник надо всеми был принц Петр Георгиевич Ольденбургский, приезжавший к нам каждую неделю.
В каждом классе было четыре отделения: два первые, где были лучшие ученицы, и два вторые, с более слабыми. Отделения эти назывались «городскими» и «невскими», по окнам, выходящим на улицу и на Неву. Нам преподавали: Закон Божий, историю, географию, математику, русскую словесность, французский и немецкий языки.
В «кофейном» классе все это преподавалось в сжатом виде, в «голубом» – в более обширном, а в «белом» – еще обширнее, и, кроме того, в этом последнем классе преподавали на французском языке ботанику, минералогию, зоологию и физику: все это, конечно, в сжатом виде. <…>
За преподаванием зорко следили, чтобы не было какого опасного веяния и чтобы хотя кончик не был приподнят той завесы, которая отделяла нас от того таинственного, волшебного и прекрасного по нашим понятиям мира, который был за нашими стенами.
Нас никуда не выпускали; даже если кто из родителей воспитанницы, живущий в Петербурге, опасно занемогал и желал видеть ее, то она отпускалась на несколько часов в сопровождении классной дамы и не иначе как с разрешения императрицы, которое испрашивала начальница.
Лето мы проводили в нашем огромном саду, с широкими симметрически расположенными и усыпанными песком аллеями, обнесенном со стороны Невы высокой каменною стеной, а с другой стороны – зданиями Смольного.
Здесь с самого утра, если дождя не было, собирались все три класса, и я, бывало, выбирала и садилась на скамейку поблизости от того места, где читала или занималась Машенька Перелешина, и была совершенно счастлива, хотя она и не подозревала этого.
Один раз в лето нас водили попарно в Таврический сад, отстоящий, как известно, недалеко от Смольного, по улицам, тогда еще плохо застроенным и пустынным, так что мы почти никого не встречали, но все-таки в ограждение нас по бокам шли полицейские, и в это время в Таврический сад никого из посторонних не пускали.
Придя туда, мы большей частью ходили попарно, разве на какой лужайке позволят нам побегать, зорко следя, чтобы не убежал кто в сторону. Потом опять собирали нас в пары, и мы возвращались в Смольный в таком же порядке и в сопровождении тех же полицейских.
Зимой в хорошую погоду водили попарно гулять в сад, а в дурную, также попарно, через холодные, светлые с каменным полом коридоры – в громаднейшую, в два света, пустую и холодную залу, кругом которой обводили нас раз пять также по парам, после чего и возвращались в классы. Зала эта, как говорили, при Екатерине II служила местом для спектаклей из воспитанниц, куда приезжала императрица со своим двором, но при нас эта зала стояла в запустении и не имела никакого назначения. <…>
На второй год моего пребывания в «голубом» классе Машеньку Перелешину взяли из Смольного домой, и я почувствовала себя совсем одинокой. Ведь так скучно жить для себя и одной своею жизнью.
И вот является у меня новая привязанность в лице подруги одного со мной класса Д. Стра<тано>вич. Это была такая сильная, чистая и возвышенная привязанность, наполнившая и скрасившая всю остальную серую, будничную институтскую жизнь, что я не могу обойти ее в своих воспоминаниях, хотя, может, и вызову у некоторых насмешливую улыбку; но, так же, как и первая привязанность, она дала мне немало страданий. <…>
Главным страданием в этой привязанности был страх за ее здоровье. Она часто хворала и, вспоминая свою умершую чахоткой мать, говорила, что, вероятно, и она тем же кончит, и этими словами надрывала мое сердце. Не нахожу слов описать мое мучение, которое испытывала, когда ее уносили в лазарет и большей частью от какой-нибудь грудной болезни.
Навещать лазарет было невозможно. Нам было это строго запрещено и считалось «уголовным» преступлением, грозящим исключением из Смольного.
Впоследствии я поняла, почему так строго на это смотрели. Смольный монастырь такое громадное здание и в нем было столько жителей из разных служащих, что пуститься одной по этим пустынным коридорам, как бы по безлюдным улицам, было опасно, да и к тому же надо было знать туда хорошо дорогу; я ведь говорила, что лазарет был очень далек от классов.
Сообщение у больных со здоровыми было письменное через женскую прислугу. <…>
Но зато сколько было радости, когда она поправлялась и выходила из лазарета! Мы были с ней в одном отделении, в 1-м, уроки у нас были общие, и мы приготовляли их вместе. Это время было самым лучшим для меня. Занятия наши иногда прерывались, она метко и остроумно говорила о какой-нибудь институтской злобе дня, и я так любила ее слушать. Память у меня была лучше, но она никогда не узнала этого. Я притворялась, что не могу запомнить то, что давно уже знала, щадя ее самолюбие и давая ей возможность тверже заучивать урок; зная иногда его лучше, отвечала учителю на тот бал, который она должна была бы получить, если бы ее вызвали. Письменные же занятия, которых все больше и больше прибавлялось, всегда делала за двоих. У нее, как она говорила, от них болела грудь. Иногда, не успевая кончить их днем, вставала часа в три ночи, запасаясь накануне свечкой из ночника, и отправлялась в класс, спеша приготовить уроки до утреннего звонка, то есть до 6 часов.
Я не считала это для себя трудом, а скорее наслаждением, помогая ей, и скажу, что эта привязанность действовала на меня благотворно, приучая к труду и отгоняя скуку, которой никогда не знала, будучи постоянно занята, а если когда выпадало свободное время, то у меня всегда была в запасе для чтения книга, к которому имела пристрастие с тех пор, как научилась читать, но книги эти было довольно трудно доставать, хотя у нас и была своя библиотека. В «голубом» классе мы пробавлялись детским журналом «Звездочка»[5], и если по каталогу спрашивали какую другую книгу, то большей частью получали в ответ, что нам еще этого читать нельзя, а потому те, которые имели родных в Петербурге, запасались от них этою контрабандой и, одолжая подруг, просили не попадаться классным дамам.
Помню, как однажды, заручившись «Пиковой дамой» Пушкина, данной мне на срок, спешила кончить ее в урок чистописания. Совершенно углубившись в чтение, вдруг чувствую, что у меня эту книгу тащат, и, взглянув, вижу классную даму Самсонову, о которой говорила раньше. Книга была конфискована, а меня поставили среди класса, что считалось большим наказанием. Но этим не кончилось. После урока началось следствие, кто дал книгу, и так как я упорно молчала, то была опять наказана с угрозой довести мой поступок до сведения инспектрисы.
Эти наказания были для меня ничто в сравнении с тем нравственным наказанием, которое <я> испытывала, слушая справедливые упреки подруги, давшей книгу, и не имея средств купить и отдать ей взамен новую, так как у меня в руках никогда не бывало денег, их присылали на имя Ма-вой, а это значило совсем их не иметь. <…>
Император Николай Павлович бывал редко, но, когда приезжал, был милостив и прост в обхождении с нами, также и императрица Александра Федоровна, приезжавшая чаще и всегда в сопровождении своих дочерей, тогда еще великих княжон Ольги Николаевны и Александры Николаевны.
Княжны были в высшей степени обаятельные особы, и, мне кажется, будь они и не царские дочери, обаяние их было бы не меньше.
Немало тогда говорилось об уме и красоте великой княжны Ольги Николаевны, но кто ее не видал, тот и понять не может, какое это было совершенство. Оставя уже правильность линий ее лица, напоминавшего черты лица государя, ее нежную белизну с легким румянцем, надо было видеть выражение ее прелестных несколько грустных голубых глаз, ее очаровательную улыбку, видеть эту царственность, соединенную с простотой. При этом она была высока ростом и стройна, и походка ее была полна величия и грации. Я так и вижу ее в белом легком платье в нашем саду, стоящею с некоторыми старшими воспитанницами в кругу за веревочкой.
Игра эта состояла в том, что одна из «белых», стоящая вне круга, должна была прикоснуться к плечу которой-нибудь, и они бегут в разные стороны, стараясь занять место в кругу. Когда же участвовала в этой игре великая княжна, то ее всегда выбирали, заменяя прикосновение рукой поцелуем в плечо. И вот она грациозно скользит, спеша занять оставленное ею место, и ей это всегда удается, и ее выбирают снова и снова. Румянец ее усиливается и придает особенный блеск и без того прелестным глазам, и, глядя на нее, кажется, и не налюбуешься. <…>
Великая княжна Александра Николаевна была так же хороша, но рядом с сестрою красота ее, конечно, теряла, но обаяние ее было в фации, жизнерадостности и веселье. Она, бывало, как птичка порхает между нами.
Надо сказать, что, когда приезжал кто из царской фамилии, нас ставили в зале линиями, и так как императрица Александра Федоровна любила видеть красивые лица[6], то в первые ряды выбирали самых хорошеньких, пряча в середину дурных, хотя бы они были и из первых учениц. И вот она, как будто зная это, летит в эту середину, раздвигая ряды своими прелестными ручками, а там уже их ловят и целуют, а она сквозь улыбку, стараясь сделать серьезное лицо, так мило погрозит пальчиком и скажет: «Я этого не позволяю», – что тем так и захочется, как они потом говорили, не послушаться ее и расцеловать этот прелестный грозящий пальчик. <…>
Теперь скажу о принце Петре Георгиевиче Ольденбургском, посещавшем нас каждую неделю, в заведывании которого состоял Смольный монастырь.
Многие еще, вероятно, помнят, какой это был превосходный, полный доброты человек.
Он был большой любитель музыки, и ему мы были обязаны, что слышали всех выдающихся артистов того времени, приезжавших в Петербург.
Так, помню, у нас пела Росси, два раза играл Лист, большей частью сочинения Шопена, играла Клара Вик, вышедшая замуж за Шумана, с которым вместе и приезжала к нам. Слышали очаровательное пение Тамбурини. Особенно запомнилось трио из «Лючии»[7], исполненное им с сыном и дочерью, но не могу не остановиться на воспоминании об игре на скрипке Эрнста. Впечатление этой игры и самая его фигура так и врезались в моей памяти. Высокого роста, очень худой, бледный, с головой и лицом, обросшими черными волосами и с печально-строгими глазами.
Но вот он заиграл свою элегию, и, Боже мой, сколько было тут тоски и муки и как рыдала его скрипка! Даже наши юные сердца невольно сжались от непонятной нам печали, и у многих были на глазах слезы.
Но нет, он не захотел оставить нас под этим впечатлением и, кончив элегию, не отнимая скрипки от плеча, заиграл «Carnavale de Venise», и сразу вся зала наполнилась весельем. Тут слышен был и шум, и визг, и хохот, и мы, с восторгом улыбаясь, поглядывали друг на друга. Аплодировать нам не позволялось. Это был чарующий и блистательный апофеоз его игры, которым он и закончил.
Хочу еще <…> поместить два воспоминания.
Первое – о наших казенных балах, бывавших в именины государя, государыни и в Новый год. С самого утра в этот день мы уже несколько волновались, а с шести часов вечера начинали причесываться.
Были между нами особые мастерицы, заменявшие парикмахеров, и тем всегда было много работы. <…> В этот день нам приносили вместо полотняных передников с лифчиками тонкие коленкоровые; пелеринок и рукавчиков на бал не надевали, а у некоторых на шее был черный узкий бархатец. Вот и весь наш бальный туалет.
В восемь часов вечера классные дамы вели нас чинно, попарно в ярко освещенную громадную залу, по обеим сторонам которой были белые колонны, а между ними невысокая балюстрада того же цвета, за которой, возвышаясь несколько амфитеатром, были прикрепленные к полу лавки белого же цвета. На них помещались с одной стороны «голубой», а с другой – «кофейный» классы, а «белые» были посередине залы. Они танцевали между собой за кавалера и за даму: кадриль, вальс, польку, приглашая на танцы некоторых «голубых» и очень редко «кофейных», которые были только зрительницами.
В конце залы поставлены были кресла для начальницы с некоторыми приглашенными ею гостями, большей частью дамами почтенного возраста. <…>
Танцующих кавалеров не было, за исключением старичка генерала с сильно трясущейся головой Бунина, две дочери которого были одного со мною класса, а старшая – в «белом» классе. Мы все его очень любили и звали дедушкою.
Оркестр музыкантов у нас был свой, и в этот вечер он весь был в сборе. Нам давали оржад и что-то из лакомств. Потом служащие при дортуарах девушки приносили в корзинах бутерброды из черного хлеба с маслом и куском телятины сверху, а в 12 часов был ужин. В эти дни мы были сыты.
Второе воспоминание относится к обеду с выигрышами.
В Крещение на каждый класс запекались в пироги вроде бемских по три боба. Пироги эти резались на 12 кусков на каждое блюдо, и прислуга, разносившая их, не знала, в котором они запечены. На каждом из этих трех бобов была особенная отметка. Один назывался «царицей», и выигравшая его получала бонбоньерку с конфектами, наверху которой была прикреплена небольшая бронзовая корона. Второй боб был «фрейлина» с выигрышем тоже бонбоньерки с конфектами и с воткнутою розой вверху ее, а третий, о котором я мечтала целые шесть лет и, будучи в «белом» классе, его выиграла, назывался «секретарем». Выигрыш этот состоял из небольшого тисненой кожи портфеля со всеми письменными принадлежностями.
Раздача этих выигрышей была очень торжественна. Присутствовали: начальница, инспектрисы, инспектор и эконом, в руках которого и были все эти выигрыши.
Надо было видеть, с каким старанием и волнением каждая, получившая свой кусок пирога, расщипывала его на мелкие кусочки, надеясь найти который-нибудь боб; воцарялась даже на несколько секунд тишина.
Помню, в каком я была восторге, найдя своего боба «секретаря», и не верила даже глазам своим. Мы, выигравшие, все девять человек, по три из каждого класса, вышли из-за стола, провожаемые завистливыми взглядами подруг и восклицаниями: «Счастливицы!» – и подошли к начальнице, которая, взяв выигрыш из рук эконома и передавая его воспитаннице, поздравляла ее. Помню, как, получив свой портфель и прижав его к сердцу, не чувствовала от радости ног под собой, возвращаясь на место.
Когда пришли в дортуар, я стала рассматривать свое сокровище. Он запирался хорошеньким ключиком. В нем было несколько отделений с почтовою бумагой и конвертами, а в середине были: дюжина стальных перьев с ручкой, перочинный ножик, карандаш, сургуч и маленькая линейка.
Я сейчас же переложила туда из сшитой мною картонной сумочки письма отца и записки из лазарета Д. Ст<ратано>вич и была в этот день так счастлива! Это ведь была моя первая собственность.
Мне казалось, что те, у которых были родные в Петербурге, не могли ощущать такой радости, имея и шкатулки, и портфели, а также и бывшие в дортуарах других классных дам, а не Ма-вой, покупавших на их деньги все для них необходимое.
Долго и после выпуска хранился у меня этот портфель, и только при переезде из одного места в другое он был в числе прочих вещей затерян. <…>
Первое, что при переходе в «белый» класс заставляло радостно биться наши сердца, – это предстоящее на Святой катанье <…>.
Нам велено было к этому времени связать из пунцовой шерсти шапочки вроде маленьких капоров, и, помню, мне его связала Д. Ст<ратано>вич. Наступил давно желанный день.
Приехали дворцовые кареты, запряженные четверней с форейторами. Мы надели наши красные шапочки и зеленые камлотовые салопы, и в этом одеянии все казались страшно бледными. В каждую карету посадили пять воспитанниц. Шестое место занимала классная дама, и так как их не хватало, то должность их заменяли воспитанницы, старшие годами.
Меня назначили в числе других пяти из нашего дортуара в карету Ма-вой, напротив которой заняла место Д. Ст<ратано>вич.
Мы тронулись, сопровождаемые по бокам карет жандармами верхами.
Наша Ма-ва надела на себя какой-то невозможный черный капор, делавший ее похожею на воронье пугало, и сейчас же задремала, качаясь из стороны в сторону, а мы и рады были этому, передавая вполголоса свои впечатления, любуясь не виданными нами новыми предметами, великолепными домами и этою повсюду снующею толпой.
Но вот мы подъехали к самому месту катанья. Кареты почему-то остановились, и наша Ма-ва просыпается.
Вдруг мы видим и слышим, как один господин из публики, стоявшей к нам очень близко, показывая в упор на нашу карету, говорит другому, стоящему с ним рядом:
– Посмотри, какая у этого окошка сидит хорошенькая, а классная-то дама, напротив, как чучело.
И оба смеются.
Конечно, это не делало чести их воспитанию, хотя, судя по одежде, они были из интеллигентов, и нам следовало бы, соблюдая законы приличия, и вида не показать, что мы слышим их слова, но нас одолел молодой смех, от которого мы все тряслись, стараясь от него удержаться и глядя в противоположное окошко.
К довершению всего одна из нас, желая толкнуть ногой другую, толкает нечаянно ею Ма-ву, и та, обводя нас всех убийственным взглядом Медузы, шепчет:
– Негодяйки! Негодяйки!
Каждый раз, как, делая круг, мы приближались к тому месту, где стояли эти господа, мы хотя и старались всеми силами сделать серьезное лицо, не могли не видеть, как они, смеясь, показывали нам головою и глазами на названное ими чучело.
В этом не могли им помешать и жандармы, нас охранявшие.
По окончании катания сколько было рассказов, сколько было смеха при рассказах об этих двух господах и Ма-вой. Ее ведь решительно никто не любил, и даже прочие классные дамы сторонились, глядя на нее как бы с презрением.
Следующее катанье на Масленице, хотя и радовало нас не меньше, но не произвело на нас такого впечатления, как первое. Оно было уже не ново для нас.
В «белом» классе, кроме прибавившихся учебных занятий и церковного пения, стали обучать итальянскому языку, учителем которого был Кавос. Прибавлялись также уроки рукоделья, и мы по очереди должны были, не ходя в класс, заниматься им, хотя учителя и протестовали, так как это отвлекало воспитанниц от учения, и большая часть из нас стала наверстывать время, вставая по ночам, а я не знала, что и делать, не успевая писать за двоих и опасаясь за здоровье Д. Ст<ратано>вич, которая также стала вставать задолго до звонка.
С первого же года поставили в двух огромных рукодельных комнатах по громадным пяльцам для вышивки ковра, предназначавшегося для дворца.
Ковер этот длиною в 16 аршин должен был, как нам передавала учительница рукоделия, сшиваться вместе, что она впоследствии так искусно исполнила, что при самом тщательном осмотре никому и в голову не могло прийти, что он сшивной. <…>
Стали также приготовляться разные работы гладью.
Учительница танцев Кузьмина стала также требовать лишних занятий. Мы должны были протанцевать на публичном и императорском экзаменах менуэт, гавот и какой-то фантастический танец с шарфами.
Танцевальные уроки были после классов вечером и опять отрывали нас от учебных занятий, и те, которые хотели добросовестно заниматься, не имели решительно отдыха. Некоторые же, хотя их было немного, философски рассуждали, что не стоит беспокоиться и мучить себя, ведь все равно всех выпустят и в наказание не оставят в стенах Смольного, не подозревая того, что то, что казалось теперь наказанием, для иных впоследствии было бы величайшим благом, если бы эти стены опять их к себе приняли.
Портрет Александры Петровны Левшиной. Художник Дмитрий Левицкий. Картина входит в цикл портретов «Смолянки Левицкого».
А время идет да идет, и мы приближаемся к последнему году. Учителя уже нового ничего не задают, заставляя повторять все пройденное, и уже многие сделали из сшивной бумаги ленты с обозначением месяцев и чисел, отрывая каждый прошедший день.
Наконец наступил этот желанный и так долго ожидаемый 1848 год.
Не заря уже, а яркое солнышко нашей свободы показалось на горизонте!
Иногда среди занятий я вдруг останавливаюсь, и сердце трепетно, как птица в клетке, забьется. «Да неужели, – думаю, – я скоро увижу моих далеких дорогих мне существ, к которым стремилась все девять лет; нет, – думаю, – это невозможно, чтобы я могла существовать без этих стен и чтоб они могли существовать без меня; непременно должно что-нибудь случиться, что не даст мне испытать этого счастья», – и становится страшно за это счастье.
После Нового года и Крещенья сейчас же начались инспекторские экзамены, по которым назначались награды. Они были строги, но справедливы.
Принимались во внимание и баллы, получаемые воспитанницами в «белом» классе; главный балл был 12.
На этих экзаменах присутствовали: принц Ольденбургский, министр народного просвещения Уваров, начальница, инспектриса и инспектор, и по окончании их мы уже знали, кто и какие получит награды.
Нас выходило всех 140 человек, и из 1-го отделения должны были получить: 10 воспитанниц – шифры[59], 10 – золотые медали, из них три большие, три средние и четыре маленькие, величиной с целковый, и 15 – серебряных медалей, пять больших, пять средних и пять маленьких. На этих медалях вверху было изображено солнце с лучами на лозы виноградника и со словами внизу: «Посети виноград сей», – а на другой изображение императора Николая Павловича, внизу которого стояли слова: «За отличие», и выставлен 1848 год.
Во 2-м отделении, где были ученицы более слабые, 10 из них получали книги.
Награды эти должны были раздаваться уже по окончании публичных и императорских экзаменов.
Кроме того, каждой из воспитанниц, в том числе и не получившим награды, предназначалась небольшая сумма денег; тем, кто получали награды, – больше, остальным – меньше; на мою долю приходилось 137 рублей, и каждая из нас получала Евангелие с русским и славянским текстом.
Нам заказали белые из самой тонкой кисеи со многими складочками платья на юбках белого гласе коленкора; лифы были открытые с тюлевыми вышитыми нами самими бертами. Наряд этот заканчивался очень широкою белой атласною лентой, бант и концы которой были назади.
И вот, когда на генеральную репетицию танцев нам велели надеть эти платья, дав в руки по легкому розовому шарфу, мы с удивлением, не узнавая, глядели друг на друга и иные казавшиеся дурнушками вдруг превращались в хорошеньких, чему способствовало, кроме платьев, и возбужденное радостное настроение. Из дальних мест за многими уже стали приезжать родные, а я получила письмо от сестры, которая после смерти отца, чтобы не утруждать маму, взяла на себя эту обязанность.
Она писала, что все с нетерпением меня ждут, о маме и говорить уже нечего, но приехать ей за мною по слабости здоровья никак нельзя, ей же, сестре, оставить ее одну с маленькими детьми было невозможно и были другие домашние обстоятельства, по которым ей нельзя было отлучиться из дома, но что сестра моей мамы (я буду называть ее Марьей Петровной) выехала по своим делам в Петербург и обещалась взять меня из Смольного и привезти в Галич.
Это уже несколько умаляло мою радость. Оставя то счастье, которое дало бы мне свидание с ними, мне так хотелось, чтобы которая-нибудь из них была на наших публичных экзаменах; и потом, эта Марья Петровна еще с детства была мне не симпатична.
По окончании инспекторских экзаменов начались публичные, сначала учебные, на которых экзаменовались только получающие награды, и большая часть публики, пускаемая по билетам, состояла из родителей и родственников воспитанниц. Потом началась музыка. Две воспитанницы играли соло на рояли, а после этого исполнили на 16 роялях, по две за каждым, в числе которых была и я, оперу <Д. Россини> «Севильский цирюльник». Рояли поставлены были полукругом, в средине которого стоял дирижер, кажется, Кавос. <…>
По окончании пения рояли были убраны и начались танцы. Мы встали длинными рядами и начали менуэт и гавот, равномерно и грациозно приседая, подавая друг другу руки, делая глиссе, чрез что и получалась очень стройная движущаяся картина.
Вслед за менуэтом и гавотом начался танец с шарфами. В первой паре были две красавицы сестры, по матери грузинки, графини Симонич, и мы с розовыми шарфами вслед за ними проносились мимо публики, и вид этих молодых, воодушевленных радостью лиц был прелестен, как говорили присутствовавшие тут родственники.
Когда кончился этот танец, публика отправилась смотреть наши работы, помещенные в одной из зал, на одной стене которой висел громадный ковер, а на других стенах – рисунки воспитанниц. Были тут головки, пейзажи, цветы. На столах разложены работы: капот для императрицы Александры Федоровны, вышитый гладью по тончайшей кисее, мантилья для супруги государя наследника цесаревича великой княгини Марии Александровны из белой материи, выложенная лиловым шнурком; вышитые для ее детей гладью платьица и много других работ, отличавшихся вкусом и изяществом.
На императорские учебные экзамены, следовавшие вслед за публичными, государыня императрица велела нас привезти во дворец, и мы отправились в тех же каретах и в таком же порядке, как на катанье.
Помню, когда поднимались по лестнице, то я чувствовала себя как бы подавленной и уничтоженной грандиозностью и великолепием этой лестницы.
Нас ввели в огромную залу, где было поставлено несколько рядов кресел. Чрез некоторое время вышла государыня императрица и заняла место в середине первого ряда, назади поместились несколько фрейлин. Государя не было, но приходил ненадолго великий князь Константин Николаевич, бывший тогда женихом, невеста же его Александра Иосифовна, как говорили, в это время брала уроки музыки у Гензельта.
При экзаменах присутствовали наша начальница Марья Павловна Леонтьева и инспектор Тимаев. Последний раздавал билеты, по которым мы должны были отвечать. Экзаменовались так же, как и на публичном, только получающие награды 1-го отделения.
Императрица, кажется, внимательно нас слушала, часто поднимая глаза на отвечавшую воспитанницу. <…> После экзамена нас повели в другую залу, где были накрыты столы, и мы сели обедать. Хозяйкой была великая княгиня Мария Александровна, но входили туда ненадолго государь и государыня. За столом прислуживали бесшумно ходившие арабы в чалмах и сандалиях, что нас очень занимало, мы их видали только на картинках. После обеда мы были отвезены обратно в Смольный. После учебного экзамена настал и последний, так называемый императорский вечер, на котором присутствовали государь с государыней и вся царская фамилия, в том числе и невеста великого князя Константина Николаевича, Александра Иосифовна. <…> Недоставало только наших очаровательных великих княгинь Ольги Николаевны и Александры Николаевны. <…> Музыка, пение и танцы были те же самые, как и на публичном экзамене, и мы исполняли все это в тех же белых кисейных платьях, как и на том, а под конец вечера была кадриль, в которой принимали участие и некоторые члены царской фамилии. Торжество это закончилось ужином. Накрыты были столы в этой же зале, за которые сели государь, государыня и прочие члены царской фамилии. Государь в этот вечер был очень весел и со всеми шутил, особенно помню, как он, шутя, обходил со всех сторон принца Ольденбургского, нашего главного начальника, и все ему раскланивался, отчего тот казался совсем сконфуженным.
Императрица, уезжая, назначила день своего приезда для раздачи наград. У нас после этого было несколько репетиций, как для получения их мы должны были подходить к государыне, делая через каждые три шага по реверансу, который должен был быть глубок и грациозен.
В назначенный день нас всех, получивших награды (я получила большую серебряную медаль), повели в залу, где сидела императрица и тут же были принц Ольденбургский, начальница и инспектор.
Получавшие шифры, подойдя, как их учили, опускались пред государыней на одно колено, и она сама пришпиливала к левому плечу шифр и целовала в щеку воспитанницу, а та целовала ее руку. Первый шифр получила Обручева. Получавшие медали, подходя, держали руки одна в другую, ладонями вверх, куда и клала императрица медаль, взяв ее с блюда от инспектора, и каждой сказала несколько слов. Когда я подошла, она спросила мою фамилию и из какого я города, и, услышав, что из Галича, сказала, что знает его, это в Галиции, но я ответила, что этот Галич в России, в Костромской губернии.
Наконец все это было кончено, но мы должны были пробыть еще несколько дней в Смольном, ожидая числа, назначенного для выпуска.
Какое это было чудное время! Мы пользовались уже совершенно свободой. Беспрестанно приезжали родители и родственники выпускаемых воспитанниц; приходили модистки с примерками платьев, и тут уже сказалась горечь разницы общественного положения и состояния. Некоторые, у которых родители были очень бедны, требовали от них, не понимая этого, таких же дорогих платьев, какие видели у своих богатых подруг, и, когда те отказывали, они огорчались и плакали.
Про себя же скажу, что я вся была поглощена радостной мыслью свидания с моими далекими и дорогими существами, и радость эта вытеснила все прочие чувства, померкла даже и привязанность моя к Д.Ст<ратано>вич; пропала и ненависть к Ма-вой, кончавшей вместе с нами для блага будущих воспитанниц свою двадцатипятилетнюю службу, она заменилась равнодушием и как будто жалостью, что ее никто не любил и никто о ней не сожалел.
Приехала, наконец, и Марья Петровна, сказавшая мне, что дома все здоровы и с нетерпением меня ждут, но что мне придется с ней прожить в Петербурге месяца два; во-первых, невозможно по бездорожице пуститься в путь (нас выпускали в половине марта), а во-вторых, дела ее еще не будут кончены. <…>
Наконец наступил последний день нашего почти девятилетнего пребывания в Смольном! Не сумею рассказать, что я перечувствовала в этот день. Радость сменялась грустью и какой-то жалостью ко всем остающимся за этими стенами и даже к этим стенам, которые, казалось, без нас должны осиротеть.
В последний раз мы получили приказание надеть наши белые платья, чтобы в день выпуска быть всем одинаково одетыми; вручили каждой деньги и Евангелие и повели в церковь. В последний раз мы встали на клиросы и пропели молебен, после которого наш священник, он же и законоучитель, сказал нам трогательное напутственное слово, и мы, слушая его, все плакали. Наконец началось прощание с начальницей, инспектрисой, учителями, классными дамами. Прощаясь друг с другом, мы обнимались, крепко целуясь, обещаясь никогда не забывать друг друга, и многие горько рыдали.
И вот широко распахнулась дверь нашего монастыря, чтобы навсегда за нами затвориться, и мы, неразумные дети для жизни, очутились на той свободе, о которой мечтали все девять лет, и похожи были на птичек, вылетевших в первый раз из гнезда, радостно и доверчиво глядящих на Божий свет и с неокрепшими еще крыльями готовых в него ринуться, не подозревая, что при первом же полете можно упасть и, может быть, насмерть разбиться, не подозревая и того, что в этом манящем их свете много хищных коршунов, подстерегающих подобных бедных, неопытных птичек. Счастье было тем из нас, у кого была любящая, руководящая и поддерживающая первые шаги рука, и горе тем, кто ее не имел…
Александра Ивановна Соколова. 1833–1914. Из воспоминаний смолянки
Фрагменты
I
Привезли меня семилетней девочкой в Петербург и отдали в «Смольный» <…> когда еще называли это воспитательное заведение Смольным монастырем… Да! «Воспитательное общество благородных девиц» было основано (еще в молодости Екатерины II) при Воскресенском Смольном женском монастыре!
…Состав институток был самый разнообразный… Тут были и дочери богатейших степных помещиков, и рядом с этими румяными продуктами российского чернозема – бледные, анемичные аристократки из самого Петербурга, навещаемые великосветскими маменьками и братьями-кавалергардами; тут же и чопорные отпрыски остзейских баронов, и очаровательные девочки из семей польских магнатов (потом всю жизнь они будут метаться между восторженным обожанием августейшей российской фамилии и горячей любовью к своей подневольной родине), и зачисленная на казенный кошт диковато застенчивая девочка из Новгород-Северского уезда Черниговской губернии – из семьи вконец обедневшего однодворца-дворянина, предки которого, однако, были записаны в «столбовую книгу» самых знатных людей еще допетровской Руси.
Впрочем, в этом заведении «Для благородных»… воспитанницы должны были забыть о знатности и титулах своих родителей на все время своего учения, равно как и о различиях среди одноклассниц в одежде (понятие о классе включало в себя и его неизмененный в течение девяти лет состав, и – класс как одна из трех ступеней (по три года в каждом) нашего пребывания в Институте). Одинаковыми у одноклассниц были даже прически. Так, «меньшой» класс должен был обязательно завивать волосы, средний – заплетать их в косы, подкладываемые густыми бантами из лент, а старший, или так называемый «белый» класс, нося обязательно высокие черепаховые гребенки, причесывался «по-большому», в одну косу, спуская ее, согласно воцарившейся тогда моде, особенно низко…
Класс независимо от его «временного» названия делился на группы по воспитанию («дортуары» – каждая группа спала в своей комнате и была в течение всех девяти лет неизменна по своему составу; в нашем классе было десять дортуаров) и на отделения по степени своих познаний (по успеваемости). Здесь мы поступали в ведение учителей (учительницы полагались только для музыки и рукоделия).
Учителя (одни и те же во все девять лет) занимались с нами, углубляя по мере наших возрастных и индивидуальных возможностей наши знания по преподаваемым ими предметам; нянечки (их нанимали из числа выпускниц «Воспитательного дома для сирот из народа»); пепиньерки – в качестве младших воспитательниц (эти спали в дортуарах вместе с нами), классные дамы (их работа по воспитанию считалась особенно ответственной), и тем более классная инспектриса (самое важное в каждом классе лицо) – все оставались с нами на все время нашего пребывания в Институте. Так что, повторяю, менялись (в соответствии с переменами в нас самих) лишь возрастные обозначения класса, которые неофициально (об этом ниже) соответствовали определенным «цветовым различиям».
Помню, как мы, весь наш «меньшой» класс, еще не втянувшись в форму и аккуратность действительно, казалось бы, монастырской жизни, поголовно грустили по домашней свободе, за что и получали название «нюней» от среднего класса, облаченного в голубые платья и потому носившего название «голубого».
Этот класс, составлявший переходную ступень от младших к старшим, был в постоянном разладе сам с собой и в открытой вражде со всеми. «Голубые» дрались со старшим («белым») классом, впрочем, носившим темно-зеленые платья, дразнили маленьких из класса «кофейного» (мы были в платьицах кофейного цвета) и даже иногда дерзили классным дамам – это было что-то бурное, неукротимое, какая-то особая стихийная сила среди нашего детского населения… И все это как-то фаталистически связано было с голубым цветом платьев! Но стоило пройти трем очередным годам, и те же девочки, сбросив с себя задорный голубой мундир, делались внимательней к маленьким, более уступчивы с классными дамами и только с заменившими их «голубыми» слегка воевали, защищая от них «кофейную» малышню. И уже этим, новым «голубым», выговаривал по приезде император Николай:
– Ну охота вам, mesdames, связываться с кафульками!.. Fi donc!
В Институт я приехала из деревенской усадьбы и потому об особах царской фамилии имела представление как о персонажах народных сказок…
И вот однажды перед обедом по дортуарам «кофейных» пронеслась весть: «Государыня приехала! С Великой княжной Ольгой!..»
Прибежали классные дамы, вместе с пепиньерками стали обдергивать и поправлять «кафулек». В коридоре показался унтер-офицер Иванов с каменной, видимо, раскаленной на кухне плиткой, на которую он лил какое-то куренье… Куда-то вихрем пронесся наш эконом Гартенберг… Сторож Семен Никифорович появился в коридоре в новом мундире…
В столовую входим парами… И уже в воображении семилетней «девочки из деревни» видением встают и корона, и порфира, и блеск каких-то фантастических лучей… Я вместе со всеми кричу давно уже заученное приветствие…
Но где же императрица? К нам с приветливой улыбкой подходит худенькая, идеально грациозная женщина, в шелковом клетчатом платье, желтом с лиловым, и в небольшой шляпе с фиалками и высокой желтой страусовой эгреткой. Ни диадемы, ни порфиры… ни даже самого крошечного бриллиантика! Я разочарована…
Рядом с императрицей стояла высокая и стройная блондинка, идеальной красоты, со строгим профилем камеи и большими голубыми глазами. Это была средняя дочь государыни Великая княжна Ольга Николаевна, впоследствии королева Вюртембергская, одна из самых красивых женщин современной ей Европы (Ольгу Николаевну на ее новой родине так почитали, что в ее честь учредили носящий ее имя орден).
А тогда… Государыне доложили о моем несколько запоздалом в связи с болезнью поступлении в институт, и она милостиво пожелала меня увидеть. В ответ на мой низкий реверанс, отвешенный по всем законам этикета (с этими законами знакомили в Смольном сразу же, даже раньше правил грамматики), государыня улыбнулась, потрепала меня по щеке и сказала, что она передаст государю, какую маленькую диву привезли в Смольный.
А я, хотя и отвечала ей, благодарила ее вполне по тому же этикету, все еще сожалела о персонажах той сказки…
Каникул в нашем «институте-монастыре» не полагалось, и двери его, затворившиеся за еще совсем маленькой девочкой, отворялись уже перед взрослой девушкой.
…Хотя и правда то, что среди самых образованных женщин России было немало выпускниц нашего института, но некоторые из нас даже и в нашем классе радовали своих профессоров сообщениями о том, что прусский король Фридрих II основал Священную Римскую империю германской нации, а Александра Невского полагали среди польских королей!.. Из института, бывало, исключали за неисправимо вульгарное поведение, но никогда – за «неуды» в учении. При этом – ни звука огласки в первом случае («благородные родители» тихо забирали своих чад, выказавших себя не очень благородными) и никаких порицаний – во втором (просто их переводили в «отделения со слабой успеваемостью», каковые были в каждом классе). Так что вполне затем могли выпустить из института вместе с этим их знанием о «польском короле Александре Невском»…
Преподаватели Смольного института. 1889 г.
Правда, в музыке, танцах, во всем, что ожидало нас (вернее, могло ожидать) в нашей будущей жизни… преуспели почти все, и особенно все хорошо изъяснялись по-французски (на французском пели и даже некоторые слагали стихи). Впрочем, с теми, кто ленился понимать русский язык, переставали говорить и по-французски (разве что долго терпели в этом отношении девочек из семей наших горных и степных феодалов, не знающих других языков, кроме родного). Подчас даже меж собой, в своих дортуарах, девочки ставили таких – знающих французский, но ленившихся «понимать по-русски» – в самые неожиданные для тех положения, иногда смешные действительно…
Один из таких забавных случаев донесла до нас, новеньких, изустная история Института. На этот раз инициатором его была даже и не смолянка, а Великая княжна Александра, которую, вплоть до ее замужества, часто привозили в Институт к ее сверстницам, разумеется, уже после окончания теми занятий с учителями; иногда приезжал с ней и кто-нибудь из ее августейших родителей.
Ей очень нравилась одна из шести поступивших тогда в институт девочек из дворянских семей Швеции. Вопреки всем наблюдениям о замкнутости скандинавского характера эта восьмилетняя шведка была как раз очень общительна, но – только на одном, французском, языке… Русские слова она заучивала, скорее, как бы для коллекции, не придавая им ровно никакого значения.
И вот великая княжна, сама тогда еще совсем подросток, придумала, как более к месту употребить хотя бы одно из ее русских слов… С каковым и посоветовала ей подойти к высоченному «Zum Soldaten», любующемуся в это время игрой «царских рыбок» в аквариуме.
Девочка все так и сделала. Чтобы обратить на себя внимание этого, по ней, очень высокого солдата (а это был император Николай Павлович), она дернула его за фалду мундира и сказала, как ей казалось, только одно слово:
– Царь-рыба!..
…Интересно, сразу же догадался Николай Павлович, что эта, лично ему неизвестная, в рыжих кудряшках, «кафулька» имеет в виду то, что плавает в аквариуме?
А я в первые свои годы в Институте видела эту шведку уже золотокосой выпускницей «белого» класса, совершенно без акцента певшую романсы Варламова вместе с правнучкой Суворова Еленой Голицыной.
И раз уж я заговорила о наших институтских солистках, не могу здесь не вспомнить Фавсту Калчукову… Только верность этой девушки традициям своего рода (одного из самых знатных и уважаемых среди калмыков) не позволила ей стать профессиональной, сказать без преувеличения, выдающейся певицей. Ее голосом была увлечена пианистка Клара Вик, которая и в следующем году, по приезде в Петербург, приезжала в институт, на этот раз со своим мужем-композитором Шуманом; они, сменяя друг друга у пианино, чудесно играли нам.
Рассказать кстати – выступал у нас и знаменитый итальянский баритон Антонио Тамбурини; причем нам, девочкам, как раз больше всего понравилось, когда он пел вместе со своими сыном и дочерью. И, дважды бывая с гастролями в Петербурге, играл у нас сам Лист! Рассказывали, что уже после первого своего концерта в нашем рекреационном зале, он полушутя признался попечителю Института герцогу Петру Георгиевичу Ольденбургскому – чем мы ему сами понравились… Сказал, что, замечая на наших юных прелестных лицах трепет сопереживания со своими испытываемыми во время игры чувствами, он, уже оповещенный о «правилах поведения воспитанниц», играл и чувствовал себя у нас особенно непринужденно, заранее зная, что освобожден здесь от необходимости бессчетно раз потом раскланиваться в ответ на овации публики: в нашем «монастыре» аплодировать не полагалось!
В записках о своей юности в Смольном институте я упоминала Великую княжну Александру Николаевну; она чаще других великих княжон бывала в Институте, и потому хочется вспомнить здесь о ее судьбе то, что теперь, за давностью лет, многие, возможно, уже не знают…
Император Николай, обычно строго, когда находился с членами своей семьи в свете, соблюдавший по отношению к ним церемониал обращений, единственно эту из своих дочерей называл вплоть до ее замужества «Сашенькой». Рассказывали, что иногда он сам, столь обычно далекий от сентиментальности, присоединялся в Царском Селе к ее любимому занятию – кормлению лебедей.
Уже Александра была, что называется, девушкой на выданье, когда в столичном цирке стала выступать наездница (уже не помню ее имени и национальности, она, точно, была иностранка). Эта циркачка настолько разительно и лицом, и фигурой напоминала Александру Николаевну, что, говорят, когда она в костюме амазонки проезжала после своего номера круг по манежу, зрители аплодисментами и выкриками одобряли в ее лице едва ли не самую великую княжну, озорно иногда звучало и само августейшее имя…
Наездницу, предложив ей утешительное вознаграждение, попросили уехать, однако она довольно резонно ответила, что своим успехом в цирке обязана не похожести на кого-то, а исключительно своему мастерству. Тогда, видимо, еще большая сумма была вручена антрепренеру, и, хотя труппа его уже было собиралась переезжать для выступлений в Москве, он отказал наезднице в дальнейшем ее участии.
…Передавали, что по выезде из России эту цирковую артистку спасло лишь ее нероссийское подданство: такую злую пообещала она Александре Николаевне судьбу.
Великая княжна Александра Николаевна вышла замуж за едва ли не самого красивого тогда из всех принцев Европы. Но уже вскоре, на чужбине, обнаружились у новоявленной принцессы Гессен-Кассельской признаки чахотки (это особая тема – из поколения в поколение у княжон Романовых не остывающая ностальгия по Родине), но умерла Александра Николаевна родами. Ребенка, не увидевшего свет ни на минутку, положили в гроб вместе с ней.
Горе отца, императора Николая… это его личное, по персту судьбы, горе… могли видеть лишь самые близкие ему люди. Между тем вскоре за бешеные деньги доставлены были из-за границы редчайшие тогда черные лебеди – и от одних слышала я, что ими на царскосельском озере заменили белых, другие же утверждали, что черные плавали вместе с теми, которые кормились из рук «Сашеньки».
Я уже не застала тех дочерей декабристов, которые были приняты в Смольный институт по просьбам их вдов и их супруг. Недавно я прочитала, что среди воспитанниц Смольного была дочь Рылеева, однако это ошибка – она воспитывалась в Патриотическом институте. Среди других фамилий дочерей казненных или сосланных в Сибирь участников мятежа указывалась дочь Каховского. Уточню лишь, что в Смольном институте воспитывались две дочери Каховского – обе они вышли из института с серебряными медалями.
И мне рассказывали, что, бывало, когда дочерей императора еще подростками привозили к их сверстницам-смолянкам (с кем иначе было им играть в Зимнем дворце?), девочки, Романовы и Каховские, совершенно забыв, кто их отцы, весело, взапуски носились по нашему саду…
Далее я хочу рассказать о такой смолянке, какой была princesse de gouries (так, говорят, почти всерьез, принцессой, император Николай в беседах с попечителем Института называл эту дочь покойного владетеля одного из грузинских княжеств – Гурийского)…
Терезу Гурийскую я застала уже окончившей Институт, но все еще в определении своей судьбы проживающую в нашем «монастыре» (правда, уже в отдельной комнате и с личной прислугой).
Тереза была замечательно хороша – обычною, тяжелой грузинской красотою: белая, полная, крупная, с большими миндалевидными глазами (уж не таких ли восточных красавиц называют «гуриями»?.. Да нет, эта поражала удивительной добротой). При этом она отличалась каким-то властным, доминирующим голосом (видимо, сказывалась порода восточных властителей), но вместе с тем – таким вдруг гомерическим хохотом, раскаты которого были хорошо знакомы всему Смольному «монастырю».
По окончании института она хотела получить (и – получила!) придворный шифр, но вдруг стать фрейлиной отказалась (по-моему, к немалому облегчению двора, уже по-европейски не готового к таким непосредственным в своих проявлениях натурам). Во всяком случае, графиня Разумовская, самая старая, важная и почетная из всех придворных дам того времени (по слухам, почти считавшаяся визитами с императрицей), привезя ей этот бриллиантовый шифр, была просто шокирована самой формой ее отказа и этой ее хорошо знакомой всему нашему монастырю громкой смешливостью. Так что затем пришлось успокаивать графиню, всегда гордую поручаемыми ей важными миссиями, самому императору…
И здесь, в напоминание нашим историкам дворянских родов, хочу указать на случай, из ряда вон в отечественной геральдике. Государю императору Николаю Павловичу было благоугодно указать, что… светлейшая княжна Тереза Гурийская после своего замужества, вопреки всем обычным в этом отношении постулатам, не только будет пожизненно названа светлейшей княгиней, но после своей свадьбы удостоит этим первым после великокняжеского титулом и своего избранника!
И как же после этого пришлось поволноваться двору!.. За сравнительно небольшой срок проживания Терезы в нашем «монастыре», уже после окончания ею Института, эта необыкновенно влюбчивая девушка готова была наградить столь высоким титулом трех или даже четырех объектов своей симпатии, из которых, конечно, наиболее «в своем роде» был бы наш институтский учитель рисования, вообще не принадлежавший к дворянскому сословию.
За дело взялись по поручению императрицы… На первом же в аристократическом Петербурге балу Терезе представили служившего в столичной гвардии грузинского князя Дадиани, между прочим, тоже «светлейшего». Соплеменник тем более признал в Терезе красавицу; к тому же не мог не понимать гордый грузинский князь, что за фигура на историческом фоне Грузии эта дочь владетеля бывшего Гурийского княжества! Бракосочетание состоялось в придворной церкви, императрица собственноручно приколола невесте венчальную вуаль, великие княжны были с ней в храме в качестве подруг, а на свадьбе посаженным отцом был сам император. Тотчас после свадьбы князь вышел в отставку и увез супругу в одно из своих богатейших поместий в Грузии.
Здесь я хочу захватить своим повествованием особу, которая ко времени моего поступления в Институт уже окончила его, но которая еще долго навещала нас, а впоследствии стала матерью героя, вошедшего в нашу отечественную историю, – Ольгу Полтавцеву… Высокая, стройная – помню ее однажды в легком белом платье и яркой пунцовой бархатной мантилье, накинутой на плечи, – она была совершенная красавица! Позднее, когда она была замужем за «вторым Скобелевым» (хотя именно его потом будут в армии называть «Скобелевым Старшим»), она, смеясь, жаловалась моей тетке на «Скобелева Первого» – знаменитого коменданта Петропавловской крепости и одновременно первого в России военного писателя. Скобелев Первый являл собою пример редкого в России восхождения от «солдата Кобелева» до возведенного в права «потомственного дворянина Скобелева», дослужившегося до высшего в армии (перед фельдмаршальским) звания. Теперь же, как рассказывала нам эта его сноха Ольга Николаевна (сама тогда по мужу еще далеко не генеральша), бурно занимаясь со своим юным внуком Дмитрием военным делом, генерал от инфантерии предрек, что тот весь путь к его званию пройдет в армии за вдвое короткий срок.
…Не мог этот генерал и писатель, Скобелев Первый, даже и предположить, какое на самом деле высокое место в истории русской армии займет его внук! Как не мог он провидеть и трагическую судьбу матери этого исторического героя – нашей смолянки…
Успев увидеть сына во всей поистине всеотечественной его славе, сама Ольга Николаевна, уже вдова генерала, отдаст последние годы своей жизни милосердной работе для народов, освобождению которых от турецкого ига так много способствовали ее муж и сын: станет одной из главных фигур Общества Красного Креста на Балканах. Между прочим, кроме организации больниц и сельских лазаретов по оказанию первой медицинской помощи в Болгарии и Румынии, она оказалась одной из тех, кто материально и юридически оказал поддержку созданному там, близ Шипки, пожизненному приюту для тех изувеченных ветеранов русской армии, которые не захотели вернуться на родину.
В очередной поездке Ольги Николаевны по Румынии на ее экипаж напала шайка разбойников, в которой среди румын и болгар оказался бывший русский офицер, даже и воевавший под командой ее сына, – некто Узатис… Говорили даже, будто Ольге Николаевне было известно, что этот Узатис отказался от возвращения на родину со своим полком, поступил в румынскую полицию и что-де он взялся сопровождать ее ввиду большой суммы денег, которые она везла с собой (тогда многие в России жертвовали освобожденным от турок христианам Балкан), и что сам же он и убил ее. Однако я не думаю, что Ольга Николаевна могла довериться такому отщепенцу. Скорее всего, действительно имея отношение к местной полиции и зная, что… женщина следует с большими деньгами, узнал тот, кого именно они убили, уже из захваченных вместе с деньгами документов; потом стало известно, что в ту же ночь негодяй застрелился.
Пиетет особого отношения к императорской фамилии, разумеется, культивировался в Институте, но уже тогда наступало время куда более свободного общения, если не с самим императором, то с другими лицами его августейшей семьи.
Вспоминается, например, из «голубого времени» (среднего класса) княжна Надинька Н. (не буду здесь называть ее фамилии, так как в связи с этой девушкой коснусь неординарных взаимоотношений ее родителей). Прехорошенькая и не глупая вовсе, эта институтка при посещении Смольного великим князем Константином Николаевичем взялась уверять его, что его невеста, не в пример ему самому, красивее (а это была очередная в доме Романовых немецкая принцесса – уже в Петербурге перешедшая в православие Александра Иосифовна, и впрямь красивая очень). И что, добавила расшалившаяся наша девица Надинька, гораздо достойнее ее в качестве ее мужа мог бы быть его, Великого князя Константина, брат – Великий князь Николай (тот приехал в Институт вместе с ним, но присутствовал в это время на экзамене в старшем классе).
Константин Николаевич улыбнулся и, поддержав ее в шутливом тоне, сказал, что он ревнует ее к своему брату.
– Что ж, может, вы и правы в своем предположении!.. – сказала Надинька. – Приведите, пожалуйста, его высочество Николая Николаевича, я хочу его видеть!
Константин громко рассмеялся и предложил девице-шалунье променять разговор с его братом на коробку конфет, которая, по согласию Надиньки, видимо, наконец одумавшейся, и была принесена камер-лакеем на подносе. Великому князю легко было это исполнить, так как в дни так называемых императорских экзаменов, когда весь двор обыкновенно присутствовал при танцах и пении воспитанниц, с утра в Смольный привозилась царская кухня и приезжали придворные повара и камер-лакеи.
Теперь-то мне понятно, что Надинька хотя бы так развеселила тогда себя за переживаемую ею горесть в связи с разладом друг с другом ее родителей… Отец и мать ее (та вдруг перешла в католичество) жили порознь, и это не могло не сказаться на характере их дочери, который был очень неровным. Помню явственно, как в Мраморном зале, где обычно проходили свидания воспитанниц с родными, с Надинькой сделался нервный припадок: в зал сначала вошел ее отец и почти тотчас – ее мать… Остановившись, они враждебными взглядами смерили друг друга…
– Папа!.. Мама!.. – могла только выговаривать девочка и вдруг разразилась рыданиями.
Отец уступил: молча поцеловал дочь, положил гостинцы и вышел из зала бледный как полотно.
Но в связи с так называемым благородным происхождением и благородным воспитанием питомиц нашего института (чувствую теперь, что эта оговорка о «так называемом» – явная здесь с моей стороны дань времени: тогда, во дни моей юности, я просто не поняла бы ее) нельзя, говорю, в связи с этим не сказать о тех проявлениях чисто сословного взгляда на жизнь русского общества, примеры которого из жизни Института прояснились для меня в качестве явления много позже.
II
Начну с рассказа о созданной при институте как бы второй его половине, которая формально считалась равноправной, но для девочек из семей «почетных граждан», именитых купцов, фабрикантов, банкиров, священников, чиновников, то есть, собственно, не дворян… В простоте душевной устроители этой «половины» назвали ее Мещанской!.. И хотя уже вскоре от такой своей «простоты» опомнились и переименовали эту половину института в «Александровскую», но было поздно… Иначе как «мещанками» мы уже не называли тамошних своих однокашниц (кухня у нас была общая). Но в то время как воспитанницы нашей, «Николаевской половины», два раза в год ездили кататься в придворных каретах (с парадным эскортом офицеров!), воспитанницам Мещанской (Александровской) половины придворных экипажей не присылали и кататься их никогда и никуда не возили.
Точно так же не возили их и во дворец для раздачи наград (и уж, разумеется, выпускниц-«мещанок» не брали во двор фрейлинами), не было у них ни императорских экзаменов (в присутствии особ из императорской фамилии), ни так называемого «императорского бала», на котором с нами танцевали великие князья, иностранные принцы и особы высочайшей свиты.
То же обидное для детского самолюбия различие сказывалось и в том, что при встрече с любой из нас девочка-«мещанка» должна была первой отвешивать почтительный реверанс, а уж затем отвечали реверансом ей… «Мещанки» и на службах в институтской церкви стояли только на своей стороне, вместе со всеми нашими нянечками, кухарками и другими разного рода служанками. Даже сад, в который мы выходили гулять, был разделен на две половины. Зимой сквозь щели в заборе девочки Мещанской половины могли видеть, что только для нас выстилали по аллеям доски, чтобы юные аристократки «не обожгли» ноги о снег.
Да, теперь вижу, что значение свершенного затем государем императором Александром II Освобождения касается не только крестьян, но и раскрепощения нас самих от очень многих крепостей вековых убеждений.
Одной из таких крепостей, которыми до этого держались устои общества, было убеждение в необходимости телесного наказания крепостных холопов, солдат и даже работников по свободному найму. Так, в Смольном институте, созданном ведь под влиянием гуманных теорий энциклопедистов, прислугу секли розгами за провинности, степень которых к тому же слишком часто определялась весьма субъективно.
Больше того: секли и женщин! И еще больше: всех провинившихся (дворников, конюхов, истопников, кухонных работников, исключая здесь работающих за повара, равно как и всякого рода служанок, даже наших нянечек) – секли солдаты!.. Это были солдаты небольшой команды, приставленной к Институту как для его внешней охраны, так и для соблюдения внутреннего порядка.
…Госпожа Б., у которой была в служанках невольная героиня этой истории, согласно <своему> высокому положению классной инспектрисы занимала квартиру в помещении самого института; для ведения домашнего хозяйства имела она право на услуги двух оплачиваемых институтом служанок (именно последнее обстоятельство сыграло здесь свою роковую роль). Одной из этих служанок и была выпускница «Воспитательного дома для сирот из народа» Саша. В лицо я запомнила ее как прихожанку, почти непременную на службах в нашей институтской церкви, в то время как обо всех других обстоятельствах жизни этой, помнится, милой и вместе с тем, кажется, скромной девушки узнала я уже после всего случившегося…
Саше изъявлял свою симпатию унтер-офицер команды Иванов, и уже они были помолвлены, когда вдруг из письменного стола классной инспектрисы исчезло десять рублей…
Скорее всего, действительно, деньги таки пропали, но ей, госпоже Б., прежде чем столь решительно увериться в том, кто их взял, надо бы было вспомнить и то, что всем было известно о необыкновенных, поразивших своей трагикомичностью всех служащих института усилиях ее второй (гораздо более ею любимой служанки) по вхождению с унтер-офицером Ивановым в те же отношения, в какие он обещал вступить Саше. Впрочем, хозяйка Саши заявила, что если та даже успела эти десять рублей потратить, она их ей простит, но что она должна признаться…
Понятно, чего стоило бы Саше подобное признание в глазах того, кто уже вслух объявил ее своей будущей супругой! Напрасно Саша клялась всеми святыми (а я сама и отметила-то среди других эту девушку по выражению на ее лице той искренней убежденности, с какой она во время служб в нашем храме произносила вместе со всеми «Верую!..»), напрасно обещала отработать эти проклятые десять рублей, но что, однако, признаваться ей, Саше, не в чем. Инспектриса сама попросила начальницу нашего Института прислать солдат с розгами и сказала Саше, что уже отдано распоряжение возглавить предстоящую экзекуцию унтер-офицеру Иванову!..
В столовой Смольного института. 1889 г.
Обезумев от самой возможности такого позора, Саша кинулась по лестнице вверх… Уже на бегу ей, может быть, показалось, что крики сзади – это крики погони… Через слуховое окно выскочила она на крышу…
Кто не знает величественной высоты здания Смольного института!.. Причем этот смертельный Сашин полет первой увидела (вскрикнула!) сама же хозяйка: она как раз в это время сидела у окна!
…Госпожа Б., мать трех молодых и уже отмеченных вниманием двора генералов, не была хотя бы уволена из института!
В то время, как именно что в паре с этим, здесь поведанным, заставил тогда, быть может, кое-кого задуматься (конечно – только не нас, институток) другой эпизод, произошедший по времени почти рядом с первым…
Ко времени выпуска из института графини К. семья ее не только разорилась, но все ее члены умерли. Эту молодую, прекрасно воспитанную девушку пригласило к себе в дом в качестве старшей компаньонки, а говоря проще – гувернантки своей юной дочери петербургское и тоже по-графски титулованное семейство. Но, увы, эта милая, еще мало знающая жизнь девушка повела себя здесь так, будто дом этот вовсе ей не чужой…
Получив свое первое месячное вознаграждение, графиня-гувернантка все его употребила на то, чтобы в как можно более выгодном свете предстать на балу, который в обычной для высшего общества очередности готовились дать в этом доме, как вдруг к вечеру графиня-хозяйка попросила ее перейти в комнату воспитанницы и переночевать вместе с нею. Сначала графиня-гувернантка даже не поняла хозяйку… Пришлось той терпеливо ей объяснить, что девочке-подростку, с одной стороны, еще не дается права быть на великосветском балу, с другой… что, оставшись одна, вряд ли она утерпит, чтобы не проникнуть в бальный зал и что, уж без сомнения, проведет она эту ночь без сна. Так не запирать же юную графиню на замок или приставлять к ней с приказом удерживать ее силой… простую служанку!
…Об «ужасном по своей оскорбительности положении», в котором вынуждена была всю эту ночь пребывать графиня К., а затем о том, с какими слезами она рассказывала об этом в институте своей бывшей классной инспектрисе, стало известно императрице. Тотчас в этот дом было послано лицо, которое, не входя с хозяевами в объяснения, увезло выпускницу-графиню, и даже говорили, что пошатнулась служебная карьера самого хозяина-графа! За судьбой же этой молодой графини императрица следила до тех пор, пока та не составила себе очень хорошую партию с князем В.
Разумеется, что в наше время классной инспектрисе госпоже Б. смерть хотя бы и простой служанки просто так с рук не сошла бы; в то время как гувернантке, хотя бы и титулованной, резонно бы заметили, что при всем уважении к ее графскому титулу, брали ее на работу… и что в эту «бальную ночь» ей просто было необходимо, учитывая возраст своей воспитанницы, быть с той рядом.
Да, теперь, в наше время, в большинстве дворянских семейств прежнее сословное чванство уступает место воспитанию гуманности или, как принято теперь говорить, интеллигентности; и вот, кажется, уже даже члены семьи государя императора в проявлениях повседневной жизни сходят со своих «августейших высот», в частности, хорошо сейчас говорят о простоте и естественности поведения великих княжон.
И все же, однако, дворянство, теперь больше не претендуя на какие-либо юридические или гражданские преимущества по сравнению с другими сословиями (уже хотя бы, например, для того, чтобы сословие буржуа не могло использовать в своих целях сословное озлобление «унтер-офицеров Ивановых»), оно, наше отечественное дворянство, остается наиболее ответственной, культурной, в лучшем смысле этого слова наиболее интеллигентной частью общества. Больше того. Если мы, по примеру нашего Поэта (А. С. Пушкина. – Прим. ред.), дорожим памятью о предках, то нельзя и уйти от того факта, что история дворянских родов – это история Российского государства и не обязательно родов русских, как это всегда, хотя бы и на примере Смольного института, помнили наши монархи (потому-то и не соглашались с теориями уважаемого Ивана Аксакова и еще более ранних славянофилов). Ибо чувство долга перед государством, ответственность за его безопасность давно стали общими как для русских, так и для кабардинских, татарских, осетинских, малороссийских, валашских, грузинских, калмыцких и других дворянских родов. Именно это исторически, веками, и крепит наше общее отечество – Россию.
Кстати сказать, когда я в 1852 году оканчивала Институт, в него были приняты несколько девочек из знатных семейств Казани и горских народов. Вспоминается, например, разговор о трудностях воспитания некой «княжны Чеченской…»
И как раз в этой связи хочется привести разговор, в котором недавно пришлось мне участвовать, – о возможности приема в Институт девочек из тех знатных российских семей, в которых исповедуется мусульманство; это дворяне тюркского происхождения, которые не желают перехода своих дочерей в христианство (само по себе это явление говорит о том, что дворяне различных вероисповеданий осознают свою историческую роль в Российской империи, но – отнюдь не в растворении этих своих исповеданий в ее основной религии – в православии).
– Я думаю, – высказала на этот счет свои соображения наша собеседница, одна из нынешних руководительниц института, – что обучение девочек из семей тюрков дворян можно было бы только приветствовать, если бы эти девочки вели у нас тот образ жизни, для которого они родились.
Однако трудность здесь заключается даже не в том, что наш институт находится как бы при монастыре православном – в конце концов это при проявленной здесь воле государя императора можно было бы как-то и решить. Воспитываются же у нас и лютеранки, и католички – приезжают к нам и пастор, и ксендз, и сами эти девочки выезжают по воскресеньям в кирхи и костелы…
Но если еще могут быть у всех воспитанниц нашего Института общими профессора, то воспитательницами девочек из тюркских семей должны бы были быть женщины-мусульманки, причем такие, которые бы сочетали в себе как вполне искреннюю убежденность в своей религии и в первенствующей роли принятого этой религией образа жизни, так и, одновременно, в согласии с давними традициями нашего института, – были бы открыты для европейской цивилизации… Найдутся ли в настоящее время у российских тюркских дворян женщины на такую именно роль?
Не могу утверждать наверное, но позволю себе смелость предположить, что как раз в связи с той женщиной, о которой я только что рассказала в этой истории, оборвана была служба эконома нашего Института (впрочем, не имея явно никакого другого дохода, кроме жалованья, он, говорят, уже успел к этому времени составить многотысячное приданое обеим своим дочерям)…
Дело в том, что если младшие воспитательницы, обедающие вместе со своими воспитанницами, и все «рядовые» служащие института, также имеющие отношение лишь к той пище, которая равно готовилась и разве что только подавалась им отдельно, не имели и в мыслях своих претендовать на лучшее питание, чем дети «благородных родителей», то сами эти дети воспринимали бедноватое, если не скудное, свое питание как условие нашей «монастырской» жизни. Хотя (как поняли это мы, конечно, уже позже) средства на наше содержание отпускались достаточные.
И как раз через некоторое время после начала служения в институте этой женщины, о которой я здесь рассказываю, произошло событие, как говорят, «из ряда вон»… Разумеется, что она сама не имела отношения к нашей пище, но, возможно, что именно по ее подсказке одна из ее дочерей, ставшая тогда фрейлиной, что-то о нашем питании сказала государыне…
…Государя в этот день никто в институт не ждал; как вдруг быстро разнесшаяся по всему Смольному весть о том, что он приехал и проследовал с внутреннего или, лучше сказать, с «черного входа» – и не куда-нибудь, а на кухню! – повергла одних в недоумение, других – в крайний испуг…
Уже впоследствии нам стало известно, что государь, подойдя к котлу, в котором только что был сварен рыбный суп, точнее, уха, опустил в котел ложку, попробовал довольно жидкое варево и сказал:
– Даже дешевой такой рыбы пожалели… Ну, а теперь, что на второе? Н-да… Моих солдат лучше кормят!
Нет сомнения в том, что эконом, в волнении на первых порах уже было поспешивший в столовую, однако оповещенный на пороге об этом мнении государя, именно потому и потерял сразу все силы и решимость для какого-то… хотя бы на шаг передвижения.
…От расследования… спас эконома случай, вполне в общем-то обычный в нашей институтской жизни, однако, на счастье «бедного» эконома, совпавший по времени с этим злосчастным случаем.
Именно в тот час мы готовились к поездке в Екатерининский институт на выпуск его воспитанниц, куда обыкновенно возили сразу от тридцати до сорока смолянок (представительниц всех дортуаров «белого» (старшего) класса), для чего двор присылал нам свои экипажи.
В силу особенных забот о внешней «приятности во всех отношениях» нам заказаны были к этому дню белые кисейные платья, сделана вступившая тогда «в силу» очередная модная прическа и куплены были для всех на казенный счет большие серьги из белых бус в золотой оправе.
Легко понять, что такой довольно изысканный туалет очень шел к нашим лицам и что цветник молодых девушек, одетых в бальные туалеты, представлял собою привлекательную картину, – об этом наша инспектриса сразу же догадалась. Мы как раз готовились к обеду, как вдруг всех назначенных на поездку в Екатерининский институт загнали в рекреационный зал и начали торопливо наряжать в бальные туалеты.
И мы все, ничего не понимая, «парадировали» в этом именно туалете в столовую (там было по-зимнему отнюдь не тепло, а мы явились в платьях, предназначенных для хорошо отапливаемого бального помещения – кисейных, с открытыми воротами и короткими рукавами). Всех нас, «парадных», поставили вперед, нарушив этим обычный порядок занимаемых нами в столовой мест, и мы, не садясь за столы, ожидали появления государя.
Он вышел из кухни мрачнее тучи, холодно поздоровался с наскоро приехавшим попечителем Института герцогом Ольденбургским (того бросились из Зимнего оповестить, когда Николай Павлович, уже перед выездом, сообщил императрице о предстоящем ему маршруте).
– Так где же эконом? Почему он не является? – громко сказал государь. Он, как мы узнали об этом впоследствии, уже допросил старшего повара о представляемых тому продуктах…
Но в эту минуту инспектриса нашего класса вдруг выступила вперед, сделала реверанс так, как никогда, может быть, ей лучше не удавалось, и ловким образом обратила внимание государя на наш «парад». В то время как мы стояли, совершенно тогда еще не понимая причины его появления именно из кухни…
Государь взглянул на нас, удивленно поднял бровь и, обращаясь ко мне, как к ближе всех стоявшей из «парадных», спросил:
– Боже мой!.. Что это вы так вдруг разрядились?
А я, наверное, уже тогда, была настроена против скучной «натуры» как в жизни, так и в литературе… Я поклонилась и ответила:
– Мы примеривали платья. Не хотели лишиться счастья видеть Ваше императорское величество и прибежали, как были…
Государь улыбнулся, поклонился нам (ведь прибежали к нему навстречу «как были» – столько сразу молодых красавиц) и сказал:
– Нижайшее вам за это спасибо!
Затем, уже на французском языке, он стал шутить с нами, спрашивал, кто из нас его «обожает», а на наше молчание, смеясь, заметил:
– Что это? Неужели никто? Как вам не стыдно!.. Всех, даже, наверное, дьячка из своего церковного причта обожаете, а меня – никто?..
Несколько успокоенный, государь улыбался нам уже почти весело.
В эту минуту дано было знать злосчастному эконому, что он может появиться. Тот вошел бледный и трепещущий. Герцог Ольденбургский дал ему знак приблизиться к его величеству. Эконом еще сильнее побледнел, и опять с ним случилась эта невозможность даже и переступить…
Государь издали взглянул на него и сдвинул брови. Кто когда-нибудь видел императора Николая в минуты гнева, тот, конечно, знает силу и мощь этого исторического взгляда: в эту, такую именно минуту, эконом зашатался…
– Ты эконом? – громко прозвучал голос императора. – Впрочем, ты уже… не эконом! Однако скажи, как ты мог?..
Теперь уже бывший, эконом не в состоянии был отвечать: он вдруг понял, в каком качестве предстанет он теперь в своем будущем…
И в следующую минуту оно, это будущее, грозно бы определилось (уголовное расследование явилось бы для эконома первым его «этапом»); но тут опять поспела наша ловкая инспектриса и начала что-то сладко напевать относительно подаренного нам императрицей бального туалета и того, как мы все «признательны Вашему и Ее величествам»!
…Нарушены были на этот раз все порядки: вместо обычного обеда срочно приготовили нам какие-то закуски (были обещаны конфеты, которые на другой день и были присланы), и мы все – нарядной, цветущей своей молодостью волной, не замечая холода, прошли в швейцарскую провожать государя.
Вдруг вспомнились сейчас еще две из моих одноклассниц, имена которых по тем же «светским» соображениям называть не стану: красавица Л. из семьи представителя исторически известного всей России рода (однако обнищавшей настолько, что из офицеров одного из полков столичной гвардии уехал он служить главой полиции в одну из сибирских губерний) и Катенька Н., дочь черниговского столбового дворянина-однодворца. Вернее же, вспомнились забавные и одновременно несколько грустные обстоятельства последних дней нашего пребывания в Смольном институте…
Наш императорский экзамен, за которым обыкновенно следовал форменный бал, был на этот раз назначен не в Зимнем дворце, а в Аничковом.
Экзамен сошел удачно, солистки пели очень мило, а за объединенный хор нашего класса не боялся никто!
По окончании характерных танцев последовала раздача наград, которые императрица сама вручала воспитанницам, и затем, удалившись ненадолго и предоставив нам в ее отсутствие напиться чаю, императрица вернулась в бальном туалете, в бриллиантах и – разрешила великим князьям открыть бал…
Приглашения на все легкие танцы предоставлялись личному выбору наших августейших кавалеров (и уж остальных из нас приглашали члены императорской свиты, а также и иностранные принцы: их в те времена, до Крымской войны, всегда много «сияло-кормилось» в Санкт-Петербурге).
Что же касается разнообразных кадрилей, то они входили в «церемониал», то есть: первую кадриль старший по возрасту из великих князей (но не цесаревич) должен был танцевать с воспитанницей, получившей на экзаменах первый шифр, следующий великий князь – со «вторым шифром» и так далее; иностранные принцы и чины императорской свиты следовали за ними (сам же государь и наследник-цесаревич в этом «светском разборе» не участвовали). Бал открывался вальсом, в течение которого великий князь Николай Николаевич (тогда он был еще совсем молод и это только потом, в отличие уже от его ныне здравствующего сына, великого князя Николая Николаевича, стали называть «Старшим»…) почти не отходил от красавицы Л., не получившей при ее слишком скромных успехах в науках никакой награды и потому в «танцевальный церемониал» не вошедшей вовсе (впрочем, в других танцах она кавалерами не была обойдена отнюдь). Старшим из танцующих великих князей в то время был Константин Николаевич.
Состоялась и первая кадриль… Великие князья протанцевали ее по указанию церемониймейстера, и затем, после следовавшей за нею польки-мазурки, оркестр проиграл ритурнель второй кадрили, которую великий князь Николай Николаевич должен был танцевать с воспитанницей, удостоенной почетного второго шифра, но замечательно некрасивой особой. Она, предупрежденная о том, что танцует с великим князем Николаем Николаевичем, сидит и ждет своего августейшего кавалера. Никто другой ее, конечно, не приглашает, а между тем все другие воспитанницы уже приглашены, уже стоят в парах… Бедная «почетная шифристка» сидит и чуть не плачет. Кадрили этой, однако, не начинают, ждут его высочества…
Государь видит замешательство и окидывает залу пристальным взглядом. Наконец вдали, в одном из задних каре, видит он великого князя Николая Николаевича с красавицей Л., которой тот что-то нашептывает и которая ему улыбается…
Государь сдвигает брови и подзывает наследника (будущего императора Александра II). Выслушав отца, Александр Николаевич моментально отстегивает саблю и, подойдя к обойденной «шифристке», приглашает ее на кадриль. Та встает растерянная, потрясенная вдруг столь неожиданным своим торжеством: танцевать с цесаревичем!..
По окончании кадрили наследник доводит свою торжествующую даму до ее прежнего места, а подозванный к государю великий князь Николай Николаевич, наоборот, с убитым видом надевает оружие, что означает: танцевать он больше не смеет, и садится сзади императрицы-матери. Та качает головой и в ответ на его объяснения ей разводит руками. Явно, что танцевать сегодня государь ему больше не разрешает… И лишь когда прошла добрая треть всего бала, императрица, видимо, упросила своего супруга разрешить их сыну продолжить танцевать. Один миг – и великий князь вновь подле красавицы Л., опять он нашептывает ей объяснения…
Все это было так молодо, так безобидно, так свежо той первой свежестью минутного нового увлечения, что и сердиться на это было нельзя.
После выпитого за ужином «за наше здоровье» шампанского поданы были громадные подносы с лежавшими на них красивыми и богатыми бонбоньерками с гостинцами, которые раздали нам сами великие князья. После чего их величества и его высочество цесаревич простились с нами.
Мы встали из-за стола около двенадцати ночи и все-таки, по настоятельной просьбе великих князей, Николая Николаевича и Михаила Николаевича, танцы возобновились – и окончились, наконец, замечательно долго длившейся, очень оживленной мазуркой.
С последним раздавшимся аккордом все как-то вздрогнули, точно будто какая-то связь с прошлым порвалась – и на всех нас повеяло чем-то неведомым…
А красавица Л. потом в дортуаре горько плакала, пресерьезно упрекая своего отца, переведшегося на службу в Сибирь, за то, что «благодаря» такой его оплошности она лишена возможности в течение всей своей жизни танцевать с великими князьями.
В ту ночь угомонились мы лишь перед самым утром: изъяснениям восторга, печали и других наших девичьих переживаний, казалось, не будет конца.
Между прочим, помнится, почти все мы тогда сожалели, что не мог быть приглашен на императорский бал двоюродный брат одной из нас – Г. П. Данилевский, тогда еще студент, а впоследствии ставший известным литератором. Он так хорошо, нет, просто прекрасно танцевал, был столь очаровательным кавалером, что мы душевно всегда соучаствовали во всех перипетиях его жизни. Например, когда он, собственно, удостоился чести облачиться в студенческий мундир, многие из нас целую неделю носили на руке бантики из синего с золотыми полосками бархата…
В день выпуска мы прошли в церковь и в последний раз разместились на клиросе, чтобы пропеть молебен; но петь не смогли, горло сжимало от слез.
По окончании молебна отец Красноцветов обратился к нам:
– С Богом! В новую для вас, широкую уже… дорогу; счастливо подниматься на новые жизненные ступени… Благослови вас Господи!.. Прощайте! – и, еле сам сдерживая слезы, удалился в алтарь.
«Дорога в жизнь» сразу же оказалась слишком широкой – и уже у самого институтского порога (на дворе стоял холодный в том году март) резко обозначались эти самые «жизненные ступени»…
У подъезда ожидали нас всех, но экипажи разнились так же, как и наша, увы, уже не форменная, из скромного камлота, одежда. Одних из нас раззолоченные ливрейные лакеи облачали в соболя, другим подавались меха подешевле (рыжие лисьи или сурковые и даже заячьи). Катеньке Н. помогли надеть простенькое, на вате, пальто, купленное на выходное пособие, и подали платок…
К ее-то, Катеньки, выпуску из института и пришел пешком из Черниговской губернии упомянутый выше дворянин-однодворец, по одежде и внешности своей уже совсем обычный крестьянин. К тому же за все эти долгие годы учения Катеньки в Петербурге он, отец ее, ослеп, и теперь дрожащими от волнения руками обнял он ее и в растерянности все целовал, целовал ее, плачущую от жалости и к нему и… к самой себе.
Урок танцев в Смольном институте. 1889 г.
Еще раньше нам стало известно, какие принес он дочери подарки: этот вязанный из толстых шерстяных ниток платок от ее старшего, уже давно семейного брата (его-то сын и стал поводырем слепого на долгом пути в Петербург) и – несколько аршин красного ситца (чтобы сшила она себе «столичное платье») прислала мать…
На последние дни пребывания дочери в столице слепой дворянин-однодворец снял для нее номер в дешевой, где-то на окраине города, гостинице, рядом с ночлежным домом, в котором он с внуком ночевал сам. Этот вполне тоже крестьянского обличья мальчик и вывел их обоих, деда и тетку, на подъезд института… И уже было направил к ним свою повозку заранее сговоренный извозчик, как вдруг, загородив дорогу ему, «ваньке» (то есть извозчику даже и не «столичному», а «шатучему по городу»), подкатила роскошная, четверней вороных, карета.
Обдав из-под соболей эту «дворянскую» семью горделивым взглядом, прошла к карете выпускница Александровской («Мещанской») половины института… То есть этой выпускнице полагалось бы садиться в экипаж на подъезде именно своей, Александровской «половины», но она, дочь известного своими миллионами фабриканта, хотя бы под конец брала теперь верх над аристократками-николаевками.
Слава Богу, уже на другой день о предстоящем Катеньке Н. «будущем»… стало известно императрице – и молодая девушка была возвращена в Смольный институт в качестве учительницы рукоделия.
Александра Степановна Ешевская. Воспоминания о Смольном. 1871–1876 гг.
Глава I
Я воспитывалась в Смольном институте, на Николаевской половине, в Невском отделении. В институте я пробыла почти пять лет, от первых чисел августа 1871 года по 30 мая 1876 года. Вот об этом-то пятилетнем моем пребывании в Смольном я и хочу поговорить.
Отец мой, Степан Васильевич Ешевский[8], профессор-историк императорского Московского университета, умер молодым, оставив после себя жену и пятерых детей один одного меньше. Я не была дочерью военного и поступить в Смольный не имела никакого права, но по особой просьбе, поданной матерью на высочайшее имя, была принята в Смольный институт милостью императора Александра II воспитанницей его имени.
Ехала в Смольный охотно. Одно только обстоятельство меня сильно огорчало. Любимая моя сестра Оля, с которой я никогда не разлучалась в жизни, не была принята вместе со мной, вакансий не было, а поступила только на следующий год. Главная мысль моя была о том, хорошая или дурная будет у меня начальница. Мысль о дурной, злой начальнице страшила меня, и я старалась узнать о ней возможно больше, но чем больше я о ней расспрашивала, тем страшней она казалась в моем воображении.
«Начальница такого института, как Смольный, должна быть непременно важная аристократка, – говорила мне бабушка моя Ольга Андреевна Вагнер[9], – знакомая лично царской фамилии и имеющая большие связи при дворе». «Начальница твоя будет очень строгая, – говорила мне серьезно любившая очень меня моя старушка, няня Наталья, – но ты молись Богу и Он тебя не оставит. Помнишь начальницу в Астрахани, она тебя любила и ничего дурного тебе от нее не было. Будь как можно тише и слушайся классных дам. С девочками дружись осторожно. Выбери себе подружку по душе и полюби ее, тебе и не будет так скучно. А на будущий год и Оля с тобой поедет. К нам почаще пиши».
Так утешала меня няня. «Ты не очень бойся, – накануне отъезда, ложась вечером спать, шепнула мне Оля, – может быть, она добрая и тебя полюбит. Я буду о тебе думать каждый день, а ты мне опиши свою жизнь в институте и своих подруг. Может быть, тебе так весело будет, что ты об нас и скучать не будешь. Только вот няни с тобой не будет», – грустно прибавила Оля.
Много еще разных советов и уговоров пришлось мне выслушать от всех домашних и знакомых, и все это вылилось в одну форму, и личность начальницы приобрела в моих глазах особый интерес и значение.
Наконец, мы в первых числах августа выехали из Москвы. Железная дорога меня не поразила, так как я не один раз уже бывала в Троицкой Лавре и ездила в Астрахань, следовательно, видела и вокзалы, и вагоны, и всю суету и сутолоку, неизбежную при отходе каждого поезда. Зато по приезде в Петербург прежде всего меня поразил Невский проспект и Казанский собор. Нева после Волги на меня уже большого впечатления не произвела. Остановились мы с матерью у Бестужевых. За К. Н. Бестужевым-Рюминым[10] была замужем родная сестра моего отца, Елизавета Васильевна Ешевская. Бестужевы жили тогда в доме Алонкиной на Васильевском острове. Дядя и тетка приняли меня очень ласково. Детей своих у них не было, и тетя Лиза охотно приняла на себя все заботы обо мне после отъезда моей матери в Москву. Мне у них очень понравилось, их совершенно простая обстановка и большой стол, заваленный книгами с прекрасными картинками. Позднее я, бывая у них на праздниках Рождества и Пасхи, от дяди Кости узнала, что это были за книжки с такими чудными картинками.
Повезли меня прямо на приемные экзамены. Помню, как мы подъехали с матерью к институту и как нам открыл двери красивый, важный швейцар с булавой в руке. Передняя была обширная комната довольно мрачного вида. В ней мы разделись и по светлой лестнице поднялись в апартаменты начальницы, где в большой, светлой и хорошо убранной комнате сидела в кресле начальница[11], окруженная дамами в синих форменных платьях. По сторонам залы сидели раньше прибывшие девочки с родителями, а налево, у двери, помещались за столом экзаменаторы-учителя. Прежде всего меня подвели к начальнице, я подняла на нее глаза и обомлела не столько от страха, сколько от удивления, когда я перед собой увидела не даму и не женщину, а живые мощи самого ужасного вида. Лицо было совершенно желтого цвета, глаза мутные и потухшие. Мощи были одеты в старое шелковое платье, на плечах была дорогая белая шаль, а на голове был надет белый тюлевый чепец с длинными атласными лентами. Глухим, могильным голосом начальница спросила у меня, сколько мне лет и здорова ли я. Затем меня отвели в соседнюю комнату, раздели, и старик доктор Зандер внимательно осмотрел меня. После докторского осмотра учителя по очереди проэкзаменовали меня. Я так была сильно поражена видом своей новой начальницы, что ко всему остальному отнеслась совершенно равнодушно, и хоть учителя экзаменовали вообще довольно строго, выдержала экзамены довольно хорошо и была принята в пятый класс, в Невское отделение, в дортуар госпожи Клеменко. Экзаменующихся девочек было много, некоторые сильно робели и плакали. Я вообще была не из плаксивых и потому, не теряя присутствия духа, всю эту тягостную процедуру стойко выдержала до конца. Только когда наконец с меня сняли мое домашнее, очень скромное платье и надели на меня длинное, до полу, тяжелое камлотовое платье кофейного цвета, белый длинный полотняный передник и белую же пелеринку, мне сделалось как будто холодно и горло сдавило. Но все было так ново и интересно кругом и шло так быстро одно за другим, что думать было некогда, и я вошла, сама того не сознавая, как бы в другую, новую и интересную для меня жизнь. Мне в тот же день выдали все книги и тетрадки и указали место в классе на одной из первых скамеек, и все вошло в свою колею. Я скоро привыкла к обиходу института. Мне очень пришлась по вкусу и по характеру тихая, чистоплотная и размеренная жизнь, полная труда и в то же время веселая от присутствия стольких подруг, одинаковых по рождению и воспитанию и, следовательно, очень подходящих друг другу. Все только что возвратились с каникул и делились друг с другом своими самыми свежими летними воспоминаниями. Первые дни прошли во взаимном ознакомлении и пролетели незаметно.
Я много читала и слышала много личных мнений довольно серьезных людей о том, что закрытые заведения портят детей и отбивают их от родных семей. Это, к несчастью, очень распространенное, как бы ходячее мнение вовсе несправедливо. Институт вовсе не есть всесословное заведение, в котором бы вместе с детьми из достаточных классов воспитывались бы дети среднего и низшего сословия и, следовательно, где бы один от других дети могли бы перенимать привычки, манеры и взгляды на жизнь и на семью, вовсе нежелательные для родителей высших сословий. Испорченные дети приходят из семьи и, надо правду сказать, их было, к счастью, очень немного. Я помню за все мое пятилетнее пребывание в Смольном только три или четыре случая, когда начальство института должно было предложить родителям взять их дочерей обратно. Надо заметить, что всех воспитанниц на Николаевской половине было 700 человек в то время. Все девочки моего класса были воспитаны ровно до такой степени одинаково, что я не помню никаких историй, никаких сует, никаких неприятностей, ни между нами, хотя нас всех учениц в обоих отделениях было 80 человек, ни между нами и начальством. Конечно, были иногда столкновения, но это все были случаи, ничего серьезного, ничего дурного в себе не имевшие, о которых я скажу после нескольких слов.
Отношение детей к родителям в большинстве случаев было различно, сообразно, конечно, хорошему или дурному отношению к ним их родителей. Одни из девочек любили больше своего папу, другие больше свою маму. Некоторые девочки прямо обожали одного которого-нибудь из своих родителей. Были девочки, которые действительно одинаково любили своих отцов и матерей, а были и такие, которые на вопрос подруг: «Ты кого больше любишь, папу или маму?» – равнодушно или апатично отвечали, что любят одинаково и папу, и маму, однако мне всегда эта любовь была сомнительна, т. к. ответ, очевидно, был малосознателен. Пишу, конечно, про девочек своего отделения, так как ни девочек других классов, ни их родителей близко не знала. Всегда удобней было наблюдать отношения детей к родителям и обратно в приемной зале во время приема. Вот сидит рядом с отцом девочка Синицына, хорошенькая Сима Синицына. Она горячо любит своего папу. Не находит слов, чтобы выразить к нему своих чувств, и он, видимо, отвечает ей тем же. Вот проходит по залу важно целое семейство Филевых. Соня Филева любит свою маму, но папу своего любит больше. Вот мимо меня смешно бежит по залу девочка Бася Неслуховская. На лице ее светится восторг, как будто бы она вдруг увидела перед собой райское видение. Это вошли в зал ее одинаково обожаемые папа и мама. И надобно было видеть лицо ее матери, склоненное над ее головой, пока она, нагнувшись, целовала ей руку. Лицо было некрасиво, но необыкновенно прекрасно выражением безграничной любви матери к своему ребенку.
Вот в стороне на бархатном диванчике, плотно прижавшись к друг другу, брат и сестра Плац-бек-Каум. Их мать, вдова, полная и величественная дама, всегда в черном, сидит рядом и не спускает с них глаз. Их только двое, брат и сестра, и сидят они, плотно прижавшись друг к другу, видимо, довольные этой близостью и любовью, переговариваются. Когда мимо них проходят только что вошедшие генерал, моряк или офицер, Каум поднимается, высокий и стройный в своем хорошеньком мундирчике Николаевского кавалерийского училища, отдает вошедшему честь и опять близко подсаживается к своей любимой сестре.
Вот сидит, разместившись полукругом, большое семейство Тюлиных. Отец с прекрасным симпатичным лицом, мать, старший сын – правовед и два сына – воспитанники пажеского корпуса. Девочка Зина любит больше своего хорошего, доброго, славного папу.
Наш приемный зал стоит того, чтобы сказать о нем несколько слов особо. Он очень похож на большой зал Московского Благородного собрания. Очень большой и светлый, белый с прекрасными белыми колоннами в два ряда. Между окон стоят, по обе его стороны, белые с золотом диванчики, обитые пунцовым бархатом. Колонны окружены стульями. Прямо против дверей, ведущих в коридор, висит прекрасный портрет, написанный масляными красками, императора Александра II. Нашего обожаемого государя, образом которого была наполнена и согрета вся наша жизнь в Смольном вообще и моя в особенности. Но об этом после. Возвращаюсь к своему рассказу.
Общий вид приемного зала, наполненного гостями, был очень наряден. Черный сюртук или скромный вицмундир совершенно исчезали в массе военных мундиров всех чинов и форм. Это были отцы, а братья и кузены были в большинстве случаев или пажи, лицеисты и правоведы, или воспитанники кавалерийских и прочих военных училищ. Студентов почти совсем видно не было, их было незаметно.
Меня неизменно, почти каждый день посещала моя тетка Елизавета Васильевна Бестужева-Рюмина, возила мне массу гостинцев и вообще, как только могла, баловала и ласкала меня.
Гулять свободно по залу могли только воспитанницы старшего возраста, все же остальные классы ходили в парах, класс за классом вокруг зала. По одну сторону зала полукругом стояли стулья, предназначенные для начальства. На них сидели обыкновенно одна из инспектрис и дежурные классные дамы.
Занимаясь усердно науками целую неделю, мы ждали с нетерпением каждого приемного дня. Смело можно сказать, что приемные дни были настоящими праздниками для нас. Не только праздниками были они для тех воспитанниц, которые видели своих родных и близких, но даже для тех, которые присутствовали на них простыми зрителями.
Глава II
Познакомившись с девочками моего отделения и прослушав все их рассказы про их семейную жизнь, про обстановку, их окружающую в детстве, про надежды на будущее, невольно пришлось и мне задать себе несколько вопросов. Пришлось сравнить свою прожитую жизнь с их жизнью. Прослушав надежды их на будущее, пришлось подумать о том, что же будет со мной по выходе из института. Девочки в большинстве случаев были дети состоятельных родителей. Воспоминания их о прошлом и надежды их на будущее были самые радужные. Только несколько воспитанниц, круглые сироты, держались в стороне. Учились очень усердно, никто к ним не приезжал, карманных денег у них никогда не было, гостинцами их угощали только подруги. Рассказы про их житье-бытье были самые печальные. Но их было немного, и тон всему отделению давали дочери богатых и знатных родителей.
– Твой папа был кто? – узнав, что я сирота, спрашивали меня окружившие меня девочки.
– Профессор Московского университета.
– А дедушка?
– Профессор Казанского университета.
– А дяди твои, которые живут в Петербурге?
– Профессора Петербургского университета.
Девочки удивлялись. Не знали, какой меркой меня мерить и к какой категории меня причислить. Но скоро все обошлось. Ничем особенным я не выделялась, была общительна и весела, и с моим несколько необычным званием скоро все примирились.
Я стала уже понемногу привыкать к моей новой жизни и стала опять весела и довольна, но неумолимая жизнь скоро задала мне несколько трудных задач.
Во всем моем отделении и во всем классе дочерей профессоров совсем не было. Но вскоре я узнала от своей матери, которая еще некоторое время гостила в Петербурге у родных, о том, что в Смольном живут дочери профессора восточных языков Васильева[12]. Старшая дочь его Ольга была старше меня классом, а младшая поступила позднее. В один из первых приемных дней я сидела, как обыкновенно, между матерью и тетей Лизой. Вдруг я увидела идущего к нам седого как лунь, угрюмого вида старика в черном сюртуке. Он резко выделялся своей внешностью от обычных посетителей нашего приема и имел очень почтенный вид. Это и был профессор Васильев. Профессор прямо подошел к моей матери и поздоровался с ней. В это время она представила меня ему. Он подал мне руку и пристально посмотрел мне прямо в глаза своими умными глазами из-под нависших бровей. Вскоре подошла к нам и поздоровалась с нами дочь его Ольга.
От матери я узнала, что Васильев женат на ее подруге и в Казани был знаком со всей ее семьей. Моя мать жила до замужества и воспитывалась в Казани, где дедушка мой П. И. Вагнер был профессором университета. Подругу ее выдали за него насильно, и когда вели ее к венцу, она падала к своему отцу в ноги, умоляя его не выдавать ее за Васильева замуж. Но ее поднимали под руки и все-таки обвенчали. Вскоре она умерла, оставив ему четверых детей. Прожила она с мужем счастливо, и умирая, благодарила его за то счастье, которое он ей дал. Старик был деспот в семье и смотрел на женщин с точки зрения домостроя. Дочерей воспитывал в таких же правилах, но времена изменились, а он не хотел этого видеть. Ольга Васильева окончила курс с первым шифром, и профессор очень гордился этим.
– Моя дочь, – говорил он, – первая девица в России.
Смольный считался первым заведением для девиц в России, а дочь его кончила курс в нем первой ученицей.
Уже окончивши курс и живя с матерью в Москве, мы прочитали в газетах известие о ее трагической смерти. Как и следовало ожидать, отец ее вскоре нашел жениха, и немало не заботясь о том, нравится ли он ей или нет, любит ли она кого-нибудь, хотел выдать замуж. Когда же она ему объявила о том, что она давно любит своего кузена-офицера и не согласна идти за нелюбимого ею человека, профессор недолго думал: запер ее в комнате, сказав при этом, что она выйдет из нее только тогда, когда даст свое согласие на брак. Пораженная его решением и зная непреклонность его воли, бедная девушка дала его шагам замолкнуть и, отворив окно в своей комнате, встала на подоконник и бросилась на мостовую с третьего этажа. Ее подняли уже мертвую. Смерть ее глубоко потрясла старика; он никак такого решительного поступка не ожидал от нее, кроткой и покорной девушки, очень ее любил и по-своему желал ей добра. Васильев, хотя и не был особенно приветлив, но помня старинную дружбу с моими родными, время от времени вызывал меня и угощал гостинцами. Вот он-то и задал мне одну из самых трудных и самых для меня мучительных задач.
Пришлось нам как-то раз сидеть в приемной зале рядом с Васильевыми. Я сидела, как обыкновенно, между матерью и тетей Лизой, а напротив поместился профессор с дочерью. Разговор шел общий, и я, не помню, что-то весело рассказывала. Тетя Лиза заботливо спрашивала меня, нравится ли мне жизнь в институте и сыта ли я. Я перечисляла ей все вещи, которые были мне сданы на руки и, смеясь, уверяла ее, что всегда бываю сыта. Дочь его не смела заговорить со старшими сама и отвечала только на вопросы старших. Я же, не привыкшая к такой строгой дисциплине, смело и прямо высказывала все, что было у меня на душе. Внимательно выслушав мою болтовню, он, дождавшись, когда тетя Лиза с матерью простились и вышли и зорко смотря на меня своими проницательными глазами из-под густых нависших бровей, сказал: «Вы так довольны своим новым положением и так веселы, что даете этим право своему начальству думать, что вам дома было худо. Это нехорошо. Вы, верно, не подумали об этом. Вы подумайте» И, пожав мне крепко руку, простился со мной и вышел. И я подумала. И результат моих дум был очень печален. Я так любила Олю, бабушку, дедушку, свою милую старую няню Наталью и еще многих и многое, и, несмотря на это, дома мне было очень и очень худо. Когда же я, наконец, нашла в сердце своем причину этого печального факта, то мне еще стало тяжелее на душе. Одно могу сказать смело: что с этого дня беспечное, веселое детство кончилось для меня, и началась другая жизнь, и пришло новое и самое тяжелое горе моей жизни.
Экзамен на знание хорошие манер. 1889 г.
Праздники Рождества и Пасхи я проводила у Бестужевых. Ожидала я Рождества с большим нетерпением. Дядя мне очень обрадовался и долго ласкал и целовал меня, когда я к ним приехала. Чтобы я не соскучилась у них, дядя всячески старался развлечь меня. После обеда дядя Костя не мог спать, как делал это обыкновенно, и, усадив меня около себя, начал показывать мне свои книги и картины. Это были его любимые авторы. Все книги были переплетены в прекрасные переплеты и иллюстрированы. Тут были и Пушкин, и Крылов, и Шекспир, и Гете, и «Потерянный рай» Мильтона, и этюды Иванова, и под его непосредственным руководством, и так же, как и он, я полюбила их. Кроме того, дядя знал множество стихов наизусть и охотно декламировал их. Случалось, что совершенно забывая о том, что перед ним сидит тринадцатилетняя девочка, он серьезно декламировал мне целые поэмы, пока тетя Лиза не прерывала, наконец, наших занятий, приглашая нас идти чай пить. Таким образом, вечера проходили незаметно, и я не успевала оглянуться, как праздники проходили, и надо было опять возвращаться в институт. Конечно, не все девочки проводили так скромно, как я, свои праздники, и многие посещали вечера и театры, но я не завидовала им в душе и была очень довольна временем, проведенным мною у Бестужевых и их ласковым со мной обращением.
Переходные экзамены я выдержала очень хорошо, и те же Бестужевы взяли меня из института и переправили в Москву с оказией.
На следующий год мне, к великому моему огорчению, опять пришлось ехать одной в Смольный. Оля была принята гораздо позднее. Ехала я в институт с тяжелым сердцем и очень неохотно, точно как будто томимая тяжелым предчувствием. Олю привезли только в октябре. Она была принята в пятый класс в Невское отделение, в дортуар госпожи Трусовой. Я ей очень обрадовалась, хотя, к великому моему огорчению, мы видались с ней очень редко. Я в этот год перешла в голубой класс, в первый, так сказать, класс, а она была принята в последний класс младшего возраста. Дортуары наши и классы, хотя и находились в одном этаже, но помещались на двух противоположных концах институтского здания. Громадный коридор разделял нас. Воспитанницам младших классов не позволялось ходить к сестрам старшего возраста, а мы могли в праздники по особому позволению своих классных дам повидать своих младших сестер и кузин. Бывая у нее так часто, как только мне позволяло мое начальство, я отдыхала с ней душой и сердцем.
Оля была умная, кроткая и крайне впечатлительная девочка, очень маленького роста, я перед ней в семье считалась великаном. Лицо ее было очень выразительно и подвижно, но особую ему красоту придавали ее большие, выразительные карие глаза. Привыкала она к институту крайне медленно и тяжело, и скоро совсем осунулась и побледнела. Надо сказать, что наши милые старички, дедушка и бабушка Вагнер, жившие в Москве с нами на одном дворе, очень баловали нас, т. е. меня и ее. Ее в особенности. Это-то баловство и погубило ее. Стол в Смольном был всегда приготовлен, конечно, из безусловно свежей провизии и был довольно разнообразен, но прост и грубоват. Я была очень неприхотлива на пищу и ела все, лишь бы блюдо, как бы просто оно ни было приготовлено, было состряпано из свежей провизии и вкусно. Оля многих вещей совсем не ела. Пироги с мясом ела, а с рыбой и капустой не ела. Рыбы не ела никогда никакой. Овощей и закусы также вовсе не ела. Если в ее тарелку с супом нечаянно попадала какая-нибудь зелень, например, укроп, то она уже этого супу не ела ни за что. Любила только мясо, курицу, все мучное и сладкое, и вообще была очень прихотлива и разборчива в пище. Баловство было настолько безобразно и непонятно, что этому трудно даже поверить со стороны. Тем более это баловство было странно, так как мой дедушка, Петр Иванович Вагнер, профессор Казанского университета, правда, по кафедре минералогии, был по образованию своему доктор и долгое время был врачом в городе Богословске на казенных заводах. И несмотря на это, детям позволялось все, что им было угодно. Например, сестра моя Настя, будучи большой девочкой лет двенадцати, очень умной и развитой, заболела воспалением легких. Так как она тоже много не ела и ни за что не хотела пить молока, ей положительно необходимого по роду болезни, то лечивший ее доктор Иван Петрович Постников должен был пуститься на хитрость. В аптекарскую склянку наливали молоко, подсахаривали его и доктор надписывал на аптечном же бланке к нему особый рецепт на латыни, и только тогда уже Настя принимала его через час по ложке в виде микстуры.
Тетя Лиза, видя, как Оля все худела и бледнела и зная причину этого явления, старалась по возможности подкармливать, привозя в каждый приемный день кроме лакомства и съестное. Училась она прекрасно и была очень понятливая и способная девочка.
На Рождество совершенно неожиданно приехала к нам наша мать с сестрой своей Евгенией Петровной Киттарой. Дело в том, что брат моей матери, профессор зоологии Петербургского университета и известный спирит Н. П. Вагнер[13], опасно заболел, и она с сестрой приехали помогать его жене ухаживать за ним. На праздники нас взяли к себе опять Бестужевы. Дяде Вагнеру вскоре стало лучше и все приободрились. Праздники на этот раз для нас с Олей прошли очень весело. Дядя Костя играл с нами и возился как ребенок. Позволял нам делать с собой все, что нам было угодно, и отвечал на все наши шалости веселым хохотом. Как сейчас помню, Оля побежала в кухню, принесла кухаркин пестрый головной платок и повязала им дядю. Он был очень смешон в этом головном уборе, но чтобы сделать нам удовольствие, сидел тихо и не сбрасывал платка с головы.
Большое удовольствие нам всегда доставляла также их любимая собачка Шарик и прекрасный большой кот Васька. Дядя тоже их очень любил, и Васька преважно заседал иногда у него на письменном столе или, поджав лапки, в виде большого пресс-папье, лежал на его любимых книгах. Согнать его с места дядя никогда сам не решался, и если ему нужна была та книга, на которой сидел Васька, то шел в кухню и просил прислугу его снять с книги, причем чувствовал себя всегда перед ним виноватым. При всем своем уме, начитанности и учености, он был в мелочах жизни, в ее обиходе совершенно беспомощен, как ребенок.
На некоторое время нас с Олей возили к Вагнерам, но дядя был еще слаб, и дети их были все больны, и нас вскоре увезли обратно. Праздники скоро пролетели, и мы с сестрой возвратились в институт.
Мать моя еще некоторое время решила пожить в Петербурге, чтобы быть уверенной в том, что здоровье дяди Вагнера действительно поправляется. Это было как внушено ей свыше. Прошло немного времени, и Оля вдруг захворала. Захворала странно и неожиданно. Заболела и вскоре лишилась сознания, бредила, никого не узнавала и, не приходя в сознание, скончалась.
Во время ее болезни меня к ней не пускали, несмотря на неоднократные мои просьбы, и это меня пугало еще больше. Несмотря на все принятые меры, приглашали даже Боткина, ее ничего не могло спасти; истощенный организм не выдержал натиска болезни, и она погибла. Погибла, проучившись в институте только три месяца. Смерть ее была тяжелым ударом для меня; все свершилось так быстро и подействовало на меня так потрясающе, что я также заболела и слегла. Из лазарета меня выпустили только затем, чтобы я могла присутствовать в церкви на похоронах, но на кладбище мне не позволили ехать. После похорон я слегла окончательно и долгое время не могла поправиться. Со смертью Оли я лишилась в семье последнего друга и стала для всех чужая. В первый же приемный день тетя Лиза привезла мне черный шерстяной передник и черную ленту к вороту и на голову. Это была форма, принятая в институте для воспитанниц, которые носили траур по кому-либо из умерших своих родных.
Горе мое было очень искреннее и глубокое, и смерть сестры оставила в душе моей неизгладимый след.
В этот же год умерла наша старая начальница Леонтьева, и вышла замуж наша классная дама Павлова.
Вскоре к нам приехала вновь назначенная начальница Ольга Александровна Томилова[14], но о ней я буду писать особо.
Глава III
Как я уже говорила, моей классной дамой была Елена Константиновна Клеменко[15]. Елена Константиновна была миловидная шатенка, небольшого роста, необыкновенно изящная, с благородными манерами и деликатным, ровным обращением.
На каждое отделение полагалось две классные дамы, которые и дежурили при нас через день. На случай болезни одной из классных дам имелись еще так называемые запасные классные дамы, которые и дежурили в том классе, где была в этом необходимость.
Другой классной дамой моего отделения была Елизавета Ивановна Павлова[16]. Павлова была очень высокого роста, женщина лет пятидесяти с грубым голосом и грубыми манерами. Насколько была благородна, изящна по фигуре, манерам и обращению Елена Константиновна, настолько была груба, вульгарна и страшна Елизавета Ивановна. Носила она прическу по тогдашнему времени изумительную. Волосы ее были сильно завиты, при этом пробор был не посередине, а на левом боку за ухом, и волосы, взбитые высоким коком, спускались на лоб, покрывая всю правую сторону лба и ухо. Теперь не редкость встретить даму со спущенными почти до кончика носа волосами и с заложенной на один бок прической, но тогда все прически были очень скромны и во всем институте другой такой не было. В довершении всего она носила кринолин.
Голос был грубый и она часто на нас покрикивала, хотя и на прекрасном французском языке. Меня она своей грубостью поразила с первого взгляда, и я ее боялась и избегала столкновений с ней, насколько это было возможно. Но все-таки у меня с ней несколько столкновений было в самом начале моей жизни в институте, когда я еще была новенькая и неопытная. Вероятно, все кончилось бы для меня скверно в конце концов, если бы, к счастью для меня и для всего класса, она совершенно неожиданно для нас не вышла замуж за какого-то генерала в отставке.
Постараюсь все вспомнить и рассказать по порядку.
Одна из классных дам имела комнату рядом с дортуаром своего отделения, а другая жила тут же в коридоре. Таким образом, по мере того как воспитанницы, переходя из класса в класс, меняли свои классы и дортуары, и классные дамы переходили вместе с ними из комнаты в комнату. Комната Павловой была при дортуаре. Дортуары были большие и светлые, между дортуаром и комнатой классной дамы помещалась умывальная комната, в которой, между прочим, жили и наши две горничные из потомок воспитательного дома.
Первое мое с ней столкновение произвело на меня, девочку от природы очень нервную, потрясающее впечатление. Вечером, когда уже все девочки были в дортуаре, несколько воспитанниц пошли куда-то по коридору. Меня это очень удивило, и я спросила первую попавшуюся мне девочку, что бы это значило. Девочка мне объяснила, что это воспитанницы пошли в маленький лазарет принимать капли или пилюли, смотря по тому, что кому было врачом прописано. Лекарства не давались на руки, и дети должны были ходить и принимать их каждое утро и вечер под наблюдением особой классной дамы. В большом лазарете помещались больные, требующие постоянного наблюдения врача или настолько больные и слабые, что для них нужен был покой, диета и особый уход. Я была очень живая девочка, и, недолго думая, побежала за воспитанницами, догнала их, быстро познакомилась с ними, и мы вместе пошли по коридору, весело разговаривая. Девочки не спросили меня, пустила ли меня Павлова, а я не знала, что надо было, прежде чем идти в лазарет, спросить позволения своей классной дамы. Осмотрев лазарет и дождавшись своих подруг, которые подходили по очереди к пожилой и, кстати сказать, очень несимпатичной особе, принимали лекарство и отходили, уступая свое место другим, мы пошли назад. Надо сказать, что мы пришли далеко не первыми и должны были ожидать своей очереди довольно долго. Кому давали принимать лекарство внутрь, кому перевязывали пальцы, кому растирали больную шею или грудь. Все это заняло довольно времени, пока мы, наконец, вышли из лазарета. Шли мы назад очень весело, и я, ничего не подозревая, спокойно вошла в свой дортуар.
Все воспитанницы были уже в постелях, и Павлова сердито ходила взад и вперед по дортуару. «Ты где это пропадала!» – грозно закричала она на меня по-русски. Я объяснила ей, что ходила в маленький лазарет посмотреть, как девочки принимают лекарство. «А кто это тебе позволил?», – крикнула она еще громче и быстро пошла в свою комнату. Тем временем я мигом разделась и легла. Через несколько минут Елизавета Ивановна возвратилась в дортуар, держа в руках тонкую веревку. Быстро подошла она к изголовью моей постели, и продев веревку через прутья железной кровати, захватила веревкой меня за шею и концы веревки связала вместе. Таким образом, я оказалась привязанной за шею к кровати. Мне не было нисколько больно, я лежала совершенно свободно на спине, но тем не менее при одной мысли о том, что я была привязана, руки и ноги у меня похолодели, и я готова была заплакать. Девочки лежали тихо, едва дыша, в дортуаре стояла мертвая тишина. Походив еще некоторое время по дортуару, Павлова, наконец, ушла в свою комнату. Прошло несколько мгновений в томительном ожидании. Все ожидали еще чего-то. Но, наконец, уверившись в том, что Елизавета Ивановна больше не придет, девочки зашевелились. Кто-то засмеялся в одном углу, в другом уже явственно зашептались, и мигом кто-то обрезал душившую меня веревку. Девочки окружили меня, теребили, смеялись и шутили, и я, наконец, пришла несколько в себя.
После этого столкновения я ее страшно боялась и избегала всякого с ней дела, но на мою беду я по росту была одной из самых маленьких и часто мне приходилось ходить в первой паре, т. е. как раз около дежурной классной дамы. Это было для меня всегда истинным мучением. Не скажу, чтобы Павлова была злая женщина, но просто взбалмошная и грубая. Даже смеялась она как-то особенно, не по-людски. Бывали дни, когда она очень была весела и благосклонна к воспитанницам, но и веселость ее и ласки были тоже своеобразны. Например, желая выказать свое желание и ласку кому-либо из нас, она вдруг обхватывала воспитанницу за шею рукой, обыкновенно во время шествия к завтраку или обеду, повисала на ней всем телом и, смеясь, заставляла ее вести себя. Помню раз и я удостоилась этой чести. Тащила я ее по коридору до самой столовой с полным усердием, насколько мне позволяли мои силы, и она, кажется, на этот раз осталась очень довольна.
Другой случай был еще поразительней. Не помню, на какой неделе Великого поста, мы говели в пятом классе. Это было первое мое говенье в Смольном. На говенье полагалась у нас целая неделя. Все шло вначале благополучно. В тот день, когда мы должны идти к исповеди, была дежурная Елена Константиновна. По принятым в институте правилам мы должны были просить прощения у наших классных дам. Так как Павлова была не дежурная, то мы всем отделением отправились к ней наверх. Дежурная девушка пошла доложить ей об нас, и вскоре она вышла к нам из своей комнаты. Стояли мы перед ней хотя и не по парам, но все же по привычке маленькие стояли впереди. Просить прощенья, сделав обычный реверанс, стали все зараз. «Что такое? – закричала она на нас. – В чем дело?» Видя, что на этот раз дело наше плохо, мы, маленькие, стали смиренно просить у нее прощения. «Что-о вы об себе думаете, – заорала она на нас во все горло. – Какое мне до вас дело? Я вижу, что вокруг меня бегают какие-то зверушки и больше ничего». Повернулась и ушла в свою комнату. Нас как громом поразило. Мы сбились в кучу, как вспугнутое стадо овец, никто не смеялся, лица у всех были изумленно-испуганные. «Сказала бы просто: Бог вас простит», – говорили одни смущенно. «А может быть, она нас не простила», – догадывались, явно испытывая ужас, другие. «Какие же мы зверушки, у нас душа есть», – рассуждали с негодованием третьи. «А может быть, она нас правда не простила?» Эта мысль нас пугала и огорчала не на шутку. Мы шли назад, смешавшись в кучу и не соблюдая никакого порядка. Елена Константиновна с обычным тактом и лаской простила нас, и мы пошли в церковь. Я была как в чаду. Дома у нас постились и говели с особым усердием и благоговением, и я никак не могла помириться с мыслью о том, что я не человек, а зверушка. Ни мне и ни одной девочке не пришла в голову мысль сказать об этом происшествии на исповеди нашему священнику. До каникул оставалось немного времени и крупных столкновений больше ни с кем не было, я что-то не припомню.
Осенью, возвратившись в институт, я в ней нашла большую перемену. Она стала веселее, ласковее и на нас меньше еще стала обращать внимания. В те дни, когда Елизавета Ивановна была свободна, в комнате ее стал появляться высокий, пожилой военный, и вскоре наша инспектриса Елизавета Николаевна Шульгина нам объявила о том, что Павлова – невеста и скоро выходит замуж. Известие это нас, конечно, удивило, но все-таки мы были все очень довольны и благодарили в душе генерала, влюбившегося (а мы тогда еще не знали, что можно было жениться, руководствуясь другими какими-либо соображениями) в это в полном смысле слова пугало воронье.
Таким образом, вся эта необыкновенная история осталась для нашего начальства тайной.
Накануне ее отъезда произошла следующая сцена. Надо прежде сказать о нашем институтском обиходе. Несколько раз в год выдавали необходимые туалетные вещи, как-то: булавки, шпильки, гребенки, зубные щетки, мыло, бумагу. Выдавала каждая классная дама своему дортуару эти вещи лично, и Елена Константиновна обыкновенно сейчас же все раздавала своим воспитанницам на руки в полное их владение. Мы, воспитанницы ее дортуара, никогда и ни в чем, таким образом, не нуждались, хотя почти все мы имели у себя свое мыло и другие вещи из дома, а казенные раздавали служившим нам девушкам.
В дортуаре Павловой был заведен другой порядок. Елизавета Ивановна выдавала своим воспитанницам вещи понемногу, остальное оставляла у себя в комнате «на случай». Мы не знали, что она делала с этими остатками, и вот накануне ее отъезда тайна разъяснилась. В комнате у нее была сделана широкая ступенька у окна, и на ней стояли ее рабочие стол и стул. Уже совсем вечерело, когда мы были у себя в дортуаре, Елизавета Ивановна вошла к нам и, собрав вокруг себя своих бывших воспитанниц, со слезами на глазах объявила им о том, что она копила им на выпуск все, что могла, и теперь просит их все ею накопленное для них принять от нее и разделить всем поровну. После этого она велела девушке поднять ступеньку, под которой девочки с удивлением увидели множество мыла, щеток, гребенок, коробок с булавками и белой бумаги. Глядя на эту сцену, мы едва удерживались от смеха, но все же помогали своим подругам перетаскивать все вещи в дортуар. Очевидно, все это было ею накоплено с самого седьмого класса, так как мыло высохло и превратилось в камушки, булавки и шпильки заржавели, а бумага пожелтела. Затем мы пожелали ей счастья в будущей семейной жизни, и она с нами простилась.
Вскоре к нам поступила новая классная дама Екатерина Адамовна Фрейлих[17]. Первое время она нам не особенно нравилась. Была некрасива и не особенно представительна, в особенности в сравнении с Еленой Константиновной, но вскоре мы все без исключения полюбили ее за ее благородный прямой характер, ровное со всеми обхождение и необыкновенную сердечность. Детей трудно обмануть в этом отношении. Мы почувствовали в ней искреннего и преданного нам друга и полюбили ее. Павлова говорила с нами на «ты», Елена Константиновна называла всех по фамилиям и на «вы». Екатерина Адамовна звала всех по именам, прибавляя к фамилии то уменьшительное имя, которым называли воспитанницу ее подруги. Комната Елены Константиновны была очень изящна, с хорошеньким туалетом и со множеством хорошеньких безделушек по столам. Комната Екатерины Адамовны поражала своей спартанской простотой и чистотой. За перегородкой стояли две кровати, покрытые белыми тканевыми одеялами, для нее и ее матери, старенькой старушки, с которой она вместе жила. Мебель была самая простая: стол, диван, комод и большое вольтеровское кресло, в котором старушка всегда и сидела с работой в руках. Елена Константиновна любила и умела носить туалеты. Причесывалась изящно со вкусом. Обращала большое внимание на аккуратность нашего костюма и требовала тщательных причесок. Скромное форменное платье Екатерины Адамовны было сшито просто, без всяких отделок и без шлейфа, прическа была самая простая, без всяких бантов, шпилек и других каких-либо украшений. На нашу внешность она почти не обращала никакого внимания, признавая более существенным для нас наши умственные и нравственные усовершенствования.
Классные дамы Смольного института. 1889 г.
Обе наши классные дамы жили между собой очень дружно, несмотря на кажущееся между ними с первого взгляда сильное различие. Обе были прекрасно образованы, много читали, всем интересовались и держали себя перед начальством с большим благородством и достоинством. До самого нашего выпуска все шло совершенно гладко. Обе классные дамы жили с нами любовно, трудились вместе и веселились, и я не помню ни одной большой ссоры, неудовольствий, какой-либо неприятной для всех истории. Неприятная история, пожалуй, была, но неприятная, скорее всего, для нашего высшего начальства, а не между нами и нашими милыми дамами.
В нашем отделении остались от впереди идущего класса две девочки, Маша Кашкарова и графиня Елена Подгоричани-Петрович. Маша Кашкарова поступила к нам в дортуар, а графиня Подгоричани – в дортуар Екатерины Адамовны. Обе девочки были с большими странностями. Как та, так и другая вовсе не имели молодого вида, и еще тем более не имели, так сказать, духа юности. Не прыгали, не танцевали, не пели, редко смеялись и никогда не шалили. По душе и по сердцу обе были прекрасны. Учились плохо, но не от лени или неспособности к учебе, а совершенно по другим причинам. Графиня Леля была фанатично религиозна. Целые часы проводила она на коленях и молилась Богу и никогда не забывала перед началом каждого урока класть земные поклоны. Изучение наук считала для себя излишним, так как исключительную необходимость для человека видела только в религии.
Маша Кашкарова была тихая, сосредоточенная девушка, очень любила своего брата-студента и, очевидно, не желая тратить своих сил на изучение институтских наук, думала впоследствии изучать что-либо другое, более по ее понятиям нужное для жизни и более для нее интересное. Будучи круглой сиротой, она очень привязалась к своей бывшей классной даме Самойловой, кстати сказать, тоже очень заслуженной и хорошей, и очень по ней скучала. Я уже говорила о том, что общений между классами особо тесных не было. Все были очень заняты, а в короткие перемены много не разговоришься. Могла она видеть свою любимую классную даму только случайно, так сказать мимоходом. Придя раз из столовой, где все-таки можно было видеть дам чужого класса на более долгое время, и не видя на этот раз Самойловой, Маша Кашкарова пришла в сильное волнение. «Знаешь, Саша Ешевская, – сказала она мне, сильно волнуясь, – Самойловой не было сегодня в столовой. Уж не случилось ли с ней чего-нибудь?» Кашкарова сидела в классе сзади меня, и мы могли иногда тихо разговаривать между собой. Кроме того, со мной она разговаривала иногда, зная, что я также сильно тоскую по своей умершей сестре. На другой день опять Самойловой не было в столовой. Тогда Кашкарова пришла прямо в отчаяние. Вскоре мы узнали от горничных, что Самойлова лежит у себя в комнате больная. Узнав о ее болезни, Кашкарова была вне себя от горя. Особенно ее мучила мысль о том, что она ничем не может помочь бедной больной Самойловой. При одной мысли о том, что ее любимая классная дама лежит одна в своей комнате и, может быть, нуждается в самом необходимом, она приходила в полное отчаяние. И вот в ее разгоряченной голове возник план. Она напишет и подаст просьбу нашему обожаемому, милостивому, справедливому государю[18]. Он добрый. По его приказанию начальство будет обязано позаботиться о больной Самойловой и окажет ей возможную помощь. Мысль эта крепко засела у нее в голове. Не посоветовавшись ни с кем из нас, она быстро написала свое оригинальное прошение и, выбрав из всего нашего отделения девушку попроще и не способную к критике, попросила ее переписать ей ее просьбу. Самойлова вовсе не была тяжко больна, а имела повышенную температуру, и поэтому из опасения передать болезнь воспитанницам некоторое время не ходила в класс. Надо же было так случиться, что, как нарочно, государь приехал к нам на следующий день.
Как сейчас вижу, совершенно для нас неожиданно, как всегда, двери нашего класса широко отворились, и он вошел к нам радостный, светлый, ясный, изящный в своем простом генеральском сюртуке и с одним только орденом на шее. Мы радостно громко приветствовали его и вскоре окружили как бы живым кольцом. Вдруг, энергично расталкивая нас, вышла вперед всегда тихая и как бы апатичная на вид Маша Кашкарова, и держа просьбу высоко над головой, упала перед государем на колени. Не зная, что бы это такое значило, мы все в испуге шарахнулись в сторону. Томилова готова была упасть в обморок от неожиданности и испуга. Государь был, видимо, также неприятно поражен, взял, однако, просьбу из рук Кашкаровой и, не читая, передал Томиловой, видимо, думая, что это не прошение о чем-либо, а жалоба на порядки или на начальство. Но вскоре все дело объяснилось. Государь милостиво засмеялся, начальница успокоилась, старшие воспитанницы затем пели лучше, чем когда-либо, и все сошло благополучно. Самойлова, для которой Кашкарова просила у государя питательную пищу и теплую одежду, не нуждаясь ни в том, ни в другом, дня через два или три пришла, как обыкновенно, на дежурство в свой класс. Этим все дело и кончилось.
Кроме классных дам были еще музыкальные дамы – учительницы музыки. Их было очень много и между ними были тоже преоригинальные. Уроки музыки и пения были обязательны для всех, кроме того, особо способные и имеющие средства оплачивать уроки могли еще брать приватные уроки музыки у профессора Лешетицкого. Как особо оригинальная и милая особа выделялась среди музыкальных дам госпожа Дюбуар. Госпожа Дюбуар была миловидная старушка в широчайшем кринолине, неизменно в серой шали на плечах и в тюлевом чепце. Головка у нее была очень маленькая, и сама она была очень худощава. Если взглянуть на нее издали, то она была похожа на живой, движущийся равносторонний треугольник, что, конечно, нас очень забавляло. В ее кринолин был вшит большой карман, в котором она носила гостинцы для своих учениц. Ученицы ее играли не хуже других, несмотря на ее баловство. Я не была ее ученицей, но один раз мне пришлось попасть в ее музыкальную комнату совершенно случайно, и вот тут-то я и увидела ее карман и постигла всю его глубину.
Когда мы были уже во втором классе, у меня умерла милая, кроткая девушка Соня Левстрем. После отпевания в нашей церкви мы пошли все проститься с ней и отдать ей последний долг, пропеть ей вечную память. Трогательное пение живо напомнило мне похороны моей сестры, нервы мои не выдержали, и я заплакала. Не желая нарушать порядка и не будучи в состоянии сдержать себя, я отошла вглубь коридора и, прислонившись к стене, громко рыдала. Недалеко от места, где я стояла, была и ее музыкальная комната. Услышав пение и плач, госпожа Дюбуар вышла в коридор и прямо натолкнулась на меня. «Об чем это ты так горько плачешь?» – ласково спросила она меня. Я ей рассказала, в чем дело. Тогда, чтобы я более не слышала заунывного пения воспитанниц, она взяла меня в свою музыкальную комнату и заперла плотно двери. Желая, видимо, меня утешить и отвлечь чем-нибудь мои мысли, она открыла свой карман и стала выкладывать из него на стол передо мной целый ворох гостинцев. Тут были и пряники всех сортов, и сухарики, и леденцы, и чернослив, и <нрзб.>.
«Кушай, милочка, кушай, – ласково говорила мне милая старушка, – вот посмотри, какой вкусный пряник». И она подала мне маленький пряник с миндалем, но видя, что я медлю класть его к себе в рот, быстро опустила опять свою руку в карман. «Может быть, ты любишь ячменный сахар?» – заботливо спросила она меня, и прежде чем я успела ей ответить, сунула мне в руку палочку ячменного сахару. В это время воспитанницы, окончив пение, шли мимо ее комнаты по коридору. Поблагодарив госпожу Дюбуар за ее привет и ласку, я вышла в коридор и присоединилась к своему отделению.
Глава IV
Учились мы в институте охотно и, главное дело, совершенно свободно. Я не была в младших классах, потому не знаю, как там было дело поставлено, но, начиная с четвертого класса, т. е. с переходом нашим в старший возраст, нас никто не принуждал учить уроки. Наши классные дамы были сами так хорошо образованы, что, конечно, каждая из них могла свободно репетировать нас, но это, к счастью для нас, не было принято в мое время, и мы занимались в большинстве случаев самостоятельно. Помогали они нам только в языках, и то, если была в этом необходимость. Учебников у нас почти никаких не было. Каждый учитель большей частью вел свой класс по своим запискам. И мы переписывали каждый заданный нам урок для себя сами в свои тетради, или составляя прямо записки со слов учителя, или имея уже ранее составленные записки. Даже наш учитель математики Буссе приносил с собой особые листочки с задачами и теоремами, и мы переписывали их каждая для себя отдельно. Классная дама сидела обыкновенно за особым столиком с работой или книгой в руках и наблюдала за нами, никогда не вмешиваясь в наши занятия. Были воспитанницы, которые более любили учить свои уроки в одиночку и тихо, про себя, а были и такие, которые учились вдвоем или по нескольку вместе, находя такой способ учебы для них легче. В свободное от занятий время мы могли заниматься, чем нам было угодно. Учителя наши были, конечно, все первоклассные, преподавали нам интересно и умело. Развлечений, не считая приемных часов, мы не имели никаких, заниматься нам никто не мешал, и мы учились и развивались совершенно свободно и своеобразно.
За последнее время мне много приходилось читать о педагогах, и всюду проводилась та мысль, что в гимназиях учителя и ученики относятся друг к другу как враги. Мысль эта утверждалась так категорически и статьи повторялись с такой настойчивостью, что я невольно проверила свои воспоминания.
Я никогда не любила педагогов и педагогики. В большинстве случаев, насколько мне приходилось иметь с ними дело, это тупой народ, но те немногие учителя и воспитатели, которые пошли на свой труд по призванию и любили свое дело и учеников, были даровиты как учителя и идеально прекрасны как люди. Детей невозможно обмануть ни красноречием, ни заискиванием, ни снисходительностью. Мы сейчас чувствовали, с кем имеем дело, по-своему определяли фигуру учителя и сообразно с этим определением относились к нему как к другу или как к врагу.
Как я уже сказала, большинство педагогов тупо, а тупые люди злы, как пример, стоит только вспомнить наших учителей, двоих злых братьев Бодунген, Карла и Фридриха[19]. Карл Карлович Бодунген преподавал немецкий язык, знал свой предмет отлично и преподавал хорошо, но зол был необыкновенно. Его злости никто не боялся, но симпатии к себе он не возбуждал. Не знать его урока не только не считалось предосудительным, но вошло во всеобщее обыкновение. Он до того, видимо, нас ненавидел, нас и свое учительство, что зачастую приходил в класс уже со злым, желтым лицом. Несмотря на свою красоту и молодость, многочисленных поклонниц не имел. Фридрих Карлович преподавал географию. Был очень красив собой и далеко не так зол, как его брат. Уроки его были очень интересны. Оба учителя французского языка были милые, прекрасные люди, скромные и любезные в обращении с воспитанницами. Надо сказать, что некоторые воспитанницы, имевшие в детстве гувернанток француженок, говорили по-французски прекрасно. Уроки французского языка проходили всегда очень оживленно.
Первым и самым искренним нашим другом был Яков Павлович Пугачевский[20], учитель естественных наук. Ходить к нему на уроки в физический кабинет было для меня всегда большим удовольствием. Из всех наук я любила больше всего естествознание и историю. Но даже и те девочки, которые предпочитали другие предметы предпочтительно перед естествознанием, не знать ему уроки не решались, было не принято. Мы знали, что ставить дурной балл было для него мучительно тяжело, он, видимо, сильно этим огорчался, но никогда не раздражался и не сердился, а старался возможно лучше объяснить и повторить урок еще раз. Лицо его было некрасиво, но очень симпатично, с приятной улыбкой и умными, добрыми глазами. Преподавал он в пятом классе зоологию, в четвертом – ботанику, в третьем – физику, во втором – химию и в первом – анатомию человека до мочевого пузыря и прямой кишки. Более подробно изучать строение человеческого тела по институтским правилам было неприличным. Целыми днями копошился он в своем физическом кабинете, и надо отдать ему справедливость, содержал его при помощи одного только стажера в удивительном порядке. К каждой вещи, будь то дорогой физический прибор или маленькая чучелка или букашка, относился к ней и берег ее с большой любовью, и я не помню ни одного случая, когда кто-либо из нас, не только из шалости, но и по неосторожности, разбил или изломал что-либо в его физическом кабинете. Могу себе представить, в каком виде находился бы этот кабинет, если бы хозяином в нем был Карл Бодунген, а не Яков Павлович. Я думаю, в самое короткое время в нем не осталось бы ни одной целой вещи – невестке в отместку.
Истинным другом нашим был инспектор классов Тимофеев[21]. Он преподавал нам в первом классе литературу. Любил нас и русских поэтов и писателей всей душой. Державина, Жуковского и Пушкина декламировал не иначе как со слезами на глазах. Не знать ему урока и не любить любимых им писателей значило обидеть его до глубины души, на что мы, конечно, никогда не решались. Чтобы сделать ему удовольствие и получить от него похвалу, мы выучивали наизусть целые поэмы, и некоторые воспитанницы декламировали очень хорошо.
Эти учителя-друзья, Пугачевский и Тимофеев, и классная дама Фрейлих разбудили как бы что-то спавшее в моей душе; это что-то впоследствии окрепло и дало мне возможность переносить жестокую прозу жизни, как бы скрасило мою жизнь. Спасибо им. Глубокое спасибо.
Законоучителей у нас было два: отец протоиерей Преображенский, преподаватель в младших классах, и отец протоиерей Василий Гречулевич[22] – наш духовник и преподаватель в старших классах. Отец Преображенский был тихий, кроткий и крайне снисходительный учитель. Всем без исключения ставил 12 баллов за ответы и никогда и никому не делал замечаний. Просто и безыскусно объяснял следующий урок и затем вызывал и выслушивал уже заданный урок. Мы его очень любили за его доброту и учили ему уроки добросовестно, но надо правду сказать, уроки его были скучноваты. Отец Василий был очень строг как преподаватель. Мы весь катехизис и все тексты знали назубок. Объяснял он все тексты очень обстоятельно и требовал, чтобы мы не только знали, но и понимали выученное. Мы все без исключения были очень религиозны. Ходили в церковь очень охотно. Никаких насмешек над религией или над духовными лицами себе никогда не позволяли. Отец Гречулевич был фанатично религиозен. В доме у него, в его комнате, было сделано как бы подобие гроба Господня, перед которым он иногда простаивал целые ночи на молитве. Как духовник был очень строг. Помню, был такой случай. После смерти моей сестры я долго хворала и очень ослабела. Когда мне стало получше, меня выпустили из лазарета, но на особых условиях. Я должна была во время дня выпивать бутылку молока и пить два раза в день по чашке крепкого бульона, кроме общего стола. Как я уже говорила, я ела все, и потому в посты при постной жизни я не страдала, а ела постное с большим удовольствием. На этот раз мне совершенно было запрещено есть постное, и даже во время говенья мне приказывали пить бульон. С этим приказанием я не могла равнодушно примириться и заявила своим классным дамам протест. Елена Константиновна уговаривала меня как могла и, видя мое решительное сопротивление, все же в конце концов предоставила мне право пить или не пить бульон. Екатерина Адамовна, видя мою крайнюю слабость и опасаясь за мое здоровье, никак не решалась предоставить мне право не пить бульона и лично всегда, хоть видимо и страдая за меня, присутствовала при этой мучительной для меня процедуре. Как сейчас помню, перед тем, как нам надо было идти в церковь к исповеди, девушка горничная принесла мне чашку бульона. Екатерина Адамовна со слезами на глазах умоляла меня выпить бульон, говоря, что я больше грешу, совершая непослушание старшим, что Бог видит мою слабость и простит мне мой невольный грех. Екатерина Адамовна была лютеранкой и постов не признавала. Я из жалости к ней, видя ее заботливость обо мне, выпила через силу бульон, но горя своего и слез не могла удержать и так и вышла на исповедь к священнику. Увидя мое заплаканное лицо, отец Василий прежде всего пожелал узнать о причине моих слез. Обливаясь слезами, я рассказала ему, наконец, в чем дело. Выслушав меня, он пришел в сильнейшее негодование, не на Екатерину Адамовну, которая сама, бедная, исполняла только чужое приказание, но на Томилову, от имени которой это приказание исходило.
После исповеди, несмотря на довольно поздний час и на неурочное время, отец Гречулевич отправился наверх к начальнице и сделал ей по этому поводу форменный скандал. Скандал настолько сильный, что Ольга Александровна на другой день пришла поздравить нас с принятием Святых Таинств и просила у меня прощения за доставленное мне горе.
После нашего выпуска отец Гречулевич вышел из состава учителей института и, передав свое место своему зятю, постригся в монахи, поступив в Александро-Невскую лавру.
Одним из самых даровитых и интересных учителей был, бесспорно, Иван Иванович Григорович[23] – наш учитель истории. Вся его фигура, лицо дышали такой энергией и силой, что невольно привлекали к себе симпатию и удивление. Говорил он очень хорошо и образно, был остроумен и остер, слушать его лекции было для меня величайшим наслаждением. Врагом нашим он не был, был очень умен и потому врагом нашим быть не мог. Был очень остер и недоступен для нас по уму, и потому мы близко к нему не подходили.
Самым молодым и самым модным учителем был учитель русской словесности Владимир Измайлович Срезневский[24]. Преподавал он очень интересно и хорошо, был умен и начитан, но при всем этом излишне самолюбив. Был очень недурен собой, имел много поклонниц, но другом нашим не был никогда.
Учитель математики Буссе[25] имел очень оригинальную наружность. Был высокого роста, брюнет, с бледным, умным и серьезным лицом. Оживляли это лицо большие, блестящие, черные глаза. Мы совсем не знали его как человека, я думаю, что он был прекрасный человек в душе, но все его качества и недостатки тщательно были прикрыты математикой. Классы были очень велики, и между скамейками, где мы сидели, и противоположной стороной было большое пространство, где мы в большую перемену могли играть и танцевать. Входя в класс, учитель должен был пройти все это пространство. Занимательно было видеть, как входил в класс Буссе. Он входил быстро, быстро проходил класс, молча отвечал поклоном на наши реверансы и, также быстро подойдя к доске, прямо начинал объяснять урок. Еще, казалось, он не окончил своего поклона, как мы уже слушали объяснение какой-нибудь теоремы или задачи. Учились мы у него четыре года и за все это время он нам не сказал четырех фраз, не касающихся до математики. Врагом нашим не был, а был скорее другом, но как бы в скрытом виде. Никогда не унижался до того, чтобы нас мелочно преследовать, как это, видимо, с удовольствием делал Карл Бодунген, но и в общение с нами ни в какое не входил. Мы много раз пробовали незаметно для классной дамы шалить и смеяться в его уроке. Его большие, блестящие глаза загорались, как угли, но лицо не изменяло своего выражения, и он ни одним движением не показывал, что видит и замечает наши шалости. Стоило ему сделать кому-либо из нас замечание, нас бы непременно наказала за шалости классная дама, и он, видимо, нас жалел.
На уроке. 1889 г.
Наказания были общеизвестные, и я об них скажу вкратце. Наказывали воспитанниц лишением обеда, снимали передник, и наказанная воспитанница должна была идти в столовую впереди класса, ставили за так называемый черный стол. Этих наказаний, по правде сказать никто не боялся и применялись они только в младших классах в большинстве случаев. Для воспитанниц старших классов наказаний не существовало никаких, мы старались не заслуживать даже замечаний классных дам. Говорю это исключительно про свой класс. Воспитанниц особо шаловливых у нас не было совсем. Шалили мы все как-то одинаково умеренно, и до серьезных столкновений никогда не доходило ни между воспитанницами, ни между воспитанницами и классными дамами. Досуги свои каждая из нас проводила как ей было угодно. Хорошие музыкантши играли, солистки разучивали новые романсы, художницы рисовали. Между прочим, я должна сказать, что рисовала я очень хорошо, и мне первой в Смольном было разрешено рисовать с гипсовых голов, так как до меня все воспитанницы рисовали всегда только с оригиналов, т. е. с готовых рисунков. Не возбранялось петь хором. Весной и осенью, гуляя в нашем чудном институтском саду, мы, взявшись за руки, ходили по его пустым аллеям и пели красивые хоровые песни. Пение и музыка в мое время процветали во всем блеске. Наш выпуск славился и гордился совершенно справедливо своим хором и своими прекрасными солистками. Церковное пение преподавал Рожнов, регент императорской капеллы. Некоторые голоса были удивительно хороши. Когда я только что поступила в Смольный и первый раз услышала пение выпускного класса, я была поражена стройностью хора и их прекрасными голосами. С этим выпуском окончила курс известная впоследствии оперная певица Светловская.
Любимая моя подруга Вера Голубинина была одной из лучших пианисток. По выходе из института она поступила в Московскую консерваторию, в которой с успехом и окончила курс.
Учителем танцев был старый, уморительный танцмейстер Хольбут. Танцевали менуэт, гавот и разные легкие танцы, бывшие тогда в моде.
Глава V
В первый год моего поступления в Смольный моей начальницей была Мария Павловна Леонтьева, 80-летняя старушка, которая от старости не могла сама уже ходить и которую два высоких, сильных камер-лакея носили по институту в особо сделанных для нее носилках. В первый раз я увидела это шествие вскоре по поступлении моем в Смольный и вот по какому случаю. Приехал государь. Я в первый раз видела его, и вся его фигура – изящная, стройная – произвела на меня неизгладимое впечатление. Надо сказать, что вообще военные того времени выглядели гораздо изящнее и красивее, чем выглядят теперь, не имели такого специфически-поросячьего вида, таких нелепо выбритых голов. Правда, носили они тогда волосы и бороды не особо длинные, но все же каждое лицо военного от цвета и достоинства его волос приобретало оригинальный и своеобразный вид. Государь Александр Николаевич даже среди военных того времени резко выделялся необыкновенной стройностью и изяществом своей фигуры и несказанной прелестью своих манер.
Государь приехал с большой свитой и шел по коридору в столовую к завтраку. Рядом с ним лакеи в красных ливреях несли на носилках Леонтьеву, за ними шли инспектриса и его свита, а за ними следовали выпускные воспитанницы. Мы стояли около своего класса и должны были приветствовать его и, пропустив всю процессию, следовать за ним по классам в столовую. Все шествие на этот раз имело очень торжественный вид, и если бы не бежавшая впереди государя его любимая собака, сеттер Милорд, то можно было, глядя со стороны, принять все шествие за церковную процессию.
Несмотря на свой преклонный возраст, Мария Павловна сохранила до последнего времени свою память, и ее часто приносили то в тот, то в другой класс на уроки, причем она иногда делала совершенно разумные и дельные замечания учителям и воспитанницам. Дело воспитания за ее старостью шло непосредственно под наблюдением его величества принца Петра Георгиевича Ольденбургского[26], который навещал институт очень часто, инспектора классов Тимофеева и трех инспектрис, двух Обручевых, матери и дочери, и Шульгиной. Обручева-мать[27], Мария Лукинична, была инспектрисой второго зеленого и выпускного, так называемого, белого класса. Я не могу не вспомнить о ней с глубокой благодарностью. Это была в высшей степени деликатная, симпатичная и всеми уважаемая особа. Шульгина Елизавета Николаевна имела под своим наблюдением все младшие классы.
Все три инспектрисы были идеально прекрасны. Прекрасно воспитаны и образованы и необыкновенно гуманны и сердечны в обращении с воспитанницами. Вот этим-то трем поистине гуманным и просвещенным русским женщинам институт и обязан был своим процветанием.
Перемена начальницы со смертью Леонтьевой мало отразилась на нашем выпуске. Видимо, нам давали окончить курс по старому методу, не подвергая весь заведенный порядок коренной ломке.
Вновь поступившая начальница не была для меня лично, да и для многих воспитанниц и классных дам, симпатична. Это была неестественно изломанная светская барыня, с необыкновенно противным выражением когда-то красивого лица. На ее лице всегда было выражение не то брезгливости, не то презрения. По-русски сказать, посмотрев на нее, надо было думать, что она или уксуса хлебнула, или ей наступили на любимую мозоль. Кроме того, она была почти слепа, носила черные очки, сидела всегда в темной комнате, а если ей было необходимо сидеть в классе при полном солнечном свете, то она прикрывала свои больные глаза черепаховым веером, и вообще кажется, сосредоточивала главное внимание на своей особе.
С ней приехали в институт две ее сестры, уже пожилые особы, которым и было поручено воспитание и уход за двумя великими княжнами Черногорскими Милицей Николаевной и Людицей Николаевной. Обе в<еликие> к<няжны>, поступив в число воспитанниц института, ходили в классы на занятия, но жили отдельно в особо отделанных для них апартаментах. Как сейчас помню, мы их увидали в первый раз в церкви. За обедней около Томиловой стояли две прелестные девочки в своих красивых национальных костюмах, с южным типом лица и большими прекрасными глазами. Я уже была в четвертом голубом классе, а обе в<еликие> к<няжны> поступили в кофейный класс. Таким образом, видая их часто, я не имела никогда случая и удовольствия говорить и играть с ними, к моему величайшему сожалению.
Чаще всех в институт приезжал е<го> в<ысочество> принц Ольденбургский. Он ходил один по всему институту, осматривал все до малейших подробностей и вмешивался во все мелочи нашего обихода. Его теплому участию мы многим обязаны. Его сердечное к нам отношение, его необыкновенная простота и мягкость в обращении невольно к нему располагали и видеть его среди нас нам доставляло большое удовольствие.
Государь Александр Николаевич тоже навещал нас и, конечно, эти посещения остались самыми светлыми воспоминаниями нашей жизни. Я была воспитанницей его имени и потому пользовалась его особым вниманием.
Смерть моей сестры Оли сильно подорвала мое здоровье. Со мной стали делаться сперва легкие, а впоследствии более глубокие обмороки, сильная слабость после этих обмороков иногда приковывала меня дня на два или на три к постели. Помню, один раз весной, во время сильной духоты со мной сделался глубокий обморок. Меня на носилках снесли в лазарет, уложили в постель и загородили от света ширмами. Я лежала как бы в забытьи, и хотя все слышала и сознавала, но шевелиться от охватившей меня страшной слабости никак не могла. Вдруг послышались за ширмой осторожные шаги, и тихий, ласковый звон шпор, шуршанье шелковых платьев, и из-за ширмы показалась высокая статная фигура государя. Он тихо подошел к моей постели и нагнулся надо мной. Взял мою руку и ласково погладил ее своей рукой. «Pauvre enfant», – сказал он участливо.
Я видела его прекрасное лицо, склонившееся надо мной, видела его глаза, с таким участием смотревшие на меня, всеми силами своей души хотела поблагодарить его за его участие и доброту обо мне, но несмотря на отчаянное усилие, которое я делала, я не могла ни встать, ни заговорить. И выйдя осторожно из-за ширмы, государь начал говорить вошедшей с ним начальнице что-то тихо, но властно. Я отчетливо слышала сказанные Им последние громче слова: «Прошу сделать все, что возможно». Я в это время была уже во втором классе и должна была переходить в первый. Выйдя из лазарета, я была позвана в комнату Обручевой. Старушка ласково расспрашивала меня о здоровье. Просила меня ничего не скрывать от нее и высказать все, что есть у меня на душе. Но сказать ей мне было совершенно нечего. Болеть у меня ничего не болело, жаловаться мне было решительно не на что и не на кого, и только страшная слабость одолевала меня вдруг до такой степени, что мне было трудно даже говорить. Тогда доктора осмотрели меня очень внимательно и решили как можно скорее отпустить меня домой в Москву от вредной петербургской весны. Учителя меня по разу перед отъездом вызвали, баллы у меня годовые были все не только переводные, но и хорошие, и меня к Пасхе отправили в Москву.
Лето 1875 года было прекрасное, мы жили в Пушкине на даче. Я много гуляла и по нескольку раз в день купалась и чувствовала себя прекрасно, и зима, последняя перед выпуском, прошла для меня совершенно благополучно.
Последний год перед выпуском мы особенно часто видели государя. Проходил он обыкновенно прямо в столовую, где и садился за стол кушать с нами наш незатейливый институтский обед или завтрак. Со свитой приезжал он довольно редко, все больше один или с принцем Ольденбургским. Был как-то раз с цесаревной Марией Федоровной[28] и с наследником Александром Александровичем[29]. Государь вел цесаревну под руку, а наследник шел сзади них. Пробыли они этот раз у нас очень недолго. Воспитанницы пропели им что-то, не помню, и они скоро уехали. Особенно нас поразил своей могучей фигурой наследник Александр Александрович. Но что нас особенно в нем поразило, так это его совершенно голая голова. Потом мы узнали, что его высочество был сильно болен, и был после болезни обрит. Приезжал государь также как-то раз с великой княжной Марией Александровной[30]. Пробыл также недолго.
Как-то раз, я помню, государь приехал с большой свитой. Мы были еще тогда в четвертом классе. Леонтьевой уже не было. Государь, прослушав молитву, сел завтракать с выпускными воспитанницами.
В числе приезжавших с государем лиц был и обер-полицмейстер Трепов[31], маленький генерал, очень юркий и любезный. Пользуясь своим малым ростом, он незаметно юркнул за колонны и пробрался между столами, зорко посматривая по сторонам. Вдруг он быстро подошел к Массальской, у которой болели зубы, и она сидела, не прикасаясь к своему завтраку. За завтраком у нас на этот раз были пирожки и котлеты. «Милая барышня, – сказал он ей тихонько, – я вижу, у вас болят зубки и вы не можете ничего кушать. Уступите мне ваши пирожки, я с утра езжу с государем и очень проголодался». Княжна Анна Массальская, воспитанница нашего класса городского отделения, охотно уступила ему свой завтрак.
Зайдя за колонну, так, чтобы его не видел государь, Трепов с аппетитом скушал пирожки, издали поблагодарил Массальскую и, благополучно выйдя из-за колонны, встал как ни в чем не бывало сзади государя. Вся свита и должностные лица не садились и стояли полукругом сзади государя.
На другой день наш швейцар принес нам в класс большую коробку конфет с визитной карточкой Трепова, на которой имелась следующая надпись: «Милой барышне, которая уступила мне завтрак».
Томилова, которая, очевидно, не имела возможности изменить нам курс и наш обиход, задумала все-таки хотя бы изменить нашу форму. И вот на выпуск нам были сшиты передники с огромными оборками, как обыкновенно носят няньки или горничные в купеческих домах. Передники были сшиты не из полотна, как обыкновенно, а из какой-то бумажной материи, которая немилосердно топорщилась во все стороны. Государь Александр Николаевич часто навещал нас перед выпуском, и вот к его-то приезду нас и нарядили в новые передники. Был урок танцев, и государь прошел прямо в зал. Увидев нас, он остановился и посмотрел на нас с удивлением. «Какие вы пышные», – сказал он наконец. Томилова, вошедшая вместе с ним, принялась расхваливать придуманную ею для нас форму. Тогда государь, повернувшись к ней, резко сказал: «Я привык к старой форме и нахожу ее более изящной и красивой».
Мы ликовали, новая форма нам тоже не нравилась. Кислое лицо Томиловой стало еще кислее.
Часто бывал у нас государь, иногда подолгу слушал наше пение. Помню, раз, прослушав несколько номеров, он встал и, вместо того, чтобы проститься с нами тут же в певческой, как делал это обыкновенно, пожелал, чтобы мы проводили его по коридору под пение Преображенского марша, который мы отлично исполняли и который он очень любил. Не знаю, как это могло случиться? Взяли ли мы очень скорый темп, пошел ли государь очень скоро, только наша инспектриса, старушка Обручева, не могла за нами поспеть и отстала где-то далеко в коридоре. Прослушав марш до конца, государь весело простился с нами и уехал. Мы возвращались назад совершенно очарованные его любезностью и очень веселые, и тут только и заметили изо всех сил спешившую к нам Обручеву. Старушка совершенно задыхалась, на лбу у нее выступили большие капли пота, чепец сбился набок, и она чуть не плакала. Она не стала делать нам выговора, но, видимо, не могла помириться с мыслью о том, что государь уехал, не простившись с ней, как это делал всегда. «Вы знаете ли, – говорила она нам со слезами в голосе, – государь всегда, прощаясь со мной, удостаивал меня пожатием своей руки, а сегодня я была лишена этой чести». Видимо, она думала, что это мы пошли слишком скоро и тем лишили ее чести проститься с государем и видеть его еще раз.
Хотя она имела очень смешной вид, но мы, глядя на нее, не смеялись, нам совсем было не до смеха, мы всей душой ей сочувствовали и понимали ее горе и сожалели ей. Она была нам так близка, дорога и понятна в эту минуту.
Горячая любовь и бесконечная преданность к государю и его семейству владели нашими сердцами всецело. И если бы кто-нибудь сказал нам, что для спасения его жизни надо было бы выпустить из нас нашу кровь всю до капли и нашими жизнями заплатить за его жизнь, я думаю, ни одна из нас тогда не запротестовала бы и отдала бы свою жизнь и кровь просто и охотно, без всяких громких фраз и красивых поз.
Незадолго до выпуска нас взяли в Зимний дворец. Государыня Мария Александровна[32] ненадолго вышла к нам, но пения нашего слушать не пожелала, опасаясь, что мы будем петь слишком громко. Приняла она нас в небольшой гостиной. Как сейчас вижу эту прелестную глубокую комнату, заставленную мебелью из черного дерева, крытого голубым шелком. Между окнами и, перемежаясь с мебелью, стояли жардиньерки исключительно только с белыми азалиями. Государыня была очень худа и имела болезненный вид. Чтобы не утомлять ее, нас вскоре увели на половину Государя и ввели в его кабинет. Эта комната сейчас стоит перед моими глазами, как будто я видела ее только сейчас. Большая светлая комната в два окна, перед окнами – большой письменный стол из темного дерева. Вся обстановка казалась очень скромной и ничего пестрого в ней не было. На письменном столе лежали только что подписанные государем бумаги, чернила еще не обсохли на пере. Что я почувствовала, переступив порог этой комнаты, я не в силах описать. Поздоровавшись с нами, государь сел в кресло перед письменным столом, и мы окружили его. Милостиво поговорив с нами, он спросил нас, не хотим ли мы осмотреть Эрмитаж. Мы, конечно, изъявили свое согласие, и государь пошел вместе с нами, лично объясняя нам редкости, собранные в Эрмитаже. Помню, как он остановился перед маленькой горкой и обратил наше внимание на серебряный парик. Волосы парика были сделаны из тонких серебряных нитей, которые и были завиты локонами. Я страстно люблю все прекрасное, и поэтому восторгу моему не было конца. Я с трудом могла оторвать глаза от прекрасных статуй и картин. Государь, видимо, устал, но продолжал исполнять свои обязанности хозяина с необыкновенной грацией и радушием. Наконец, он милостиво простился с нами, и мы, нагруженные фруктами и конфетами, возвратились в институт. Я долго еще не могла придти в себя от всего виденного мною и слышанного и продолжала видеть наяву дивный и прекрасный сон.
Перед выпуском были даны традиционные балы с приглашенными на этот раз учителями частными кавалерами для танцев. Каждая выпускная воспитанница могла пригласить троих, если кого имела в виду.
Его величество принц Ольденбургский тоже устроил у себя дневной бал для всех институтов зараз[33]. В большом зале дворца играла музыка, и мы могли танцевать с воспитанницами других институтов, если хотели. Мы, конечно, были в новой пышной, так сказать, форме, почему и возбуждали насмешки и очень меткие остроты со стороны других институток. Чужие начальницы ехидно-насмешливо осматривали нас и шипели. Выпускные экзамены окончились как-то совсем для нас незаметно. На балу у его высочества все воспитанницы, получившие шифры, были в первый раз в шифрах. Справедливость требует, чтобы было сказано о том, что все воспитанницы, получившие первые шифры во всех институтах, были удивительно некрасивы собой. Первый шифр получила в нашем классе воспитанница из городского отделения, а не из нашего Невского, но мы на это не роптали. Мы были вполне воспитанницы наших классных дам и знали наверно, что ни одна из них никогда не прикладывалась к плечику начальницы, да и мы все неохотно целовали Томиловские ручки. А ручки иногда поневоле приходилось целовать. У Томиловой была противная манера хлопать воспитанниц по лицу в виде ласки, ожидая их поцелуев. Наше отделение возмущалось этой манерой ласкать и всячески избегало ее ласк, насколько это было возможно. Мне как-то пришлось быть у нее дежурной, испытать это противное хлопанье ее рукой по моему лицу. Я помню, после этого дежурства я была больна несколько дней.
В день выпуска мы были все в белом и утром пошли в церковь последний раз выслушать напутственный молебен. После молебна прикладывались к иконам, получали из рук отца Василия Евангелие, псалтырь и молитвослов, прощались с ним очень сердечно, он, благословляя нас, плакал, и шли в столовую к последнему обеду. Во время обеда мы все получили по бонбоньерке с конфетами. В каждой коробке было вложено по двадцать пять рублей на первые наши карманные деньги. Прощание с подругами, Тимофеевым, милым Пугачевским и нашими классными дамами было самое задушевное.
За несколько дней до выпуска приезжал проститься с нами государь. Приехал он днем, и мы в последний раз пели в его присутствии. На этот раз пение не клеилось, и вскоре государь стал прощаться с нами. Мы подходили к Нему поодиночке, получали из его рук его портрет и со слезами прощались с Ним. Государь, видимо, и сам был взволнован, но старался ободрить нас милостивыми словами. Никто из нас не мог, конечно, подозревать, видя его таким прекрасным, полным сил и жизни, что видим его в последний раз.
Фрейлинский шифр – при российском императорском дворе золотой, усыпанный бриллиантами знак отличия, который носили придворные дамы в должности фрейлин. Представлял собой брошь в виде одного инициала (монограммы) императрицы; или же двух сплетенных инициалов императрицы и ее свекрови – вдовствующей императрицы (такой знак назывался «двойной»). На фотографии изображен шифр, который использовался в годы правления российской императрицы, жены Александра II Марии Александровны
Весть о его мученической кончине застала меня уже в Москве. Говорить о том, как я была поражена этим бессмысленным, зверским убийством, я нахожу излишним. Безумное преступление! Как будто бы от устранения с дороги одного лица, допустим, даже вредного, люди станут лучше, и на земле настанет рай. Разбойники перестанут убивать, воры перестанут воровать, мошенники всех сословий и состояний перестанут обманывать честных людей, пустые, бессердечные матери не будут более бросать на произвол судьбы своих детей, картежники не будут больше проигрывать достояние своих семей, пьяницы перестанут пить, все будут сыты, и реки потекут медом и молоком. Безумно-глупая мечта! В одно я верю. Светлое имя его с годами все будет более и более дорогим для сердца русского человека, и злое, бессмысленно-зверское убийство будет казаться еще страшнее, еще бессмысленнее, еще злее.
Елизавета Николаевна Водовозова. 1844–1923. На заре жизни. Смольный институт Избранные главы
Дореформенный институт[34]
Смольный монастырь. – Прием «новеньких». – Начальница Леонтьева. – Ратманова. – Бегство Голембиовской
Институт в прежнее время играл весьма важную роль в жизни нашего общества. Институтки в качестве воспитательниц и учительниц, как своих, так и чужих детей, очень долго имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие целого ряда поколений. Однако, несмотря на это, правдивое изображение института долго было немыслимо. В прежнее время в печати можно было либо говорить только о внешней стороне жизни в институте, либо восхвалять воспитание в нем. Это тем более странно, что цензура уже давно начала довольно снисходительно относиться к статьям, указывающим недостатки учебных заведений других ведомств. Но лишь только касались закрытых женских учебных заведений и в них указывались какие-нибудь несовершенства, такие статьи пропускали только в том случае, когда выражения «классные дамы», «начальница», «инспектриса», «институтка» были заменены словами «гувернантки», «мадам», «пансион», «пансионерка» и т. п.
В этом очерке я говорю исключительно о Смольном, этом древнейшем и самом огромном из всех подобных образовательных учреждений. Он долго служил образцом для устройства не только остальных институтов, но и многих пансионов и различных женских учебных заведений. Мне кажется, небезынтересно познакомиться с результатами воспитания в Смольном, в основу принципов которого его основателями (Екатериною II и Бецким) были положены передовые идеи Западной Европы.
В числе способов обучения устав этого воспитательного среднеучебного заведения требует «паче всего возбуждать в воспитываемых охоту к чтению книг, как для собственного увеселения, так и для происходящей от того пользы». Он вменяет в обязанность «вперять в них (детей) охоту к чтению» и ставит непременным условием иметь в заведении библиотеку. Кроме того, устав возлагает на воспитателей обязанность «возбуждать в детях охоту к трудолюбию, дабы они страшились праздности, как источника всякого зла и заблуждения». Он указывает на необходимость научить детей «соболезнованию о бедных, несчастливых и отвращению от всяких продерзостей». Мало того, для сохранения здоровья предписывается увеселять юношество «невинными забавами», чтобы искоренять все то, что «скукою, задумчивостью и прискорбием назваться может». Путем такого гуманного воспитания императрица Екатерина II думала создать в России новую породу людей.
Что эти мечты Екатерины II не могли осуществиться в ее царствование, когда Россия была погружена в беспросветный мрак невежества, – это понятно, но посмотрим, что представлял собой институт почти через сто лет после своего основания.
В одно ясное, солнечное, но холодное октябрьское утро я подъезжала с моею матерью[35] к Александровской половине Смольного (Смольный институт, основан в 1764 году): до начала в нем нововведений, то есть до 1860 года, он состоял из двух учебных заведений – Общества благородных девиц, или Николаевской половины, и Александровского училища, или Александровской половины. На Николаевскую половину принимали дочерей лиц, имеющих чин не ниже полковника или статского советника, и потомственных дворян; на Александровскую половину – дочерей лиц с чином штабс-капитана или титулярного советника до полковника или коллежского советника, а также детей протоиереев, священников, евангелических пасторов и дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги[36]. Оба этих огромных заведения состояли под главенством одной начальницы и одного инспектора. Лишь через сто лет после основания Смольного состоялось отделение Александровской половины от Николаевской, то есть полное обособление одного института от другого. С этого времени Александровская половина Смольного получила особую начальницу и своего инспектора. Это разделение произошло по желанию императрицы Марии Александровны, обратившей внимание на неудобства совместного существования двух огромных институтов. Я описываю преимущественно воспитание на Александровской половине Смольного перед эпохой реформ и во время ее (прим. Е. Н. Водовозовой) с тем, чтобы, вступив в него, оставаться в нем до окончания курса. Но высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были изолировать меня на продолжительное время не только от родной семьи, но, так сказать, от всех впечатлений бытия, от свободы и приволья деревенского захолустья, откуда меня только что вывезли, не смущали меня. Матушка много рассказывала мне об институте, но, не желая, вероятно, волновать меня, недостаточно останавливалась на его монастырской замкнутости: все ее рассказы оканчивались обыкновенно тем, что у меня будет много-много подруг, что с ними мне будет очень весело. В детстве я страдала от недостатка общества сверстниц, и это известие приводило меня в восторг. Мое настроение было такое бодрое, что меня не смутил и величественный швейцар в красной ливрее, который распахнул перед нами двери института.
Не успели мы еще снять верхнюю одежду, как в переднюю вошли дама с девочкой приблизительно моего возраста. Как только мы привели себя в порядок, к нам подошла дежурная классная дама, m-lle Тюфяева, по внешности особа весьма антипатичная, очень старая и полная, и заявила нам, что инспектриса, m-me Сент-Илер[37], не может нас принять в данную минуту: «Вы не только опоздали на три месяца привезти ваших дочерей, но и сегодня вас ожидали к девяти часам утра, как вы об этом писали. К этому времени приглашены были и экзаменаторы. Теперь одиннадцать часов, и учителя заняты…»
Моя матушка и m-me Голембиовская начали извиняться, но m-lle Тюфяева, не слушая их, попросила нас всех следовать за нею в приемную; при этом она, не переставая, ворчала на наших матерей, и ее однообразная воркотня раздавалась в огромных пустых коридорах как скрип неподмазанных колес.
Когда классная дама вышла из комнаты, мне захотелось поболтать с новою подругою, но это не удавалось: она стояла около своей матери, то прижимаясь к ней, то нервно хватая ее за руки, то припадая к ее плечу и жалобно выкрикивая: «Мама, мама!», а слезы так и лились из ее глаз.
Мать и дочь Голембиовские были чрезвычайно похожи друг на друга, но так, конечно, как может походить тридцатипятилетняя женщина на десятилетнюю девочку. Обе они были брюнетки, с большими черными глазами, бледные, худощавые, с подвижными лицами и правильными, красивыми чертами лица, обе одеты были в глубокий траур, то есть в черные платья, обшитые белыми полосами, называемыми тогда плерезами.
Не получив поощрения со стороны моей будущей подруги Фанни для сближения с нею, я стала прислушиваться к разговору старших. Вот что я узнала. M-me Голембиовская была полька-католичка, как и ее муж, который умер несколько недель тому назад. Оставшись с дочерью Фанни без всяких средств, она переехала из провинции в Петербург и поселилась в семье своего родного брата, который зарабатывал хорошие средства, но имел большую семью. Г-жа Голембиовская занималась у него хозяйством и обучала его детей иностранным языкам, которые она хорошо знала. Ее брат выхлопотал для Фанни, своей племянницы, стипендию у какого-то магната, которая и дала возможность поместить ее в институт.
Прозвонил колокол, и к нам вошли пепиньерка (воспитанницы педагогического класса назывались пепиньерками. Кроме слушания лекций в институте, они должны были дежурить в кофейном, то есть младшем, классе во время болезни классных дам и спрашивать в это время уроки у маленьких. Пепиньерки одевались лучше и красивее всех остальных воспитанниц: их форменное платье – серое с черным передником, с кисейною, а по праздникам и с кружевною пелеринкою. В праздничные дни они пользовались правом уезжать по очереди домой. – Прим. Е. Н. Водовозовой) и учитель русского языка: первая должна была заставить меня ответить молитвы и проэкзаменовать нас обеих из французского языка, а учитель – из русского. Экзамен был совершенно пустой и благополучно сошел для нас обеих. Через несколько минут m-lle Тюфяева повела нас, новеньких, одеваться в переднюю. Мы должны были явиться к начальнице вместе с нею и отправились по бесконечным холодным и длинным коридорам. Туда же обязаны были явиться и наши матери, но им приходилось сделать эту дорогу не коридорами, которыми ходили лишь люди, так или иначе прикосновенные к институту, а по улице, и войти к начальнице с подъезда Николаевской половины.
Мне так хотелось увидеть поскорее моих будущих подруг, что у меня моментально вылетел из головы грубый прием m-lle Тюфяевой; не обратила я внимания и на официальное выражение ее лица и непринужденно начала засыпать ее вопросами:
– Где же девочки, тетя?
– Я тебе не тетя! Ты должна называть классных дам – mademoiselle…
Сердитый окрик заставил меня замолчать. Но вот и приемная.
Начальница Смольного, Мария Павловна Леонтьева[38] (урожденная Шилова, Мария Павловна получила образование в Смольном. Вскоре после окончания ею курса императрица Мария Федоровна назначила ее фрейлиной к своей дочери, великой княгине Екатерине Павловне, вышедшей впоследствии замуж за принца Георгия Ольденбургского. Затем Мария Павловна Шилова вышла замуж за генерала Леонтьева, но когда ей было 45 лет, она овдовела и была пожалована императрицей Александрой Федоровной гофмейстериной ко двору своей дочери, великой княгини Марии Николаевны, бывшей замужем за герцогом Лейхтенбергским. В 1839 году Леонтьеву назначили начальницею в Смольный, где она прослужила тридцать шесть лет и умерла на своем посту восьмидесятидвухлетней старухою. Таким образом, сорок пять лет своей жизни Леонтьева провела в институте, из них девять лет как воспитанница, а тридцать шесть лет как его начальница. – Прим. Е. Н. Водовозовой), была в это время уже старухой с обрюзгшими и отвисшими щеками, с совершенно выцветшими глазами без выражения и мысли. Ее внешний вид красноречиво говорил о том, что она прожила свою долгую жизнь без глубоких дум, без борьбы, страданий и разочарований. Держала она себя чрезвычайно важно, как королева первостепенного государства, давая чувствовать каждому смертному, какую честь оказывает она ему, снисходя до разговора с ним.
Она действительно была немаловажною особой: начальница старейшего и самого большого из всех институтов России, она и помимо этого имела большое значение по своей прежней придворной службе, а также и вследствие покровительства, оказываемого ей последовательно тремя государынями; она имела право вести переписку с их величествами и при желании получать у них аудиенцию. К тому же Леонтьева имела огромные связи не только при нескольких царственных дворах, но и вела знакомство с высокопоставленными лицами светского и духовного звания. Своего значения она никогда не забывала: этому сильно помогали огромное население двух институтов и большой штат классных дам и всевозможных служащих той и другой половины Смольного, которые раболепно пресмыкались перед нею. Забыть о своем значении она не могла уже и потому, что была особою весьма невежественною, неумною от природы, а на старости лет почти выжившею из ума. От учащихся она прежде всего требовала смирения, послушания и точного выполнения предписанного этикета, а классные дамы, согласно ее инструкциям, должны были все свои педагогические способности направить на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института. Порядок и дух заведения строго поддерживались ею; перемен и нововведений она боялась как огня и ревниво охраняла неизменность институтского строя, установившегося испокон века. Нашею непосредственною начальницею была инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», но мы часто видели и нашу главную начальницу, Леонтьеву: ежедневно, по очереди, двое из каждого класса носили ей рапорт о больных, каждый большой праздник воспитанницы должны были являться в ее апартаменты с поздравлениями, она присутствовала на всех наших экзаменах, от времени до времени приходила на наши уроки или в столовую во время обеда, и, кроме всего этого, мы каждую субботу и воскресенье видели ее в церкви. За все время моего пребывания в институте я никогда не слыхала, чтобы она кому-нибудь из нас сказала ласковое, сердечное слово, задала бы вопрос, показывающий ее заботу о нас, чтобы она проявила хотя малейшее участие к больной, которая, как ей было известно из ежедневно подаваемых рапортов, пролежала в лазарете несколько месяцев в тяжелой болезни. Она посещала и лазарет, но разговаривала с воспитанницами не иначе, как строго официально. Являясь к нам на экзамены, Леонтьева никогда не интересовалась ни умственными способностями той или другой ученицы, ни отсутствием их у нее. Принимая от нас рапорты, она спрашивала, какое Евангелие читали в церкви в последнее воскресенье или по поводу какого события установлен тот или другой праздник. На экзаменах она поправляла только произношение отдельных слов, и не потому, что оно было неправильно, а потому, что у нее было несколько излюбленных слов, произношением которых ей никто не мог угодить. Как бы воспитанница ни произнесла «святый боже», ««божественный», «тысяча», «человек», она сейчас заставляла ее повторять эти слова за собою. Когда мы отвешивали ей реверанс при ее появлении, она непременно замечала по-французски: «Вы должны делать глубже ваш реверанс!». А когда мы сидели, она каждый раз считала долгом сказать: «Держитесь прямо!».
В церкви мы стояли стройными рядами, но как только входила начальница, она начинала все перестраивать по-своему: воспитанниц маленького роста ставила в проходах, а более высоких – к клиросу (место для певчих в церкви: возвышение перед алтарем по правую и левую руку от царских врат. – Прим. ред.); в другой же раз вытягивала на средину больших ростом, а маленьких выставляла у проходов, и так далее до бесконечности. Если на следующий раз дежурная дама ставила в церкви воспитанниц так, как угодно было начальнице поставить их в последний раз, та все-таки переставляла их по-своему. Этим и ограничивались все «материнские» заботы начальницы Леонтьевой относительно воспитанниц Александровской половины. Одним словом, нашею начальницею, без преувеличения можно сказать, была не женщина, а просто какой-то каменный истукан, даже в то рабское, крепостническое время поражавшая всех своим бездушным, деревянным отношением к воспитанницам. Однако эта особа умела превосходно втирать очки кому следует. Ее письма и отчеты государыне дышат необыкновенною добротой к детям, снисхождением и всепрощением ее любвеобильного сердца. В 1851 году Леонтьева пишет императрице: «Дети всегда послушны, за редкими исключениями, когда их волнует живость, простительная в их возрасте». Через несколько лет, возвращаясь после летнего отдыха из деревни, она пишет: «Велика моя радость снова увидеть мою милую, многочисленную семью!».
По установившимся традициям и кодексу весьма своеобразной институтской морали, нередко, впрочем, не имевшей ничего общего с здравым смыслом, начальница, несмотря на свой престарелый возраст, должна была иметь величественный вид, даже и в том случае, если природа не наделила ее для этого никакими данными. Для достижения этой цели Леонтьева прибегала к незамысловатым средствам: она всегда туго зашнуровывалась в корсет, ходила в форменном синем платье и в высоком модном чепце. Разговаривая с подчиненными, она смотрела не на них, а поверх их голов, до смешного растягивала каждое слово, все произносила необыкновенно торжественно, не давала возможности представлявшимся ей лицам вдаваться в какие бы то ни было объяснения, а тем более подробности, и допускала лишь лаконический ответ: «да» или «нет, ваше превосходительство», имела всегда крайне надменный вид и застывшую улыбку или, точнее сказать, гримасу на старческих губах, точно она проглотила что-нибудь горькое.
Когда мы, новенькие, в первый раз подходили к приемной начальницы, мы встретили здесь наших матерей и вошли вместе с ними в сопровождении m-lle Тюфяевой. В огромной приемной, обставленной на казенный лад, у стены против входной двери сидела на диване начальница Леонтьева, а подле нее на стуле ее компаньонка Оленкина[39].
– Мама! Мама! – вдруг закричала Фанни, бросаясь в объятия матери. Этот крик раздался совершенным диссонансом среди гробовой тишины.
Начальница чуть-чуть приподняла голову, что для Оленкиной, видимо, послужило сигналом узнать фамилии новоприбывших, так как она быстро подошла к нашим матерям, а затем начала что-то шептать на ухо начальнице.
– Потрудитесь подойти! Сюда! Ближе! Я прежде всего попрошу вас покончить с этою сценой… Можете садиться! – И Леонтьева величественным жестом указала Голембиовской на стул против своего стола. Фанни подбежала к матери и крепко вцепилась в ее юбку.
– Видите ли, – снова обратилась начальница к Голембиовской, – каких недисциплинированных, испорченных детей вручаете вы нам!
Елизавета Николаевна Водовозова (1844–1923) – русская детская писательница, педагог, мемуаристка; в первом браке жена педагога Василия Ивановича Водовозова
– Испорченных? – переспросила Голембиовская с изумлением, в своей провинциальной простоте не понимавшая ни величия начальницы, ни того, как с нею следует разговаривать. – Уверяю вас, сударыня, что моя Фанни послушная, ласковая, привязчивая девочка!.. А то вдруг «испорченная»! Как же это можно сказать, не зная ребенка!
В ту же минуту над ее стулом наклонилась компаньонка Оленкина и шепотом, который был слышен во всей комнате, произнесла, отчеканивая каждое слово:
– Должны называть начальницу – Ваше превосходительство. Вы не имеете права так вольно разговаривать с ее превосходительством! Извольте это запомнить!
– Извините, ваше превосходительство, – заговорила переконфуженная Голембиовская. – Я вас назвала не по титулу… Я ведь провинциалка! Всех этих тонкостей не разумею… Все же о своей девочке опять скажу вам: золотое у нее сердечко! Будьте ей матерью, ваше превосходительство! Она ведь у меня сиротка! – И слезы полились из глаз бедной женщины.
– Мне страшно, мама! – вдруг со слезами в голосе завопила ее дочь.
– Сударыня! Моя приемная не для семейных сцен! Извольте выйти в другую комнату с вашей дочерью и ждать классную даму.
Тогда к начальнице подошла моя мать и начала рекомендовать себя на французском языке, которым Голембиовская не сумела воспользоваться, хотя свободно говорила на нем. В то время знание французского языка облагораживало и возвышало каждого во мнении общества, тем более громадное значение оно имело в институте. Вероятно, вследствие этого начальница благосклонно кивнула ей головой, но когда моя мать выразила свое удовольствие по поводу того, что ее дочь принята на казенный счет и получит образование, которого она за отсутствием материальных средств не могла бы дать сама, Леонтьева возразила ей не без иронии: «Если бы вы понимали, какое это счастие для вашей дочери, вы могли бы в назначенное время доставить ее сюда!» – и, кивнув головой в сторону m-lle Тюфяевой, она показала этим, что аудиенция окончена.
Мы шли обратно так же, как и пришли: матери отдельно, мы – в сопровождении Тюфяевой. Общее молчание нарушалось на этот раз только всхлипываниями Фанни. Когда мы вошли в комнату, в которой экзаменовались, наши матери уже сидели в ней. Фанни не замедлила броситься со слезами в объятия своей матери. М-lle Тюфяева резко заметила:
– Прошу прекратить этот рев!.. Через несколько минут, когда я приду за девочками, мы уже сами позаботимся об этом, а теперь это еще ваша обязанность!
– Ах, милая mademoiselle Тюфяева, – с мольбой обратилась к ней Голембиовская, – скажите ей хоть одно ласковое словечко… хоть самое маленькое!.. Ведь у нее от всех этих приемов сердчишко, точно у пойманной птички, трепыхает…
– Трепыхает! Это еще что за выражение! «Молчать!» – вот что вы должны сказать вашей дочери! Вы своими телячьими нежностями и начальницу осмелились обеспокоить, а тут опять начинаете ту же историю! – И она направилась к двери.
– Покорись, дитятко! Перестань плакать, сердце мое! – покрывая дочь страстными поцелуями, приговаривала Голембиовская, не обращая внимания на то, что классная дама остановилась и смотрит на них. – Что же делать, дитятко! Тут уж, видно, и люди так же суровы, как эти каменные стены!
– А! – прошипела Тюфяева. – Я сейчас доложу инспектрисе, какие наставления вы даете вашей дочери!
Моя мать, испуганная за Голембиовскую и понимая, как это может повредить ее дочери, подбежала к Тюфяевой и начала умолять ее:
– Сжальтесь… Сжальтесь над несчастной женщиной! Она в таком нервном состоянии!
М-lle Тюфяева грубо отстранила мою мать рукой; в эту минуту Фанни вскрикнула и без чувств упала на пол. Тюфяева быстро вышла за дверь, а затем к нам вбежало несколько горничных и бесчувственную Фанни понесли в лазарет. За ними последовала и ее мать. Я наскоро простилась с моею матерью, и так как передо мной уже выросла Тюфяева, я отправилась за нею. Она привела меня на урок рисования. Я как-то машинально проделывала все, что мне приказывали, и очнулась от рассеянности только тогда, когда прозвонил колокол. Девочки задвигались и стали подбегать ко мне с вопросами.
– Молчать! Становиться по парам! – кричит классная дама Петрова и устанавливает воспитанниц по росту пару за парой – маленьких впереди, девочек более высокого роста – позади. То одна воспитанница выдвинется несколько вбок, то другая подастся вперед, – классная дама сейчас же равняет таких: немедленно подбегает к ним, одну толкает назад, ее соседку двигает вперед, кого ставит правее, некоторых дергает влево и, наконец, в строгом порядке ведет в столовую, выступая впереди своего отряда. По институтским правилам требовалось, чтобы воспитанницы, куда бы они ни отправлялись, выступали как солдаты, представляя стройную колонну, и двигались без шума. Если предводительница этой женской армии прибавит шагу, – и воспитанницы должны идти скорее, не расстраивая колонны; при этом они обязаны молчать; если одна из воспитанниц произносила хотя слово, такое преступление редко оставалось безнаказанным, особенно в кофейном классе.
Трудно представить, как много времени уходило на установку по парам. В столовую водили четыре раза в день (на утренний и вечерний чай, к обеду и завтраку), следовательно, туда и назад по парам строились восемь раз; то же делали, когда отправлялись на прогулку и возвращались после нее; таким образом, тратили более часу времени, а по субботам и праздникам, когда приходилось отправляться в церковь, и еще того больше.
В то время, которое я описываю, начальство института уже не имело права давать волю рукам: оттрепать по щекам или избить чем попало по голове, высечь розгами, как это бывало раньше, в мое время не практиковалось даже и в младшем классе, но толчки, пинки, весьма чувствительное обдергивание со всех сторон, брань, бесчисленные наказания, особенно в младшем классе, были обычными педагогическими воздействиями.
К молчанию и безусловному повиновению институток приучали весьма систематично. Впрочем, на женщину в то время вообще смотрели как на существо, вполне подчиненное и подвластное родителям или мужу, – институт стремился подготовить ее к выполнению этого назначения, но чаще всего достигали совершенно противоположных результатов. От нас требовалось или молчание, или разговор полушепотом, и так в продолжение всего дня, кроме перемен между уроками, когда громкий разговор не вызывал ни окрика, ни кары. Наиболее суровые классные дамы ограничивали и суживали даже ничтожные привилегии «кофулек» (воспитанниц младшего класса), которым по праздничным дням вечером дозволялось бегать, играть и танцевать. Как только они поднимали шум и возню даже в такие дни, классные дамы кричали: «По местам! Вы не умеете благопристойно держать себя!». Дети послушно садились на скамейки и, получая постоянно нагоняй за резвость, все реже предавались веселью.
Как ни была жива и шаловлива девочка при поступлении в институт, суровая дисциплина и вечная муштровка, которым она подвергалась, а также полное отсутствие сердечного участия и ласки быстро изменяли характер ребенка. Если девочка свыкалась с институтским режимом, а наклонность к шаловливости еще не совсем пропадала в ней, ее неудержимо влекли к себе глупые и пошлые шалости.
Когда я в первый раз вошла в столовую, меня удивило огромное число наказанных: некоторые из них стояли в простенках, другие сидели «за черным столом», третьи были без передника, четвертые, вместо того чтобы сидеть у стола, стояли за скамейкой, но мое любопытство особенно возбудили две девочки: у одной из них к плечу была приколота какая-то бумажка, у другой – чулок. Когда после пения молитвы мы уселись за завтрак, я больше уже не могла выносить молчания и стала расспрашивать соседку, можно ли разговаривать; та отвечала, что можно, но только тихонько. И меня с двух сторон шепотом начали просвещать насчет институтских дел. Когда у девочки приколота бумажка, это означает, что она возилась с нею во время урока; прикрепленный чулок показывал, что воспитанница или плохо заштопала его или не сделала этого вовсе, а за что наказаны старшие воспитанницы (белого класса) – нам, кофейным, неизвестно.
После завтрака нас повели в дортуар, где мы должны были надеть гарусные капоры[40] и камлотовые салопчики, чтобы отправиться в сад на прогулку. Институтский туалет в дореформенный период отличался необыкновенным безобразием: только платья шили более или менее по фигуре, а верхнею одеждою и бельем воспитанницы должны были довольствоваться что кому попадало. Нередко девочке весьма полной доставался салоп от худенькой, и она еле натягивала его на себя. Воспитанницы старших и младших классов, одетые в салопы допотопного фасона и в гарусные капоры, скорее походили на богадельных старушонок, чем на детей и молоденьких девушек.
Воспитанницы гуляли в саду по получасу, и притом только по мосткам, как всегда, по парам, под предводительством классной дамы и нередко под аккомпанемент ее воркотни и распеканий. Она находила для этого много поводов: то ей досаждал «дурацкий смех» кого-нибудь из воспитанниц, то пилила она тех, которые отставали от других или чуть-чуть выходили из пары, то за то, что кто-нибудь на минуту соскакивал с мостков. Воспитанницы ненавидели эти прогулки и были бесконечно счастливы, когда их находчивость помогала им сослаться то на ту, то на другую несуществующую болезнь, чтобы избавить себя от этой неприятной повинности. Через полчаса после прогулки мы возвращались в том же порядке.
Меня, как новенькую, отправили к кастелянше, которая оказалась женщиною добрейшей души. Вообще нельзя сказать, чтобы в институте совсем не было хороших людей. Кроме нее, обе лазаретные дамы, а также и доктор[41] были весьма добрые существа. Но замечательно, что все эти личности не играли ни малейшей роли в институте и только в экстренных случаях сталкивались с воспитанницами. К тому же все они жили своею особою жизнью, обособленною от институтского мира, что и давало им возможность сохранить душу живу.
– Что же ты так грустна, милая девочка? – ласково спросила меня кастелянша. Это было первое ласковое слово, которое я услыхала в стенах института, и вместо ответа я припала к ее плечу и залилась слезами. Она дала мне выплакаться, напоила меня кофеем и усадила к столу.
– Жаль, что тебя не привезли к общему приему, тремя месяцами раньше: тебе было бы легче привыкать вместе с другими новенькими.
На мой вопрос, почему классные дамы такие сердитые, она отвечала:
– Потому что у них своих крошек не было. Запомни, детка: как можно меньше с ними разговаривай, – они и придираться меньше будут к тебе.
Доброе отношение милой женщины успокоило меня, и, примеривая то одно, то другое, я выражала свое удивление:
– Какая рубашка! Ведь она свалится с плеч! А эта у меня до полу доходит.
– Меньше нет: все белье шьется у нас по безобразным образцам. Зато в длинной рубашке теплее будет спать. Ночью у вас холодно: ваши одеяла ветром подбиты, спите вы без ночных кофт, – длинной рубашкой хоть ноги себе обмотаешь.
Наконец я превратилась в казенную воспитанницу. На мне надето было плохо сидевшее камлотовое платье коричневого цвета – символ младшего класса; оно было декольте и с короткими рукавами. На голые руки надевались белые рукавчики, подвязанные тесемками под рукавами платья; на голую шею накидывали уродливую пелеринку; белый передник с лифом, который застегивался сзади булавками, довершал костюм. Пелеринка, рукавчики, передник были из грубого белого холста и по праздникам заменялись коленкоровыми.
Форма чрезвычайно меняла наружность новенькой: даже грациозная миловидная девочка казалась в ней неуклюжей. Камлотовое платье было настолько коротко в младшем классе, что выставляло напоказ жалкие кожаные башмаки, которые скорее можно было назвать туфлями или шлепанцами, и грубые белые нитяные чулки. Пока новенькая не умела приноровиться к своему форменному наряду так, чтобы ее безобразные туфли не падали с ног, чтобы рукавчики не сползали, чтобы платье не расстегивалось позади, она ходила, тяжело ступая, и имела крайне неуклюжий вид. В первый раз на свидании с родными новенькая обыкновенно поражала их своею переменой, и они, не стесняясь, повторяли на все лады: «Какой смешной наряд! Как он тебя безобразит!..». К тому же этот наряд совсем не был приноровлен к условиям жизни: холщовая пелеринка, накинутая на плечи, не защищала от зимнего холода, когда термометр в классе показывал десять и даже девять градусов (Температура в институте измерялась по Реомюру. По Цельсию – 11–12°. – Прим. ред.), а во время уроков приходилось сидеть с обнаженными плечами (При Водовозовой рукавчики и пелеринки полагалось снимать во время уроков; после реформы 1860-х годов этот обычай был отменен. – Прим. ред.).
Не успела я еще переодеться в форменное платье, как в комнату кастелянши вошла пепиньерка с замечательно симпатичным лицом и заявила, что поведет меня в приемную залу, где меня ожидает моя сестра.
Нужно заметить, что в Петербург со мною приехала не только матушка, но и обе мои сестры: старшая, Нюта[42], которая была уже вдовою, несмотря на свой девятнадцатилетний возраст, и Шура. Им очень хотелось присутствовать на моем приемном экзамене, но матушка побоялась, что это не будет дозволено институтским начальством. Однако Шура не могла утерпеть, чтобы не посетить меня в тот же день.
Какой это был для меня приятный сюрприз! Когда я увидала Сашу, я бросилась в ее объятия. Горячие поцелуи и слезы сказали ей без слов о тяжелом впечатлении, произведенном на меня институтом.
– Дурная, дурная ты у меня девочка, – нежно журила она меня. – Чуть что нехорошо, тебя сейчас точно камнем придавит, а что получше, того ты не замечаешь! От матушки я уже знаю, что было у вас утром… Что же делать! Но не все же дурно? Я только что вошла сюда и сейчас же нашла, что и тут есть сердечные люди! Я ведь не рассчитывала, что мне удастся увидеть тебя сегодня: думаю – узнаю хоть от швейцара, что ты теперь поделываешь… Вхожу и встречаю ту прелестную молодую девушку – пепиньерку, которая тебя привела сюда, объясняю ей, что моя семья останется в Петербурге лишь полторы недели, прошу ее посоветовать мне, у кого бы похлопотать о возможности видеться с тобою ежедневно в это короткое время. Что же ты думаешь! Она потащила меня за собой и говорит: «Я поведу вас к инспектрисе, я ее родная дочь, и уверена, что она устроит для вас все, что возможно». И знаешь, я просто была очарована вашей инспектрисою! Хотя она сегодня совсем больна, но меня поразила ее красота, изящество, ее привлекательные манеры! Она позволила нам всем посещать тебя ежедневно в продолжение полутора недель.
Свидание с любимою сестрою совершенно изменило мое настроение: все тяжелое, что я испытала и перечувствовала в тот день, исчезло без следа, и я отправилась в дортуар (спальню) уже к своей классной даме (в дореформенное время воспитанницы Александровской половины делились на два класса: на младший – кофейный[43], и старший – белый, в зеленых платьях. В том и другом из них они оставались по три года. Каждый класс делился на два отделения, а каждое отделение – на два дортуара; один из них находился под руководством одной, другой – под руководством другой классной дамы. Воспитанницы одного дортуара спали в одной спальне и были связаны между собою теснее, чем с подругами другого дортуара, хотя они и были с ними в одном отделении, сидели в одной общей классной комнате, – учились у одних и тех же учителей. Так как в каждом отделении было по два дортуара, а следовательно, и по две классных дамы, то они дежурили в классе по очереди и одна из них в свободное время могла уезжать из института. – Прим. Е. Н. Водовозовой.). Нужно заметить, что, поступив в дортуар к той или другой, даме, воспитанница вместе с нею переходила из одного класса в другой, одним словом, была под ее руководством во все время своего воспитания. Так устроено было для того, чтобы классная дама могла хорошо изучить характеры вверенных ей тридцати, а то и более воспитанниц, привязаться к ним всею душой, сделаться для них истинною наставницею, руководительницею, матерью. Но при мне эти родственные узы проявлялись в одном: если воспитанница была накануне наказана не своею дамою, она обязана была заявить об этом на другой же день своей дортуарной даме. Узнав об этом, дама обыкновенно находила необходимым наказать во второй раз ту, которая была уже наказана накануне. Я поступила к классной даме m-lle Верховской, в то время когда в другом отделении классною дамою была Тюфяева.
– Покажи-ка, как тебя нарядили? – спросила меня m-lle Верховская.
– Башмаки с ног падают… – пожаловалась я.
– А ты еще крепче рассердись, тогда тебе уже наверное пришлют изящные ботинки, – мило пошутила m-lle Верховская.
Воспитанницы, обрадованные веселым настроением своей дамы, громко засмеялись.
– Ах, тетечка, – вдруг закричала я в восторге от того, что поступила к такой, как мне показалось, веселой и доброй даме. – Какая вы добрая! Какая вы красавица! – И я бросилась к ней на шею и расцеловала ее в губы. Воспитанницы, поступившие в институт за три месяца до меня и уже успевшие освоиться с институтскими нравами, с ужасом наблюдали эту сцену. Поцеловать классной даме руку или плечо не только дозволялось, но считалось похвальною почтительностью, поцеловать же ее в губы было верхом неприличия и фамильярности; впрочем, это случалось только с новенькими, да и то в редких случаях.
– Ну, милейшая моя племянница, это, знаешь ли, чересчур нежно. Здесь это не принято, – отстраняя меня, сказала m-lle Верховская. – К тому же ты должна всех классных дам называть «mademoiselle», а не «тетечка». Через неделю-другую, когда ты будешь уже не новенькая, а старенькая, ты должна будешь это твердо помнить.
Все это, однако, было сказано очень мило. Затем мы по очереди должны были подходить к ней и читать по-русски и по-французски. Наконец она ушла в свою комнату.
Когда мы остались одни, девочки окружили меня и стали закидывать вопросами. Но когда я выразила радость по поводу того, что поступила не к Тюфяевой, которая мне очень не понравилась, а к Верховской, воспитанницы потянули меня к двери дортуара, на противоположном конце которого находилась комната нашей дамы, говоря, что тут будет менее слышен наш разговор. Перебивая друг друга, они сообщали мне о том, что Верховская нередко поступает с ними еще хуже, чем Тюфяева. Но меня это не взволновало: я подумала, что девочки сами сильно шалили. А мне чего же бояться? Я собиралась быть очень прилежной и послушной, чтобы по окончании курса получить золотую медаль, как я это обещала моей любимой сестре и матушке.
– А ты зачем подлизывалась? Зачем полезла целовать Верховскую в губы? – накинулась на меня одна из подруг, по фамилии Ратманова. Я очень переконфузилась, не зная, что ответить. Но тут все девочки стали меня защищать, оправдывая мой поступок тем, что я новенькая, и просили меня показать им вещи, привезенные из дому. Меня схватили с обеих сторон за руки, и мы все вместе побежали к табурету (к соединению прикроватной тумбочки и сиденья. – Прим. ред.), в ящике которого уже стояла моя шкатулка. Для удобства мы опустились на колени и начали вынимать из шкатулки различные сверточки: карандаши, вставочки для пера, перочинные ножички и другие классные принадлежности.
– Ну, это не интересно! – отрезала Ратманова. Это была худощавая, высокого роста девочка, с смеющимися глазами навыкате, портившими ее миловидное нервное подвижное лицо, придавая ему насмешливое, иногда даже наглое выражение.
– Почему же не интересно? – в обиде за меня перебила ее Ольхина, болезненная бледная девочка с синими глазами. – Ратмановой всегда нравится только то, что дорого стоит и нарядно!
– А ты любишь только гадость!.. Недаром ты постница и богомолка! – бросила ей Ратманова.
– Перестаньте браниться! Пусть новенькая покажет нам все, что у нее есть, – кричали со всех сторон.
Жилой флигель Смольного института. 1889 г.
Я сняла верхнее отделение своей шкатулки, которое кроме классных принадлежностей было занято конфетами с картинками. Каждой девочке я дала по конфетке и одну из них протянула Ратмановой.
– Я не нуждаюсь в такой дряни! – запальчиво закричала она, бросая назад поданное ей. – Если хочешь мне что-нибудь подарить, дай мне вот эту конфетку, – и она указала на самую лучшую. Но она так нравилась мне самой, что я сильно поколебалась и, чувствуя, что краснею, в замешательстве наклонилась над шкатулкой.
– Ишь, жаднюга! – насмешливо воскликнула Ратманова.
– Нет, нет! Это я только так… Возьми! – и я испуганно подала ей то, что она просила. – А вот тут у меня такая прелесть, такая прелесть, – говорила я девочкам, окружавшим меня, и вынула со дна шкатулки большую коробку, наполненную мелкими стружками, среди которых симметрично разложены были птичьи яички. – Это яичко жаворонка… воробушка… голубиное… воронье…
– Вороньи яйца!.. Эко диво! Ах ты деревенщина! – захохотала Ратманова и со всей силы ударила рукой по ящику, из которого вывалились и разбились все мои яички, мое сокровище, которое я берегла столько лет. Я отчаянно зарыдала.
– Какая ты злая, гадкая! – бросила Ольхина по адресу Ратмановой, которая нисколько не была сконфужена этими эпитетами. С торжествующей улыбкой на губах, точно после геройского подвига, направилась она в другой конец дортуара.
Мне не только жаль было крошечных яичек, к которым я всегда чувствовала нежность, но они дороги были мне и потому, что будили воспоминания о горячо любимой няне, с которою я собирала их в лесу, когда у нас рубили деревья, падавшие вниз с птичьими гнездами. К тому же меня неприятно поразила такая грубость, такая мальчишеская выходка в институте.
Маша Ратманова играла большую роль в нашей жизни, а потому я и хочу познакомить с нею, какою она была не только в младшем, но и в старшем классе. Ее мать овдовела, когда дочери было около года. Не имея никаких средств к жизни, она была рада, что представилась возможность поселиться с ребенком на бесплатной половине вдовьего дома[44] Смольного. Жиличками этого учреждения были жены умерших офицеров, а также средней руки чиновников военного и гражданского ведомства. В громадном большинстве случаев это все были старые, необразованные женщины, которые, как собаки, с утра до вечера грызлись между собой, уличали друг друга бог знает в каких преступлениях и скандалах, подобранных, вероятно, от таких же жалких существ, какими они были сами. Таким образом, Маша Ратманова свое раннее детство провела среди бранчливых, пошлых старух, полувыживших из ума от непрекращающихся интриг, дрязг и ссор. После жизни во вдовьем доме, которая могла заложить в душу ребенка лишь дурные склонности и безнравственные привычки, она на девятом или десятом году жизни поступила в институт. Институтское воспитание того времени не могло благоприятно повлиять на кого бы то ни было, Ратманову же оно испортило еще более. Вечные окрики классных дам, наказания за всякое проявление живости, муштровка и суровая дисциплина все более ожесточали ее сердце, но не могли окончательно подавить живость этой на редкость подвижной натуры, остроумной и от природы весьма неглупой девочки. Она со страстью бросалась на игры и беготню по праздникам, но и это возбуждало неудовольствие классных дам. А между тем ее неугомонная натура требовала шума, крика, возни. И эту потребность она начала удовлетворять исподтишка, когда из класса на время уходила дежурная дама. Тогда из одного конца коридора в другой раздавались ее раскатистый хохот, крик, визг, перемежавшиеся фырканьем, слышался шум от ее беготни. Ее то и дело ловили на месте преступления, с нее срывали передник, толкали в угол, к доске, сыпалось на ее бесшабашную голову и множество других наказаний. Шаловливая, нервная, невоспитанная, резкая, невоздержная на язык, обозленная до невероятности, Маша Ратманова стала грубить напропалую и получила наконец эпитет «отчаянной», который неотъемлемо остался за нею во все время институтского воспитания.
Она досаждала, однако, не только классным дамам, но и подругам, симпатиею которых тоже не пользовалась. Вечно изощряясь в школьничестве, она бросала в пюпитр одной мокрую тряпку и портила книгу или начисто переписанную тетрадь, другой потихоньку засовывала за лиф булавку или кусок жеваной бумаги. В старшем классе ее мальчишеские шалости сменились другими: во время урока она то и дело оборачивалась к воспитанницам, сидевшим сзади нее, делала гримасы или посредством мимики своего подвижного лиха в комическом виде изображала учителя, классную даму, подругу. С такой же индифферентностью и бессердечием она высмеивала не только комичные стороны, которые легко схватывала, но и физические недостатки подруг, – особенному высмеиванию подвергала она дурнушек. Еще более отталкивала от нее подруг ее привычка делать намеки на то, чего тогда не ведал еще никто. В разговоре или споре с товарками она вдруг произносила какое-нибудь слово или фразу, что-то показывала руками и как-то при этом особенно нагло фыркала в лицо, обзывая каждую дурой и тупицей. Я глубоко убеждена в том, что в то время никто из нас не понимал, в чем дело, но каждая инстинктивно чувствовала, что это должно быть что-нибудь скверное, постыдное, и здоровый инстинкт заставлял нас, несмотря на любопытство, столь присущее женскому полу, не приставать к ней с расспросами о том, что она хотела сказать тем или другим намеком или жестом.
Она была очень щедра, но и это проявляла довольно грубо: почти все свои гостинцы она раздавала подругам, исключая «парфеток». «Парфетками» институтки называли тех из своих подруг, к которым благоволили классные дамы за их послушание и отменное поведение, проявлявшееся нередко в наушничанье на своих подруг. Маша Ратманова всеми силами своей души ненавидела этих «парфеток» и называла их не иначе, как «подлипалками», «подлизалками», «подлянками», «мовешками» и т. п. Если она входила с гостинцами в то время, когда воспитанницы сидели в дортуаре, она швыряла их кому на кровать, кому прямо в лицо. Смеялись и брали, а тем, которые при этом благодарили ее за них, она высовывала язык или делала почтительный книксен с придачею отвратительной гримасы, а потому впоследствии уже никто не совался к ней с своею благодарностью. Однако мне пришелся не по душе этот способ угощения, и я каждый раз швыряла ей назад дары тем же способом, каким получала их. Это заставило ее переменить относительно меня способ угощения. Она начала засовывать для меня гостинцы куда попало: ложась в кровать, я иногда находила под подушкой то яблоко, то несколько леденцов.
Теперь таких субъектов, как Маша Ратманова, называют психопатками. И всею своею последующею жизнью она вполне доказала, что была таковою, но тогда этот термин еще не был изобретен. Тем не менее, подруги в душе считали ее вконец испорченной, но боялись высказывать это вслух, чтобы это не дошло до нее, и все старались держаться подальше от нее. Я бы прибавила еще, что ее общество приносило подругам гораздо больше вреда, чем пользы, если бы не одна редкая и замечательно хорошая черта ее характера. Маша Ратманова будила в нас общественные инстинкты, если можно так выразиться о нас, девочках, в то время совсем неразвитых.
За тяжелые провинности, с точки зрения классных дам, они наказывали тем, что запрещали воспитанницам разговаривать с провинившеюся. Ратманова первая начала возмущаться повиновением подруг такому нелепому распоряжению и, несмотря на строгое запрещение, начала разговаривать с наказанною, а затем нападать на тех, которые подчинялись этому требованию дам. Хотя она ни с кем из подруг не дружила особенно, но всю нежность своей души, все внимание проявляла к каждой наказанной, а тем более к той, которая особенно сильно дерзила классной даме. За наказанную она распиналась сколько хватало сил. Одна из наиболее распространенных кар в институте состояла в том, что нас заставляли стоять за обедом или завтраком. Есть стоя было очень неудобно; к тому же не только классные дамы, но и подруги высмеивали воспитанниц, которые ели во время такого наказания. Маша Ратманова, когда подросла, как ястреб начала следить за тем, чтобы воспитанница, наказанная таким образом, получала от соседок все кушанья, но так как суп при этом пропадал, то она, обращаясь к наказанной, говорила так, чтобы слова ее доходили до ушей классной дамы: «Отчего ты супа не ешь? Если бы было дозволено наказывать нас без еды, сколько бы народу у нас подохло от голоду!». Сильно нападала она на тех, которые издевались над подругами за еду во время наказания: она осыпала их градом бранных, грубых слов из своего собственного лексикона, который у нее был весьма обширен. В старшем классе она беспощадно казнила предательство: сплетниц и доносчиц она не только изводила неистовым издевательством, но неожиданно и исподтишка толкала их и щипала так жестоко, что у тех оставались надолго синяки на руках и шее; и это проделывала она вплоть до самого выпуска, когда уже была взрослою девушкой.
Если институт испортил такую богато одаренную натуру, с живым общественным инстинктом, с огромною энергией и жизнеспособностью, какою была Маша Ратманова, то других он губил и физически.
Уже прошло более трех месяцев с тех пор, как Фанни Голембиовская поступила в институт, а между тем она не появлялась ни в классе, ни в дортуаре m-lle Верховской, воспитанницею которой числилась. Она продолжала оставаться в лазарете. Что была за болезнь, которою она страдала, мы не знали, но наш доктор объяснял ее тоскою.
Однажды утром после звонка на урок немецкого языка вошли инспектриса, а за нею и Голембиовская. Боже, как она изменилась за это время! Ее длинные, худенькие пальчики нервно теребили передник, ее длинная шея казалась ниточкой, скреплявшей грациозно посаженную головку, ее узкие плечи нервно передергивались, щеки провалились, и ее большие глаза, казалось, сделались еще больше и растерянно бегали по сторонам. Немец спросил ее, выучила ли она заданный урок. Она отвечала, что не учила уроков во время болезни. Когда она бегло прочитала указанную ей страницу, учитель спросил, не говорит ли она по-немецки. Она отвечала утвердительно, и он заставил ее переводить, что она исполнила совершенно легко, заслужила 12 с плюсом и большую похвалу от учителя.
На уроке французского языка опять присутствовала m-me Сент-Илер. Француз тоже заставил Фанни читать и переводить, а затем попросил ее сказать на память какое-нибудь стихотворение или басню. Она начала декламировать стихотворение «Молитва», помещенное в то время во всех французских хрестоматиях. В ней ребенок обращается к богу, умоляя его продлить дни своей матери. Голос ее дрожал все сильнее, она произносила стихи с таким чувством и увлечением, как это обыкновенно не удается детям, а тем более в институте. Но вот в ее декламации послышались рыдающие звуки, она остановилась, не кончив фразы, точно спазм сдавил ей горло. Француз с изумлением посмотрел на инспектрису, а затем спросил Фанни, не может ли она написать что-нибудь, хотя какое-нибудь маленькое письмецо. Дрожащими руками девочка взяла мел и быстро написала несколько строк. Учитель громко прочитал написанное. Это оказалось письмо к матери, в котором Фанни умоляла ее взять из института, заявляя, что иначе она умрет. Должно быть, это было выражено очень трогательно, – у «maman» текли слезы по щекам. Француз, который, вероятно, с восторгом думал о том, какой козырь судьба посылает ему в руки в лице Фанни, и мечтал уже, как будет он гордиться ею при высоких посетителях, начал утешать ее, указывая на несообразность мысли о смерти в ее годы, пророчил ей блестящее окончание курса, первую награду и т. п. Когда Фанни возвращалась на свою скамейку, инспектриса, наклоняясь к ней, нежно сказала: «Дитя мое! Вы превосходно подготовлены! Что же нам делать, чтобы вы не тосковали?».
После окончания урока мы строились в пары, чтобы идти в столовую, а Фанни шла в лазарет, где она ввиду своего слабого здоровья должна была обедать, завтракать и даже проводить ночь. Мы в один голос кричали ей: «Первая, самая первая по классу!». Конфузливо улыбаясь, она с угловатыми манерами девочки-подростка торопливо пробиралась между парами.
Фанни менее чем кто-нибудь из нас должна была бы чувствовать ненормальные условия институтского существования: она спала в теплой комнате лазарета, питалась больничного пищею, которая была несравненно лучше общей, пила молоко, виделась с матерью по два раза в неделю, все в лазарете баловали ее и стали баловать еще более после ее блестящего дебюта в классе, когда инспектриса просила доктора, чтобы для нее было сделано все, что только возможно: она могла спать в лазарете до восьми часов утра, укрываться так, чтобы ей было тепло, доктор постоянно снабжал ее «девичьею кожею» – это любимое лакомство институток, которое было в большом запасе в нашей казенной аптеке.
Однако эти неслыханные для того времени привилегии, которыми она пользовалась, видимо, мало утешали ее. Хотя окрики и брань классных дам были обыкновенно направлены не на нее, она все-таки при этом вздрагивала, бледнела и по-прежнему имела удрученный вид. Ее хрупкое здоровье, нервная организация, до болезненности страстная привязанность к матери, нежное домашнее воспитание не могли дать ей энергии, силы и устойчивости для сопротивления окружающей грубости и солдатчине, – и она в полном смысле слова увядала, не успевши расцвесть. С подругами она мало сближалась и на их расспросы вяло, нехотя давала односложные ответы и только, болезненно пожимаясь, говаривала: «Как у вас холодно! Как у вас скверно!» «Что ты все говоришь – у вас да у вас? У нас, то же, что и у тебя, госпожа принцесса-недотрога!..» – насмешливо глядя на нее, выпаливала Ратманова. «Злая, грубая!» – отвечала Фанни и заливалась слезами. Не могла она переносить холода и в классе, хотя и в этом отношении она пользовалась привилегиею не снимать пелеринку даже во время уроков. В продолжение нескольких недель, во время которых она приходила в класс, она редко когда учила заданный урок, а сидела на своей скамейке и всегда что-то писала в свободное время. Инспектриса, когда встречалась с нею, всегда ласково спрашивала ее о здоровье. Верховская, ее дортуарная дама, после ее блестящего дебюта в языках тоже относилась к ней весьма любезно, но m-lle Тюфяевой, этой истинной злопыхательнице, было не по душе отношение к Фанни окружающих, и она то и дело ворчала на нее или кидала в ее сторону злобные взгляды. Однажды, когда та, по своему обыкновению, что-то писала, Тюфяева схватила исписанные ею листики и с этими трофеями поплелась к своему столику.
– Это что такое?..
– Маме письмо.
– Это что за небылица! Какие могут быть у тебя письма к матери, когда ты видишь ее по два раза в неделю? А если к матери пишешь, то с кем же изволишь посылать их?
– Когда мама приходит, я и отдаю их ей сама.
Тюфяева отложила в сторону чулок, который она вечно вязала, надела очки и начала разбирать написанное.
– Как, ты изволишь переписываться по-польски? Я не только скажу об этом инспектрисе, но сама отнесу твои письма начальнице, попрошу ее объяснить мне, смеют ли воспитанницы писать своим родителям на языке, которого кроме полек никто здесь не понимает? Смеют ли они отдавать письма родителям, не прочитанные предварительно классного дамой? С тех пор как я служу, еще никого не баловали так, как тебя. А за что? Не за то ли, что ты лижешься с своею матерью, которая, не успев переступить порог заведения, наделала всем массу неприятностей, даже начальнице; не за то ли, что она оставила здесь свое чадушко, которое только киснет, нюнит и в обморок падает?
Эта речь была прервана истерическими рыданиями Фанни.
– Дрянь! Плакса! – бросила в ее сторону Тюфяева и, точно после блистательно одержанной победы, победоносно вышла из класса. Мы окружили Фанни, подавали ей воду, смачивали виски, но она так расстроилась от слез, что ее увели в лазарет.
Прошла неделя-другая, а Фанни все еще не показывалась в классе. Как-то утром, когда мы только что встали, мы услыхали беготню в коридорах и стремглав бросились посмотреть, что такое случилось. Мимо нас сновали горничные, больничная прислуга, классные дамы.
– Не сметь выходить из дортуаров! – кричали нам, и мы, как мыши, прятались в свои норы. В ту же минуту в наш дортуар вбежала пепиньерка и заявила m-lle Верховской, что инспектриса просит ее немедленно явиться к ней. Мы, кофульки, пожираемые любопытством, опять выбежали на «разведки». Когда мы загородили дорогу горничной, пробегавшей мимо нас, умоляя ее сказать нам, в чем дело, она остановилась и решительно произнесла: «Как же это возможно? Когда у нас происходит даже не такое важное, да и то нам запрещают вам рассказывать… А тут такое, такое!..» – и, растолкав нас, чтобы проложить себе дорогу, она быстро исчезла.
И в этом случае, как всегда, наше любопытство удовлетворила Ратманова. Она спустилась в нижний коридор к истопнику, который, как человек менее ответственный за несоблюдение институтских тайн, не устоял перед обещанным пятиалтынным и рассказал Ратмановой все без утайки. Тайна, которую от нас скрывали, – побег Фанни Голембиовской. Надев утренний капот, имевшийся у каждой воспитанницы для вставания, и накинув на голову платок прислуги (она рассчитывала, что ее примут за горничную и подумают, что она бежит в лавочку), она рано утром выбежала из лазарета на улицу, но была поймана в нескольких саженях от институтского подъезда швейцаром, который узнал ее и немедленно водворил в лазарет.
Мы не успели опомниться от этого ошеломляющего известия, как к нам вошла пепиньерка и вместо Верховской повела нас в столовую, куда тотчас же вошла инспектриса и взволнованным голосом, не объясняя в чем дело, произнесла:
– Надеюсь, дети, что об этом печальном происшествии вы не будете разговаривать ни между собой, ни с своими родственниками.
– О чем нельзя разговаривать? Что такое произошло? – как только вышла инспектриса, начали спрашивать те из воспитанниц, которые не успели еще узнать институтской новости.
– Как, вы этого не знаете? – закричала Тюфяева. – Ах вы фокусницы, сквернавки! Вас из грязных закоулков и трущоб подобрали сюда из милости, холили, лелеяли, а вы вот как отблагодарили ваших благодетельниц! Извольте зарубить себе на носу, чтобы с этой минуты вы не смели и близко подходить к лазарету, а тем более к комнате, в которой лежит эта тварь.
Несмотря на строгое запрещение разговаривать между собою о небывалом еще у нас инциденте, мы то и дело говорили о нем. «Отчаянные» как старших, так и младших классов пускались на всевозможные предприятия, чтобы что-нибудь выведать об этом деле. Прячась за углами и колоннами, они подсматривали и подслушивали у дверей лазарета, наблюдали, кто в него входил и выходил, расспрашивали лазаретных служащих, не считавших нужным делать из этого тайну, и таким образом по нескольку раз в день, даже в лицах, передавали новости друг другу.
Как только Фанни привели в лазарет, ее уложили в постель. Она вся дрожала, как в лихорадке. Через час-другой после этого к ее кровати уже подходили: инспектриса, m-lle Верховская в качестве ее дортуарной дамы, начальница Леонтьева и m-lle Тюфяева, которая, как старейшая из классных дам, считала своею обязанностью совать нос во все дела. Когда Фанни увидала особу, которую она ненавидела, она вскрикнула и потеряла сознание. Леонтьева приказала позвать врача и привести ее в чувство. Но тут в комнату вошли, уже извещенные о событии, дядя девочки и ее мать, которая, рыдая, бросилась на колени перед постелью дочери. Наша начальница, со всеми разговаривавшая очень надменно, на этот раз вложила все высокомерное презрение в свои слова и, торжественно протягивая руку по направлению к больной, произнесла: «Сию минуту прошу избавить меня от вашей позорной дочери!». Голембиовская как ужаленная вскочила с колен и, глядя в упор на начальницу, наговорила ей с три короба неприятных вещей, вроде того, что для ее дочери-ребенка нет никакого позора в том, что она, не стерпев институтской муштровки, выбежала из ворот, а для заведения действительно позорно, что из него приходится бегать. Что же касается того, чтобы она немедленно взяла свою дочь, находящуюся в глубоком обмороке, то этого она не сделает, пока врачи, приглашенные ею, не удостоверят ее в том, что это не представляет опасности для жизни ее ребенка. Начальница, как говорят, стояла в это время, подняв глаза к небу, то есть к потолку, как бы призывая бога в свидетели, что ей при ее высоком положении немыслимо отвечать на это что бы то ни было.
– Как вы смеете так говорить с нашею обожаемою начальницею? – вскричала m-lle Тюфяева, грозно подступая к Голембиовской. – Знаете ли вы, жалкая, несчастная женщина, что к нашей начальнице с благоговением относится даже вся царская фамилия?
Преподаватели Смольного института в учительской. 1889 г.
Продолжение этой сцены прекратил доктор, который просил у начальницы дозволения сказать ей несколько слов с глазу на глаз. По-видимому, он заявил ей, что девочку пока никак нельзя трогать с места, так как начальница в этот день уже не входила в комнату больной.
Фанни пришла в сознание ненадолго: скоро у нее явился жар, а потом и бред, и она около месяца пролежала в лазарете. Ее мать неотступно сидела у ее постели. От времени до времени дверь комнаты больной открывалась, и в нее входила начальница, за которою неизменно следовали Верховская и Тюфяева, – им она предварительно давала знать о своем посещении. Фанни, уже перед этою болезнью сильно исхудавшая, теперь таяла, как свечка. У нашей инспектрисы, которая сама была любящею матерью, нередко текли слезы при виде несчастного ребенка. Но в таких случаях она хваталась за голову и жаловалась на нестерпимую мигрень, а m-lle Тюфяева при этом, с презрением глядя на нее, бросала несколько слов о вреде баловства. Малейшая ласка, всякое доброе слово, сказанное инспектрисою или какою-нибудь классною дамою воспитаннице, терзало сердце Тюфяевой, не знавшей ни жалости, ни пощады. Впоследствии, ближе познакомившись с характером инспектрисы, я была уверена, что она в то время болела душой за несчастную Фанни, преждевременно загубленную суровым институтским режимом, но по слабости своего характера она ничего не могла заметить m-lle Тюфяевой, наветов которой, видимо, она страшно боялась.
Как только в положении Фанни наступила перемена к лучшему, ее мать заявила тотчас же, что берет ее из института.
После этого происшествия не прошло и месяца, как в наш дортуар вошла пожилая дама, родственница Фанни, и просила возвратить ей шкатулку девочки, оставшуюся у нас. Она сообщила нам, что Фанни несколько дней тому назад скончалась от скоротечной чахотки.
Жизнь институток
Суровая дисциплина. – Холод, голод и посты. – Преждевременное вставание. – Охлаждение к родителям. – Презрение к бедным родственникам. – Традиционное обожание и причина этого явления. – «Отчаянные» и их значение. – Произвол классных дам
Теперь даже трудно себе представить, какую спартанскую жизнь мы вели, как неприветна, неуютна была окружающая нас обстановка. Особенно тяжело было ложиться спать. Холод, всюду преследовавший нас и к которому с таким трудом привыкали «новенькие», более всего давал себя чувствовать, когда нам приходилось раздеваться, чтобы ложиться в кровать. В рубашке с воротом, до того вырезанным, что она нередко сползала с плеч и сваливалась вниз, без ночной кофточки, которая допускалась только в экстренных случаях и по требованию врача, еле прикрытые от наготы и дрожа от холода, мы бросались в постель. Две простыни и легкое байковое одеяло с вытертым от старости ворсом мало защищали от холода спальни, в которой зимой под утро было не более восьми градусов. Жидкий матрац из мочалы, истертый несколькими поколениями, в некоторых местах был так тонок, что железные прутья кровати причиняли боль, мешали уснуть и будили по ночам, когда приходилось повертываться с одного бока на другой.
В первую ночь я долго лежала без сна: холод насквозь пронизывал мои члены. Но вдруг меня осенила счастливая мысль: я развернула салоп, лежащий у моих ног, закуталась в него и уже начинала дремать, когда была разбужена m-lle Верховскою, обходившею дортуар. «Для первого раза, так и быть, оставь салоп, – сказала она, – но помни, что у нас это строго запрещено».
Как только утром в шесть часов раздавался звонок, дежурные начинали бегать от кровати к кровати, стягивали одеяла с девочек и кричали: «Вставайте! Торопитесь!».
Со многими суровыми условиями институтской жизни воспитанницы в конце концов осваивались, хотя и с трудом, но к раннему вставанию редко кто привыкал. Каждый раз с утренним звонком раздавались стоны и жалобы воспитанниц. И действительно, мучительно было так рано подыматься с постели в окончательно остывшей спальне и зимой настолько еще темной, что приходилось зажигать лампу.
Вся институтская жизнь распределялась по звонку: звонок будил нас от сна, по звонку шли к чаю, по звонку мы должны были рассаживаться по партам и ждать учителя, с звонком его урок оканчивался и начиналась рекреация (перемена, от лат. recreatio), звонок извещал о необходимости идти в столовую, – одним словом, звонок определял все минуты жизни воспитанниц, служил указателем, что делать, что думать. Звонок и крик классной дамы: «По парам!» – вот что мы слышали с утра до вечера.
Хотя утренняя молитва происходила в семь часов, следовательно, на наш туалет полагался целый час, но этого времени едва хватало; институтки носили ни с чем не сообразную одежду, с которою лишь очень немногие умудрялись справиться самостоятельно. Застегнуть платье назади, заколоть булавками лиф передника, аккуратно подвязать рукавчики под рукава, заплести косы в две тугие косички (в младшем классе), подвесить их жгутами на затылке, пришпилить бант в самом центре – на все это требовалась чужая помощь. Во многих семьях девочка к десяти годам усваивала полезную привычку одеваться и причесываться самостоятельно, но в институте в большинстве случаев она утрачивала ее. Особенно трудно было причесываться самой. Одна прическа существовала для младшего, другая – для старшего класса. Если волосы были непослушны, слишком густы и волнисты, то из них трудно было устроить гладкую прическу, и воспитанница наживала себе массу неприятностей, пока наконец с помощью подруги не умудрялась сделать то, что от нее требовали. Классные дамы утверждали, что за прической они особенно строго наблюдают, чтобы искоренять кокетство, но этим лишь развивали его. По вечерам, когда дама уходила в свою комнату, воспитанницы старшего класса изощрялись в изобретении причесок, без конца толкуя о том, какая из них кому идет. Институтское начальство никак не могло усвоить мысли, что девочка не может сделаться кокеткой только из-за того, что она причесывается по своему вкусу: если в ней с детства развивали интерес к чтению, она в свободное время будет с подругой разговаривать о прочитанном, а не о прическе.
Одуряющее однообразие институтской жизни, лишенной каких бы то ни было освежающих впечатлений, детских удовольствий и здорового веселья, нарушалось лишь три-четыре раза в год, но большая часть и этих развлечений была устроена так официально, что наводила лишь скуку. На масленой неделе воспитанниц возили кататься вокруг балаганов, но лишь в старшем классе, да и то не всех. Два раза в год устраивали балы, в рождество – елку на счет воспитанниц и, наконец, раз в год водили гулять в Таврический сад. К несчастию, на балах должны были присутствовать все воспитанницы без исключения, но тут они встречали все тех же подруг и то же начальство и в продолжение трех часов танцевали исключительно между собой, как они выражались, «шерочка с машерочкой». Похохотать на таком балу, пошутить, устроить какой-нибудь комический танец было немыслимо: во весь вечер с них не спускали взора классные дамы, инспектриса и начальница, сидевшие на стульях, поставленных у стены в длинный ряд, обращенный лицом к танцующим. «Дурнушки» и девочки, бывшие не в фаворе у начальства, старались танцевать на другом конце зала, подальше от взоров классных дам. Эти балы, не нарушая томительной монотонности институтской жизни, вознаграждали за свою непроходимую скуку только тем, что воспитанницы получали по окончании их по два бутерброда с телятиной, несколько мармеладин и по одному пирожному.
Более любимым удовольствием была летом прогулка в Таврический сад. Хотя во время торжественного шествия туда из Смольного воспитанницы были окружены своими классными дамами, швейцаром и служителями, разгонявшими всех встречающихся по дороге, но все-таки эту прогулку воспитанницы любили уже потому, что они, хотя раз в год, в продолжение нескольких часов не видели своих высоких стен и у них перед глазами были аллеи и лужайки не своего сада. Кроме институтских служащих и подруг, институтки и здесь никого не встречали: в этот день посторонних изгоняли из Таврического сада.
Томительно-однообразная жизнь и отсутствие чего бы то ни было, что хотя несколько шевелило бы мысль, привлекало глаз, постепенно вливали в душу леденящий холод и замораживали ее. У будущих воспитательниц молодого поколения, которые должны были нести ему живое слово, совершенно была подавлена душевная жизнь и проявление самостоятельной воли и мысли. Всегда и всюду требовалась тишина, каждый час, каждая минута жизни распределялись пунктуально, по команде, по звонку. Результатом этого была развинченность нервов, что чаще всего сказывалось паническим, безотчетным страхом, который иногда вдруг овладевал сразу всеми воспитанницами. Когда вечером после молитвы классная дама уходила к себе, мы, нередко уже раздетые, босые и в одних рубашках, кутаясь в одеяла, размещались на кроватях нескольких подруг и начинали болтать. Но о чем могли разговаривать существа, умственно неразвитые, изолированные от света и людей, лишенные какого бы то ни было подходящего чтения? Мы болтали о разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых страшилах. При этом чуть где-нибудь скрипнет дверь, послышится какой-нибудь шум – и одна из воспитанниц моментально вскрикивала, а за нею все остальные с пронзительными криками и воплями, нередко в одних рубашках, бросались из дортуара и неслись по коридору. Вбегала классная дама, начинались расспросы, допросы, брань, толчки, пинки, и дело оканчивалось тем, что нескольких человек на другой день строго наказывали.
Таким образом, через сто лет после основания института совершенно был забыт устав, данный ему Екатериною II, в котором так много говорилось о том, чтобы для «целости здравия увеселять юношество невинными забавами», приучать к чтению и устраивать библиотеки, которых у нас не было и в помине. Совершенно противно уставу Екатерины II, все условия института были направлены к тому, чтобы не было нарушено однообразие закрытого заведения. Наше начальство находило это необходимым для того, чтобы воспитанницы сосредоточивали все свои помыслы на развитии нравственных способностей, чтобы приучить их довольствоваться скромною долею. Но достигали диаметрально противоположных результатов. Слишком рассеянная жизнь, несомненно, делает учащихся мало усидчивыми, заставляет их легкомысленно относиться к своим обязанностям, но еще более вредное влияние оказывало убийственное однообразие: оно стирало все индивидуальные особенности, оригинальность и самобытность, притупляло способности ума и сердца, охлаждало живость впечатлений, губило в зародыше восприимчивость и наблюдательность.
Кроме раннего вставания и холода, воспитанниц удручал и голод, от которого они вечно страдали. Трудно представить, до чего малопитательна была наша пища. В завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик черного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сыром, – этот крошечный бутерброд составлял первое кушанье. Иногда вместо зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, кусок мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной каши или макарон. Вот и весь завтрак. В обед – суп без говядины, на второе – небольшой кусочек поджаренной из супа говядины, на третье – драчена или пирожок с скромным вареньем из брусники, черники или клюквы. Эта пища, хотя и довольно редко дурного качества, была чрезвычайно малопитательна, потому что порции были до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась одна кружка чаю и половина французской булки. И в других институтах того времени, сколько мне приходилось слышать, тоже плохо кормили, но, по крайней мере, давали вволю черного хлеба, а у нас и этого не было: понятно, что воспитанницы жестоко страдали от голода. Посты же окончательно изводили нас: миниатюрные порции, получаемые нами тогда, были еще менее питательны. Завтрак в посту обыкновенно состоял из шести маленьких картофелин (или из трех средней величины) с постным маслом, а на второе давали размазню с тем же маслом или габер-суп (овсяный суп). В обед – суп с крупой, второе – отварная рыба, называемая у нас «мертвечиной», или три-четыре поджаренных корюшки, а на третье – крошечный постный пирожок с брусничным вареньем.
Институт стремился сделать из своих питомиц великих постниц. Мы постились не только в рождественский и великий посты, но каждую пятницу и среду. В это время воспитанницы чувствовали такой адский голод, что ложились спать со слезами, долго стонали и плакали в постелях, не будучи в состоянии уснуть от холода и мучительного голода. Этот голод в великом посту однажды довел до того, что более половины институток было отправлено в лазарет. Наш доктор заявил наконец, что у него нет мест для больных, и прямо говорил, что все это от недостаточности питания. Зашумели об этом и в городе. Наряжена была наконец комиссия из докторов, которые признали, что болезнь воспитанниц вызывается недостаточностью пищи и изнурительностью постов. И последние были сокращены: в великом посту стали поститься лишь в продолжение трех недель, а в рождественском – не более двух, но по средам и пятницам постничали по-прежнему.
Конечно, воспитанницам, имевшим родственников в Петербурге, приходилось меньше страдать от голода. Они просили приносить им не конфеты, а хлеб и съестное, и получали деньги, которые потихоньку (это было строго запрещено) хранили у себя.
Воспитанницы возвращаются в свой класс после обеда. «Богачихи», подкрепив себя пищею, полученною из дому, и заткнув уши пальцами, неистово долбят уроки. Голодные же бродят, как мухи в осенний день, решительно ничего не делают и слоняются из угла в угол или сидят кучками и разговаривают о том, как бы промыслить себе «кусок», у кого бы для этого призанять деньжонок. «Полякова будет сейчас брать десятый урок музыки, следовательно, мать принесла ей денег для расплаты, – вот мы к ней и подъедем», – сообщает одна воспитанница другой, и обе стремглав бросаются к подруге. На просьбы дать взаймы Полякова отвечает отказом. Деньги, которые лежат в записной тетради, должны быть сегодня же вручены учительнице. Но ей доказывают, что ничего дурного не выйдет из того, если она извинится перед нею и скажет, что ее мать доставит деньги через несколько дней. Но Полякова наотрез отказывается исполнить просьбу подруг, указывая на то, что ее учительница музыки – особа крайне неделикатная и может пожаловаться дортуарной даме, которая будет считать своею обязанностью попросить ее мать быть впредь более аккуратною при расплате за уроки.
– Жадная, вот и все! Боишься, что деньги пропадут! Скупердяйка! Помни, что с этих пор никто иначе и называть тебя не будет!.. – И просительницы убегают. Полякова, встревоженная угрозой, летит за ними и дает им деньги.
– Голубчик Иван, сделай, что мы тебя попросим! – пристают воспитанницы к сторожу. Они разговаривают с ним стоя у двери, напряженно прислушиваясь к малейшему шороху.
– С просьбами-то вы умеете обращаться, а до сих пор еще не заплатили за хлеб!
– Мы с тобой, Иванушка, сегодня же рассчитаемся… Купи нам по этой записке…
– Нечего тут расписывать, не впервой с вами возиться… Опять та же колбаса, сушеные маковники, хлеб, булки… Прямо говорите, на сколько купить, и сколько положите мне за беспокойство, а то вы скоро цену каждой покупке будете назначать. А ведь в здешних лавках за все берут втридорога: знают, что по секрету, ну и дерут.
Девочки передают деньги солдату и умоляют его положить покупку в нетопленную печку на том или другом коридоре.
– Пойду еще печки щупать, – грубо ворчит сторож, – суну под лавку в нижнем коридоре – вот и вся недолга. Жрать захотите, всюду придете…
Нередко и бывало, что сторож сунет покупку под лавку в нижнем коридоре, куда ходить строго воспрещалось. Тогда добыть ее поручают «отчаянным», в награду за что их приглашают разделить трапезу.
Несмотря на то, что как казенные воспитанницы (поступившие по баллотировке на казенный счет), так и своекоштные должны были получать от казны все необходимое, каждой воспитаннице приходилось иметь ежегодно порядочную сумму денег для удовлетворения разнообразных нужд. Прежде всего необходимо было приобретать на свой счет все, что касалось туалета: гребенки, головные и зубные щетки, мыло, помаду, перчатки для балов, – эти предметы казна вовсе не выдавала нам. Но это было еще далеко не все. Мы не могли являться ни на балы, ни даже на уроки танцев в казенных башмаках – выделывать в них антраша[45] и пируэты не было физической возможности: наши «шлепанцы» то и дело сваливались с ног, а когда приходилось вытягивать носок, балетчица, в младших классах обучавшая нас танцам, замечала то одной, то другой танцевавшей в казенных башмаках: «Да вы, кажется, вместо носка пятку вперед вывернули». Она находила нужным постоянно делать подобные замечания, вероятно надеясь на то, что начальство обратит наконец внимание на башмаки воспитанниц, вынужденных пользоваться казенными. Несмотря на то, что эта ирония балетчицы повторялась очень часто, воспитанницы и классная дама каждый раз разражались смехом, а несчастный объект этой насмешки не знал, куда от стыда глаза девать.
Среди воспитанниц не было героинь, а между тем от них требовалось почти геройство или, во всяком случае, значительное мужество для того, чтобы не стыдиться бедности в то время, когда чуть не все русское общество, и особенно институтское, открыто презирало бедность. Так как институт не давал воспитанницам ни нравственного, ни умственного развития, а постепенно прививал лишь пошлые воззрения, то они к выпуску вполне укреплялись в мысли, что если бедность – не порок, то гораздо хуже всех пороков.
В старшем классе приходилось тратить особенно много денег. Прежде всего, тут мы уже обязаны были носить корсет. Правда, воспитанницы имели право получать его от казны, и хотя он был, как и вся наша одежда, непрактичен и сшит не по фигуре, но раз он был надет, начальство не придиралось. Но дело в том, что китовый ус в казенном корсете был заменяем то металлическими, то деревянными пластинками, до такой степени хрупкими, что они беспрестанно ломались и впивались в тело. Поносишь, бывало, такой корсет месяц-другой, и вся талия оказывается в ссадинах и ранках. Нестерпимая боль заставляет воспитанницу умолять родных дать ей денег на покупку собственного корсета. Может быть, вне института его можно было приобрести дешевле, но у нас он стоил от 6 до 8 рублей. Желающие иметь собственный корсет должны были подчиняться общему правилу: заказывать его у корсетницы, которой начальство разрешало приезжать в институт снимать мерку. Выходило, что, по самому скромному расчету, каждой воспитаннице лично для своих потребностей нужно было ежегодно иметь по крайней мере рублей пятнадцать – семнадцать. Но и этою суммою мудрено было ограничиться: перед рождественскими праздниками воспитанницы устраивали в складчину елку, перед пасхою необходимо было иметь деньги на покупку шелка, чтобы вышивать мячики, которыми христосовались вместо яиц со священником, дьяконом, с учителями, инспектрисою. Существовал обычай праздновать именины, то есть угощать в этот день подруг и учителей, на что затрачивалось сразу несколько рублей; было и множество других расходов, – избежать их было чрезвычайно мудрено. Конечно, более всего нужны были деньги на то, чтобы не голодать. Воспитанницам, деньги которых были на руках классных дам, дозволялось покупать булки и ничего другого из съестного; те же, которые сами хранили деньги, покупали все, что хотели, но эти покупки обходились им втридорога.
В первый год после своего поступления в Смольный, когда мысль о доме еще жила в душе воспитанницы, когда нежные узы любви к родителям еще не ослабели, она вспоминала о домашних нуждах, о бедности своего семейства и употребляла все средства, чтобы сокращать свои расходы, урезывать себя даже в существенных потребностях. Но более или менее продолжительное пребывание в институте, напоминавшем настоящий женский монастырь, изолированный от мира и людей, в который никогда не проникали ни человеческие стоны, ни человеческие страдания, заставлял ее все глубже погружаться в тину институтской жизни, все равнодушнее относиться ко всему остальному. Между родителями и дочерью-институткой мало-помалу возникали недоразумения, – прежде всего, на почве материальной. Имея множество нужд, которых казна или вовсе не удовлетворяла, или удовлетворяла крайне плохо, воспитанница то и дело обращалась к родителям с просьбою дать ей денег или купить то одно, то другое. Большинство родителей были люди небогатые и зачастую отказывались исполнять такую просьбу, а других возмущало то, что, отдав дочь на казенное иждивение, они должны были постоянно тратиться на нее. К тому же и дочка все менее утешала их: они замечали, что она теряет привычку к экономии, приобретенную в семье. Сначала она сама упрашивала их доставлять ей лишь то, что действительно было для нее крайне необходимо, а потом начинала требовать денег на подарки, просила принести ей то духи, то одеколон и, наконец, умоляла купить золотую цепочку, на которой она могла бы носить крест – единственное украшение, которое вам не было воспрещено. И родители, осаждаемые вечными просьбами, делавшимися все более настойчивыми и бессердечными, раздражались на свою дочь.
На уроке рукоделия. 1889 г.
Вечно выпрашивать у родителей деньги нас заставляли не только необходимость или собственный каприз, но и классные дамы. М-lle Верховская была особой весьма изящной. Она любила красивые туалеты и тратила на них почти все свое жалованье. Даже в своем простом форменном синем платье она казалась несравненно более нарядной, чем все остальные ее товарки. Перед своими выездами она открывала дверь своей комнаты и, красивая, нарядная, улыбающаяся, выходила к нам и спрашивала, как мы находим ее новое платье. Мы приходили в восторг от такого милого отношения и в ответ кричали ей: «королева», «божественная», «небесная»! Красивая и изящная всегда, она была особенно прекрасна в эти минуты своего «отлета» из института, когда она, хотя на несколько часов, оставляла ненавистные для нее стены монастыря, в котором жила по необходимости. Вероятно, вследствие любви ко всему изящному Верховская еще более других классных дам навязывала своим воспитанницам покупку всего дорогого, не считаясь со скудными средствами огромного большинства.
– Дети! Я еду в гостиный двор, – объявляет она. – Что кому нужно?
Одна просит купить мыло, другая – помаду, гребенку, перчатки, щетку. На ее вопрос, какое мыло купить, ей отвечают: «Самое простое, копеек в пятнадцать».
– Что тебе за охота мыться такою дрянью? Я за шестьдесят копеек куплю тебе превосходное мыло…
– Но ведь тогда у меня останется всего один рубль, а раньше как через три месяца мне не пришлют денег из деревни.
– Как хочешь. Я могу купить и в пятнадцать копеек. Если память меня не обманывает, таким мылом в прачечной белье моют. Ведь от него, пожалуй, салом несет!..
– Тогда, пожалуйста, mademoiselle, купите такое, какое вы советуете, – спешит заявить воспитанница, опасаясь рассердить Верховскую своим упорством и заставить ее заподозрить себя в расчетливости.
Так бывало с маленькими воспитанницами, а в старшем классе они уже привыкали к дорогим туалетным принадлежностям и сами просили не покупать дешевых.
Там, где классные дамы не подбивали воспитанниц на покупку дорогих вещей, они вынуждали их тратиться на что-нибудь другое. Например, у одной классной дамы, Лопаревой, была страсть навязывать лотерейные билеты, чем она, вероятно, оказывала услугу кому-нибудь из своих знакомых. Несмотря на то, что раздача их была сопряжена для нее с некоторыми неприятностями, она продолжала делать свое.
– Кто из вас возьмет лотерейный билет? Всего по четвертаку… Прехорошенькие вещицы на выигрыше: салфеточки, запонки, пряжки, подушки для булавок…
Все молчат.
– Долго я буду дожидаться? Павлухина, ты сколько берешь?
– Не знаю, право…
– Кто же знает, если ты не знаешь? Говори же, наконец…
– Один…
– Один? Да чего же ты боишься? Ведь если ты возьмешь даже четыре билета, у тебя все же останется еще два рубля!..
– Хорошо.
Лопарева немедленно записывала за Павлухиной четыре билета.
– А ты, Осипова, сколько берешь? Хотя у меня нет твоих денег, но я с удовольствием одолжу тебе до приезда твоего отца.
– Как же мне просить у него денег на лотерею, когда он только что купил мне ботинки и перчатки! Он, наверно, откажется: скажет, что мне не нужны здесь ни запонки, ни салфетки, которые разыгрываются.
– Можешь сказать твоему отцу, что билеты эти берутся не для того, чтобы что-нибудь выгадать для себя, а чтобы помочь несчастному семейству. Если ваши родители не приучили вас дома к состраданию, то мы обязаны делать это.
После такого внушения билеты разбирались, хотя по-прежнему весьма неохотно, но беспрекословно. Дело доходит до воспитанницы Петровой, одной из «отчаянных». М-lle Лопарева, не ожидавшая ничего хорошего для себя от этой воспитанницы, уже повернулась, чтобы уйти в свою комнату, но та сама подошла к ней и отчеканила:
– Денег для этих билетов я просить не буду… Моя мать не знает несчастного семейства, в пользу которого вы распродаете билеты… Нам и для собственной еды приходится то и дело клянчить деньги у родителей…
– Гадина! Пошла прочь! – вскричала Лопарева и изо всей силы хлопнула за собою дверь.
– Счастливая! Сумела отвязаться от проклятых билетов! – с завистью говорит Петровой одна подруга. – Как бы я хотела быть такою же отчаянной, как ты! Да вот не могу…
Дорого обходились нам и наши горничные; в каждом дортуаре служила одна из них. Она обязана была убирать не только нашу спальню, но и комнату классной дамы, а также служить как нам, так и ей. Она действительно убирала дортуар, но служила исключительно классной даме. Нужно заметить, что воспитанницы обязаны были сами убирать свои кровати и ящики табуретов. Если перед уходом в класс кто-нибудь из нас забывал это сделать или плохо выполнял эту обязанность, ее бранили и наказывали. Если горничная по уходе воспитанницы замечала беспорядок на ее кровати или в табурете, она старалась исправить эту небрежность, но только для той, которая покупала ее любезность; на беспорядок же у воспитанницы, от которой она мало получала, она нередко даже обращала внимание классной дамы. Несмотря на то, что каждая воспитанница дарила горничной деньги за ее услуги, дортуарная дама два раза в год (в пасху и рождество) делала сбор на покупку для нее подарка. Вследствие этого дортуарные горничные сравнительно с остальною прислугою института быстро наживались, что давало им возможность через несколько лет после вступления в эту должность выходить замуж. Тут уже воспитанницам предстояла трата более значительная, чем все предыдущие.
– Дети! – обратилась к нам однажды m-lle Верховская. – Дортуар mademoiselle Лопаревой сделал прекрасное приданое своей горничной. Смотрите же и вы, не ударьте в грязь лицом… Подумаем сообща, что кому из вас попросить у родителей для Даши. Ты, Маша, что собираешься сделать для нее?
– Полдюжины носовых платков…
– Прекрасно, но ведь это же пустяки! Мы вот как устроим это дело: пусть каждая из вас купит для нее какой-нибудь пустячок в приданое и что-нибудь существенное. Ольга! Твоя сестра имеет много вкуса: она сумела бы выбрать для нее простенькое, но хорошенькое подвенечное платье! Какой-нибудь недорогой шерстяной материи… Ну, а еще купи ей, например, чулки или что-нибудь в этом роде…
Между тем сестра этой воспитанницы не имела собственных денег; ее муж сам покупал для нее наряды, но таких интимных сторон жизни институтка уже никогда не передавала классной даме.
– А твоя мама, Аня? Я знаю… она не может много тратить! (Верховская намекала на то, что мать этой воспитанницы была бедна, так как она приходила в институт очень скромно одетою.) – При этом намеке воспитанница краснела от стыда. – Она может не покупать нашей невесте никакого пустячка, но пусть приобретет для нее только полдюжины готовых рубашек. Это не обойдется ей очень дорого!.. А ты что?
– Перчатки.
– Неужели только? Подумай сама, какое же составится приданое, если одна из вас подарит перчатки, другая – полдюжины носовых платков… Вам нечего скаредничать! Ведь вы собираете на Дашу в последний раз.
А между тем в нашем дортуаре уже вторая горничная выходила замуж, к тому же сборы на праздничный подарок происходили регулярно.
Некоторые воспитанницы тратили деньги и на подарки классной даме в день ее именин. За два, за три месяца она обыкновенно говорила горничной о том, что ей хочется купить то или другое, но что она отложит эту покупку до той поры, пока скопит себе деньги. Иногда воспитанницы в складчину покупали какой-нибудь подарок, иногда несколько воспитанниц дарили ей отдельно каждая, – только Верховская никогда не принимала подарков.
В одном из дортуаров две воспитанницы-сестры положили на стол своей классной дамы большой изящный ящик с чаем, обтянутый атласом и затканный выпуклыми китайскими фигурами.
– Кто из вас положил мне это? – спрашивала классная дама, входя в дортуар с ящиком в руках.
– Мы, mademoiselle, – отвечали обе сестры.
– Но кто же из вас? Ты или твоя сестра? – насмешливо улыбаясь, переспросила дама.
– Мы обе! – отвечали удивленные сестры. Подарок был сравнительно дорогой – несколько фунтов высокого сорта желтого чая; но классная дама, вероятно, не подозревала его ценности, а может быть, потому, что рассчитывала получить другое, она не постыдилась в упор поставить такой вопрос.
Охлаждению между родителями и дочерьми содействовал и весь строй институтской жизни. Нужно помнить, что в ту пору институт был совершенно закрытым заведением: воспитанниц не пускали к родным ни на лето, ни на праздники, и они мало-помалу забывали обо всем, что делалось вне их стен. Все, что происходило не в институте, для институток становилось все более безразличным, даже странным, – их отчуждение от родителей и родного гнезда росло все быстрее. Скоро у них не хватало даже тем для разговора во время их свиданий. В приемные часы институтка сообщит родственникам о том, кого она «обожает», сколько раз в эту неделю она встретила «обожаемый предмет», не утаит и того, как она была наказана, за что на этих днях придиралась к ней «ведьма», какой балл она получила у учителя, – и материал для разговора исчерпан. Мало того, она замечает, что и эти новости, для нее столь значительные, совсем не интересуют ее родных, а ее братья и кузены относятся к ним даже насмешливо. Это ее раздражает и мало-помалу озлобляет против своих. Она старается все меньше знакомить их с событиями институтской жизни и иногда через минут десять после свидания совсем умолкает, а между тем ей приходится сидеть с родными в приемные дни часа два и более.
Расширение умственного кругозора учениц посредством преподавания могло бы еще поддерживать между родителями и их дочерьми интерес друг к другу, но в то время, которое я описываю, оно в России всюду было поставлено очень плохо, а в Смольном еще того хуже. Подходящего чтения, которое могло бы хотя несколько заинтересовать учениц, не существовало. Если и было несколько любительниц чтения (их вообще было крайне мало), то они читали плохие французские романы в оригинале, а еще чаще в безграмотных переводах.
Классные дамы – наше непосредственное и ближайшее начальство – не могли и не желали возбуждать в нас стремление к чтению. Сами крайне невежественные, они настойчиво проповедовали необходимость для молодых девушек усвоить лишь французский язык и хорошие манеры, а для нравственности – религию. «Остальное все, – как без стеснения выражалась m-lle Тюфяева, – пар и, как пар, быстро улетучится… Вот я, например, после окончания курса никогда не раскрывала книги, а, слава богу, ничего из этого дурного не вышло: могу смело сказать, начальство уважает меня».
В дореформенное время нас не обучали естественным наукам, и мы никогда ничего не читали по этим предметам. Да и могли ли они нас интересовать при нашей затворнической жизни? За все время воспитания мы никогда не видели ни цветов, ни животных, не могли наблюдать и явлений природы: сидим, бывало, в саду во время летних каникул, а чуть только тучи начинают сгущаться, – нас немедленно ведут в дортуар или класс. Во время всей нашей затворнической жизни нам не удавалось видеть ни широкого горизонта, ни простора полей и лугов, ни гор, ни лесов, ни моря, ни рек и озер, ни восхода и заката солнца, ни бурана в степи, хотя мы и делали сочинения о всех этих явлениях природы. Те, у кого в детстве была развита любовь к природе, здесь совершенно утрачивали ее. Весьма естественно, что, окончив курс в институте, мы были вполне равнодушны к красотам природы. С утра до вечера мы видели перед собой лишь голые стены громадных дортуаров, коридоров, классов, всюду выкрашенные в один и тот же цвет. Все эти апартаменты производили на новенькую удручающее впечатление чего-то холодного, неуютного, что заставляло от страха замирать робкое детское сердце, но проходил год-другой, и никто из нас не обращал на это внимания, никто не находил эту обстановку ни постылою, ни странною.
Спрашивается: почему не могли окрасить стены каждого дортуара в особый цвет, обвести их сверху каким-нибудь цветным бордюром и тем придать спальне менее казенный вид? Кроме приемной залы, где были портреты царской фамилии, стены были повсюду совершенно голые. Почему не могли повесить на них портретов знаменитых писателей, олеографии (многокрасочные печатные копии. – Прим. ред.) с историческими сюжетами, пейзажи красивых местностей? Почему не дозволялось воспитанницам прикреплять к изголовью кроватей фотографии родителей и родственников, почему запрещено было ставить на подоконниках горшки с цветами, за которыми могли бы ухаживать воспитанницы? Все это хотя несколько скрашивало бы однообразие жизни, возбуждало бы человеческие чувства, хотя слабо поддерживало бы любовь к прекрасному.
Этот казарменный режим, вытравлявший любовь к родителям, привязанность к родному гнезду и другие человеческие чувства, клал особенно постыдный отпечаток на отношение воспитанниц к бедным родственникам. Как краснели они, когда в приемные дни им приходилось садиться подле плохо одетых матерей и сестер! Как страдала институтка, когда в это время, нарочно, чтобы переконфузить ее еще более, к ним подходила дежурная классная дама и обращалась к ее родственнице с каким-нибудь вопросом на французском языке, которого та не знала. Конечно, в таких случаях классные дамы могли только бросать презрительно-насмешливые взгляды, но вслух редко решались выражать свое презрение. Однако, желая дать это почувствовать воспитаннице, они зачастую останавливали свое внимание на особах, являвшихся в институт в модном туалете. Провинится, бывало, в чем-нибудь воспитанница, имеющая богатых родных, и классная дама замечает: «Воображаю, как тяжело будет твоей достойной матушке узнать о твоем дурном поведении!». А между тем все достоинство этой матери, с которою классная дама никогда не сказала ни слова, состояло только в том, что та являлась в приемную в богатом туалете. Немало было таких случаев: воспитанницу спрашивают, кто у нее был в последнее воскресенье. «Няня», – отвечает та, и не только классной даме говорит она это, но и своим подругам, а между тем к ней приходила ее родная мать, но она была бедно одета, и институтка отреклась от родной матери. Вот как был велик ужас сознаться в бедности своих родителей!
Ни с кем не разговаривая в институте о семье, если она не была богатою, воспитанница скоро забывала о своем тяжелом материальном положении и делалась все более чужою и далекою членам своей родной семьи. Матери, несколько лет не видавшие своих дочерей после их определения в институт, обыкновенно поражались нравственною переменою, происшедшею с ними за время разлуки.
Постепенно утрачивая естественные чувства, институтки сочиняли любовь искусственную, пародию, карикатуру на настоящую любовь, в которой не было ни крупицы истинного чувства. Я говорю о традиционном институтском «обожании», до невероятности диком и нелепом. Институтки обожали учителей, священников, дьяконов, а в младших классах – и воспитанниц старшего возраста. Встретит, бывало, «адоратриса» (так называли тех, кто кого-нибудь обожал) свой «предмет» и кричит ему: «adorable», «charmante», «divine», «celeste» («восхитительная», «прелестная», «божественная», «небесная» (фр.). – Прим. ред.), целует обожаемую в плечико, а если это учитель или священник, то уже без поцелуев только кричит ему: «божественный», «чудный»! Если адоратрису наказывают за то, что она для выражения своих чувств выдвинулась из пар или осмелилась громко кричать (классные дамы преследовали нас не за обожание, а лишь за нарушение порядка и тишины), она считает себя счастливою, сияет и имеет ликующий вид, ибо она страдает за свое «божество». Наиболее смелые из обожательниц бегали на нижний коридор, обливали шляпы и верхние платья своих предметов духами, одеколоном, отрезывали волосы от шубы и носили их в виде ладанок на груди. Некоторые воспитанницы вырезали перочинным ножом на руке инициалы обожаемого предмета, но таких мучениц, к счастью, было немного.
Мне так часто приходилось упоминать об «отчаянных», что я хочу сказать о них несколько слов. Как это ни странно, но «отчаянные» вследствие своего дерзкого поведения пользовались у нас некоторыми преимуществами. Хотя начальство их жестоко ненавидело, но в то время как классные дамы за ничтожные провинности награждали трепкой и пинками «кофулек», они несравненно более стеснялись с «отчаянными», особенно старшего класса, которые могли наговорить им много неподходящего; классные дамы называли это дерзостями, а большая часть воспитанниц – «правдою». Эта «правда» роняла авторитет дам перед классом, и они многое спускали «отчаянным», только бы лишний раз не услышать их дерзкие речи.
Существование «отчаянных» приносило некоторую пользу и остальным воспитанницам: во-первых, большинство их защищало не только собственные интересы, но и интересы класса, вступаясь чаще всего за тех, которые были несправедливо наказаны. Можно смело сказать, что отчаянное поведение некоторых воспитанниц старшего класса, где они были уже более находчивыми, несколько ослабляло грубый произвол и самодурство классных дам.
Каким образом могли существовать отчаянные, когда начальство всегда могло выбросить их из института? Происходило это, вероятно, потому, что не так-то просто было уволить из института воспитанницу, которая была не по душе начальству. Когда начальница, осведомленная о дурном поведении той или другой воспитанницы, доносила об этом (еще в гораздо более ранние времена, чем те, которые я описываю) императрице Марии Федоровне, та не поощряла таких жалоб, а напротив – ставила их в величайшую вину не только классным дамам, но и начальнице. Даже гораздо позже, когда высшее заведование институтом перешло к императрице Александре Федоровне, которая сравнительно с предшествующею государынею почти не занималась институтом, император Николай Павлович лично просил начальницу Леонтьеву оставить все порядки, весь строй и дух института как это было при его матери, императрице Марии Федоровне. Однажды Леонтьева донесла императрице Александре Федоровне о том, что одну из воспитанниц следовало бы исключить за шалости. Императрицу это расстроило, тем более что она в это время была больна. Узнав об этом, Николай Павлович был страшно взбешен, что таким сообщением потревожили его супругу во время ее болезни, и немедленно приказал передать Леонтьевой, чтобы она не смела расстраивать его супругу донесениями о таких пустяках, как школьные шалости институток, и еще раз строго подтвердил, чтобы она всецело руководствовалась правилами, введенными для институтов его покойною матерью. После того Леонтьева, видимо, была более осторожна в своих донесениях: в ее письмах к императрице Марии Александровне проглядывает уже другой характер. «Некоторые девушки слишком резвы, но это так естественно в их юном возрасте», – вот в каком тоне писала она новой императрице. Вероятно, императрица Мария Александровна тоже не выказывала желания легко исключать воспитанниц из института. За все время моего воспитания из института были уволены только две воспитанницы и два раза хотели уволить меня, но это не удалось ни в тот, ни в другой раз. Вообще выкинуть воспитанницу из института было не так-то легко, в чем я убедилась впоследствии по собственному опыту, и вот этим-то я объясняю существование у нас «отчаянных».
Нравственное воспитание у нас стояло на первом плане, а образование занимало последнее место; вследствие этого наши учителя не имели никакого значения в институте. Все воспитание было в руках классных дам, являвшихся нашими главным руководительницами и наставницами.
Дочь бедных родителей, окончив курс в институте, шла в гувернантки, – это было почти единственное средство заработка для женщины того времени. Она могла быть и учительницей в пансионе, но их было слишком мало, чтобы приютить всех желающих. Институт редко принимал в классные дамы очень молодых девушек, а потому им по окончании курса в институте волей-неволей приходилось начинать свою жизнь с гувернантства. Умственно и нравственно неразвитая, – все ее образование заключалось в долбне и в переписывании тетрадей, – белоручка по воспитанию и привычкам, она не могла заинтересовать детей своим преподаванием, не имела и практического такта для того, чтобы дать отпор тогдашним избалованным помещичьим детям. Положение гувернантки в крепостнический период было вообще самое печальное, а положение гувернантки-институтки вследствие полной неподготовленности к жизни было еще того хуже.
Мария Александровна (1824–1880) – принцесса Гессенского дома, российская императрица, супруга императора Александра II и мать императора Александра III. Художник Франц Винтерхальтер. 1857 г.
Меняя одно место на другое, выпив до дна полную чашу обид и унижений, девушка после нескольких лет гувернантства добивалась наконец места классной дамы, если только, конечно, во время своего институтского воспитания она сумела хорошо зарекомендовать себя перед начальством. За время гувернантства она не обновила своего умственного багажа, а только испортила характер и явилась на казенную службу уже особою озлобленной, с издерганными нервами, мелочною и придирчивою. Окруженная молодыми девушками, она не могла без зависти смотреть на молодые лица. В этом возрасте и она мечтала о счастье взаимной любви (других мечтаний в то время у молодой девушки не бывало), и они, как она, тоже, вероятно, рассчитывают выйти замуж за богатых и знатных, которые с обожанием будут склонять колени перед ними. Но ее мечты не осуществились, ее встретили в жизни лишь тяжелая зависимость и неволя… И с ними, – думала она, – будет то же, что и с нею, но они счастливее ее уже тем, что еще могут надеяться и мечтать!.. И новая классная дама сразу становилась с воспитанницами в официальные отношения, а затем делалась все более придирчивою и злою. Ее гувернантство не дало ей педагогической опытности, а если бы она и приобрела ее, то не могла бы применять ее в институте, где существовали особые правила и традиции для воспитания, и где весь строй жизни был противоположен семейному.
В качестве классной дамы она продолжала влачить свою жалкую жизнь, не скрашенную даже привязанностью воспитанниц, вверенных ее попечению. Через несколько лет своей службы она уже была на счету «старой девы», и наконец сама приходила к окончательному выводу, что жизнь ее обманула, что больше ей уже не на что рассчитывать, и, разочаровавшись во всем и во всех, она начинала думать только о своем покое. Вот почему классные дамы так ревниво охраняли мертвую неподвижность, вот почему они не допускали шума даже во время игр и забав. Невежественные, мелочные, придирчивые, многие из них были настоящими «фуриями» и «ведьмами», как их называли. В маленьких классах они грубо толкали девочек, чувствительно теребили их; со старшими было немыслимо позволять это себе, но зато их можно было наказывать за всякий пустяк: за недостаточно глубокий реверанс, за смех, за оборванный крючок платья, за спустившийся рукавчик, за прическу не по форме и т. д. до бесконечности.
К классной даме принято было обращаться только с просьбою: «Позвольте мне отправиться в музыкальную комнату для упражнений на фортепьяно», «Позвольте мне выйти в коридор», но вступать с нею в простой, человеческий разговор считалось непозволительною фамильярностью. Самым обычным наказанием было сорвать передник, поставить к доске на несколько часов, что обыкновенно сильно мешало приготовлять уроки к следующему дню. Некоторые классные дамы, наказывая воспитанницу младшего класса, не позволяли ей плакать: резко отрывая носовой платок от глаз ребенка, они кричали: «Souffrez votre punition, souffrez!» («Извольте терпеть, когда вас наказывают, извольте терпеть!» (фр.). – Прим. ред.). Этим достигали того, что дети скоро переставали стыдиться наказания, а в старшем классе к нему уже относились совершенно равнодушно, как к неизбежной повинности. Я не буду говорить особо о наказаниях, так как о них то и дело приходится упоминать в этом очерке, но не могу не сказать несколько слов об одном из них, тем более что оно совершенно подрывало физические и нравственные силы девочек.
Известный детский ночной грех возбуждал к провинившейся бесчеловечное отношение со стороны всех без исключения окружающих. Это несчастие случалось с некоторыми воспитанницами обыкновенно лишь в первый год их вступления в институт, следовательно, когда им было 9 или 10 лет. В младшем классе редко кто из девочек понимал позор доноса на подругу, и никто из них не умел разобраться в том, происходит ли несчастие с товаркой от дурной привычки или от болезни. Совершенно так же плохо были осведомлены на этот счет и классные дамы. Между тем те и другие твердо усвоили понятие о том, как постыдно не соблюдать чистоплотных обычаев. Как только утром воспитанницы вставали, и одна из них замечала, что у подруги не все обстоит благополучно, она объявляла об этом во всеуслышание. Провинившуюся осыпали бранью, кричали ей, что она опозорила дортуар, и звали классную даму, которая надевала провинившейся мокрую простыню поверх платья и завязывала ее на шее. В таком позорном наряде несчастную вели в столовую и во время чая ставили так, чтобы все взрослые и маленькие воспитанницы могли все время любоваться ею. Тут опять на несчастную сыпался град насмешек и издевательств, отовсюду раздавались вопросы – из какого дортуара эта особа? Во время урока несчастную избавляли от позорного трофея, но когда приходилось спускаться в столовую к завтраку и обеду, она опять была украшена им.
Этого несчастия воспитаннице никогда не удавалось скрыть от подруг, а между тем оно обыкновенно повторялось… Подруги, считая себя из-за нее окончательно опозоренными, все запальчивее выражали к ней ненависть и презрение, не называя ее иначе, как позорными эпитетами, толкали, щипали ее. Чтобы предупредить повторение этой слабости, воспитанницы каждый раз, когда кто-нибудь из них просыпался, считали своею священною обязанностью будить несчастную. В дортуаре было до 30 девочек, они то и дело просыпались ночью и совсем не давали спать злосчастному ребенку. Понятно, что при этих нападках несчастие с ребенком начинало быстро учащаться и в конце концов делалось хроническим явлением. Такие девочки являлись настоящими мученицами. В то время как бедную девочку чуть не сживали со света, никто никогда не обратился к доктору, чтобы узнать, не подвержена ли она какой-нибудь болезни, не следует ли ее лечить, вместо того чтобы карать с такою жестокостью. Одна девочка, испытывая подобные пытки, из здорового, краснощекого ребенка, каким она поступила в институт, через полгода превратилась в хилое, желтолицее существо. В конце концов ее удалили из института. Когда через несколько месяцев после этого она приехала к нам навестить свою родную сестру, бывшую в старшем классе, – этот еще недавно затравленный зверек имел вид веселый и здоровый.
Грубость и брань классных дам, под стать всему солдатскому строю нашей жизни, отличались полною непринужденностью. Наши дамы, кроме немки, говорившей с нами по-немецки, обращались к нам не иначе как по-французски. Они, несомненно, знали много бранных французских слов, но почему-то не удовлетворялись ими и, когда принимались нас бранить, употребляли оба языка, предпочитая даже русский. Может быть, это происходило оттого, что выразительною русскою бранью они надеялись сильнее запечатлеть в наших сердцах свой чистый, поэтический образ! Как бы то ни было, но некоторые бранные слова они произносили не иначе как по-французски, другие – не иначе как по-русски. Вот наиболее часто повторяемые русские выражения и слова из их лексикона: «вас выдерут, как сидоровых коз», «негодница», «дурында-роговна», «колода», «дубина», «шлюха», «тварь», «остолопка»; из французских слов неизменно произносились: «brebis galeuse» (паршивая овца), «vile populace» (сволочь). Брань и наказания озлобляли одних, а к другим прививали отчаянность и бесшабашность, иных делали грубыми и резкими, а многих заставляли терять всякое самолюбие. И это естественно: там, где не действует убеждение, уже никак не может благотворно влиять наказание, в корне убивающее стыдливость.
Воспитание ограничивалось строгим надзором классных дам лишь за внешним видом и поведением учениц: они зорко наблюдали за тем, чтобы воспитанницы были одеты, кланялись, здоровались, отвечали на те или другие вопросы точь-в-точь так, как это было в институтских обычаях. За малейшее уклонение от общепринятого этикета классная дама могла карать по своему усмотрению. В младшем классе она в то же время обязана была объяснять детям уроки, заставлять их читать и писать на трех языках. Но эту обязанность выполняли очень немногие, и притом обыкновенно крайне формально и небрежно. Так же мало внимания обращали они на то, кто как учится, обнаруживают ли ответы ученицы ее способности или показывают полное непонимание и тупость. По своему невежеству и отсутствию педагогических способностей классные дамы не могли быть полезными кому бы то ни было, и тем более воспитанницам старшего возраста, с большинством которых у них были даже враждебные отношения. Надуть, обмануть, ловко провести классную даму, устроить ей какую-нибудь каверзу – в старшем классе считалось настоящим геройством. Как бы жестоко ни обращалась классная дама с воспитанницами, выполняла она или нет свои обязанности, не превышала ли своей власти, – за этим никто не следил, даже инспектриса, хотя это было ее прямым долгом. Понятно, что воспитанницам некому было жаловаться на возмутительное обращение с ними классных дам.
М-lle Нечаева, дортуарная дама одного из отделений кофейного класса, всегда отличавшаяся необыкновенною неуравновешенностью своего характера, начала вдруг приходить все в большее нервное расстройство: то и дело немилосердно трепала кофулек, бросала в них книгами, беспрестанно ставила их на колени в угол, оставляя в таком положении по нескольку часов. Из ее дортуара вечно раздавались крики, стоны, слезы. Девочки приходили в класс и столовую с распухшими от слез глазами. Скоро к этому присоединились и новые выходки m-lle Нечаевой, от которых ее питомицам приходилось страдать еще тяжелее: по ночам она внезапно вбегала в дортуар с криком «Вставайте!», хватала за руку спящих детей и заставляла их одеваться, а затем вопила пронзительным голосом: «На молитву! Господь прогневался на вас!». При этом она бросалась на колени, увлекая за собой и детей. В то же время она сильно изменилась: исхудала, не ходила, а как-то суетливо бегала, громко разговаривала сама с собою; если кто-нибудь обращался к ней с замечанием, она подымала шум, возню, скандал. Начальство по этому поводу таинственно перешептывалось между собой, но никто ее не трогал и, вероятно, долго не тронул бы, если бы ее похождения ограничились лишь ее дортуаром; но они приняли более широкие размеры. Однажды, разбудив воспитанниц и не дав им времени одеться, Нечаева потащила их молиться в класс, добраться до которого приходилось через несколько коридоров. Армия босоногих девочек, из которых многие были в одних рубашках, с отчаянным криком и плачем бежала за нею. После молитвы в классе Нечаева отправилась с детьми в апартаменты инспектрисы. Но к этому времени m-me Сент-Илер уже успела приготовить все, чтобы отправить ее в сумасшедший дом. Инспектриса превосходно знала, что Нечаева уже несколько месяцев до этого происшествия по ночам будила детей и жестоко терзала их, но не ударила палец о палец, пока та не привела к ней ночью полуголых детей.
Прошло уже более полугода после моего вступления в институт, а я совсем еще не могла приспособиться к раннему вставанию, голоду и холоду. Я вечно тряслась от лихорадки, а временами так кашляла, что будила подруг по ночам, днем же мешала им слушать уроки. В то же время меня так одолевала сонливость, что я машинально исполняла приказания, была вялою и неразговорчивою. Классные дамы решили, что я послушная девочка, и выказывали ко мне даже внимание: как только я им попадалась на глаза, они всегда находили, что я больна, и посылали меня в лазарет.
В то время для измерения температуры тела не применяли термометра: лихорадку доктор определял по пульсу и ощупывая лоб своими руками. Проделав со мною все, что при этом полагалось, он говорил, обращаясь к надзирательнице: «Ее всегдашняя болезнь – лихорадка. Поспит, поест, обогреется – и завтра же будет здорова, а отправится в класс – опять то же будет… В помещичьих-то домах жарко топят, плотно кормят, тепло укрывают; натурально, что такие дети не могут выносить у нас температуры девять и восемь градусов».
И я блаженствовала. Мне нравилось даже то, что служащие в лазарете называли друг друга по именам, точно на воле. Не страдая более от холода и голода, я крепко засыпала и на другой день вставала здоровою. Мое благополучие продолжалось до тех пор, пока не приводили нескольких воспитанниц, страдавших таким же недомоганием. Я смотрела на них как на врагов, хотя понимала всю законность моего изгнания из лазарета, в который я то и дело возвращалась и где проводила не только дни, но недели и месяцы.
Единственным утешением и отдыхом от неприглядной институтской жизни служил лазарет. Весь его служащий персонал – доктор, надзирательница, лазаретная дама – были простые, добрые существа, стоявшие в стороне от институтских интриг; все они обращались с нами участливо и добропорядочно. Доктор прекрасно понимал, что причиною малокровия и лихорадок, которыми воспитанницы страдали в первый год своей институтской жизни, были скудное питание и суровая жизнь, и охотно держал в лазарете слабых здоровьем, а по выходе из него многим прописывал молоко или на некоторое время больничную пищу, – более он ничего не мог сделать. Лазарет, в котором воспитанницы могли выспаться вволю, где они отдыхали душой и телом, спасал многих из них от преждевременной гибели. В него шли охотно даже тогда, когда туда отправляли в наказание, что, впрочем, практиковалось у нас довольно редко и исключительно в старшем классе.
Несмотря на крайне неблагоприятные условия институтской жизни того времени, процент смертности среди воспитанниц был сравнительно ничтожен. По словам одного врача, серьезно занимавшегося исследованием причин этого явления, это происходило прежде всего от того, что при самом ничтожном заболевании лихорадкою, головною болью, незначительным расстройством желудка воспитанниц немедленно отправляли в лазарет и укладывали в кровать, – таким образом, в самом начале заболевания мешали дальнейшему развитию болезни. Сильному распространению зараз и заболеваний препятствовали также чистота и опрятность хорошо вентилируемых помещений, регулярная жизнь и строго определенное время для сна и еды, что в сильной степени ослабляло возбужденное, нервное состояние воспитанниц. Но если процент смертности среди воспитанниц был сравнительно невелик, зато было чрезвычайно много болезненных, исхудалых, малокровных и нервных.
Возвращаясь из лазарета в класс, я уже через несколько часов чувствовала озноб и сонливость. Если это было в те часы, когда подруги готовили уроки к другому дню, я устраивала себе ложе между скамейками: несколько учебников, покрытых байковою косынкой, служили мне подушкой; я опускалась на пол к ногам подруг, которые усердно зубрили уроки; они бросали на меня свои платки, и я засыпала. Дежурная дама не могла заметить меня, а если невзначай вспоминала о моем существовании, то «сторожихи», у ног которых я лежала между скамейками, толкали меня, и я вскакивала как ни в чем не бывало. На вопрос классной дамы, откуда я взялась, я отвечала, что искала учебник.
Сонливость и лихорадка, от которых я страдала в первый год институтской жизни, вечное пребывание в лазарете, все более развивающаяся лень из рук вон плохо отражались на моих занятиях. Этому содействовал и обычай, крепко укоренившийся в нравах учителей: если воспитанница несколько раз плохо отвечала кому-нибудь из них, он переставал вызывать ее, и она могла оставить заботу о своем учении, уверенная, что он не потревожит ее в продолжение учебного сезона. За нерадение в учении и за плохие отметки никто с нас не взыскивал, никого не беспокоила мысль, что воспитанница бросила учиться.
Изо всего штата классных дам, старых дев, озлобленных ханжей, придирчивых и до крайности тупых, резко выделялась моя дортуарная дама m-lle Верховская. В ту пору, о которой я говорю, ей было лет двадцать пять – двадцать шесть. Она была не только самою умною и образованною между ними, но и самою красивою и молодою. Остальные дамы редко выезжали из института в свои свободные дни, ее же в такое время никогда не было дома, – у нее, видимо, было немало знакомых семейств. Она не только много читала, но даже обстановка ее комнаты носила иной характер, чем у других: над ее столиками и на стенах висели красивые этажерки с книгами, стоял шкаф, наполненный книгами в красивых переплетах, – это были произведения классиков на русском и трех иностранных языках, которые она прекрасно знала и теоретически, и практически. Ее молодость, красота, превосходное знание языков, несравненно более высокий уровень образования, обстановка ее комнаты, даже ее простое форменное платье, изящно охватывавшее ее стройную высокую фигуру, – решительно все возбуждало к ней неутолимую зависть ее товарок. Они не только вечно сплетничали про нее, интриговали, делали ей какие-то намеки и бесцеремонно подглядывали за нею, когда кто-нибудь ее навещал, но наблюдали даже за ее отношениями к воспитанницам ее дортуара, одним словом, делали ее жизнь просто невыносимою. Все это, видимо, страшно раздражало ее, чрезвычайно вредно отзывалось на ее уже от природы крайне неуравновешенном характере, испорченном институтским воспитанием и, как говорили мне впоследствии, ухаживаниями светских кавалеров, между тем как это существенно все же не меняло ее судьбы.
Только она одна считала своею обязанностью объяснять уроки воспитанницам своего дортуара, кое-что рассказывать им, заставлять их читать. К несчастью, ей не часто приходилось заниматься с детьми: в свободные дни она уезжала, а в дни дежурств иной раз так погружалась в чтение, что не видела и не слышала, что делалось вокруг. Не приходилось ей часто заниматься и потому, что между нею и нами от времени до времени наступали крайне враждебные отношения, когда все без исключения, точно по уговору, употребляли все средства, чтобы держаться от нее в сторонке, и отказывались от занятий, придумывая ту или другую причину. М-lle Верховская, когда находилась в хорошем настроении, была доброю, милою, умною, даже обворожительною, – и становилась невозможною, когда на нее нападали периоды гнева и вспышек; тогда мы боялись ее больше всех классных дам. В такие периоды мы сидели в дортуаре так тихо, что не смели пошевельнуться, осторожно перевертывали страницы учебника, и у нас стояла гробовая тишина: никто не поверил бы тогда, что тут в огромной спальне сидит более тридцати девочек, и притом в свободное от уроков время.
Картина совершенно менялась, когда между нами и Верховскою царствовали мир и согласие. Воспитанницы так свободно, как ни в одном дортуаре, расхаживали тогда по своей огромной спальне, громко разговаривали между собой, и от времени до времени раздавался даже веселый смех. Но вот одна из них подходит к запертой двери комнаты Верховской и кричит по-французски: «Пожалуйста, mademoiselle, расскажите нам что-нибудь или почитайте». К ней присоединяются и остальные подруги, и все то же самое на разные лады кричат ей в дверь, которая скоро открывается. Верховская появляется с милым, добрым выражением лица и садится читать «Записки Пиквикского клуба» или что-нибудь в этом роде и вместе с воспитанницами заливается громким смехом. Также любили мы слушать ее рассказы о том, что она видела в театре, или то, что ей удалось только что прочитать. Иногда эти чтения, которые мы обожали, это мирное отношение к нам Верховской продолжалось месяц-другой, и мы просто блаженствовали. Но вдруг все менялось как по мановению волшебного жезла.
Был праздничный день, и мы после обеда пришли в дортуар. Верховская заявила нам, что будет читать, позвала всех в свою комнату, насыпала в передник каждой из нас по горсти орехов и сластей и приказала садиться тут же. Комнаты классных дам были невелики, и мы разместились не только на ее немногих стульях и диванчике, но и на полу. Прежде всего она начала передавать нам содержание одной комической сценки из балета. Пожевывая сласти и щелкая орехи, мы громко смеялись. Вдруг в комнату вваливается Тюфяева.
– Какая… можно сказать, умилительная картина! Вас тешит их обожание… Как вы еще молоды! А я так плюю, когда они меня обожают и когда ненавидят.
С первых слов этой дамы воспитанницы вскочили с своих мест.
– Кажется, я ничего не сделала недозволенного?
– Едва ли такое баловство дозволено у нас. Кроме вас, никто не позволяет себе таких фамильярностей с воспитанницами! Впрочем, я спрошу у инспектрисы, может быть, она это и одобрит… – И Тюфяева вышла из комнаты.
Верховская сделала вид, что это не произвело на нее никакого впечатления, взяла книгу и начала читать, но читала без выражения, и через несколько минут с деланным спокойствием заявила:
– Мне надо писать письма… Идите к себе…
Девочки вошли в дортуар и сгрудились в противоположном конце его, откуда их тихие разговоры не были слышны Верховской. «Может быть, еще и сойдет!» – шептала одна из них. «Держи карман!.. Всем достанется на орехи за орехи!..» – острила Ратманова. «Знаете что? Станем на колени перед образом и произнесем двенадцать раз сряду: “Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его…”», – предложила Ольхина. Это молитвенное воззвание, по мнению институток, должно было спасать от всяких напастей. Но на этот раз такое предложение вызвало только раздражение.
В дортуар вбежала пепиньерка и заявила Верховской, что m-me Сент-Илер зовет ее к себе. Она возвратилась, когда нас уже нужно было вести в столовую. После чая и молитвы, не разговаривая с нами, она быстро направилась в свою комнату и изо всей силы захлопнула дверь за собой. Мы рады были и тому, что она не оставалась с нами. Мы уже рассчитывали на то, что на этот раз, пожалуй, все пройдет благополучно. Однако на другой день она встала мрачнее тучи, объявила, что, несмотря на то, что это ее свободный день, она останется дома и будет с нами заниматься вечером.
Кабинет начальницы института и его предпоследняя хозяйка Елена Александровна Ливен. 1889 г.
Когда мы вошли в дортуар, она сухо проговорила, что обещала учителю французского языка заставить нас спрягать глаголы. Она была бледна, хваталась за голову, как от головной боли, и приказала нам садиться. Мы разместились на двух скамьях у стола, а она – у конца его, на стуле. Девочки по ее приказанию по очереди начали спрягать глаголы, но то и дело ошибались, как оттого, что плохо знали, так и оттого, что их пугал мрачный вид и расширенные зрачки Верховской. «Тупицы! Идиотки!» – злобно кидала она, причем одну воспитанницу так толкнула, что та стукнулась головой об стену, с другой сорвала передник и затем нескольких прогнала от себя толчками. Дошла очередь до меня. «Как? Как? Начинай снова! – топнув ногой, грозно закричала она на меня. Окрик Верховской заставил меня окончательно растеряться. – Ведь на днях еще я заставляла тебя спрягать тот же глагол!.. Ты знала… Значит, теперь понадобились фокусы, надругательства!..» Она встала со стула и так рванула меня за руку, что я громко закричала от боли.
Зазвонил колокол. Она приказала всем, кроме меня, отправляться в класс, чтобы идти с другими в столовую, а меня толкнула в угол, пиная при этом ногами, надавила руками на плечи так, что я грохнулась на колени; после этого она сейчас же ушла к себе. Когда через несколько минут она вышла оттуда, ее щеки горели багровым румянцем, глаза были налиты кровью, она схватила меня за плечи трясущимися от волнения руками, подняла с колен и начала срывать с меня передник и платье. При этом она осыпала меня обычною бранью классных дам на русском и французском языках, не щадя упреков и попреков за свои благодеяния: «Гадина!.. Проспала чуть не весь год!.. Я трудилась с нею, заставила ее догнать других!.. Вот и благодарность… Подлые, грязные душонки!». Ее руки так тряслись, что я вывернулась от нее и побежала с криком к двери. Она догнала меня, втянула в свою комнату, замкнула дверь и, вся трясясь, как осиновый лист, продолжала срывать принадлежности моего туалета, но от волнения это ей не удавалось, и она схватила уже заранее приготовленный жгут и ну осыпать меня ударами по лицу, плечам, голове. Вероятно, она сильно избила бы меня, но в эту минуту снизу послышался шум, означавший, что воспитанницы встают из-за стола. Верховская бросила жгут и вдруг сунула мне кружку с водой и полотенце, вероятно желая заставить меня вытереть лицо. Но я бросила кружку об пол с криком: «Я все скажу… родным напишу… не смеете драться!».
Когда воспитанницы вошли в спальню, я, рыдая, начала рассказывать им об истязании, только что совершенном надо мною. Чтобы Верховская могла слышать, я нарочно выкрикивала во все горло, но спазмы душили меня, и я бросала только отдельные слова. Наконец я сорвалась с своего места, подбежала к образу, упала на колени и, захлебываясь слезами, во всеуслышание произносила клятву перед богом о том, что с этой минуты я даю слово вечно быть «отчаянной», дерзить и грубить всем подлым дамам, а этой злюке, этой змее подколодной более всех, и призывала в свидетели подруг! При тогдашней моей умственной и нравственной неразвитости эта клятва долго терзала меня, и я не могла отделаться от нее даже будучи взрослой, несмотря на то что выполнять ее для меня было крайне тяжело, и в конце концов я уже начала сама сомневаться в том, следует ли мне быть ей верною.
Однако Верховская была настолько тактичною, что не давала мне повода дерзить ей. Она, конечно, слыхала мою клятву, знала по выражению моего лица, что я начала крайне враждебно относиться к ней, но она больше не обращала на меня ни малейшего внимания, перестала спрашивать у меня уроки, не заставляла меня читать, не подзывала к себе, старалась не произносить моего имени, – одним словом, совершенно оставила меня в покое. Но зато я начала дерзить m-lle Тюфяевой и другим классным дамам и скоро почти официально была причислена к разряду «отчаянных».
За громкий разговор Тюфяева тянет меня к доске, я не упускаю случая сказать ей что-нибудь в таком роде: «Вам не дозволено вырывать у нас рук».
– Будешь стоять у доски два часа!
– Я скажу завтра же учителю, что вы не даете мне учиться…
– Сбегай на нижний коридор, попроси солдата купить мне хлеба, – обращается ко мне кто-нибудь из подруг. Если я указываю, что по площадке нижнего коридора только что проходила классная дама, мне обыкновенно возражают: «Какая же ты отчаянная, если не можешь сделать и этого?». Трясусь, бывало, от страха, но употребляю все усилия, чтобы не обнаружить его перед другими, и, проклиная свою злосчастную долю, пускаюсь в опасное предприятие из страха погубить свою репутацию «отчаянной». Мои похождения далеко не всегда увенчивались успехом, может быть потому, что быть «отчаянной» не было моим призванием: меня то и дело ловили на месте преступления и наказывали. Но я продолжала соблюдать неизменную стойкость и верность принципам «отчаянной», что навлекало на мою голову не только наказания, но и приносило мне душевные терзания; тем не менее, все мои выходки и дерзости начальству я старалась делать с веселым видом, желая показать, что мне все нипочем.
После описанного выше происшествия Верховская заметно становилась все более оживленною и веселою, все реже нападали на нее припадки вспыльчивости и гнева, да и они не проявлялись уже в столь острой форме. Однако и в наступившие теперь длинные периоды своих любезных отношений с воспитанницами она уже более не усаживала их в своей комнате и не оделяла сластями, – это, видимо, было запрещено ей тогда же инспектрисой. Теперь, когда она читала с воспитанницами, я уходила на другой конец дортуара и садилась на табурет, но она мне не делала никаких замечаний по этому поводу. Ее безоблачное настроение сделалось наконец обычным явлением, и она заявила нам, что выходит замуж и скоро навсегда оставляет институт.
Инспектриса, ее характер и значение
Как легко было классной даме оклеветать воспитанницу. – Последствия институтской конфузливости. – Посещение лазарета императором Александром II
Кто был непосредственною начальницею Александровской половины Смольного? Кто управлял штатом служащих, начиная от классных дам и кончая горничными? Начальница Леонтьева была верховною главою двух институтов, но если бы она даже захотела, то не имела бы возможности вникать во все, что делалось в Александровском институте, тем более что она жила на Николаевской половине. Наша инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», по официальному своему положению была нашею прямою начальницею. Но Леонтьева была слишком властолюбива, чтобы выпустить что-нибудь из своих рук. Этому содействовала и полная бесхарактерность m-me Сент-Илер, оказавшейся марионеткою в руках начальницы. Леонтьева не довольствовалась тем, что давала тон и направление двум институтам и стояла на страже консервативных начал, но требовала, чтобы наша инспектриса докладывала ей о всякой мелочи, о шалостях и грубости воспитанниц, об интригах классных дам, о каждом мало-мальски выходящем из общего уровня происшествии, о сомнительном, по ее понятиям, слове учителя, – решительно обо всем.
При малейшем желании инспектрисы уклониться от навязанной ей роли старейшая из наших классных дам, Тюфяева, без церемонии угрожала ей тем, что она сейчас же обо всем донесет начальнице, и, не давая той опомниться, быстро приводила в исполнение свою угрозу. Но и при своем подчиненном положении инспектриса могла бы все-таки настоять на том, чтобы, например, эконом сокращал свои алчные аппетиты и не так быстро наживался на счет здоровья воспитанниц, могла бы она требовать и смены классной дамы, зарекомендовавшей себя возмутительным обращением с детьми. Одним словом, если бы она не могла сделаться вполне самостоятельною, на что ей давало право ее положение, но для чего нужно было обладать мужественным характером, все же она могла бы быть чем-нибудь полезною воспитанницам. Но m-me Сент-Илер ни в каком отношении не умела себя поставить как следует и приносила воспитанницам скорее вред, чем пользу. Этому не поверил бы тот, кто имел возможность лично узнать ее (но не в качестве инспектрисы), – такое производила она на всех чарующее впечатление.
Умная и для своего времени весьма образованная, по натуре гуманная, миролюбивая, добрая, деликатная, даже сердечная и любящая детей, она сохранила и под старость какое-то элегантное изящество, следы поразительной красоты и представительности. Но как инспектриса она не умела дать отпора никому, не могла никого защитить и была в подчинении у своих же подчиненных, даже как-то боялась их всех. Это происходило не оттого только, что она лишена была твердой воли, но, видимо, и оттого, что она боялась потерять место инспектрисы, дававшее ей возможность существовать, содержать и воспитывать своих детей, которых она боготворила. Болезненной, вечно страдающей жестокими мигренями, ей также, видимо, сильно хотелось тихо, покойно, без дрязг и историй доживать остаток своих дней.
M-me Сент-Илер была вполне осведомлена относительно всего, что у нас творилось. Иначе и быть не могло: она посещала классы и дортуары по нескольку раз в день, ежедневно встречалась с классными дамами, вечно враждовавшими между собой и доносившими ей друг на друга, а еще чаще на воспитанниц, и, таким образом, имела полное представление об их нравственном и умственном убожестве, но у нее не хватало мужества решительно запретить классной даме делать то или другое, указать кому-нибудь из них на ее поведение, предосудительное для воспитательницы. То одна, то другая из них прибегала к ней с жалобой на одну из воспитанниц. М-те Сент-Илер не входила в разбор дела, не доискивалась того, кто из них прав, кто виноват. Она немедленно звала к себе обвиняемую и мягко журила ее в таком роде: «Это нехорошо, дитя мое… Это меня огорчает!.. Надеюсь, что это больше не повторится!». Она была слишком умна и не могла думать, что вся ее обязанность инспектрисы, вся ее педагогическая мудрость должны были ограничиваться лишь подобными внушениями. Таким образом, m-me Сент-Илер, несмотря на свою личную безусловную порядочность, мягкость и доброту, была особой с совершенно ничтожным характером. Вот потому-то грубость и произвол классных дам, особенно в младших классах, проявлялись при ней с такою жестокостью, как ни при какой другой инспектрисе.
Не было примера, чтобы самая отчаянная воспитанница когда-нибудь сказала «maman» какую-нибудь дерзость. Да она никогда и не вызывала на это: со всеми нами она обращалась в высшей степени вежливо и деликатно, а дежурным (две воспитанницы старшего класса по очереди сидели в ее комнатах в внеурочное время для разных поручений, например позвать к ней ту или другую классную даму или передать что-нибудь от ее имени) она выказывала лишь ласку и внимание. Хотя она ни в одной области институтской жизни не приносила существенной пользы, но воспитанницы любили ее уже за одно то, что она представляла полную противоположность классным дамам; к тому же, будучи умственно неразвитыми, мы, особенно в младшем классе, как-то мало думали и разговаривали о том, кто виноват в нашем тяжелом положении.
Прием родственников происходил у нас два раза в неделю: по воскресеньям с часу до трех и по четвергам с шести до восьми часов вечера. Воспитанницы, ожидавшие родственников, расхаживали по парам вокруг зала, где сидели те из них, к которым уже пришли родные. Посреди залы прогуливались дежурные дамы и пробегали дежурные воспитанницы.
В первые годы моей институтской жизни меня посещал мой дядя[46] с своею женою – единственные родственники, которые были у меня тогда в Петербурге. Эти посещения приводили меня в восторг. Материальное положение моей матери было крайне тяжелое в это время: четыре-пять рублей в год, которые она высылала мне, все без остатка уходили на удовлетворение главных моих потребностей, но их далеко не хватало даже на это, а о том, чтобы затратить хотя несколько копеек на увеличение моего скудного пищевого пайка, я не смела и думать. Но меня еще более угнетала мысль, что моя бедность заметна для всех, что на меня с презрением смотрят за это классные дамы. Даже в самую откровенную минуту с наиболее любимыми подругами я никогда ни единым словом не проговорилась о тяжелом материальном положении моей семьи. Посещение меня богатыми родственниками сильно помогало мне сбивать с толку окружающих насчет моего материального положения, но, конечно, потому только, что классные дамы и подруги судили о достатке людей по внешности, не имея представления об их взаимных отношениях. Мой дядя, важный генерал, грудь которого была украшена бриллиантовой звездой и орденами, и его жена, в модном туалете, приезжали ко мне в блестящей карете, с лакеем на запятках, который в то время, когда они сидели у меня, стоял в нашей передней, нагруженный их верхним платьем. О, все это так импонировало в институте, производило такой фурор, что классные дамы не решались с улыбкой сожаления или презрения, как они это делали относительно некоторых моих подруг, высказывать мне замечания насчет моего дяди, а между тем он своим поведением то и дело нарушал институтские правила. Наши родственники в приемной должны были разговаривать с нами тихо или вполголоса, мой же дядя, будучи человеком в высшей степени экспансивным и смешливым, не только громко разговаривал со мной, но от времени до времени его неудержимый смех гулко прокатывался по всей зале.
– А это кто же такой? Да ведь это настоящая жаба! – вдруг вскрикивал он.
Я наклонялась к дядюшке и начинала объяснять ему, что это классная дама, что если это дойдет до ее ушей, мне сильно достанется от начальства.
– Начальство? Это твое начальство? – И дядюшка сейчас же менял тон. Хотя глаза его продолжали смеяться, но он строго говорил мне, грозя пальцем:
– Смотри у меня, Элизэ!.. Начальство – уважать прежде всего! Чтобы никто о тебе дурного слова мне не сказал.
Однако это не мешало моему легкомысленному дядюшке сейчас же делать вслух новое, еще менее лестное замечание о какой-нибудь другой классной даме. Зато неизменно восторгался он внешностью нашей представительной, красивой инспектрисы и однажды, не будучи в силах совладать с своими чувствами, подошел к ней и с величайшей галантностью выразил ей свое глубочайшее уважение. Как бы то ни было, но в то время, когда другим воспитанницам после посещения родственников классные дамы зачастую делали замечания, вроде следующих: «Извольте предупредить вашего брата, что у нас не принято разговаривать так громко; потрудитесь передать ему, что это крайне неприлично!..» – мне никто никогда ничего подобного не говорил.
Посещения дяди доставляли мне удовольствие не только потому, что он являлся ко мне в блеске военного величия и богатства, и не потому, что он приносил мне безделушки, вроде красивых альбомов, шкатулочек, дорогие конфеты, но и потому, что, будучи добрым человеком и прекрасным родственником, он был ко мне очень нежен, и я чувствовала всю искренность его привязанности. К тому же в то время, когда мои подруги жаловались на то, что их родственники не интересуются «институтскими историями», дядя подстрекал меня рассказывать их, и в такие минуты то и дело раздавался его раскатистый смех.
Когда шел второй год после того как я перешла в старший класс, дядя как-то письменно известил меня о том, что мой младший брат[47], окончив курс в провинциальном корпусе, переведен в петербургский дворянский полк[48], что теперь он будет часто посещать меня и в первый воскресный прием явится ко мне вместе с ним.
В тот день, когда я, ожидая родственников, вошла в залу, дядя уже направлялся ко мне, а сзади него следовал молодой человек, – я поняла, что это был мой младший брат, Заря. Когда он поднял на меня глаза, я тотчас узнала его, хотя долго не видала, и к моему сердцу, окаменевшему в атмосфере казенщины, вдруг, неожиданно для меня самой, прилила теплая струйка крови, и я, забыв институтский этикет, со слезами бросилась в его объятья.
– Ты знаешь, – обратился дядя к брату, когда мы несколько успокоились после первых минут свидания, – они ведь здесь обожаниями занимаются… обожают даже сторожей, ламповщиков…
Превратившись в настоящую институтку, я с институтским гонором и с институтскими понятиями о чести энергично отрицала это обвинение, с наивною гордостью выставляя на вид, что у нас никто еще никогда не обожал никого ниже дьякона, что все это могло быть в других институтах, но никак не у нас.
– Да это бесподобно! – хохотал дядя. – Чем же выражается у вас это обожание?
Я начала рассказывать о том, какие слова кричат обожаемым учителям, как им обливают пальто и шляпу духами, и при этом указала, что воспитанница, сидевшая в ту минуту близко от нас, обожает учителя рисования, что у него под носом пятно от табака, что он нюхает его, как только выходит из класса, а на лбу у него громадная грязная бородавка.
– Как, вы обожаете и безобразных, и старых, и даже неопрятных?
Я очень удивилась такому вопросу и объяснила, что кроме таких учителей у нас и нет почти других.
– Ну, а священнику как вы выражаете свое обожание?
– Адоратрисы в первый день Пасхи вместо яиц дарят ему красиво вышитые шелками мячики, натирают духами губы, когда христосуются с ним… – При этом я сообщила, что одна воспитанница призналась священнику на исповеди, что она обожает его как бога. Он рассердился на нее, сказал, что она превращает исповедь в забаву, и объявил, что лишает ее причастия. Она испугалась, что это узнают классные дамы, умоляла его простить ее и не выходила из исповедальни до тех пор, пока не выпросила у него прощения.
– Как это все нелепо, глупо и пошло! – вдруг произнес мой брат[49]. Дядя очень рассердился на него за эту ненужную с его стороны серьезность и просил его оставить в неприкосновенности мою наивность. Чтобы дискредитировать брата в моих глазах, дядя, хотя и шутливо, сообщил мне, что мой младший брат Заря и в подметки не годится старшему, Андрюше, который оказывается настоящим бравым офицером, лихим служакою, дамским кавалером, чудесным танцором, а потому, наверно, сделает блестящую военную карьеру. Что же касается брата Зари, то, по словам дяди, он напрасно и числится-то военным, так как день и ночь корпит над книгами. Он тут же начал советовать ему перейти в военную академию, просил не навязывать мне книг, не «развивать меня», как это делают теперь многие молодые люди, и говорил, что это совсем не нужно девушке, что ее прозовут за это «синим чулком».
Я успокоила дядю, говоря, что не люблю читать, что наше начальство совсем не обращает внимания на наше учение, что оно следит только за нашим поведением.
– Хвалю ваше начальство! Очень хвалю! Действительно, девушке нужна только нравственность…
Как только дядя распростился с нами и мы остались вдвоем с братом, он заметил, что для дочерей дяди, как для богатых девушек, может быть, и ничего не нужно более, как только заботиться о своей нравственности, но что мне, бедной девушке, очень даже не вредно подумывать о том, чтобы запастись знаниями.
Эти рассуждения брата мне напомнили внушения матери о бедности, которые она так часто любила делать нам, своим детям, о чем я в институте старалась забыть и уже почти достигла этого. И вдруг брат, который навестил меня в первый раз после долгой разлуки, напоминает мне об этом! Замечания брата как-то сразу охладили мое теплое, родственное чувство к нему, явившееся у меня при встрече с ним в первую минуту. На его вопрос, что мы проходим у преподавателя словесности, я с гордостью отвечала ему, что Лермонтов изложен у нас на восемнадцати страницах, а Пушкин даже на тридцати двух. Из ответов, которые я давала брату, он пришел к правильному заключению, что я не читала ни одного произведения наших классиков.
Мария Павловна Леонтьева (урожденная Шипова) (1792–1874) – начальница Смольного института благородных девиц в 1839–1875 годах, статс-дама российского императорского двора
– Какой у вас дурацкий учитель литературы! Вы, видимо, и выучились здесь только обожанию!
Хотя я тяжело страдала от уклада институтской жизни и от всего его режима, но миазмы стоячего институтского болота уже достаточно пропитали мой организм, и я считала низостью спустить брату его оскорбительное замечание об институте, которым я гордилась, несмотря ни на что, и об учителе, которого мы считали гениальным, а потому высокомерно возразила ему:
– Должно быть, не все такого мнения, как ты, о нашем институте, так как он всюду считается первоклассным в России!.. А наш преподаватель словесности и литературы Старов[50] – знаменитый поэт, перед которым преклоняются даже такие дуры как наши классные дамы.
– Такого знаменитого поэта в России нет, и классные дамы преклоняются перед ним только потому, что они дуры…
Это было уже слишком, и я вскочила, чтобы убежать от него, не простившись. Но брат вовремя схватил меня за руки. Он долго и нежно уговаривал меня, просил меня извинить его и в конце концов заявил, что я непременно должна заниматься чтением, что он будет носить мне книги. Я наотрез отказалась от этого предложения, говоря, что у нас столько переписки, столько обязательных занятий, что у меня нет свободной минуты. И, видя, что я все порываюсь уйти, брат переменил тему разговора. Он стал рассказывать мне о том, как матушка уже теперь мечтает приехать за мной в Петербург к моему выпуску, как она давно копит для этого деньги, откладывая по нескольку рублей в месяц.
– Такие жертвы! Зачем? – вдруг вырвалось у меня помимо воли.
– Как зачем? – с изумлением воскликнул брат. – Ты даже после долгой разлуки не желаешь увидеть родную мать?
– Конечно, я желаю видеть маменьку… Но если это так трудно для нее?.. Вероятно, дядя согласится взять меня к себе… Пожалуйста, уговори ее не приезжать ко мне… Право же, это вовсе не нужно… Уверяю тебя, что я устроюсь…
Мой брат заподозрил, что я имею какие-нибудь веские причины отказываться от приезда матушки, начал ловко выспрашивать меня, и я откровенно высказалась по этому поводу. Я напомнила ему о том, что матушка не только не стыдилась бедности, но чуть не хвасталась ею… Здесь же на это иначе смотрят. Что же делать!.. Не все могут быть одинакового убеждения, не все находят, что бедность – такое счастье, которым можно хвастаться! Если матушка приедет брать меня из института, она, наверно, явится сюда в тех же платьях, которые у нее были пошиты еще тогда, когда она привозила меня. А ведь с тех пор моды совсем изменились!..
«Как ты думаешь, – обратилась я к брату, – очень мне приятно будет, когда ее станут высмеивать здесь за ее туалеты?»
– Довольно! – вдруг произнес брат с страшным гневом, резко отодвигая свой стул. – Так вот чему тебя здесь научили! – Он весь побагровел и вышел, не простившись со мною.
Я не только не понимала всей глубины пошлости, сказанной мною, но и не умела хорошенько разобраться даже в том, за что на меня так рассердился мой брат; тем не менее, с каждым днем я все более и более страдала от разрыва с ним. Всю вину за эту ссору я сваливала на него. «Как это дико, – думала я, – он требует, чтобы все в институте придерживались такого же мнения, как наша матушка». Я нашла, что мои подруги были вполне справедливы, когда утверждали, что родственники и все живущие вне института никогда не смогут вполне понять институтку. Но это открытие не доставило мне ни малейшего утешения, и сердце мучительно ныло при мысли, что самый близкий мне человек в Петербурге, мой родной брат, не будет более навещать меня.
Мое мрачное настроение усиливалось еще вследствие письма, полученного мною от любимой сестры Саши через брата в первое свидание с ним. Хотя воспитанницы и их родственники обязаны были переписываться не иначе, как через классных дам, которые должны были перечитывать все отправляемые и получаемые ими письма, но громадное большинство пользовалось всяким случаем сообщаться между собою без всякого контроля.
До посещения меня моим братом я все реже и реже вспоминала о своем доме и о своих близких, но после ссоры с ним каждый раз, ложась в постель, я не могла отделаться от воспоминаний о прошлом. Мне приходили на память давно забытые, печальные события моего злосчастного детства или вырисовывалась то одна, то другая картина моего жалкого существования в институте: наказания классных дам с их воркотнею и грубою бранью, мои жестокие обязанности в качестве «отчаянной», муки раннего вставания, голода и холода. Память цеплялась за все самое мрачное в моей жизни, выдвигала лишь печальное. С невыразимою тоскою и с обидою на судьбу я все сильнее начала чувствовать весь ужас своего одиночества, всю свою заброшенность, полную оторванность от всего близкого и родного. И, уткнувшись ночью в подушку, чтобы не разбудить подруг, я рыдала, рыдала без конца. «Что из того, – думала я, – что у меня много подруг: я не могу ни с кем из них говорить о своих домашних делах!»
Боязнь, что кто-нибудь узнает о бедности моей семьи, мешала мне быть откровенной с кем-нибудь из них. Еще хуже обстояло дело по отношению к близким родным: я уже давно перестала отвечать на письма сестры Саши, а матери хотя и писала, но по казенному образцу. Матушка особенно строго следила за тем, чтобы я извещала ее о получении денег, которые она посылала мне – от четырех до пяти рублей в год. Такая сумма не могла удовлетворить мои насущные потребности, и это усиливало мое раздражение против нее. Я не умела беспристрастно обсудить свое положение, не была настолько умственно и нравственно развитою, чтобы критически отнестись к своему неблаговидному поведению относительно матери, и не видела необходимости заставить себя изменить свое отношение к ней.
Я не только писала ей «казенные письма», но преподносила ей, как мне, вероятно, казалось тогда, чуть не настоящие отравленные стрелы, но что, в сущности, было просто грубостью и пошлостью. Я пересылала письма не через классных дам, а по почте, через родственниц моих подруг. Вот одно из них:
«Считаю своею обязанностью известить Вас, милая маменька, что я приобщилась св. тайн, а потому простила всех-всех моих врагов. Я буду просить Вас, милая маменька, не беспокоить себя присылкою мне 4–5 рублей в год: их не всегда хватает на покупку помады, мыла, гребенок, щеток, а тем более ботинок, чтобы заменить ими казенные, которые падают с ног во время уроков танцев. Не могу из денег, которые Вы мне посылаете, купить себе и перчатки для балов. На балы эти хожу не потому, что их обожаю, а потому, что требует начальство, а над старыми, разорванными перчатками, которые я беру у подруг, когда они их бросают, все издеваются. На 4–5 рублей, которые Вы мне посылаете, милая маменька, я не могу заказать себе и корсета, который стоит здесь 6–8 рублей, а хожу в казенном, от которого у меня остаются ссадины и раны. Чтобы иметь еще хотя несколько рублей кроме тех, которые вы мне посылаете, я за плату беру шить у подруг передники и пелеринки. Воспитанницы, которых матери любят, посылают деньги дочерям не только на все, что здесь необходимо, но и на шитье всего, что мы тут обязаны себе пошить, такие воспитанницы все свое шитье отдают за плату горничным. Хотя мне очень стыдно быть вроде горничной, но я беру эту работу, и мне, как горничной, подруги платят за эту работу. Вы видите, милая маменька, что на Ваши 4 и даже 5 рублей я ничего не могу сделать, что мне здесь нужно, а потому, пожалуйста, не присылайте мне ни этих Ваших 4, ни даже 5 рублей».
Одно из подобных писем заканчивалось еще такой «адской иронией»: «Всех своих добрых, чудных, милых наставниц, то есть классных дам, я люблю от всего моего сердца и очень их уважаю, а одну из них, m-lle Тюфяеву, с которою Вы лично познакомились, когда отдавали меня в институт, я просто обожаю. В последние четыре месяца никто из родственников меня не навещал, но Вы не беспокойтесь, милая маменька, – я в этом совсем не нуждаюсь: мне очень здесь весело, чрезвычайно хорошо, я совершенно здорова, чего и Вам желаю».
Ни упреков, ни негодования от матушки за эти письма, чего я так жаждала в тайниках моей души, я не находила в ее ответах, а деньги она по-прежнему высылала в том же объеме.
Вот письмо сестры Саши, которое не только взволновало меня, но и повергло в самое тяжелое душевное настроение и в первый раз заставило подумать кое о чем, хотя ненадолго… Оно начиналось без обычного обращения:
«Только что перечитала твои письма к мамашечке. Очень благодарю тебя, что ты не отвечала ни на одно из моих писем. Если ты не желаешь или не умеешь писать по-человечески, я предпочитаю твое молчание. Твои письма, в которых нет ни чувства, ни правильной мысли, ни любви, ни даже простого сострадания и почтения к родной матери, – просто ужасны. Как, почему ты уже в 14 л. успела сделаться таким нравственным уродом? Твоя деревянность, пошлая язвительность и непристойная грубость относительно матери меня возмутили до глубины души и привели в отчаяние и ужас. И что это за выражения: “Я здорова, чего и Вам желаю”? Так пишут только солдаты! Хотелось бы мне знать, кто твои враги, которых ты прощаешь столь великодушно? Как ты не краснеешь от стыда, выставляя матери на вид и подчеркивая, что она посылает тебе только 4–5 р., что ты вынуждена шить за плату передники? Каждому, у кого нет средств, приходится работать. Матушка в этом отношении первая подает пример своим детям. Ты пытаешься сказать, что тебе деньги нужны лишь на самое существенное, а она со смерти отца очень часто отказывает себе и в существенном. Опомнись, брось свой деревянный и пошло-язвительный тон, солдатчину и казенщину и пиши матери так, как она этого заслуживает своею неутомимою деятельностью на пользу своих детей.
Родная моя девочка, дорогая моему сердцу сестренка! Заклинаю тебя всем, что еще осталось для тебя дорогого – памятью покойной нашей милой няни, твоею прошлого нежною привязанностью ко мне, воспоминание о которой до сих пор вызывает у меня слезы, – возьми себя в руки, постарайся расшевелить свой мозг, отогреть свое окоченевшее сердце добрыми воспоминаниями о близких тебе, проснись, моя дорогая, скажи мне откровенно, за что ты разлюбила меня, за что ты так безжалостно порвала со мною все отношения, что тебя так перевернуло в институте, отчего ты сделалась такою холодною, просто даже каменного, если судить по твоим письмам? Хотелось бы мне знать и то, как идут твои занятия, какими предметами ты особенно увлекаешься, какое чтение наиболее доставляет тебе удовольствия, о чем ты мечтаешь, что ты стремишься делать по окончании курса? Может быть, я задала тебе сразу слишком много вопросов, а между тем у меня остается все еще и еще, о чем бы хотелось тебя расспросить. Как ты прежде откровенно, чистосердечно болтала со мной обо всем, так и теперь без утайки, если только не разлюбила меня, расскажи о своем положении в институте, отвечай, как умеешь, на мои вопросы: будем думать сообща, как ослабить то тяжелое и горькое, что особенно тебя волнует».
Это письмо обожгло мое сердце и совершенно выбило из колеи. Прежде чем отправить ответ, я разорвала несколько писем к сестре и в первый раз почувствовала, что совсем не умею выражать своих мыслей, что они у меня какие-то спутанные, коротенькие, отрывочные.
«Обожаемая Шурочка!
Обиднее всего для меня то, что ты считаешь меня нравственным уродом! Неужели ты думаешь, что я могла тебя разлюбить? Не писала тебе потому, что хотела написать все как есть, но не умею выражаться. Сама не знаю, что со мною происходит… Лучше расскажу тебе сказку, которую я про себя придумала, тогда, может быть, ты скорее поймешь, что со мною.
Помнишь ли ты, дорогая Шурочка, когда ты бежала от Лунковских? – Когда мы легли с тобою спать, ты вдруг начала плакать, а я все приставала к тебе с расспросами, почему ты плачешь. Ты рассказала мне сказку: когда ты родилась, говорила ты, к твоей колыбели подошла фея, и так как она в тот день раздала новорожденным все свои лучшие дары – богатство, красоту, счастье, и у нее остались только слезы, то она и подарила их тебе. И к моей колыбели подошла фея, но не прекрасная красавица, а злая-презлая, и во все горло крикнула мне: “А ты будешь особой шиворот-навыворот!..” Предсказание злой феи сбылось: у меня решительно все выходит шиворот-навыворот. Ты говоришь: “Расшевели свой мозг, отогрей свое окоченевшее сердце”, но если я постараюсь это сделать, у меня все выйдет наоборот. Как перед богом, говорю тебе правду: хочу сделать одно, а делаю другое. Разве я желала тебя и маменьку обманывать, когда обещала вам хорошо учиться и вести себя, а вышло наоборот.
Ты называешь меня “нравственным уродом”, но я не злюсь на тебя, – я это заслужила. Хотя твои слова страшно обидны для меня, но я по-прежнему боготворю тебя, всегда помню, что ты была для меня настоящею родною матерью. Однако, несмотря на то, что я тебя обожаю и преклоняюсь перед тобой как перед божеством, я прошу тебя – не пиши мне писем. Один бог знает, как от этой моей просьбы у меня разрывается сердце, понимаю я и то, что это невежливо, даже гадко с моей стороны, а все-таки прошу – не пиши. Без твоего письма мне как-то покойнее жилось, а теперь не знаю, куда деться, минутами сердце стучит как молоток в груди. Вот уже первый шиворот-навыворот: хочу, чтобы ты писала, люблю тебя, и – прошу не писать.
Из всего, что я расскажу тебе, ты увидишь, что все у меня выходит шиворот-навыворот. Обещала хорошо учиться, а в кофейном классе так училась, что учителя перестали вызывать, а теперь, в старшем классе, – только немногим выше середины стою, да и то вывозят сочинения. Ты скажешь; что у меня память дурная, а я отвечу: «Не хуже, чем у других». Ты подумаешь, что я плохо понимаю, но ведь если бы я была тупицею, учитель литературы и француз не ставили бы мне за сочинения двенадцатибалльную отметку, да еще иногда с крестом. Нет, уж у меня все шиворот-навыворот выходит. Не умею объяснить, что со мною происходит, а сочинения могу писать, да еще делаю их не только для себя, но и для всех последушек: так называют у нас последних в классе. Значит, не тупица я и не лентяйка… Но перед тобой, мой обожаемый Шурок, я должна откровенно все говорить, – так вот очень часто действительно можно сказать, что я настоящая тупица, и что не учителя виноваты в том, что у меня какая-то пустота в голове. Наш учитель литературы Старов – гениальный человек и дивный поэт: мы очень серьезно изучаем у него литературу. Читает он нам много отрывков из различных произведений… И если бы ты знала, как он божественно читает! Черты его лица тогда становятся вдохновенными, поэтичными! Он так увлекательно говорит о красоте, об идеале! Я слушаю его так внимательно, что боюсь проронить хотя одно его слово, всегда выучиваю заданные им уроки, почти всегда отвечаю у него на 12. Но вот он как-то попросил меня изложить урок своими словами, – напутала, прямо вышла у меня какая-то галиматья, вообще как-то у меня ничего не остается в голове от лекций даже такого гениального преподавателя как Старов. Иногда мне кажется, что все это происходит со мною из-за того, что меня вечно терзают голод и холод. Прости, что такому идеальному существу, как ты, я говорю о таком низменном, но что же мне делать, если голод и холод перед тем как ложиться спать просто разрывают мне все внутренности… Но, может быть, все это и не от этого? Тяжело, тяжело, сама не знаю отчего!
А в поведении моем настоящий хаос: тут уж мой шиворот-навыворот выступает во всем блеске! Моя дортуарная дама Верховская еще в кофейном классе в такой день, когда она на всех была ужасно зла, вдруг несправедливо набросилась на меня, избила меня, унизила до последней степени, истерзала своею злостью всю мою душу, и я за это перед образом и перед всеми воспитанницами поклялась сделаться “отчаянной”. И до сих пор держу свою клятву: всем классным дамам говорю правду в глаза, а также дерзости, беру на себя опасные поручения. За это я на очень дурном счету у начальства, все классные дамы в голос кричат, что меня мало вышвырнуть из института. Ты понимаешь, Шурочка, что не могу же я перестать быть отчаянной, ведь я перед образом клялась, да и подруги заподозрят, что я хочу подлизываться к начальству… А если бы ты знала, как мне тяжело быть отчаянной, как я это ненавижу, но я это скрываю от подруг. Значит, уж моя судьба быть шиворот-навыворот! Шурочка, как тяжело, тяжело!
Ты спрашиваешь, о чем я мечтаю? Только о том, чтобы ты хотя на один день, хотя на один час приехала ко мне. Я бы положила на твои колени свою голову, ты бы гладила мои волосы, а я плакала бы, плакала так, что мне сразу стало бы легче.
Шурок, боготворимая, обожаемая сестра! Не прими за грубость, но прошу тебя, если ты не можешь посетить меня, не пиши мне больше: твои письма терзают меня, разрывают мне душу! Я гадкая, сама сознаю это, но на коленях умоляю тебя: прости меня, люби меня хотя немножко».
Когда через несколько недель после ссоры с братом Зарею мне сказали, что он пришел ко мне, я так обрадовалась, что в первую минуту не могла даже говорить с ним. Он не вспоминал о нашей размолвке, и на этот раз наше свидание прошло совершенно миролюбиво. Брат начал посещать меня почти каждую неделю. Я все более привязывалась к нему. Правда, от времени до времени меня бесили его насмешки над моими институтскими выражениями и взглядами, и у нас выходили маленькие стычки, но наши свидания никогда более не кончались формальною ссорою. Благодаря ему я менее сиротливо чувствовала себя в институте, и тяжелое настроение, особенно давившее меня одно время, несколько улеглось.
Однажды он заявил мне, что следующие две-три недели будет сильно занят и не сможет приходить ко мне. И вдруг, несмотря на это, в первое же воскресенье, когда уже оставалось не более получаса до окончания приема, воспитанницы закричали, что ко мне пришли. Сбежав с лестницы, я только что собиралась войти в залу, когда m-lle Тюфяева загородила мне дорогу.
– Кто пришел к тебе? – спросила она.
– Вероятно, дядя или брат, который ходил ко мне всю зиму.
– А еще ты никого не ждешь?
– Никого, – отвечала я и бросилась вперед, не замечая, что и она идет сзади по моим следам. Да это и трудно было заметить за массою публики у входа в залу, из которой уже многие выходили, простившись с своими родственницами. Не успела я сделать и нескольких шагов, как увидела своего младшего брата.
– Рекомендую тебе моего большого приятеля, – сказал он мне, указывая глазами на стоявшего подле него красивого, стройного офицера.
Я отвесила ему реверанс.
– Этот молодой человек, – продолжал брат, – давно стремится познакомиться с тобою…
Ответом на это с моей стороны был опять реверанс.
– Я много слышал о строгих нравах вашего института, – заговорил офицер, – но мне так хотелось познакомиться с сестрой моего лучшего друга, и я под его покровительством решился проникнуть в ваш строгий монастырь.
Я опять отвесила ему чинный реверанс.
– Боже мой, сестренка, неужели ты не узнаешь меня, твоего старшего брата? Неужели я так изменился?
Мистификация кончилась, мы наконец расцеловались и уселись по местам.
Мой старший брат, совершенно неожиданно даже для себя, только утром в этот день приехал в Петербург, остановился у дяди, который дал свой экипаж, чтобы мои братья навестили меня. Они не могли пробыть у меня долго, так как должны были возвратить экипаж дяде, который ехал куда-то по спешному делу, а потому нам удалось очень мало посидеть вместе.
Как только после свидания с братьями я успела подняться в свой дортуар, передо мной выросла m-lle Тюфяева и, грозно указывая на меня трагическим жестом, закричала во все горло:
– Я всем вам строго запрещаю приближаться и разговаривать с этою грязною тварью! Она опозорила наше честное заведение!
– Как, я? – не понимая, в чем дело, пораженная ужасом и изумлением, спрашивала я только потому, что Тюфяева прямо указывала на меня.
– Ах ты фокусница! Нет, сударыня моя, ты прекрасно знаешь, что ты настоящая чума института! Но теперь, слава богу, от тебя уже избавятся навсегда… – И, снова обращаясь к воспитанницам, она продолжала:
– Она сама, понимаете, сама сказала мне (при этом ладонью руки она ударяла себя в грудь), что ждет своего дядю или брата, которых мы знаем. Я собственными ушами слышала (она подняла обе руки к ушам), как ее брат, указывая на приведенного им офицера, рекомендовал его как своего товарища, как этот офицер говорил ей, что он боялся проникнуть в наш строгий институт и решился на это только при благосклонном покровительстве ее братца. А эта дрянь действительно сначала отвешивала ему только реверансы, а потом нашла это лишним и бросилась в его объятия… Сама видела, как они целовались взасос, как они несколько раз принимались целоваться!.. И все это на моих глазах!.. Я, не отходя, наблюдала их! Почти все время стояла в нескольких шагах от них.
В коридоре Смольного института. 1889 г.
– Это ложь! Подлая ложь! Вначале я действительно не узнала старшего брата… Я не видала его более пяти лет… А когда узнала…
– Молчать, сволочь, паршивая овца, чума, зараза! – И она, как из рога изобилия, продолжала осыпать меня французскими и русскими ругательными словами, а от времени до времени подскакивала ко мне, топала на меня ногами и кричала:
– Я сейчас же доложу обо всем инспектрисе!.. – и быстро вышла из дортуара.
В это время мы были уже в старшем классе, и никто из моих подруг не придал значения тому, что она только что запретила разговаривать со мной. Напротив, все окружили меня и начали обсуждать «событие». Ни одна воспитанница не усомнилась в том, что Тюфяева оклеветала меня: поцеловать чужого мужчину, да еще при официальной обстановке, а тем более в приемные часы, было просто немыслимо для кого бы то ни было. Как я, так и мои подруги были одинаково убеждены, что доносу Тюфяевой начальство хотя и не поверит, но очень обрадуется, как удобному предлогу вышвырнуть меня из института за мою «отчаянность».
– Несчастная! Как ты решилась на такой ужас? – вскричала инспектриса, входя в дортуар в сопровождении Тюфяевой.
– Это ложь, maman! Клянусь богом, это клевета! Mademoiselle Тюфяева давно искала случая меня погубить! – рыдала я.
– Как ты осмеливаешься говорить это про твою почтенную наставницу?
В ту же минуту некоторые из моих подруг окружили m-me Сент-Илер и повторяли ей на все лады:
– Maman! Maman! Это был ее брат! Она его не узнала в первую минуту…
– Молчать! – дала окрик Тюфяева. – Видите ли, madame, – говорила она, обращаясь к инспектрисе и указывая на меня, – какое безнравственное влияние имеет она на свой дортуар! Они перебивают даже вас.
Но тут колокол позвонил к обеду. Это, вероятно, несколько облегчило неприятное положение нашей бесхарактерной maman. Уходя, она обернулась ко мне и произнесла:
– Когда ты обдумаешь свой ужасающий поступок и признаешь, как все это было ужасно с твоей стороны, ты можешь прийти ко мне сознаться в этом, иначе я не хочу и разговаривать с тобой…
– Но я клянусь всем святым, maman, что это был мой родной брат! Я не могу сознаться в том, чего я не делала, – говорила я, обливаясь слезами.
– А я перед образом клянусь вам, madame, – и Тюфяева повернулась в угол, где висел образ, – что все, что я сказала вам, истинная правда: все это я видела собственными глазами, слышала собственными ушами. Увижу, madame, кому вы поверите: мне ли, беспорочно прослужившей здесь более тридцати шести лет, или этой грязной девчонке, родной брат которой приводит к ней…
– О, mademoiselle Тюфяева! – торопилась перебить ее совершенно растерянная m-me Сент-Илер, хватая себя за голову и поспешно направляясь к себе.
Воспитанницы строились в пары. Когда я подошла к подруге, с которою должна была ходить в паре, Тюфяева подскочила ко мне и рванула меня за руку прочь от нее:
– Никогда не посмеешь больше ходить с другими! Всегда одна… и сзади всех… как настоящая зараза!
– Иуда! Клеветница! Клятвопреступница! Не сметь до меня дотрагиваться! – кричала я в исступлении, не помня себя от раздражения.
– Все, все это будет доложено начальнице! – шипела Тюфяева.
– Даже и то, чего нет! – громко хохотала Ратманова.
М-lle Тюфяева, желавшая изолировать меня от подруг, должно быть вследствие раздражения, забыла поместить меня за отдельным столом или, по крайней мере, поставить меня между колонн, что считалось для воспитанниц старшего класса одним из наиболее тяжелых наказаний, и я сидела на своем обычном месте. «Какой удар нанесет моей матери и сестре мое удаление из института! Да… для меня все теперь потеряно, но я, по крайней мере, должна защищать свою честь до последней капли крови!» – решила я. Но вот соседка под столом нажимает мою ногу и подсовывает записку под мой ломоть хлеба, но так, чтобы мне видно было написанное. Я читаю: «Тебя все равно на днях выгонят отсюда, пожалуйста, очень тебя просим, надерзи, по крайней мере, так, чтобы стены трещали». Меня это бесит. Я злобно толкаю руку, которая протягивает мне уже новую записку. «Эгоистки! Вместо того чтобы пожалеть меня, невинно опозоренную на всю жизнь, они только думают о себе, мешают даже сообразить, что делать!»
Когда мы возвращались из столовой в класс (я одна позади всех) и проходили мимо узкого коридорчика, который вел в покои инспектрисы, Тюфяева пропустила всех перед собою и встала у самого входа в комнаты maman, точно желая преградить мне дорогу к ней. Этим она, сама того не подозревая, дала неожиданный толчок моей мысли. Когда я, усевшись на классную скамейку, начала вынимать из пюпитра книги, но не для того, чтобы учиться, а чтобы что-нибудь иметь перед собой, Тюфяева закричала мне: «Не утруждай себя ученьем!.. На днях, моя драгоценная, тебя выгонят отсюда с позором!.. В свидетельстве будет прописано, за какие дела тебя выгнали… Ну, а теперь – сюда! Передник долой и стоять у доски до чаю!». Я беспрекословно исполнила ее приказание. Вдруг среди гробовой тишины раздался голос Ратмановой: «Удивительно, как некоторые личности не могут достаточно утолить свою злобу!».
Тюфяева не пожелала принять этого изречения на свой счет, проскрипела на французском и русском языках еще несколько ругательств по моему адресу и победоносно вышла из класса пить кофе, – это означало, что мы, по крайней мере час, будем наслаждаться ее отсутствием. Я взяла мел и написала на классной доске: «Согласно вашему заявлению и благодаря вашей грязной клевете я считаю себя уже уволенной из института, а потому и не нахожу нужным долее подвергать себя вашему тиранству».
– Молодец, молодец! – кричала Ратманова, бросаясь ко мне, схватила меня за талию и начала кружить в вальсе. Я вырвалась от нее, надела передник и побежала к инспектрисе.
– Maman! – и я с воплем бросилась перед ней на колени. – Вы одна можете меня защитить! Умоляю, будьте мне родною матерью!
– Боже мой! Что же я могу сделать? Я просила mademoiselle Тюфяеву отложить эту историю хотя на несколько дней, подождать докладывать начальнице, но разве mademoiselle Тюфяева послушается кого-нибудь! Напротив, дитя мое, ты одна не только можешь помочь себе в этом деле, но и меня избавить от очень многих неприятностей… Если ты, при твоем строптивом нраве, бросишься на колени не передо мною, а перед mademoiselle Тюфяевой, будешь умолять ее простить тебя за все грубости и дерзости, которые ты ей делала, искренно пообещаешь ей исправиться, она тронется… Да, да, я уверена, она тронется твоим раскаянием…
Страшная душевная тревога, вызвавшая лихорадку, так что я минутами не могла попасть зуб на зуб, уже несколько часов удручала меня, а теперь еще новое предложение инспектрисы, столь унизительное, как мне казалось, для моего человеческого достоинства, возмутило меня до последней степени. Я как ужаленная вскочила с колен. Это новое оскорбление притянуло к моему сердцу всю кровь организма, всю горечь жестоких обид, весь огонь негодования моего вспыльчивого и неуравновешенного темперамента. Я совсем забыла об обязательном этикете относительно инспектрисы и о своем бесправном, рабском положении; к тому же, меня не оставляла мысль, что мне нечего более терять, и я бесстрашно начала говорить все, что приходило мне в голову.
– Maman! Вы требуете, чтобы я просила прощения; но как просить прощения в том, в чем я не считаю себя виноватой? Вы советуете упасть на колени перед особой, которую презирают все воспитанницы без исключения, а я, кажется, еще больше других… Я скорее дам разрезать себя на куски, но этого не сделаю! Да и к чему? Вы говорите: «Проси прощения за грубости», – но ведь в данную минуту mademoiselle Тюфяева обвиняет меня не за них. Вы даже сами не можете произнести того, за что она меня обвиняет, следовательно, сами не верите в справедливость ее обвинения. Я знаю, меня вышвырнут отсюда… Mademoiselle Тюфяева повторяет мне это каждую минуту, но за такую клевету я отомщу всем, всем без исключения! Я даю клятву богу, что отдам всю свою жизнь на то, чтобы отомстить всем, всем… Мой дядя всегда может иметь аудиенцию у государя… Я через него подам просьбу государю… И дядя расскажет ему, как здесь, вместо того чтобы защищать молодых девушек, на них взводят небылицы и выгоняют с позором! – Инспектриса вздрогнула при этих словах и подняла на меня глаза, но я не могла остановиться, не могла замолчать, – И здесь нет никого, кто бы защищал нас!.. Даже вы… вы, maman, которую все считают самою умною и образованною, самою доброю, Даже вы не желаете меня защитить, хотя прекрасно знаете, что я ни в чем не виновата!
Спазмы давили мне горло от рыданий, я не могла более говорить, опять бросилась на колени перед нею, опять повторяла то же самое на разные лады. Инспектриса молчала – потому ли, что сознавала справедливость моих слов, или потому, что считала дерзостью все сказанное мною, – мои заплаканные глаза не могли видеть выражения ее лица, но ее дрожащие руки вдруг опустились на мою голову, и я инстинктивно поняла, что она не считает дерзостью сказанное мною. Я припала к ее коленям и стала целовать ее руки со стоном: «О, maman, maman!». Наступило молчание, прерываемое только моим судорожным всхлипыванием. Наконец она проговорила, продолжая гладить мои волосы своими дрожащими руками:
– А ведь я до сих пор совсем не знала тебя! Горячка, горячка! Ах, дитя, твой пылкий нрав, доходящий до исступления, много горя, много слез готовит тебе в будущем! Я понимаю, почему тебя так ненавидят классные дамы, почему произошла эта история именно с тобою, а не с кем другим… – Она положительно не могла назвать того, что произошло, и сама, вероятно, не соображала, что, говоря таким образом, она этим самым подтверждает, что не верит взведенной на меня клевете. – Видит бог, что при всем желании я решительно ничего не могу тут сделать!
Вдруг у меня блеснула счастливая мысль написать дяде и просить его объяснить m-me Сент-Илер, кто у меня был сегодня на приеме. Я высказала ей это, и она, подумав, отвечала, точно обрадовавшись:
– Что же, напиши!.. Да… да, конечно, напиши… Может быть, это будет самым лучшим исходом для всех нас!.. Я отправлю твое письмо с горничною на извозчике, но, конечно, только в том случае, если ты сумеешь написать это без каких бы то ни было неделикатных выражений по отношению к mademoiselle Тюфяевой.
Мое письмо было кратко и объективно: я сообщала дяде о посещении меня братьями и объясняла ему, как и почему явилось подозрение у m-lle Тюфяевой, что мой старший брат совершенно посторонний для меня человек. Я умоляла дядю выяснить это дело сегодня же, так как m-lle Тюфяева заявила мне, что я за прием чужого офицера, которого, к тому же, поцеловала, буду немедленно уволена из института.
Когда я дописывала последние строки, в комнату вошла m-me Сент-Илер.
– Видишь ли, мое дитя, как ты наивна! Ты воображаешь меня такой всесильной, а я даже не могла упросить mademoiselle Тюфяеву, чтобы она подождала с этой историей хотя до завтра. Она уже отправилась к начальнице.
Хотя инспектриса внимательно прочитала мое письмо, но не сделала никаких возражений и моментально запечатала его, дала горничной на извозчика и приказала ей, не теряя ни минуты, отвезти его и вернуться обратно с ответом.
Несколько успокоенная, я отправилась в дортуар, где подруги рассказали мне, как Тюфяева, возвратившись в класс, заметила, что меня не было у доски, как она несколько раз прочитала мое послание к ней и объявила, что она сейчас же отправляется к начальнице доложить обо всем происшедшем.
Когда воспитанницы ушли в столовую пить чай, я опять направилась к инспектрисе. Наконец возвратилась и горничная. Когда она, по ее словам, подъехала к подъезду квартиры, занимаемой моим дядею, он садился в карету, чтобы ехать куда-то. Он взял письмо и пошел с ним наверх к себе. Когда он опять вышел на подъезд, то приказал горничной передать инспектрисе о том, что он едет к начальнице, а затем явится к ней. При этом он закричал кучеру: «Гони!».
Я целую вечность, как мне показалось, бродила по коридору, поджидая дядю. Наконец я увидала, что он поднимается наверх.
– Это что за грязная история? – строго спросил он меня, точно я была в ней виновата.
– Дядюшечка, дорогой! Пожалуйста, тише… Нас могут услышать… – И я быстро передала ему все, как было дело.
– Знаешь ли ты, глупая, что твои бабы могли меня скомпрометировать очень серьезно. Нет, этого я им не спущу! – И, нагибаясь к моему уху, он прибавил: – Твоей начальницей уже наступил на хвост… повизжит! Просто идол какой-то!.. Эту египетскую мумию в музей надо, а не двумя институтами управлять!.. – И он начал хохотать так, что все его грузное тело сотрясалось.
Дядюшкин смех был услышан в комнатах инспектрисы, и к нам выскочила горничная, вероятно для того, чтобы посмотреть, кто пришел. Я потянула дядю за руку, и мы вошли. При нашем появлении maman поднялась и, протягивая руку дяде, начала говорить о том, как она рада, что он поторопился приехать. Вероятно, теперь выяснится этот прискорбный случай, который…
Дядя более привык командовать полком, кричать, распоряжаться, чем вести светскую беседу. К тому же он был взбешен всем этим делом.
– Это не прискорбный случай, сударыня, а прямо, можно сказать… грязь! Я уже предупредил начальницу Леонтьеву, а теперь честь имею доложить вам, что буду считать долгом… священным долгом довести все это до государя императора. Моя жена – почтенная мать семейства, самое миролюбивое существо, но и она пришла в негодование, прочитав письмо племянницы. Она говорит, что порядочная воспитательница, заподозрив девочку в таком преступлении, не должна была обмолвиться ей об этом ни единым словом, даже виду не показать, а обязана была моментально написать мне, ее дяде, и сообщить о подозрениях, закравшихся у нее, требовать у меня объяснения относительно молодых людей, посетивших девочку. Но госпожа Тюфяева поступила как раз наоборот: с места в карьер она набросилась на мою племянницу и начала уличать ее в преступлении. А знаете ли, сударыня, какие бы последствия могло иметь это дельце? Оно наделало бы много шуму в городе, меня оно обрызгало бы грязью, а ее женская честь была бы навек загублена!.. В царствование императрицы Елизаветы Петровны – мудрейшая была государыня! – такой особе, как госпожа Тюфяева, отрезали бы язык…
– Генерал, генерал, ваше превосходительство! У нас не принято при воспитанницах так отзываться об их воспитательницах!
Вдруг дядюшка быстро и сердито обратился в мою сторону и закричал на меня во все горло:
– Как ты смеешь, постреленок, тут торчать? Смей у меня не уважать начальство!
Я как ошпаренная выскочила в другую комнату, но ничего не потеряла из интересного для меня разговора. Голос дядюшки раздавался на всю квартиру.
– Но чем же я виновата в этой истории? Я умоляла mademoiselle Тюфяеву не докладывать о ней начальнице, по крайней мере, несколько дней, но все было напрасно…
– Вы, сударыня, могу вас уверить, вы во всем виноваты. Разве можно держать таких недостойных воспитательниц? Вы – начальница этого заведения, и вдруг позволяете подчиненной сесть себе на голову! Вы должны держать подчиненных в ежовых рукавицах, чтобы они и пикнуть не смели, а вы их распустили! Это большое преступление! Вы извините меня, сударыня, я простой русский солдат, много раз бывал под градом неприятельских пуль, верою и правдою служу моему обожаемому монарху и правду-матку привык резать в глаза… Правда, я человек горячего характера, но ведь эта история может взорвать хоть кого! – Но тут он начал смягчаться, подробно рассказал, как сегодня приехал мой старший брат, как он дал ему карету, чтобы тот вместе с своим младшим братом навестил меня, как они быстро возвратились и т. д. – Верьте, сударыня, я отношусь к вам с чувством глубочайшего уважения и обвиняю вас только в излишней слабости и попустительстве… Для меня несомненно, что все это произошло от вашей ангельской доброты.
Инспектриса, несмотря на свою слабохарактерность, все-таки не позволила бы наговорить всего того, что ей пришлось выслушать, но ее, как она мне сама сознавалась уже после моего выпуска, вынуждал к этому страх, что крутой и шумливый генерал, чего доброго, действительно доведет до сведения государя эту историю, и что в таком случае она наделает много неприятностей институтскому начальству. Как только она могла прервать поток горячих речей моего дядюшки, она начала высказывать ему, что вполне понимает справедливость его негодования, и уже по тому, как он горячо принял к сердцу интересы своей племянницы, она видит, какою возвышенною, благородною душою он обладает.
Дядюшка не всегда мог устоять перед лестью. Он вскочил с своего места, протянул руку и с чувством произнес:
– Как же иначе? Моя племянница – дочь моей родной сестры, сирота, я единственный ее защитник и покровитель! Но вы сами, сударыня, как я уже тысячу раз говорил племяннице, чудная, святая женщина… она должна питать к вам только благоговение и восторг, а вот начальница Леонтьева… простите… того… н-да…
Инспектриса, видимо, до смерти перепугалась, что такой невоздержанный на язык человек, каким был мой дядя, может и относительно начальницы высказать что-нибудь неподходящее здесь, где даже стены должны были слышать по отношению к ней лишь славословия, а потому живо перебила его.
– Я вас прошу, генерал, самый великодушный, самый лучший из всех генералов: не доводите этой истории до государя… Убедительно прошу вас об этом! Ну для чего вам это? Дайте же мне честное слово, что все это останется между нами.
– Мне самому приятнее миролюбиво покончить с этой историей… Но я дам вам честное слово не беспокоить ею государя только в том случае, если вы поручитесь мне, что госпожа Тюфяева за свою же вину не устроит ада бедной девочке.
– О, это я беру уже на себя! – воскликнула инспектриса.
Я ожидала, что при этом удобном случае она сообщит дяде о моем дурном поведении вообще, но она тут, как и всегда, проявила доброту и не упомянула даже о моей «отчаянности». Вообще наша инспектриса бывала даже великодушна, если только обстоятельства в ее тяжелом положении не заставляли ее действовать вопреки ее природным склонностям.
Когда дядя попросил ее позвать меня, я моментально прошмыгнула через коридорчик на площадку к окну и приковала к нему свой взор, дабы удалить всякое подозрение насчет того, что я слышала разговор. Когда я вошла, дядя встал со стула, подошел ко мне и, грозно размахивая перед моим носом своими двумя пальцами, произнес с адскою суровостью наставление в виде целой речи, по обыкновению не заботясь в ней ни о последовательности, ни о логике, а нередко пренебрегая даже здравым смыслом.
– Я требую от тебя прежде всего полного и безусловного повиновения начальству. Ты должна любить его, уважать всем сердцем, всем помышлением, молиться ежедневно за него богу, точно так же, конечно, и за mademoiselle Тюфяеву. Как ты думаешь, зачем все это она сделала? Ей было приятно, что ли, поднять всю эту истерию? Сделала она это, милый друг, для того, чтобы блюсти за твоей нравственностью! Но если в твою головенку когда-нибудь заползет дикое и пошлое желание на самом деле поцеловать чужого мужчину, в чем тебя заподозрила mademoiselle Тюфяева, потому что у тебя чертики бегают в глазах… берегись! Тогда… тебя не придется и исключать из института… О нет, я этого не допущу! Понимаешь ли ты… я этого никогда не допущу! (При этом он страшно расширил глаза.) Я в ту же минуту явлюсь сюда и своими руками… своими собственными руками оторву тебе голову… задушу… убью!
Все это он говорил уже с кровожадно-свирепым выражением лица, наглядно показывая руками все степени казни, которые я должна буду испытать.
Когда мы выходили с ним из коридорчика, какая-то фигура быстро промелькнула мимо нас и скрылась. Я догадалась, что то была Ратманова, подслушивавшая и подглядывавшая за всем, что происходило у инспектрисы.
Я вошла в дортуар, – все уже были в постелях. Ратманова с хохотом высвободилась из-под одеяла, совершенно одетая, и забросала меня вопросами; остальные приподнялись с постелей и тоже торопили меня рассказывать им подробно и по порядку все, что было. Но я совсем не была расположена к болтовне и отвечала им вяло и неохотно, что удивляло подруг, находивших, что я должна была бы иметь торжествующий и ликующий вид. Испуг, державший меня столько часов в напряженном ожидании неминуемой беды, и сознание, что только счастливый случай помог мне выкарабкаться из нее в первый раз в жизни, во всем потрясающем ужасе показал мне все мое ничтожество перед грозной силой нашего начальства, которое завтра же может сделать со мною все, что угодно. Я бросилась в постель и, уткнувшись в подушку, горько рыдала. Вероятно, те же мысли пришли в голову и моим подругам: всхлипывание, сморкание и откашливание раздавались со всех сторон… Только Ратманова, менее всех поддававшаяся чувствительности, громко изрыгала самую отборную брань по адресу классных дам вообще и Тюфяевой в особенности.
Группа воспитанниц в дортуаре. 1889 г.
На другой день инспектриса отправилась к начальнице. Как и что они при этом обсуждали, для нас осталось неизвестным; не узнали мы и того, о чем разговаривала инспектриса с Тюфяевой, которую она на этот раз продержала у себя очень долго, но, вероятно, последняя не получила для себя ничего утешительного: несколько дней после этого события ее физиономия выражала какую-то пришибленность, и она сидела в классе совсем тихо, безучастно относясь даже к тому, что воспитанницы шумели в неурочное время. Во всяком случае, роль добровольного полицейского, которую эта истинная злопыхательница исполняла так усердно, была временно приостановлена. Ко мне она совсем не придиралась более, даже не произносила моего имени.
Что же касается инспектрисы, то, вежливая и ласковая со всеми, она стала относиться ко мне с особенным вниманием. Однажды она заявила мне, что просит меня приходить к ней в послеобеденное время всегда, когда я буду свободна от уроков. В такие вечера она заставляла меня читать вслух Вальтер Скотта во французском переводе, объясняла все для меня непонятное, расспрашивала о членах моей семьи. Эти два-три месяца, когда я по разу, по два в неделю приходила к ней по вечерам, были самым светлым воспоминанием во всей моей институтской жизни дореформенного периода. С материнским участием и лаской она как-то просила меня объяснить ей, почему до сих пор я была «отчаянной», почему только в самые последние недели на меня перестали жаловаться классные дамы.
– Мне кажется, – говорила она, – ты просто напускаешь на себя эту отчаянность!.. Я сама заставала тебя после твоих «отчаянных выходок», когда ты положительно имела вид d’une personne arrogante… (высокомерной личности – франц.).
– Потому что я ни от кого не слыхала здесь доброго слова!.. Вы говорите, maman, что за последнее время на меня не жалуются… Когда я стала к вам приходить… вы так добры ко мне… я сама чувствую, что теперь злость моя начинает проходить…
М-те Сент-Илер громко рассмеялась, я сконфузилась, но не понимала всей наивности моего признания. Я не умела лучше сформулировать то, что как-то неопределенно бродило в моей голове. Только гораздо позже я могла бы ответить ей, что весь строй нашей жизни, с ее казенщиной и формализмом, представлял стоячее болото, которое могло выращивать только болотные растения. Не имея книг для чтения, ничего не извлекая из преподавания для развития ума, лишенные человеческого руководительства наставниц, воспитанницы не могли укрепляться в добрых чувствах, у них росло лишь раздражение, развинчивались нервы, вырабатывались индифферентность ко всему и рабские чувства или отчаянная грубость.
– Убедительно прошу тебя, мое дитя, попробуй быть менее дерзкой, уверяю тебя, и классные дамы будут тогда к тебе более снисходительны.
Какою любовью, каким восторженным обожанием забилось мое сердце от этих непривычных для меня добрых слов!
– О, maman! Вы – святая! – вскричала я в исступленном восторге. – Я не стою поцеловать вашу руку. – И я в экстазе упала перед ней на колени и поцеловала край ее платья.
– Ах ты, восторженная головушка! – кинула мне maman, и я, переконфуженная от сказанного, бросилась бежать из ее комнаты.
Вскоре после описанных происшествий все обстоятельства институтской жизни начали влиять на ослабление моей отчаянности, задора и воинственности. Этому прежде всего помогало то, что мы перешли в так называемый выпускной класс, где наши воспитательницы уже менее придирались и реже наказывали воспитанниц. Кроме того, «выпускные» пользовались некоторыми привилегиями: в послеобеденное время до чая классные дамы иногда уходили в свою комнату и оставляли нас одних в классе, а иной раз приказывали даже без них спускаться в столовую. Моему умиротворению содействовало и сердечное отношение ко мне инспектрисы, отсутствие придирок со стороны Тюфяевой, а главное – то, что инспектором классов к нам был назначен Ушинский[51]; но о нем я буду говорить ниже.
Когда однажды я возвратилась от m-me Сент-Илер ранее обыкновенного, Ратманова встретила меня язвительными словами:
– Ты ловко обделываешь свои делишки! Ничего что «отчаянная», а сумела приобрести благоволение инспектрисы!
Я была поражена и растерянно переводила глаза с одной подруги на другую.
– Хотя madame Сент-Илер и начальство, но она чудная, святая женщина, – проговорила я наконец. – Я не считаю подлостью ее посещать! Она не из тех, которые выспрашивают о том, что делается в классе. Кажется, я еще никому из вас не навредила!
– Никто не обвиняет тебя в этом, никто не сомневается и в том, что инспектриса не станет у тебя выпытывать что бы то ни было, но не все придерживаются твоего мнения, что она святая женщина!.. Пожалуй, все, кого бы она пригласила к себе, стали бы к ней бегать… Но едва ли это следует делать! – Так говорила Бринкен, бесспорно, самая умная из всех моих подруг.
Эти слова смутили меня гораздо более, чем обвинение Ратмановой.
– Но почему же, почему? – растерянно спрашивала я ее.
– Просто потому, – отвечала она, – чем дальше от начальства, тем лучше…
– Чудная, святая женщина! – передразнивала меня Ратманова. – Мы голодаем, а эта чудная, святая женщина не может и слова сказать эконому, чтобы он не обкрадывал нас… Классные дамы жалуются на нас, – она всегда принимает их сторону, а не нашу… Давно ли она советовала тебе стать на колени перед Тюфяевой, превосходно сознавая, что та тебя оклеветала!..
Но тут кто-то из наших вбежал к нам и закричал:
– Чего вы не спускаетесь в столовую? Уже давно звонили… Будут попрекать, что вы без классной дамы и шагу не умеете ступить!
Все бросились в пары, и мы понеслись с лестницы. Я машинально бежала за другими, но про себя обдумывала только что происшедший разговор. «Да, они правы, тысячу раз правы! – твердила я себе. – Что сделала полезного для нас инспектриса? Только что не груба! А я уже и в восторг пришла от ее святости!». Но вдруг я оступилась и полетела вниз с лестницы: на одном из ее поворотов я задержалась было, но сзади бегом спускавшиеся воспитанницы нечаянно толкнули меня, и я уже без всяких задержек полетела вниз, пока не упала на пол, недалеко от дверей столовой. Когда подруги подняли меня, я была в сознании, только сноп кровавых точек мелькал перед моими глазами. Я постояла с минуту и, не чувствуя никакой боли, вошла с другими в столовую.
Скоро я совершенно успокоилась, а когда мы пришли в дортуар и улеглись спать, я тотчас уснула. Ночью я проснулась от боли в груди и от лихорадки, укрылась салопом, в надежде как-нибудь оправдаться перед дортуарной дамой, но меня никто не тревожил. Когда прозвонил колокол и наши начали вставать, я объявила им, что у меня кружится голова, и я не могу приподнять ее от подушки. Наконец мне удалось привстать, но приступ жестокой лихорадки так сковал мои члены, голова так кружилась, что я не могла шевельнуться. Мне помогали вставать подруги; то одна, то другая из них, указывала на то, что шея и грудь у меня распухли и покрылись кровоподтеками; они потолковали между собой по этому поводу и единогласно пришли к мысли, что при таком положении для меня немыслимо идти в лазарет: перед доктором придется обнажить грудь, и этим я не только опозорю себя, но и весь выпускной класс.
Это обстоятельство, рассуждали они, должно заставить каждую порядочную девушку вынести всевозможные мучения скорее, чем идти в лазарет. То одна, то другая задавала мне вопрос: неужели у меня не хватит твердости характера вынести боль? Я, конечно, вполне разделяла мнение и взгляды моих подруг на вопросы чести, но не могла им отвечать как от головокружения, так и от смертельной обиды на них за то, что они могут сомневаться во мне по такому элементарному вопросу, как честь девушки.
Я решила, что к такому дурному мнению обо мне они пришли только потому, что я посещала инспектрису. Все это я высказала им в отрывочных фразах, проливая потоки слез и от обиды, и еще более от мучительной боли в груди. Подруги успокаивали меня, просили не волноваться, чтобы сохранить силу мужественнее вынести несчастие, ниспосланное мне судьбою. Когда я оделась с их помощью и зашаталась, они заботливо поддерживали меня со всех сторон, давали нюхать одеколон, смачивали виски. На этот раз забота обо мне подруг, не склонных вообще задумываться над несчастием друг друга, была поистине трогательна. Когда мы вошли в класс, они, посоветовавшись между собой, подошли к дежурной даме и просили ее позволить мне сидеть в пелеринке во время всех уроков. «У нее кашель, – говорили они ей, – но она не желает из-за таких пустяков идти в лазарет и пропускать урок». Та согласилась на это. Но полотняная пелеринка мало защищала от холода, и я вся тряслась от лихорадки; тогда воспитанницы собрали платки, укутали ими мои ноги и колени, даже обмотали мои руки, советуя не поднимать их из-под пюпитра.
Я сидела и ходила, как автомат, но как только от боли у меня вырывался стон, подруги шаркали ногами и кашляли, чтобы заглушить его, умоляя меня воздерживаться от стонов. У меня пропал аппетит, и они по-братски поделили мою порцию во время завтрака и обеда.
Когда на другой день я опять после бессонной ночи встала с постели с еще более значительною опухолью на шее и груди и двигалась еще с большим трудом, они решили, что это произошло оттого, что я накануне ничего не ела, и что они должны заставлять меня есть. Я понимала, что я в их власти, и не имела силы ни сопротивляться, ни говорить, а потому делала усилия и ела, как они этого требовали. Но когда мы пришли в класс после обеда, меня стало так тошнить, что подруги насилу вытащили меня в коридор к крану, где можно было скрыть последствия тошноты, и принялись обливать холодной водой мою несчастную голову, горевшую как в огне.
Всю последующую ночь то одна, то другая подруга подбегала к моей постели, укрывала меня, клала намоченное полотенце на мой горячий лоб, но мне становилось все хуже. На третий день утром я заявила им, что не могу встать. Хотя то одна, то другая из них, осматривая меня, вскрикивала: «У нее еще более распухла грудь и посинела шея!» – тем не менее, было решено, что мне нужно встать и отправиться в класс. Общими усилиями они одевали и обували меня в постели, уговаривали не терять мужества, и это заставило меня встать, хотя и с их помощью. Но они сами убедились, что вести меня вниз по лестнице невозможно, а потому решили скрыть меня и, когда все отправятся в столовую, оставить при мне одну из подруг.
У нас не было обычая пересчитывать воспитанниц; к тому же, во время чая на столе не стояло приборов, а потому скрыть отсутствие одной-двух воспитанниц было нетрудно. Когда наши возвратились в класс, моя сторожиха стащила меня туда же и усадила на скамейку, а другие подошли к дежурной даме просить ее о дозволении для меня сидеть на уроках в пелеринке. Но та отвечала, что так как с тою же просьбою они уже обращались к ней третьего дня, то она убеждена, что это какой-нибудь фокус, а потому и приказала мне подойти к ней. Я встала, но, сделав несколько шагов, упала без чувств.
Когда я пришла в сознание, я лежала в отдельной комнате лазарета, предназначенной для труднобольных. В ту минуту в ней толпилось несколько человек: инспектриса, лазаретная дама, сиделка и трое мужчин, из которых я узнала только одного нашего доктора. Кто-то незнакомый мне, наклонившись надо мной, просил меня назвать мое имя, отчество и фамилию; я исполнила его желание, и только позже мне стало известно, что этот вопрос был задан с целью узнать, в порядке ли мои умственные способности. На его вопрос, сколько времени я нахожусь в лазарете, я отвечала:
– Часа два-три.
– Вы лежите в лазарете одиннадцать дней, пролежали все время в бреду, и вам только что сделана операция. Старайтесь побольше спать и есть.
Прошло уже около двух месяцев, как меня принесли в лазарет, а я была так слаба, что не могла сидеть и в постели. Тупое равнодушие овладело мною в такой степени, что мне не приходила даже в голову мысль о том позоре, которому я, по институтским понятиям, подвергала себя при ежедневных перевязках, когда доктора обнажали мою грудь; не терзалась я и беспокойством о том, как должны были краснеть за меня подруги. Кстати замечу, что, по тогдашнему способу лечения, мою рану не заживляли более двух месяцев, и я носила фонтанель[52]. Но вот наконец, когда однажды я почувствовала себя несколько бодрее, доктор, делавший операцию, сел у моей кровати и начал расспрашивать меня о том, почему я не тотчас после падения с лестницы явилась в лазарет. Когда он несколько раз повторил свой вопрос, я отвечала:
– Просто так.
– Немыслимо, чтобы вы без серьезной причины решились выносить такие страдания!
– Я вам отвечу за нее, профессор… Я ведь знаю все их секреты! Хотя никто не сообщал мне, но я не сомневаюсь в том, что ее подруги и она сама считают позором обнажить грудь перед доктором, – вот милые подруженьки, вероятно, и уговаривали ее не ходить в лазарет.
– Однако этот институт – презловредное учреждение. – И, обращаясь ко мне, профессор добавил:
– Понимаете ли вы, что из-за вашей пошлой конфузливости вы были на краю могилы?
Это меня жестоко возмутило. Когда доктор, проводив профессора, подошел ко мне, я со злостью сказала ему:
– Передайте вашему профессоришке, что, несмотря на его гениальность, он все-таки тупица, если не понимает того, что каждая порядочная девушка на моем месте поступила бы точно так же, как и я… Покорнейше прошу сказать ему также, чтобы он не смел более называть меня девочкой… Еще должна вам заявить, что перевязок я более не позволю делать… Вы могли их делать до сих пор только потому, что я отупела во время болезни…
Несмотря на усовещивания инспектрисы, до сведения которой было немедленно доведено мое намерение, я оставалась твердой и непоколебимой. На другой день с одной стороны к моей кровати подошел наш доктор, с другой – профессор. В ту минуту, когда я приподнялась, чтобы выразить им мое нежелание показать рану, один из них схватил меня за руки, а профессор спустил с плеч рубашку и стал разбинтовывать рану. Все это было сделано с такой быстротой, что я не успела сказать ни слова, а перевязка и очищение раны были сопряжены со смертельною болью, и у меня сразу вылетело из головы все, что я собиралась сказать.
Однажды вдруг распространилось известие, что государь уже на Николаевской половине. Ко мне вошла инспектриса и предупредила, что государь, вероятно, зайдет в это отделение, так как он всегда заходит к труднобольным, если только в лазарете нет эпидемии. При этом она учила меня, как я должна приветствовать его. Она приказала мне отвечать на вопросы государя, как можно лучше обдумывая каждое слово, и передала все то, что государь, по ее мнению, мог спросить меня.
Меня стали облекать в чистые одежды, кругом все торопливо вытирали и подчищали, хотя нужно отдать справедливость, что у нас не только в лазарете, но и в классах все блестело идеальной чистотой.
И император Александр II вошел в мою комнату в сопровождении инспектрисы, доктора и всего лазаретного персонала. Дрожащим голосом я произносила свое приветствие на французском языке. Государь подошел к моей постели, в виде поклона чуть-чуть наклонил голову и стоял, выпрямившись во весь рост. Он не задавал мне вопросов о моей болезни, – вероятно, доктор сообщил о ней, прежде чем он вошел ко мне, но спросил меня по-французски:
– Вы и теперь еще сильно страдаете?
– Теперь мне лучше, ваше императорское величество, – отвечала я.
– Что нужно, по мнению врачей, чтобы ускорить ее выздоровление? – спросил государь, обращаясь к доктору.
– Деревенский воздух, ваше императорское величество, мог бы укрепить ее расшатанное здоровье.
– Mademoiselle! – обратился ко мне государь. – Есть у вас родственники в Петербурге?
Я отвечала, что здесь живет мой родной дядя, Г<онецкий>.
– Вы можете отправиться к нему, как только врачи найдут это желательным, и оставаться у него до тех пор, пока совершенно не поправитесь, затем возвратитесь в институт и кончите ваше образование. А пока вы здесь, вы, может быть, хотели бы чего-нибудь сладкого?
Так как такой вопрос не был предвиден maman, и я не получила по этому поводу никаких инструкций, то я простодушно отвечала:
– Я благодарю вас от всего сердца, ваше императорское величество, ко мне здесь, в лазарете (я нарочно подчеркнула слово здесь, чтобы государь узнал, что только в лазарете, но мой заряд пропал, конечно, даром), все очень добры, мне дают даже peau de la vierge.
Государь сдвинул брови:
– Что это такое peau de la vierge? Как вы называете это по-русски?
– Ваше императорское величество! Мы называем так «девичью кожу»…
– Ничего не понимаю. Что это значит? – И государь обратился к доктору.
– Род пастилы, ваше императорское величество, которую мы держим как лакомство для больных: она называется у институток «девичьей кожей».
– А когда вы захотите еще чего-нибудь, кроме «девичьей кожи», – сказал государь, обращаясь ко мне и чуть-чуть улыбаясь углами губ, – вы можете об этом заявить господину доктору. Вы все получите, что не повредит вашему здоровью.
Радостный, веселый, подбежал ко мне доктор после обхода всего лазарета и стал говорить о том, как милостив был ко мне государь, какой продолжительной беседы он меня удостоил, сколькими благодеяниями меня осыпал… Через неделю-другую меня отпустят домой, а теперь будут раскармливать: цыплята, вино – все будет к моим услугам…
– Да вы стоите этого! Как мило вы о нас отозвались… Конечно, вы нас выделили, чтобы сделать маленькую неприятность кое-кому. Но ведь этого никто, кроме инспектрисы, не заметил.
Вошла и инспектриса. Несмотря на ее обычный ласковый тон, я заметила, что она мною очень недовольна.
– Напрасно, совершенно напрасно ты утруждала государя такими длинными ответами и всякими пустяками!.. Задерживать государя таким вздором считается верхом неприличия!.. И эта «peau de la vierge» была так некстати!
Но я решила, что ее раздосадовало то, что я в разговоре с государем упомянула о хорошем отношении ко мне только лазаретных служащих.
Результаты институтского воспитания и образования
Религиозное воспитание. – Образцовая кухня. – Обучение рукоделию. – Изучение французского языка. – Дневники и стихотворения воспитанниц
Наше воспитание отличалось строго религиозным характером. Начальница Леонтьева, если судить по ее донесениям императрице, была им очень довольна. Она писала ей: «Трогательное зрелище представляют молодые девушки, глубоко проникнутые религиозными идеями; они уносят их далеко от того света, в котором им предназначается жить и к которому они должны были бы чувствовать влечение уже вследствие своего юного возраста!..» (Мордвинова, «Статс-дама Мария Павловна Леонтьева», стр. 84).
Религиозное воспитание, получаемое нами, состояло как в теоретическом изучении обширного курса закона божия, так и в практическом применении к жизни предписаний православной религии, из которых на первом месте стояли строгое соблюдение постов и чрезвычайно частое посещение церкви. Что касается постов, то все условия нашей жизни лишали нас возможности строго их соблюдать. Хотя мы и получали в это время постную пищу, но так как мы в такие дни особенно сильно испытывали муки голода, то, когда родственники приносили кому-нибудь из нас съестное, мы не могли разбирать, было ли то скоромное или постное, и с одинаковым наслаждением уничтожали и постный пирог с грибами, и курицу.
Смольный институт. Литография. Художник Степан Филиппович Галактионов. 1823 г.
Во все воскресные, праздничные и царские дни[53] и в кануны их, а также в первую и страстную недели великого поста мы посещали церковь, нередко даже по два раза в день, а также и всю четвертую неделю этого поста, когда говели. Церковными службами нас так утомляли, что многие воспитанницы падали в церкви в обморок. Непосильное утомление заставляло многих употреблять все средства, чтобы избавиться от посещения церкви, но так как этого добивались решительно все, то между нами обыкновенно устанавливалась очередь (сразу не более трех-четырех в дортуаре), которая давала право заявить дежурной даме о том, что они не могут идти в церковь по причине зубной, головной или другой какой-нибудь боли. При большом количестве воспитанниц желанная очередь наступала редко, а потому многие решались симулировать дурноту, и некоторые воспитанницы делали это очень искусно. Во всем блеске этот талант проявлялся у девиц старшего класса, так как в нем уже более рельефно отражалось все дурное, привитое закрытым заведением.
Взрослые институтки удивительно ловко умели представлять обморок: задерживая дыхание, они бледнели, тряслись, вскрикивали, как будто внезапно теряли сознание, ловко падали на пол, даже с грохотом, не причинив себе ни малейшего вреда. Но были в этом отношении и совсем бесталанные: несмотря на обучение их этому искусству опытными подругами, они никак не могли усвоить его. Такие несчастные создания в известный момент богослужения вытягивали из кармана махорку, приобретенную у сторожа за дорогую цену, и засовывали ее за щеки. У них подымалась рвота, и их выводили из церкви.
В конце концов религиозное воспитание, получаемое в институте, содействовало только нравственной порче и полной индифферентности к религии. К выпуску оставалось чрезвычайно мало девушек религиозных; даже те, которые с таким благоговением и трепетом приступали к причастию в первый год своей институтской жизни, перед последним причастием уже грызли шоколад, нередко делая это демонстративно и громко высмеивая религиозные обряды. Утрате религиозных чувств сильно помогало ханжество как начальницы Леонтьевой, так и всех классных дам; на языке у них всегда были слова: милосердный бог, всепрощение, любовь к ближнему, святая религия, но на деле никто из них не выказывал участия, христианского милосердия и любви к воспитанницам.
Точно так же и большая часть других правил и предписаний, положенных в основу институтского воспитания и обучения, давала лишь самые печальные результаты. Чтобы приготовиться к скромной доле, ожидавшей многих из нас в будущем, мы должны были уметь готовить кушанья, для чего существовала образцовая кухня. Девицы старшего класса, соблюдая очередь, по пяти-шести человек ходили учиться кулинарному искусству. В такие дни они не посещали даже уроков. К их приходу в кухне уже все было разложено на столе: кусок мяса, готовое тесто, картофель в чашке, несколько корешков зелени, перец, сахар. Одна из воспитанниц должна была рубить мясо для котлет, другая толочь сахар, третья – перец, следующая – мыть и чистить картофель, раскатывать тесто и разрезать его для пирожков, мыть и крошить зелень. Все это делалось воспитанницами с величайшим наслаждением. Кухня служила для нас большим развлечением; к тому же она избавляла от скучных уроков и на несколько часов от полицейского надзора классных дам. Но такие кулинарные упражнения не могли, конечно, научить стряпне и были скорее карикатурою на нее. Воспитанницы так и не видели, как приготовляют тесто, не знали, какая часть говядины лежит перед ними, не могли познакомиться и с тем, как жарят котлеты, для которых они рубили мясо. Кухарка смотрела на это как на дозволенное барышням баловство и сама ставила кушанье на плиту, опасаясь, чтобы они не обожгли себе рук или не испортили котлет; сама она возилась и около супа. Барышням она поручала толочь сахар, перец и все, что нужно было рубить и толочь, что те и производили в такт плясовой, а это заставляло смеяться и кухарку, и воспитанниц. Их веселому настроению содействовало и то, что обед, приготовленный «их руками», они имели право съесть сами, а он был несравненно вкуснее, питательнее и обильнее обычного[54].
Обучение рукоделию хотя и не носило столь комичного характера, как обучение кулинарному искусству, но тоже не достигало никакой цели и роковым образом отражалось на успехах в науках весьма многих воспитанниц. В институте было немало девочек, которые уже при вступлении в него умели порядочно шить и знали несколько женских работ. На первом же уроке учительница рукоделия осведомлялась, кто к чему приучен был дома: необученным шить она давала обметывать швы, мотать мотки или выдергивать нитки из полотна, чтобы с их помощью разрезать его, учила их сшивать полотнища, но далее этого обучение не шло. Тех же воспитанниц, которые заявляли учительнице о том, что они любят вышивать ковры или шить гладью, немедленно присаживали за эти работы.
В институте всегда приходилось заготовлять большое число вышивок и прошивок для украшения всевозможных юбок, полотенец, накидок. Ковры шли как на подарки, так и на украшение церкви. Редко выпадал месяц в году, когда не требовалось окончить какого-нибудь сюрприза: то наступал день именин начальницы или кого-нибудь из высокопоставленных лиц, то годовые праздники[55], в которые также подносились подарки. Вследствие этого учительница страшно обременяла работою воспитанниц, имевших неосторожность выказать любовь к рукодельям. Уроки рукоделья происходили раз в неделю, по полтора часа, – этого времени было крайне недостаточно, чтобы покончить со всеми работами. Воспитанницам, хорошо исполнявшим шитье гладью, раздавали на руки полосы различной материи, чтобы по вечерам, когда они должны были готовить уроки к следующему дню, они занимались вышиваньем. Ковры же вышивали в пяльцах, и учительница рукоделия просила классных дам отпускать воспитанниц вечером к ней в мастерскую. Нередко оказывалось, что и вечеров не хватало на окончание какого-нибудь подарка. Тогда учительница обращалась с просьбой к инспектрисе отпускать к ней воспитанниц даже во время урока. Если сюрприз предназначался высокопоставленному лицу, инспектриса находила невозможным отказать в такой просьбе, и несколько воспитанниц вследствие этого не посещали уроков неделями, а то и месяцами.
Превосходно исполненные ковры, на которых изображены были цветы, ландшафты, сцены из рыцарской и пастушеской жизни, приводили в такой восторг не посвященных в это искусство воспитанниц, что многие из них умоляли учительницу выучить их этой работе. Но та обыкновенно отвечала:
– Если вы испортите материал, я должна буду откупить его на свой счет!.. И когда мне возиться с вами! Вы жалуетесь, что я заваливаю работою ваших подруг… А посмотрите, когда я сама ложусь спать! Мне то и дело приходится по ночам оканчивать работу, которая будет поднесена в подарок от вашего имени…
Во время публичного выпускного экзамена в особых комнатах института устраивалась выставка работ учениц. Тут можно было видеть превосходно вышитые ковры, вышивки по батисту и цветной материи гладью, белой и разноцветной бумагой и шерстями, искусно исполненные цветы, а также белье, сшитое ручною строчкою. На стенах висели картины, написанные масляными красками и акварелью: здесь красовалась головка гречанки, там – девочка с козой, цветы. Хотя все эти картины с художественной точки зрения были ниже всякой критики и оказывались плохими копиями, но и они исполнены были с помощью учителя рисования, который не только исправлял рисунок, но и рисовал в нем все более трудное; однако и на это способны были лишь очень немногие воспитанницы, а громадное большинство так и выходило из института не умея срисовать с рисунка даже простого стула, не говоря уже о рисовании с натуры: наглядный метод совершенно отсутствовал в обучении дореформенного времени. Что же касается рукоделия, то громадное большинство кончало курс, выучившись одному или двум швам.
Знанию французского языка придавали громадное значение. На девочку, умевшую болтать на этом языке при своем вступлении в институт, смотрели с большим благоволением. Ей прощали многое такое, чего не прощали другим; находили ее умною и способною даже тогда, когда этого вовсе не было. На изучение этого языка во всех классах отводили наибольшее количество часов: в белом (старшем) классе изучали французскую литературу, писали письма и сочинения на этом языке. Классные дамы и все начальство говорило с нами по-французски. Между собою воспитанницы тоже обязаны были говорить на этом языке. Какое громадное значение уже издавна приписывали в институте французскому языку, и до какого комизма доходила наивная вера в его могущество, видно из воспоминаний воспитанницы Патриотического института. Когда 14 декабря 1825 года раздалась пальба из орудий, начальница Патриотического института обратилась к воспитанницам с такою речью: «Это господь бог наказывает вас, девицы, за ваши грехи. Самый главный и тяжкий грех ваш тот, что вы редко говорите по-французски и, точно кухарки, болтаете по-русски». «В страшном перепуге, – говорит автор воспоминаний, – мы вполне познавали весь ужас нашего грехопадения и на коленях перед иконами, с горькими слезами раскаяния, тогда же поклялись начальнице вовсе не употреблять в разговоре русского языка. Наши заклятия были как бы услышаны: пальба внезапно стихла, мы успокоились, и долго после того в спальнях и залах Патриотического института не слышалось русского языка» («14 декабря 1825 года в Патриотическом институте» С. А. Пелли, «Русская старина» 1870 года, август). Я же описываю несравненно более поздний период времени, уже накануне реформ в Смольном. Но и в это время, как и прежде, институтки были просты до наивности и вследствие своего невежества очень суеверны, но в мое время нас никто, а тем более начальство не могло запугать гневом божьим уже по одному тому, что даже религиозные девочки утрачивали в институте свою простодушную веру. Что же касается французского языка, то хотя изучению его у нас и придавали громадное значение, но так как в нас не выработали серьезного отношения к какому бы то ни было знанию, не научили уменью заниматься, не привили нам должной усидчивости и интереса к какому бы то ни было предмету, мы все обучение обращали в пустую формальность. Если до слуха классной дамы доходила русская речь воспитанницы, она кричала ей: «Как ты смеешь говорить по-русски?». Та отвечала: «Но я сказала: comment dit-on en francais?» (как это сказать по-французски? – франц.) Классная дама удовлетворялась этим ответом, а та продолжала болтать по-русски. Разговоры с классными дамами и с более высшими начальственными лицами ограничивались каким-нибудь десятком-двумя официальных фраз (в это число входили всевозможные поздравления), которые заучивались воспитанницами в первый же год их вступления в институт. Вследствие этого институтки не могли поддерживать серьезного разговора на французском языке, не могли они и читать на этом языке серьезные книги, – впрочем, и по-русски они не могли ни вести серьезного разговора, ни читать серьезных книг, и русская речь воспитанниц не отличалась ни богатством слов, ни разнообразием выражений. Можно себе представить, какие успехи делали воспитанницы в других предметах, если изучение французского языка было столь неудовлетворительно.
Наше время было так распределено, что если бы преподавание в институте и было поставлено более правильно, у нас не хватало бы времени для серьезных занятий. Уроки в старших классах заканчивались в 5 часов, когда шли к обеду. После него до вечернего чая можно было готовить уроки, но один вечер в неделю уходил на танцы, один, а то и два вечера – на церковную службу перед праздничными днями, один – у некоторых на упражнение в пении, у других – на рукоделие; таким образом, оставалось в неделю всего два-три свободных вечера.
В кофейном классе большая часть времени тратилась на переписку: переписывали басни и рассказы, писали неправильные французские глаголы, – для всего этого существовали особые тетради. Если в одной из них оказывалось несколько чернильных пятен или несколько строк криво написанных, классные дамы заставляли девочку переписать всю тетрадь. В старших классах не обращали внимания на чистоту тетрадей, но девицы также убивали много времени на переписку: большая часть учителей задавала им уроки не по учебникам, а по собственным запискам, – вот эти-то записки и приходилось переписывать. Из сказанного ясно, что на учение уроков у нас оставалось крайне мало времени, тем более что в эти свободные вечера приходилось не только переписывать записки учителей, но и делать сочинения на русском и французском языках.
Как мало знаний выносили мы из преподавания, какими поразительными невеждами оканчивали курс, будет видно из следующего очерка; к сказанному же прибавлю только, что большая часть наших учителей сами были людьми невежественными и никуда не годными педагогами. Даже по внешности, кроме француза, они представляли, точно на подбор, отовсюду набранных, отживших стариков, навсегда сданных в архив в эту, так сказать, учительскую богадельню Смольного. Случалось, – впрочем, крайне редко, – что вследствие болезни или смерти тот или другой из престарелых педагогов выбывал из строя, и его место замещал еще не совсем старый человек, но после нескольких уроков такие учителя обыкновенно исчезали с нашего горизонта по неизвестной для нас причине. Один из них был удален после пяти или шести уроков только за то, что сказал:
– Девицы, вы передаете все в зубрежку и плохо рассказываете оттого, что ничего не читаете, – просите начальство снабдить вас книгами для чтения.
Поступив в институт в раннем детстве и во время всего своего пребывания в нем удаленная от природы и людей, институтка не имела ни малейшего представления о жизни. За высокие стены ее заколдованного замка не долетало ни одного человеческого стона, ни малейшего сведения не доходило до нее о каком-нибудь общественном движении, и вообще решительно ничего не знала она о положении своей родины, о ее несчастиях и надеждах. Окончив курс в дореформенном институте, институтка вступала в жизнь с самыми дикими воззрениями, с самыми наивными предрассудками, с нелепыми требованиями от людей, с пошлыми и сентиментальными мечтами. Ее манили к себе роскошь, балы, выезды, туалеты, танцы, ухаживания блестящих кавалеров. Одним словом, она мечтала о том, о чем мечтали тогда все так называемые «кисейные барышни». Нужно, однако, заметить, что и русское общество того времени предъявляло девушке лишь эстетические требования. Наклонную к серьезному чтению и разговору называли «синим чулком» и жестоко высмеивали. Что же мудреного в том, что в институте, этом все более дряхлеющем и отживающем свой век учреждении, не следившем за новыми течениями в лучшей части современного общества, продолжали воспитывать в дворянском духе, развивая пристрастие к аристократическим нравам. Девушка того времени при домашнем воспитании, как бы оно плохо ни было, испытав в семье материальную нужду и житейские невзгоды, все же могла скорее и легче понять все ничтожество, всю призрачность и эфемерность эстетических иллюзий, все неудобство применения их к практической жизни. Институтка же, наоборот, все время своего умственного и нравственного роста проводила в заточении, как сказочная царевна. Все, что требовалось для жизни: стол, платье, постель, комната, – было к ее услугам; она оказывалась устраненною от каких бы то ни было забот. Откуда бралось все существенное для жизни, она не знала; не слыхала, чтобы и другие интересовались этими вопросами. Она не могла даже догадываться о том, какою тяжкою борьбою добывают люди свой насущный хлеб, совсем не была приготовлена к трудовой жизни.
Вот почему после окончания институтского курса большая часть ее понятий были нелепы, ее страх безрассуден, отношение к обыденной жизни и ее явлениям подчас просто комично. Она идет по улице, а с противоположной стороны навстречу ей приближается мастеровой под хмельком, – она с ужасом бросается в сторону; поползет по руке червяк, сядет насекомое – она с визгом несется куда глаза глядят. Многие из воспитанниц после выпуска были убеждены в том, что если кавалер приглашает во время бала на мазурку, это означает предварительное сватовство, за которым последует формальное предложение. Одна институтка, прождав напрасно в продолжение нескольких дней своего кавалера в бальной мазурке, была так скандализирована этим, что бросилась к своему брату-офицеру, умоляя его выйти на дуэль и стреляться с человеком, по ее мнению, опозорившим ее. Если родители институтки не соглашались выдать ее замуж за человека, сделавшего ей предложение, если он был даже известный негодяй, она воображала, что получивший отказ должен непременно застрелиться, – и на этой почве происходило немало комичных и трагичных инцидентов.
Институтка прежнего времени, покинув стены ее «alma mater» (матери-кормилицы (лат.), то есть Смольного института), была конфузлива до дикости; самый простой вопрос ставил ее в тупик. Она не умела разобраться даже в том, смеются над нею или обращаются к ней серьезно, не знала, как отнестись к людям, заговорившим с нею, и бывало немало случаев, когда она срывалась с места и выбегала из комнаты только потому, что кто-то подходил к ней «очень страшный». От этого сплошного обмана всех чувств, от этой ребячьей наивности некоторые институтки не избавлялись до конца своих дней. Если от природы девушка была умна, если институтское воспитание не успело вытравить в ней всех ее душевных способностей, она энергично начинала перевоспитывать себя. Но прежде чем житейские обстоятельства переделывали ее настолько, что она становилась хотя несколько пригодною к жизни, ей приходилось сделать много ошибок, принести много вреда и себе и другим. Если она выходила замуж за бедного человека и делалась матерью, она не умела ни ухаживать за детьми, ни найтись в затруднительном положении: для нее было немыслимо при ничтожных средствах устроить мало-мальски сносный обед, смастерить что-нибудь для ребенка из незатейливого материала, – она совершенно лишена была предприимчивости и находчивости в практической жизни.
Институтская жизнь дореформенного периода проходила в притупляющем однообразии монастырского заключения без горя и радостей, без нежных ласк и сердечного участия, без житейской борьбы и волнений, без надежд и разумных стремлений. Все, точно нарочно, было приноровлено к тому, чтобы воспитать не человека, не мать, не хозяйку, а манекен и, во всяком случае, слабое, беспомощное, бесполезное, беззащитное существо. Иначе и быть не могло: в институте девушка лишена была всего, что дает возможность выработать собственное суждение, наблюдательность, энергию, волю, характер, самостоятельное чувство. Несмотря на то, что в институте все было точно размерено и определено, все делалось по звонку и воспитанницы ни на одну минуту не оставались без надзора классных дам, – они, в сущности, росли без всякого призора. Хотя классные дамы вечно наблюдали, чтобы воспитанницы разговаривали как можно меньше и тише, те научились болтать перед их носом, не шевеля губами, делать вещи, строго запрещенные. Не имея возможности ни с кем из старших побеседовать по-человечески, посоветоваться, хотя изредка слышать человеческие разговоры и споры, воспитанницы предоставлены были только самим себе. Но что могли позаимствовать друг у друга девушки, воспитанные при одинаково ненормальных условиях? Они прекрасно знали несложную психологию друг друга, понятия и даже слова, в которых они выражали свое суждение по поводу того или другого явления институтской жизни; все они употребляли в своих разговорах одни и те же выражения, когда их что-нибудь поражало, выкрикивали одни и те же восклицания. Их воззрения, понятия, мысли и способности развивались по одному шаблону, их поступки нередко вредны были для их здоровья и нравственности. Они ели всякую дрянь: куски грифеля, графит, угольки, мел, стягивались корсетом в рюмочку, а некоторые даже спали в корсетах, чтобы приобрести интересную бледность и тонкую талию, – никто их не останавливал, никто не объяснял им, какой вред они себе причиняют.
Икона «Предстательство Божией Матери за воспитанниц Смольного института». Художник Алексей Гаврилович Венецианов. 1832–1835 гг.
Грубость классных дам делала и институток грубыми существами: так же, как и их наставницы, они имели собственный лексикон бранных слов. Они то и дело ссорились между собой, и бранные слова сыпались, как горох из мешка. Громадному большинству была недоступна деликатность, бережное отношение к чувствам ближнего: соберутся вместе и пересчитывают красивых и безобразных подруг и тут же в лицо кричат им: «Ты первая по красоте в нашем классе! Ты первая по уродству! Ты вторая по идиотству!».
Начальство делало выставку решительно из всего, – все должно было иметь показную сторону. Перед приемом высоких посетителей на видные места помещали красивых воспитанниц. Они же должны были в первых рядах танцевать перед ними на балах. Выпускные, публичные экзамены были пустою формальностью, – каждая знала, что ей придется отвечать; сочинение писали заранее, учитель поправлял его, и оно зазубривалось слово в слово, – выученные наизусть сочинения задавали писать на публичных экзаменах. В конце концов жизнь для выставки, жизнь напоказ так въедалась в нравы воспитанниц, что они учились только для хорошей отметки, поступали хорошо только тогда, когда надеялись получить похвалу. Красивого наряда для выпуска требовали даже те, матери которых в отчаянии ломали руки, не зная, как справиться, чтобы устроить дочери мало-мальски сносный туалет для ее выхода, который сразу требовал огромных издержек.
О выпуске мечтали все, как те, которым предстояло блистать на балах, так и те, которых ожидала трудовая дорога, но о ней никто не думал. И это естественно: чем ближе подвигалось время к выпуску, тем более утрачивали воспитанницы какое бы то ни было представление о действительной жизни. Многие из них имели род подвижного календаря: мелко написав на длинную ленту числа всех месяцев своего пребывания в институте, они отрезали истекшее число и торжественно провозглашали, сколько дней осталось до выпуска. Воспитанницы дореформенного института представляли себе жизнь не иначе, как усеянную розами. В институтских стенах им приходилось постоянно сдерживать себя, помнить кодекс правил, вечно слышать брань озлобленных старых дев, испытывать голод, холод, тяжесть раннего вставания, – и они мечтали, что в будущем их ждет золотая свобода, что они будут вставать поздно, делать что захотят, что окружающие будут относиться к ним с искреннею любовью. Что же удивительного в том, что весьма многим мечтательницам скоро пришлось сказать себе: «Жизнь, ты обманула меня!».
Дневники и стихотворения институток обнаруживали в авторах отсутствие серьезного содержания, мысли, творчества, фантазии, даже естественных сердечных чувств. К институтке прививали все искусственное: учителя французского языка восторгались, когда их ученицы декламировали стихи Корнеля и Расина замогильным голосом, с искусственным пафосом. Это создавало фальшивую атмосферу, прививало любовь к фразе. Не только в Смольном, но и во всех закрытых заведениях дореформенного периода истинные чувства девушек заглушались высокопарными фразами. Они были в моде, в ходу, сильно поощрялись и высшим и низшим начальством, что еще более искажало природу воспитанниц. Вот что говорит А. В. Стерлигова в своих воспоминаниях о петербургском Екатерининском институте: «Одна из институток, узнав о смерти двух своих братьев, убитых на войне, составлявших притом единственную поддержку семьи, зарыдала, а все-таки сквозь слезы проговорила: “Слава богу, что они умерли за царя и отечество”. Об этих словах было доведено до сведения императрицы, пожелавшей увидеть воспитанницу. Государыня сделала ей подарок, а отцу ее была назначена пенсия в 1000 рублей, которая после его смерти перешла к дочери» («Русский архив» 1898 года, № 4, «Воспоминания А. В. Стерлиговой о петербургском Екатерининском институте 1850–1856 годов»).
Я перечитала несколько институтских дневников и чаще всего встречала в них описание того, как автор дневника встретил «свое божество» или как был наказан классной дамой; иногда встречалось восторженное описание посещения института императрицею, бросившей свой носовой платок на память воспитанницам, которые немедленно разорвали его на мелкие лоскутки, зашивали их, как ладанки, и носили на шее.
То же самое находим и в поэтическом творчестве институток, выражавшемся преимущественно в писании стихов в альбомы подругам. При отсутствии мысли, наблюдательности и творчества они отличались еще крайне неуклюжею рифмою, набором фраз и страшных слов, сопоставлением самых противоречивых понятий (например, «в моей крови горячей – жар холодный», «счастливое страданье»), а чаще всего наклонностью к сентиментальности, таинственному и загробному.
Порвав нравственную и родственную связь детей с родителями, сделав их чуждыми и далекими друг другу, дореформенный институт делил старое и молодое поколение на два враждебных лагеря. И в этом лежит одна из причин, почему у нас всегда «отцы и дети» так враждовали между собой. У институток отнимали все, что красит жизнь, все, что оживляет чувство, заставляет радостно трепетать юное сердце от чистого счастья и восторга. Сердца молодых девушек, столь податливых на откровенность, засушивались, черствели и рано научались ненавидеть.
Муштровка и дисциплина приводили воспитанниц к одному знаменателю, стирали индивидуальность, делали институток похожими друг на друга не только манерами, но, за небольшими исключениями, даже характерами и вкусами, вырабатывали из них созданий, «к добру и злу постыдно равнодушных», лишенных воли, энергии и прежде всего какой бы то ни было инициативы. Начальство сознательно стремилось обезличивать их, – с такими ему легче было справляться, чем с «отчаянными». Их было сравнительно очень немного, этих «отчаянных»: ломая характер, ожесточая более, чем остальных, все же не могли стереть с них некоторой индивидуальности. «Отчаянных» классные дамы не переносили, но не выказывали ни малейшей симпатии и к остальным. «Дрянь на дряни и дрянью погоняет» – вот поговорка, которую мы всегда слышали, когда подымался шум в классе. Из всех воспитанниц они выделяли только «парфеток» (от французского слова «parfait» – совершенный). Несмотря на всю грубость и испорченность «отчаянных», между ними попадались благородные, иногда даже рыцарские натуры, а парфетками являлись самые тупые в нравственном и умственном отношении. Эти до мозга костей испорченные девушки с премудростью старых дев целовали руки и плечи классным дамам, пожирали глазами начальство, стремглав бросались по его поручениям, и большинство их шпионило за подругами и доносило на них классным дамам.
Выше было сказано, что процент смертности в институте был сравнительно невелик, но и вполне здоровых среди воспитанниц было чрезвычайно мало. В 1859 году инспектор по медицинской части петербургских учреждений императрицы Марии[56], лейб-медик Маркус представил свой отчет государыне, в котором говорит, что весьма многие воспитанницы страдают «оскудением крови». Причину этого явления он видел в том, что институтки мало двигались на воздухе и плохо питались. Он заметил также немало случаев искривления позвоночного столба, что происходило, по его мнению, от продолжительного сидения в согнутом положении при вышивании по канве и переписывании тетрадей.
Но почему же матери так стремились отдавать в институт своих дочерей? Неужели он так-таки ничего хорошего не вырабатывал в своих питомицах? В русском обществе придавали тогда огромное значение хорошим манерам. И действительно, институтки отличались ими. Но не начальство содействовало этому, а подруги. Многие девочки при своем вступлении были крайне неуклюжими: одна ходила, переваливаясь с ноги на ногу, другая размахивала руками при ходьбе, закатывала глаза при разговоре, гримасничала. Когда воспитанница обращалась с вопросом к подруге, та отвечала ей, копируя в карикатуре ее манеры, причем весь класс покатывался со смеху. Иногда выстраивался целый отряд воспитанниц, дефилировавших перед злополучной девочкой, неимоверно топая ногами, выпячивая живот, – одним словом, представляя в комичном виде ее недостатки. Несчастная девочка сердилась, бранилась, плакала, но постепенно отвыкала от усвоенных дурных привычек и скоро уже сама высмеивала других. Таким образом, воспитанницы самостоятельно вырабатывали в себе отвращение к дурным манерам, но, конечно, все это касалось внешней, одной только внешней, стороны.
Однако институт приносил и более существенную пользу. Эпоха крепостничества перед освобождением крестьян была временем, когда страсти, разнузданные продолжительным произволом, у весьма многих помещиков выражались отчаянным развратом, когда в помещичьих домах содержались целые гаремы крепостных девок, когда пиры сопровождались невообразимым разгулом, пьянством, драками, грубою бранью, когда из конюшен раздавались отчаянные крики засекаемых крестьян. Разлучая дочерей с подобными родителями, институт спасал их от нравственной гибели. Так было в дореформенное время.
Наконец и в институт, окаменевший в своей неподвижности, ворвался солнечный луч: в качестве инспектора классов к нам явился К. Д. Ушинский, этот величайший русский педагог-реформатор, а вместе с ним хлынула и волна новых идей, которые стали подтачивать допотопные институтские устои, даже изменять институтские нравы и обычаи.
Смольный во время реформ
Назначение Ушинского инспектором классов. – Его отношение к бывшим учителям. – Его преобразования и вступительная лекция
В самом начале 1859 года разнеслась молва, что инспектором классов в Смольном, на Николаевской и Александровской половинах, назначен Константин Дмитриевич Ушинский. Если бы кто-нибудь сказал нам тогда, что этому человеку суждено не только пошатнуть устои двух огромных институтов, незыблемо покоившиеся на основах безнравственной нравственности, ханжеской морали и рутинных схоластических приемов преподавания, и в корне изменить взгляды и мечты институток, мы, воспитанницы, ни за что не поверили бы этому. Перед появлением у нас Ушинского нам никто ничего не рассказывал о нем, а мы сами мало интересовались инспекторами вообще. Инспектор должен был наблюдать за преподаванием наших учителей, замещать их новыми, если кто-нибудь из них выбывал из строя, но это случалось лишь вследствие смерти или продолжительной болезни кого-либо из них, да и такие права его были скорее фиктивными.
Наша всесильная начальница Леонтьева давно забрала в обоих институтах всю власть в свои руки и всегда действовала по своему личному усмотрению: ни один учитель не мог проникнуть к нам или оставаться у нас, если он ей не нравился. Не имея ни малейшего представления о просвещенном абсолютизме, Леонтьева управляла двумя институтами как монарх, не ограниченный никакими законами, по образцу восточных деспотов. Все отношения инспектора к воспитанницам состояли в том, что он от времени до времени посещал урок того или другого учителя и присутствовал на экзаменах.
Когда однажды у нас только что кончился какой-то урок и мы уже направились было к двери, чтобы выйти из класса, в него вбежал, буквально вбежал, среднего роста худощавый брюнет, который, не обращая внимания на наши реверансы и нервно комкая свою шляпу в руках, вдруг начал выкрикивать: «Ведь вы же здесь специально изучаете нравственность, а не знаете того, что портить чужую вещь духами или другою дрянью неделикатно!.. Не каждый выносит эти пошлости! Наконец, почем вы знаете… может быть, я настолько беден, что не имею возможности купить другую шляпу… Да куда вам думать о бедности! Не правда ли… ведь это fi donc (фи (франц.), совсем унизительно. – Прим. ред.)…». И с этими словами он выбежал из класса.
Мы были так ошеломлены, что стояли неподвижно. И было отчего: хотя классные дамы ежедневно осыпали нас бранью, упреками и намеками на что-то гнусное с нашей стороны, но от мужского персонала, от наших учителей и инспектора, мы никогда не слыхали грубого слова. Для этого не было ни малейшего повода. Наши учителя редко вызывали плохих учениц, а хорошие твердо учили свои уроки. Если воспитанница не знала урока, ей ставили плохую отметку, и этим ограничивались все неприятности между учителями и нами. Учителя и инспектор обращались со всеми весьма вежливо. Что же касается вступления нового инспектора в институт (это случалось крайне редко), то он обыкновенно торжественно входил в класс в сопровождении инспектрисы. При этом она произносила по-французски: «Monsieur, – рекомендую: воспитанницы такого-то класса», а обращаясь к нам, – «Mesdemoiselles: ваш новый инспектор». Мы чинно приподнимались со скамеек, кланялись и выслушивали несколько фраз нового инспектора, правда стереотипных, но в чрезвычайно вежливой форме, в которых высказывалась уверенность, что мы своими успехами заставим его всегда вспоминать о проведенном с нами времени как о самом приятном для него. Затем начинался урок, во время которого учитель вызывал самых лучших воспитанниц, а инспектор старался ободрить конфузившихся и в конце концов высказывал, как он удивлен нашими успехами и хорошею подготовкою. «А это что за инспектор? Не успел появиться, и уже осмеливается орать на нас, взрослых девушек, как на базарных мужиков! Наконец, даже не мы это сделали! Вероятно, кто-нибудь из другого отделения… А если бы и мы? Неужели такое преступление – облить шляпу духами? Мы всегда так делали, и порядочные мужчины были только польщены этим! Какой-то невоспитанный, некомильфотный!.. И как приличны с нами эти разговоры о бедности!..» – рассуждали мы. Но долго останавливаться над этим вопросом не пришлось: раздался колокол, призывавший нас на урок немецкого языка.
За солидным немцем, отрастившим себе порядочное брюшко и неторопливо приближавшимся к скамейкам, нервною и стремительною походкою вошел в класс Ушинский. Он поклонился, попросил воспитанниц, сидевших на последней скамейке, подойти к его столу и приказал одной из них открыть книгу, но не на том месте, где был заданный урок, а на несколько страниц вперед, и переводить. «Мы этого еще не учили», – получил он в ответ. Но Ушинский заявил, что он желает знать, как воспитанницы переводят a livre ouvert (с листа (фр.). – Прим. ред.). Из страницы, прочитанной каждою, одна могла перевести два-три слова, другая несколько больше, а третья решительно ничего не знала. Когда же он предложил передать по-русски своими словами только что прочитанное, ни одна из нас ничего не могла ответить, никто не понимал даже, о чем идет речь.
На вопрос, сделанный учителю, сколько у нас в неделю уроков немецкого языка и сколько лет мы учимся, он отвечал, что уже шестой год и что мы имеем по два урока в неделю. На это инспектор заметил:
– Вычитая каникулы и бесконечное число праздников, воспитанницы учатся, во всяком случае, не менее месяцев семи, следовательно, в году имеют по крайней мере пятьдесят шесть уроков… Ведь если бы они выучивали в каждый урок только несколько слов и на эти слова делали упражнения и переводы, то подумайте сами, какой громадный запас слов они приобрели бы в двести восемьдесят ваших уроков! Между тем воспитанницы не понимают даже смысла прочитанного, хотя текст оригинала простой и легкий.
Учитель оправдывался тем, что вызваны были плохие ученицы, но еще более подчеркивал то, что в институте все внимание обращено на французский язык, что воспитанниц заставляют разговаривать по-немецки очень редко, да и то для проформы, и указывал на то, что сами они терпеть не могут немецкого языка.
Ушинский возражал, что для того, чтобы заставить воспитанниц полюбить немецкий язык, он, учитель, должен был отчасти читать, а отчасти сообщать им содержание лучших произведений Шиллера и Гете.
– О господин инспектор! – насмешливо-добродушно отвечал немец. – Уверяю вас… хотя они и в старшем классе, но ничего, решительно ничего не поймут в сочинениях этих писателей и не заинтересуются ими.
На это Ушинский заметил, что только идиота может не заинтересовать гениальное произведение.
Так как учитель в свое оправдание указывал на то, что инспектором были вызваны плохие ученицы, Ушинский предложил ему вызвать самых лучших и начал внимательно вслушиваться в их чтение. Когда одна из них начала бойко переводить, Ушинский заметил ей, что хотя она прекрасно понимает прочитанное, но по-русски выражается неправильно, и указывал ей, как нужно переводить то или другое немецкое выражение.
Когда мы поближе познакомились с Ушинским, мы заметили, что он так уходил в дело, – все равно, читал ли он лекцию или слушал наши ответы, – что не видел и не слышал, что происходило вокруг. Но когда что-нибудь внезапно нарушало тишину, он вздрагивал, резко делал замечание нарушителю ее, не обращая ни малейшего внимания, к кому оно относилось – к воспитаннице, учителю или к классной даме. Так было и в этом случае. Дежурная дама, m-lle Тюфяева, внезапно с шумом отодвинула свой стул, встала с своего места, подошла к скамейке и начала что-то вырывать из рук одной воспитанницы. Как только она скрипнула стулом, Ушинский быстро поднял голову и стал пристально всматриваться в нее, точно не понимая в первую минуту, что его отвлекло от дела. Но когда у нее завязалась борьба с ученицей, он привстал с своего места и резко закричал: «Перестаньте же, наконец, шуметь! Кто вас просит сидеть в классе? Учитель сам обязан поддерживать порядок!». И сейчас же уселся как ни в чем не бывало, продолжая занятия. Тюфяева побледнела, но промолчала, может быть, от неожиданности. С институтской точки зрения замечание Ушинского, как по форме, так и по существу, могло считаться возмутительною дерзостью. Наши инспектора и учителя разговаривали с классными дамами не иначе, как с величайшим почтением. Если же приходилось о чем-нибудь их попросить или сделать самое ничтожное замечание (то и другое случалось крайне редко), то они обращались к ним, наклонив голову и с приятною галантностью: «Mademoiselle N, простите великодушно, если я решаюсь вас беспокоить…» и т. п. А новый инспектор только что показался, и уже смеет кричать на нее, заслуженную классную даму, как на последнюю горничную! Между тем Ушинский, сделав ей такое неподходящее, по институтскому этикету, замечание, моментально забыл о ее существовании.
– Вы, кажется, немка? – спросил он у воспитанницы, которая только что переводила с немецкого на русский. Получив утвердительный ответ, он узнал и от двух других воспитанниц, прекрасно ответивших на все его вопросы, что они хотя и русские, но дома говорили больше на немецком, чем на родном языке.
– А, вот что! Значит, эти первые ученицы знанием языка обязаны семейству, а не учебному заведению! – сказал Ушинский, обращаясь к учителю, поклонился и повернулся, чтобы уходить, но Тюфяева загородила ему дорогу.
– Позвольте вам заметить, милостивый государь, что мы дежурим в классе по воле нашего начальства… что мы… что я… я высоко чту мое начальство…
– Если вы уже обязаны здесь сидеть неизвестно зачем, то, по крайней мере, должны сидеть тихо, не скрипеть стулом, не шмыгать между скамейками, не вырывать бумаги у воспитанниц, не отвлекать их внимания от урока… Понимаете? – резко перебил ее Ушинский.
– Я, милостивый государь, служу здесь тридцать шесть лет… мне, милостивый государь, седьмой десяток… да-с, седьмой десяток… я не привыкла к такому обращению… Это все, все будет доложено кому следует.
– Если вы дежурите с такой определенной целью, то и исполняйте ваши священные обязанности!.. – С последними словами он вышел из класса.
Тюфяева возвратилась на свое место, но была так взволнована, что не брала даже чулка в руки, который она обыкновенно вязала; горько покачивая головой, она вдруг расплакалась и направилась к выходу. Воспитанницы в первый раз остались в классе с глазу на глаз с учителем. Все молчали. Наш немец что-то крепко призадумался, но это был один момент: он вдруг встрепенулся и, по заведенному порядку, начал вызывать учениц одну за другой. Ратманова, пользуясь отсутствием классной дамы, встала с своего места и, прикрывая рот и нос платком (указывая этим, что у нее кровь идет носом), смело вышла из класса, но не в ту дверь, в которую ей надлежало выйти для этого. Мы поняли, что она отправилась «на разведки». Нам тоже не сиделось: мы чувствовали сильнейшую потребность обсуждать происшедшее, а между тем приходилось ждать до звонка, мало того, необходимо было запастись терпением и на весь обед, так как в это время не очень-то удобно было болтать. Немец не обращал ни на что внимания, и мы то и дело оборачивались по сторонам: одна показывала другой на свою голову и вертела над нею рукою, выражая этим, что у нее бог знает что там творится, другая била себя в грудь и закатывала глаза, – это означало, что у нее разрывается сердце от муки из-за того, что приходится так долго молчать.
Шифр для лучших воспитанниц Смольного. По окончании Института Благородных Девиц шесть лучших выпускниц получали «шифр» – золотой вензель в виде инициала императрицы Екатерины II, который носили на белом банте с золотыми полосками
В столовую мы спустились без классной дамы. Когда мы шли по парам, Ратманова незаметно присоединилась к нам и сидела за обедом, загадочно улыбаясь. Подруги то и дело подталкивали ее соседок, умоляя их выспросить ее о том, что она успела узнать. «Удалось ли что-нибудь?» – спрашивали ее. Гордо подняв голову, она отвечала, что неудачи преследуют только трусих и идиоток.
Наступил конец и нашим страданиям. Когда мы возвратились в класс, Тюфяева, на наше счастье, ушла в свою комнату заливать горе кофеем. Сбившись в кучу, воспитанницы кричали, перебивая друг друга:
– Это какой-то ужасающий злец!
– Просто невежа!
– Не конфузится сознаться, что у него денег нет даже на покупку шляпы!
– Неправда, и опять неправда! – смело выскочила на его защиту воспитанница Ивановская. – Ушинский… это, прежде всего, человек неземной красоты!
– Не ты ли облила его шляпу духами?
– Я не могла этого не сделать!.. Спускаюсь утром на нижний коридор и вдруг вижу – входит… Меня точно стрела пронзила! Я так была поражена его красотой!.. Дала ему пройти и сейчас же бросилась к вешалкам, облила его шляпу духами, вылила духи в карманы его пальто, – одним словом, весь флакончик опорожнила, благо он был под рукой.
Воспитанницы, однако, не одобрили поступка Ивановской. Хотя почти каждая из них делала то же самое, но в данном случае они ссылались на то, что стоило только взглянуть на Ушинского, и каждая должна была бы понять, что он не оценит такого внимания. Хотя это суждение высказывалось post factum (После совершившегося (лат.). – Прим. ред.), но с ним все согласились, судили, рядили, и все-таки никто из нас не мог сообразить, почему Ушинский так обозлился только за то, что его одежду облили духами. Нашим учителям это обыкновенно очень нравилось: при встрече после этого они улыбались нам лишний раз. Особенно возмутило нас в Ушинском, как величайшая неблаговоспитанность с его стороны, что он осмелился кричать на нас, взрослых девиц, а также и то, как он разговаривал с m-lle Тюфяевой. Конечно, мы все были до невероятности счастливы, что он ее так «отбрил» и «унизил», но многие находили, что хотя она и классная дама, следовательно, гнусное существо, но все же она дама вообще, а каждый образованный мужчина должен относиться к даме по-рыцарски, с утонченною любезностью и почтением.
– Он не только невоспитанный человек, но и форсун!
– Он не форсун, а хвастун!
– Верно, верно! Постарался блеснуть перед нами даже знанием таблицы умножения! Он воображает, что мы без него не сумеем помножить число недельных уроков на семь месяцев!
– А ведь ты бы не сумела! – вдруг зацепила одна другую. Но на них моментально зашикали за то, что они своими глупостями мешают говорить о серьезных вещах.
– Он, наверно, прогонит нашего немца! – кричали некоторые.
– Ого, руки-то коротки! Не сегодня-завтра Леонтьева его самого вытурит отсюда!
– Много вы понимаете! Он сам может вышвырнуть целую дюжину таких начальниц, как наша. Ушинский – это такая силища!.. Такая!.. Это просто что-то невероятное!.. – говорила Ратманова.
– Какая там силища! Наглый человек, вот и все тут! – возражали некоторые.
– Разве вы можете оценить смелость, дерзость, силу, с которыми человек говорит правду в глаза? Классные дамы вам втемяшили в голову, что это дурно, вы презираете их, а сами повторяете за ними!.. Жалкие вы созданья, даже просто, можно сказать, стадо баранов! – вдруг отрезала Ратманова.
Страшная буря негодования поднялась против нее и, вероятно, окончилась бы тем, что многие жестоко перебранились бы между собой и, уже наверно, большая часть воспитанниц перестала бы разговаривать с нею на неделю-другую, но на этот раз все охвачены были новым, не испытанным еще настроением: хотелось обсуждать происшедшее, узнать как можно более новостей об инспекторе. Сознавая, что Ратманова обладает хорошею памятью и, будучи весьма толковой и неглупой, умеет точно передавать слышанное, воспитанницы упрашивали друг друга прекратить перебранку и умоляли свою оскорбительницу рассказать все, что она узнала. В другое время Ратманова не упустила бы случая «поломаться», но в эту минуту ее охватило сильное желание говорить, ее всегдашнее стремление «пофигурять» (так мы определяли ее желание первенствовать) взяло наконец верх над остальными ее соображениями, и она передала следующее.
По выходе из класса она, прежде чем завернуть за угол коридора, заметила прогуливающихся и разговаривающих между собою инспектрису и Ушинского. За углом ей все было слышно, но первой части разговора она не застала. Она пришла, когда Ушинский рассказывал m-me Сент-Илер о своем столкновении с Тюфяевой, но, не зная ее фамилии, он так характеризовал ее: «Знаете, такая дряблая старушонка… хвастала тем, что высоко чтит начальство, что тридцать шесть лет служит здесь, что живет очень долго… Я хотел было сообщить ей, что слоны живут еще дольше, что продолжительность жизни ценится только тогда, когда она полезна ближним, да не стоило терять времени с этой скудоумной головой! Но так как она грозила донести своему начальству, то я и предупреждаю вас об этом».
Инспектриса, по мягкости своего характера, просила его о снисхождении к классным дамам, указывая на то, что некоторые из них действительно не блестят своим образованием, но где же взять образованных?
Ушинский указывал, что если бы при приеме классных дам руководились правилом приглашать умственно развитых, а не особ, умеющих только «кадить всякой пошлости», то при старании, конечно, можно было бы найти подходящих…
– «Кадить всякой пошлости»! «Кадить всякой пошлости»! Какое чудесное выражение! – подхватывали мы, ошеломленные столь новой для нас фразой.
– А что еще он сказал! – продолжала Ратманова. – «Нужно, – говорит, – создать иные условия для приема воспитанниц и скорее выбросить весь теперешний старый хлам…»
– Какой он умный! – всплеснули мы руками в восторженном изумлении.
– Не мешайте же слушать! – взывали другие, боясь проронить хотя слово Ратмановой, которая продолжала передавать его разговор с инспектрисой.
– Выбросить старый хлам служащих, и сделать это как можно скорее необходимо уже потому, – говорил Ушинский, – что теперешние классные дамы притупляют умственные способности воспитанниц и озлобляют их сердца.
– Притупляют умственные способности и озлобляют сердца! – повторяли мы, как молитву, за Ратмановой. Вообще в Ушинском нас на первых порах поражали не только его ум и находчивость, но, кажется, более всего слова и выражения, так как, кроме официальных, обыденных слов, мы до тех пор ни от кого ничего подобного не слыхали.
– Инспектриса отвечала ему, что она, хотя и с большим трудом, может еще представить себе, что при приемах классных дам будут более, чем теперь, обращать внимание на их умственное развитие, но никогда, она за это ручается, ни одна начальница института не согласится на то, чтобы оставлять воспитанниц в классе с глазу на глаз с учителем. Это немыслимо уже потому, что идет вразрез со всем характером институтского воспитания, и такой обычай, по ее мнению, имеет основание: учитель во время урока занят своим делом, а классная дама обязана наблюдать, чтобы воспитанницы не занимались посторонним.
«– О, когда начнут занятия новые учителя, они сумеют настолько заинтересовать воспитанниц, что те сами не будут заниматься ничем посторонним…
– Вы, кажется, твердо верите в то, что вам удастся создать идеальный институт?
– На идеальный не рассчитываю, но если бы я не верил в то, что мне удастся оздоровить это стоячее болото…»
– Ах ты боже мой!.. Душка, Маша, неужели он так-таки и сказал: стоячее болото? Вот-то дерзкий! Ведь этими словами он унизил наш институт! Maman должна была его оборвать тотчас же. Ну, говори, говори, что же на это инспектриса?
– Ни гугу! Да разве он только это говорил! Он вот еще что загнул: «Я, говорит, до сих пор думал только о том, как бы получше поставить преподавание, но те немногие дни, которые я провел здесь, показали, что мне придется вмешиваться и в некоторые стороны воспитания… Если не будут уничтожены многие безнравственные обычаи, развращающие воспитанниц, они будут мешать их правильному развитию.
– Что же безнравственного вы нашли в наших обычаях?
– Но разве не безнравственно заставлять учениц снимать пелеринки перед приходом учителя? Ведь в послеобеденное время я сам видел, что они сидят в пелеринках, значит, тут дело идет не о том, чтобы приучать к холодной температуре…
На это maman весело расхохоталась.
– Помилуйте, вы хотите не только перереформировать наш институт, но перереформировать всю жизнь женщины вообще, изменить даже все людские отношения! В таком случае вам придется восставать и против балов, на которые девушки являются декольтированными.
Ушинский не уступал и тоже весело смеялся.
– Ну, в бальные порядки я вмешиваться не собираюсь… Но согласитесь сами: ведь с обнаженными плечами на балы являются для того, чтобы ловить женихов. А класс для институтки должен быть храмом науки! И вдруг здесь с раннего возраста приучают девушек оголять себя!.. Всеми силами буду добиваться уничтожения этого неприличного обычая».
– Но тут колокол прервал их беседу, и madame Сент-Илер от всего сердца пожелала ему перестроить институт на идеальных началах, хотя сильно сомневалась в удаче; он тоже задушевно пожелал ей всего лучшего. Характер их беседы не носил ничего официального: они называли друг друга по имени и отчеству, разговаривали просто и дружески.
Колокол призывал и нас к чаю, хотя души наши рвались обсуждать без конца небывалые новости. До сих пор никто, ничто и никогда не волновало нас так, как это первое появление у нас Ушинского. Так же оживленно болтали мы и после чаю, когда пришли в дортуар, чтобы ложиться спать. Мы быстро разделись и, закутавшись в одеяла, разместились на нескольких кроватях. И на этот раз каждая спешила высказать свое мнение. Мы совсем не были подготовлены ни к самостоятельному мышлению, ни к критическому анализу. Мысли наши были какие-то коротенькие и несложные, высказывались отрывочно и непоследовательно. Наши чувства и выражения были не только стадными, но часто извращенными, язык наш страдал однообразием и бедностью выражения, запас слов был крайне невелик. Но как бы то ни было, наша мысль зашевелилась впервые, нас охватил какой-то вихрь вопросов, глаза у всех блестели, щеки пылали, сердца трепетали. Мы сидели и рассуждали далеко за полночь, бросаясь к кроватям при каждом шуме из комнаты классной дамы.
– Он просто отчаянный какой-то! – было мнением большинства. Однако, несмотря на отзывы, не совсем благоприятные для Ушинского, мы сразу, инстинктивно, почуяли в его личности что-то сильное, крупное и оригинальное. Эпитет отчаянного, который ему давали, польстил «отчаянным»: то одна, то другая обращала внимание подруг на то, что отчаянность уже вовсе не такой порок, как у нас принято думать. Вот он – отчаянный, а между тем очень умный и, кажется, даже хороший: сейчас раскусил, что Тюфяева дрянь, а немец плохой учитель. Но не все соглашались с этим определением: умные и хорошие люди, утверждали они, непременно в то же время люди благовоспитанные, а его насмешки над нами и разговор с Тюфяевой показывают его невоспитанность. Другие в число его преступлений заносили и то, что он осмелился назвать наш институт «стоячим болотом», а «всем известно, что это первоклассное заведение». Более всего трепались в институте выражения: «все говорят» и «всем известно», – они казались многим сильнейшим подтверждением сказанного.
– А что в нем хорошего, в этом вашем институте? – с лицом, пылающим гневом, выскочила Ратманова. – Пусть говорит каждая все хорошее, что знает о нем!.. Разве то, что мы в нем ничему не научились, что мы холодали и голодали, как жалкие собаки, что нас всячески поносили классные дамы, что нашими воспитательницами были даже сумасшедшие, что мы ни в ком не находили защиты, что мы ни от кого не слыхали доброго слова? Ах, молчите, молчите вы, несчастные, с вашим первоклассным заведением, или, лучше сказать, с вашей первоклассною чушью и тупостью! – И действительно, все замолчали, сознавая справедливость ее слов.
– А все-таки он странный! Как это он не понимает, что ничего нет дурного в декольтировании? Это только красиво! Ведь если бы это было пошло и неприлично, то во дворцах и в аристократических домах на балах не являлись бы с голыми плечами? – Этот довод показался настолько веским и убедительным, что все присоединились к нему. Но тут же некоторые старались оправдать непонимание Ушинским таких простых вещей тем, что он, вероятно, очень ученый, сильно заучился, а потому и ничего не смыслит в жизни, особенно же в красоте.
– Небось очень понял, что maman красива, а Тюфяева урод: он потому-то так и накричал на нее, а с красивою maman у него и дружеские разговоры.
– Не то, не то… – возражали ей. – Тюфяева идиотка, a maman умна и умеет всех очаровать. Да он скоро и ее раскусит!.. Что-то будет завтра? Ах, если бы он подольше у нас остался! – восклицали воспитанницы, но тут же единогласно высказывали твердое убеждение, что ему у нас несдобровать.
Через несколько дней после описанных событий Ушинский посетил урок русского языка учителя Соболевского, который преподавал во всех младших классах. Это был человек сухой как скелет, длинный как жердь, с низким лбом, с провалившимися щеками, с косыми глазами, с коротко подстриженными волосами, торчащими на голове, как у ежа. Самое неприятное в этом преподавателе было то, что он при своем чтении и объяснении брызгал слюною во все стороны, отчего сильно страдали воспитанницы, близко к нему стоящие. Его урок делился на две части: первую половину времени он спрашивал заданную страницу из грамматики, требуя, чтобы ее отвечали слово в слово, ничего не пополняя, не изменяя и не сокращая в ней. Диктантом он никогда не занимался, как будто не имел даже представления, что это следует делать, и дети разучились бы писать, если бы он не задавал списывать и выучивать басню за басней Крылова.
Самая характерная часть урока наступала тогда, когда Соболевский[57] приказывал отвечать басню. Он всегда был недоволен ответом и каждой вызванной им девочке показывал, как следует декламировать. Начиналось настоящее представление. Зверей он изображал в лицах: лису, согнувшись в три погибели, до невероятности скашивая свои и без того косые глаза, слова произносил дискантом, а чтобы напомнить о ее хвосте, откидывал одну руку назад, помахивая ею сзади тетрадкой, свернутой в трубочку. Когда дело шло о слоне, он поднимался на носки, а длинный хобот должны были указывать три тетради, свернутые в трубочку и вложенные одна в другую. При этом, смотря по зверю, он то бегал и рычал, то, стоя на месте, передергивал плечами, оскаливал зубы.
Ушинский вошел на урок как раз в ту минуту, когда Соболевский декламировал басню «Слон и моська». Когда он произнес слова: «Ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться», он старался все это драматизировать более, чем когда-нибудь. С изумлением смотрел на него Ушинский, не делая ни малейшего замечания, но, чтобы прекратить комедию, наконец сказал: «Я буду диктовать». Когда после этого он просмотрел несколько тетрадей, то заметил, что некоторые воспитанницы делают в словах больше ошибок, чем букв, кивнул головой и вышел.
Оба они встретились на нижнем коридоре, и Ушинский заметил:
– Вы, вероятно, слышали много похвал выразительному чтению, но у вас уже выходит целое представление… Так кривляться даже как-то унизительно для достоинства учителя.
Соболевский и тут не понял, что эти слова – его приговор, и отвечал, что он с трепетом будет ожидать окончательного решения г. инспектора. Ушинский резко отвернулся от него и начал искать свои калоши. Соболевский нашел их и уже нагнулся, чтобы подать их ему, но Ушинский со злостью вырвал их у него и произнес с запальчивостью:
– Лакей на кафедре – уже совсем неподходящее дело!.. Это мое окончательное решение!
– «Лакей на кафедре»! «Лакей на кафедре»! – повторяла одна воспитанница другой. – Господи, какие у него все чудные выражения! Знаешь, душка, я сейчас сошью маленькую тетрадку и буду записывать все его выражения…
Мы с большим нетерпением ждали посещения Ушинским урока нашего учителя литературы и словесности Старова, который считался у нас лучшим преподавателем. Мы тщательно готовили его уроки, а потому наперед праздновали победу.
Старов по натуре был человек порядочный, мягкий, добросердечный и обязательный. Он пользовался всеобщим расположением. В то время как мы считали минуты, когда окончится урок того или другого учителя, мы заслушивались Старова и каждый раз с нетерпением ожидали его урока. Мы проходили у него теорию прозы и поэзии, а также и литературу. Как у большинства других учителей, мы не имели и для его курса никакого учебника. Руководством для этого предмета нам служили листки, составляемые Старовым, которые мы из любви к учителю заучивали очень твердо и переписывали особенно изящно. Нужно сознаться, теория прозы и поэзии Старова была образцом самых нелепых определений, громких, напыщенных фраз, отрывочных сведений, не приведенных в систему. Но мы тогда не понимали этого и более других предметов любили учить уроки Старова, так как они были испещрены словами: «высокое», «прекрасное», «эстетическое», «идеал», и отрывками из произведений в стихах и в прозе, которые Старов, по нашему мнению, читал нам в совершенстве. Читал он несколько гробовым голосом, сопровождая чтение классическими жестами, но нам это чрезвычайно нравилось. В стихотворениях нас увлекала музыка и мелодичность стиха, в прозе – возвышенные выражения, и хотя до смысла мы не додумывались, и наш учитель не объяснял нам его, но все же это нас увлекало более, чем сухое заучивание грамматики. Фрагменты из теории прозы и поэзии Старова нам очень мало давали и потому, что они были слишком отрывочны и служили пояснением мало для нас понятного определения какого-нибудь рода поэзии или прозы. Так же проходили мы у него и историю литературы. В его записках в хронологическом порядке были названы все произведения автора, с несколькими страницами объяснений при наиболее крупных из них. Сами мы никогда не читали ни одного произведения знаменитого русского писателя, а преподаватель знакомил нас с ним лишь в отрывках. Таким образом, мы не имели ни малейшего понятия ни о фабуле произведения, ни об идее, которая осуществлялась в том или другом художественном образе. Несмотря, однако, на все это, Старов был самым лучшим и даже единственным искренно любимым учителем. В то время, когда остальные учителя держали себя с нами хотя и вежливо, но официально, он один неизменно относился к нам с самым теплым участием. К тому же он так возвеличивал, так идеализировал женщин вообще, а это, конечно, не могло не льстить нам.
– Женщина, – слышали мы чуть не на каждой его лекции, – самое возвышенное, самое идеальное существо! Ей одной предназначено обновить мир, внести идеалы, уничтожить вражду, поселить любовь, внушить уважение… Только женщина может примирить человека с жизнью! Только красота женщины, ее грация и прелесть, кротость и неземная доброта могут разогнать душевную тоску, тяжесть одиночества.
Мы, конечно, не имели ни малейшего представления, каким образом мы можем разгонять тоску одиночества, как мы будем обновлять мир и зачем его обновлять, ни малейшего понятия не имели мы и об идеалах, какие нам предназначено внести в мир, но все же из этих слов нам было ясно, что назначение женщины очень прекрасное, и мы весьма гордились этим.
Добрая натура Старова не выносила официальных отношений – встречая на коридоре толпу всегда поджидавших его девиц, он не только радушно со всеми раскланивался, но, замечая облачко на чьем-либо лице, нежно произносил: «Что затуманилась, зоренька ясная?» или что-нибудь в этом роде, всегда с экстазом декламируя множество стихов и вне классов, и во время уроков.
– Ах, monsieur Старов, – говорит ему одна воспитанница, – я сегодня буду наказана. – И она откровенно рассказывает ему, за что ей придется вынести наказание, и кем оно назначено. Старов, как стрела, бросается к классной даме и, хватая ее за руки, со слезами на глазах, начинает ее умолять простить воспитанницу.
– Вы добрая, прекрасная, хорошая. Может ли в вашем сердце, в сердце такого благороднейшего существа как женщина, жить злое чувство!.. Нет, это невозможно! Карать… казнить… и кого же?.. Такое юное, такое невинное существо!.. Возможно ли казнить юность за ее увлечения? Прощать, прощать – вот назначение женщины! Клянусь вам, прощающая женщина – это… это… ангел в небе! Нет, я не уйду отсюда! Я вымолю у вас прощение! Я стану перед вами на колени!
Опасаясь, что Старов приведет это в исполнение, и польщенная прекрасными эпитетами, которые ей едва ли когда-нибудь приходилось слышать от мужчины, классная дама обыкновенно торопилась исполнить его желание. «Ах вы чудак! Добряк вы этакий! Ну, хорошо, хорошо, для вас я прощаю», – и она немедленно подзывала провинившуюся воспитанницу и громогласно объявляла, что прощает ее для г. Старова… Все садились за урок в самом добром, мирном настроении.
Начальство смотрело на Старова как на очень вежливого человека, прекрасного учителя, прощало ему его экстаз и эксцентричные выходки и нисколько не мешало нам, воспитанницам, окружать его толпою на коридоре, так как отлично знало, что характер его разговоров и вне классов, и на уроках неизменно один и тот же. И действительно, Старов везде был одним и тем же незлобивым, восторженным человеком, легко приходившим в экстаз, по-видимому, часто даже без малейшего для этого повода. Вследствие своей ограниченности он как учитель не мог принести нам особенной пользы, но зато не сделал никому не только ни малейшего вреда, но и какой бы то ни было неприятности. Восторженность его положительно была беспредельна: когда знаменитый артист Олдридж давал в Петербурге свои представления, и публика во время антракта вызывала его, Старов пробрался на театральные подмостки, бросился перед ним на колени и поцеловал его руку.
Итак, мы считали Старова не только симпатичнейшим из людей, но и замечательным преподавателем, и не находили ни малейшего пятнышка в его преподавании. Когда в первый раз после назначения Ушинского мы поджидали Старова на урок, мы вышли встретить его целой толпой. При его появлении мы тотчас начали рассказывать ему все «выходки» нового инспектора.
– Несомненно, – говорил Старов грустно и задумчиво, – такое лакейство со стороны Соболевского некрасиво… Но зачем же такая резкость тона, за что оскорблять! Он человек семейный, бедняк, неразвитой, конечно, но совсем не злой…
Когда мы сообщили ему, как Ушинский отнесся к нам за то, что мы облили его шляпу духами, он глубоко возмутился:
– Господи! И к такой, можно сказать, поэтической черте характера юных созданий приурочивать этот… грубый материализм! – И затем, несколько помолчав, он добавил уже совсем печально: – Что же, девицы, может быть, и мне придется расстаться с вами!
– Ну, уж этому не бывать! – закричали мы в один голос. – Если он вас не сумеет оценить… он, значит, уж совсем невежда! Мы все тогда восстанем! Мы ни за что этого не допустим!
Старов обводил толпу институток восторженными глазами, которые без слов говорили – «прелестные создания», затем, раскачиваясь из стороны в сторону, как это всегда с ним бывало перед какой-нибудь наиболее восторженной импровизацией, он начал:
– Вы не знаете, что творится в мире! О, как прелестны вы вашим неведением! Не теряйте его, этого лучшего сокровища юного сердца!
Но мы перебили его, желая во что бы то ни стало с его помощью хотя несколько уяснить себе загадочный характер нового инспектора.
– Monsieur Старов, скажите нам, пожалуйста, ваше мнение об Ушинском… Вы сказали… грубый материализм… Что это означает? – приставали мы к нему.
– Полноте, зачем вам это?.. Я, наконец, совсем не знаю господина Ушинского. Слышал, конечно… Как бы это вам объяснить… Видите ли… В большом ходу теперь новые идеи… Конечно… многие из них заслуживают полнейшего уважения… Мне говорили, что Ушинский… в высшей степени образованный человек… Он, говорят, поклонник новых идей! Что ж!.. Нам, старикам, по правде сказать, и давно пора очищать место для новых людей, для новых идей!
Звонок прекратил наши расспросы, заставив нас опрометью бежать в класс. Мы не успели еще рассесться по скамейкам, как к нам вошла инспектриса, а за нею Ушинский. Он, к нашему удивлению, приветливо раскланялся со Старовым.
– Вам угодно будет экзаменовать девиц? – обратился Старов к Ушинскому.
– Нет! Я буду вас просить продолжать ваши занятия.
Старов начал вызывать воспитанниц и спрашивать заданный урок о Пушкине. Вызванная воспитанница прекрасно отвечала.
– Очень твердо заучено… – заметил Ушинский. – Но вместо «фразистых слов учебника» (о ужас! Эти, как он называл, «фразистые слова учебника» были записки самого Старова!) расскажите мне содержание «Евгения Онегина»!
Старов начал объясняться за воспитанницу. В классе не существует библиотеки. Свой единственный экземпляр он, Старов, не может нам оставлять, так как об одном и том же писателе в один и тот же день читает нередко в двух-трех заведениях.
– В таком случае я совсем не понимаю преподавания литературы! Вы обращались по этому поводу с запросом к администрации заведения?
– Дело здесь испокон века так ведется… Забота о библиотеке – не мое дело…
– Девицы, кто из вас читал «Мертвые души»? Потрудитесь встать…
Никто не двигался с места.
– Это невозможно! Вы, сударыня, читали? А вы? Но, может быть, что-нибудь другое читали из Гоголя? «Тараса Бульбу» знаете? Неужели и произведений Пушкина никто не читал? А Лермонтова, Грибоедова? Но это невозможно! Я просто этому не верю! Как, ни одна воспитанница, проходя курс русской литературы, не поинтересовалась прочесть ни одного наиболее капитального произведения!.. Да ведь это, знаете, что-то уже совсем баснословное! – Ушинский не получал ниоткуда никакого ответа и, все более горячась, обращался то к воспитанницам, то к учителю. – Но чем же набит ваш шкаф? – И с этими словами он подбежал к шкафу, который был наполнен тетрадями, грифельными досками и другими классными принадлежностями; две-три полки были уставлены произведениями Анны Зонтаг[58], Евангелием и несколькими дюжинами разнообразных учебников. Пожимая плечами, нервно перелистывая учебники, Ушинский, точно пораженный, несколько минут молча простоял у шкафа, затем быстро захлопнул его, подошел к столу и сел на свое место. – Что ж, потрудитесь продолжать занятия, – сказал он как-то вяло, обращаясь к Старову и вытирая платком пот, струившийся по его бледному лбу.
– Какие тут занятия! – обиженно процедил сквозь зубы Старов, однако вынул из портфеля один из томов Пушкина и начал читать стихотворение «Чернь» (под этим названием печаталось тогда стихотворение А. С. Пушкина «Поэт и толпа». – Прим. ред.), с каждой строчкой приходя все в больший экстаз. Последнее четверостишие:
Не для житейского волненья. Не для корысти, не для битв, — Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв… —он читал, уже вскочив с места, с воспаленными глазами, голосом, прерывавшимся от волнения и выражавшим все ядовитое презрение, какое только могло накопиться в этой доброй душе ко всем поборникам материализма, не умеющим ни понимать, ни ценить небесных вожделений и поэтических восторгов.
– Но ведь воспитанницы незнакомы еще и с более капитальными произведениями Пушкина… – заметил Ушинский. – Впрочем, продолжайте… Вы, вероятно, будете теперь им это объяснять?
– Что же тут объяснять! Они отлично все понимают… У этих девушек весьма сильно развито художественное чутье…
– Ого, даже художественное чутье!.. А чем бы, кажется, оно могло быть развито при таких условиях, – сказал Ушинский, не скрывая иронии, и, вызвав одну из воспитанниц, он попросил ее передать стихотворение своими словами. Но ни эта девица, ни другая, ни третья ничего не могли рассказать, хотя все слушали с напряженным вниманием.
Тогда в дело вмешалась инспектриса. Она заявила Ушинскому, что Старов замечательный преподаватель, что воспитанницы чрезвычайно любят его предмет и много над ним работают, но в данную минуту они очень переконфузились и потому не могут отвечать.
– Может быть, может быть, – недоверчиво улыбаясь, отвечал Ушинский. – Попробуем объясниться письменно! Пусть одна из воспитанниц вслух раза два прочтет стихотворение, и затем, девицы, потрудитесь своими словами письменно изложить прочитанное. – И он вышел в коридор.
Наша письменная работа оказалась в высшей степени бестолковою: у одних она представляла шумиху напыщенных фраз, не имеющих между собою элементарной логической и грамматической связи, у других черни приписывалось то, что говорил поэт, и наоборот, и при этом у тех и у других немало было крупных орфографических ошибок. К счастью для нас, звонок помешал Ушинскому читать вслух наши сочинения, и он взял их с собой.
Мы скоро пришли к убеждению, что новый инспектор не уволит нашего общего любимца Старова только в том случае, если мы выступим на его защиту. Мы предполагали, что, когда ученицы очень хвалят своего учителя, каждый обязан понимать, что при этом уже нельзя усомниться в его педагогических талантах. И мы решили защищать его до последней капли крови.
Нельзя сказать, чтобы мы не сознавали всей трудности задачи говорить с Ушинским, перед которым робеют и теряются даже учителя. Но нам казалось, что уклониться от этой обязанности было бы величайшею низостью.
Как плохо, однако, мы были вооружены для этого! Если между нами и были поэтессы, то ораторов, даже плохоньких, совсем не существовало. Мы наивно выражали наши детские мысли, не умели выделить главного от мелочей и при этом страшно конфузились всех, а тем более Ушинского. Но для любимого Старова никакая жертва не была тяжела. Мы условились между собою, что одна из нас во всем блеске выставит необыкновенную доброту Старова, другая укажет на его таланты, видимо, совсем неизвестные «господину инспектору».
Мы бросились к нему, как только он показался в коридоре.
– Monsieur Ушинский! – кричали мы, окружая его.
– Ах, пожалуйста, не называйте вы меня monsieur! Чересчур официально! Константин Дмитриевич, да и все тут!..
Это неожиданное предложение так переконфузило нас, что мы забыли даже, о чем собирались с ним беседовать.
– Что же вы хотели сказать? Ради бога, не конфузьтесь! Останавливайте, спрашивайте меня обо всем, что вам угодно… И не очень сердитесь за мою резкость, за мой, может быть, не совсем вежливый тон… Работы у меня гибель, я всегда так тороплюсь: вот для скорости иногда и отхвачу приставочку к речи, которою можно было бы закруглить, смягчить то, что хочешь сказать… Ну, в чем же дело?
Мы толкали ту, которая должна была начинать, но она могла только проговорить:
– Вы недовольны Старовым! Ведь он же не виноват, что нам не дают книг! Вы его совсем не знаете!.. Он такой добрый!.. Просто даже чудный человек!
– Правда, правда: незлобивый, даже весьма недурной человек, но, к сожалению, этого еще очень мало для преподавателя…
– Вы, должно быть, не знаете, что он поэт! Даже очень знаменитый поэт! – лепетала Ивановская, обязанностью которой было выставить его таланты.
– Не знал… не знал, что такой поэт существует! Да еще знаменитый! Гм… подите же!.. Какие же такие его произведения? Он уже, конечно, познакомил вас с ними и, может быть, даже не в отрывках только?
Ивановская пролепетала, что у него есть чудное стихотворение «Молитва». Ушинский в конце концов уломал ее продекламировать его, и она начала дрожащим голосом:
Как много песен погребальных Еще ребенком я узнал, И скорбный смысл их слов прощальных Я часто юношей внимал. Но никогда от дум печальных Старов душой не унывал! Создатель мира, царь всесильный. Мне много, много подарил, Когда веселостью обильной Он трепет жизни домогильной Во мне…– Довольно… довольно! Это бог знает что такое! Ведь Старов уже много лет читает литературу в разных заведениях и мог бы понять, что в его стихотворении нет ни поэзии, ни мысли, ни чувства, ни образа. А он не стыдится показывать эту свою замогильную чепуху своим ученицам! Нет, воля ваша, это просто фразер и пустозвон!.. Не горюйте вы по нем… У меня в виду имеется для вас превосходный преподаватель. И если в учителе вы ищете доброты… по-моему, и одного ума достаточно… так ваш будущий учитель в то же время и очень добрый человек…
– Чем же он лучше Старова? – спрашивали мы, удивляясь, что с Ушинским можно разговаривать.
– Да хотя бы тем, что он научит вас работать, заставит полюбить чтение, познакомит не только с названиями великих произведений, но с их содержанием и с идеями автора.
– А как его фамилия?
– Водовозов[59].
– Ну, уж одна фамилия чего стоит! – выпалила, расхохотавшись, одна из нас, неожиданно даже для себя самой.
– Вы ошибаетесь, – запальчиво возразил Ушинский, решительно не переносивший не только ни малейшей пошлости, но и глупой остроты. – Он будет пригоден и для того, чтобы научить вас понимать, что достойно смеха и что не заслуживает его.
Переконфуженные резким замечанием Ушинского и обозленные провалом, воспитанницы ввалились в класс, ругая на чем свет своих ораторш, не умевших защитить Старова, и перекоряясь между собой. Хотя при этом сильно доставалось и Ушинскому, которого мы честили эпитетом «непроходимой злюки» за то, что он выгоняет даже добрых учителей, но когда несколько успокоились, то некоторые начали высказывать, что незачем-де было цитировать стихи Старова, которые действительно уже вовсе не так прекрасны, забывая о том, что еще недавно они так восторгались ими, что каждая переписывала их в свой альбомчик и знала наизусть. Это критическое отношение пошло и дальше: говорили, что хотя Старов и чудный человек и превосходно читает, но как-то от всех его лекций в голове ничего не остается. На это Ратманова закричала во все горло:
– Если бы сюда собрать всех мировых гениев прошлых, настоящих и будущих веков, все они вместе ни на йоту не просветили бы ваши дурацкие головы!
Поднялась страшная буря, – все набросились на Ратманову. На это как сумасшедшая вбежала m-lle Лопарева:
– Как вы смеете так орать? Хотя вы и выпускные, но в наказание будете стоять весь следующий урок.
Она перед этим с кем-то разговаривала в коридоре, куда сейчас же и выбежала.
– Не смейте подчиняться этому! Преспокойно садитесь, когда войдет учитель… – кричали некоторые.
И действительно, когда в класс вошла Лопарева, а за нею учитель, мы, несмотря на наказание, преспокойно уселись на свои места. Это был первый протест, устроенный сообща всем классом без исключения. Лопарева густо покраснела от злости, но не решилась пикнуть, вероятно, поняв по выражению наших лиц, что на этот раз мы скорее сделаем скандал, чем подчинимся требованию.
Хотя Ушинский некоторым учителям отказал при первом же посещении уроков, но большая часть их оставалась у нас до официального утверждения его учебной реформы.
Воспитанница старшего класса Аня Ивановская отправила однажды письмо к своему отцу через классную даму Тюфяеву, в котором она просила его прислать ей денег. Ответ получился через ту же даму, у которой была родственница, несколько знакомая с г. Ивановским; она приносила о нем разные сплетни m-lle Тюфяевой. Ивановский на этот раз отказывался исполнить просьбу дочери за неимением денег. Тюфяева, прочитав письмо и передавая его Ивановской при ее подругах, начала попрекать ее тем, что она научилась «нос задирать», а между тем у отца ее ничего нет; если же что и перепадает ему, то он предпочитает тратить деньги на театры, чем посылать их дочери. Из этого примера Тюфяева сделала общий вывод и начала обычную свою канитель на тему, что-де от них, классных дам, теперь требуют бог знает чего, даже каких-то нежностей с воспитанницами, которые для них совершенно чужие, а вот и отец родной, а нежностей к дочери и особых забот о ней не проявляет.
Зная необыкновенную вспыльчивость Ивановской, воспитанницы незаметно, но ловко выталкивали ее локтями в задние ряды, и она наконец выбежала в коридор. В эту минуту проходил Ушинский и с большим участием обратился к ней, упрашивая ее оказать ему маленькое доверие, сказать, почему она так грустна. Она объяснила ему, что воспитанницы обязаны переписываться с родителями не иначе, как через классных дам. Такое правило существует, и тут уже ничего не поделаешь, но она злится на себя за то, что не постаралась, как другие ее подруги, переслать свое письмо через их родственников. К тому же ее оскорбляет то, что m-lle Тюфяева воспользовалась письмом ее отца для того, чтобы попрекать ее теми сплетнями, которые она собирает о нем у своей родственницы, с умыслом искажает его слова, чтобы унижать ее и часами говорить свои опостылевшие проповеди.
Ушинский горячо поблагодарил Ивановскую за доверие и сказал, что оно поможет ему обратить внимание на эту сторону жизни институток, что он поговорит об этом с кем следует и будет стараться уничтожить этот обычай. И действительно, мы узнали, что Ушинский со всей энергией, присущей его страстному темпераменту, говорил с принцем Ольденбургским, а также и на разных совещаниях о том, что обычай контролировать письма воспитанниц подрывает основы семейных уз и приучает их хитрить, лгать и обманывать. Развивая в воспитанницах рабские чувства, он не дает начальству возможности достигать единственной цели, к которой оно при этом стремится, то есть мешать воспитанницам передавать родителям что бы то ни было непочтительное о начальстве. Когда им необходимо снестись с родственниками так, чтобы этого никто не знал, они умеют обходить это правило. Воспитанница, раздраженная тем, что не может по душе говорить с своими родителями, в своем секретном письме отделает начальство так, как это ей не пришло бы в голову, если бы ей не мешали быть откровенной с ними всегда, когда она того пожелает.
Однако Ушинскому, несмотря на красноречивые доказательства вреда этого обычая, не удалось его уничтожить, но он сильно ослабил его: в либеральную эпоху его инспекторства некоторые классные дамы начали передавать воспитанницам письма, не распечатывая их, другие распечатывали лишь для проформы. Но, конечно, оставались и такие, которые не меняли своего поведения в этом отношении.
Зато Ушинскому удалось настоять на том, чтобы воспитанницы во время уроков не сидели без пелеринок; достиг он уничтожения и еще несравненно более вредного обычая. До его вступления воспитанницы не имели права предлагать вопросов учителям. Ушинский настоял на том, чтобы они спрашивали у них не только то, чего не понимают, но чтобы вообще урок носил характер живых бесед. Однако большинство нововведений, которых Ушинский достиг путем тяжелой борьбы с консервативным до дикости начальством, погрязшим в рутине и предрассудках, были уничтожены тотчас же после того, когда он сложил с себя звание инспектора и оставил институт.
Прошло недели три со дня вступления Константина Дмитриевича в должность инспектора. Пока никаких реформ еще не было введено; несмотря на это, буквально каждая встреча с ним, каждое его слово, все, что мы слыхали о том, что он объяснял в других классах, было для нас откровением, поражало нас, давало нам огромный материал для споров и бесед между собой. Иной раз то или другое в его словах, казалось нам, противоречило тому, что он говорил перед этим. Но нередко все это вдруг выяснялось каким-нибудь одним его замечанием, а затем постепенно мы сами стали доходить до разгадки некоторых его слов и поступков. То, что мы не понимали самых элементарных вещей, было естественным последствием нашей оторванности от жизни, нашего монастырского воспитания.
С водворением Ушинского мы, как по мановению волшебного жезла, проснулись, ожили, заволновались и не могли наговориться друг с другом. Раздоры и пререкания между собой, даже отчаянные выходки против классных дам проявлялись теперь несравненно реже уже вследствие того, что мы были заняты другим. Еще так недавно наша жизнь протекала крайне однообразно, не давая нам никакого материала для живого общения между собой, и наши разговоры ограничивались рассказами друг другу о выходках классных дам и о наших мечтах подкузьмить так или иначе ту или другую из них. Теперь мы каждое слово и замечание Ушинского обсуждали со всех сторон и все более критически относились к прежним нашим взглядам. Мы постепенно примирились и с резкими выходками Ушинского, начиная мало-помалу сознавать, что они обыкновенно вызывались какою-нибудь глупостью с нашей стороны. Все искреннее и глубже проникались мы сознанием того, что Ушинский приносит нам действительную пользу, что он стремится сделать нашу жизнь более человеческою и содержательною, чем это было раньше. Наши дикие, специфически институтские взгляды незаметно сглаживались и заменялись воззрениями иного характера. Наш страх, что Ушинский будет уволен из института за то, что он с такою прямотою, смелостью и резкостью, не щадя мелкого самолюбия начальства, проводит свои взгляды и идеи, не только исчез, но заменился совершенно противоположным.
Нам казалось уже, что такого человека, как Ушинский, никто не посмеет тронуть. Конечно, такое мнение говорило об отсутствии понимания жизни, но, как бы то ни было, наша вера во всемогущество Ушинского все росла и укреплялась слухами о нем. Мы узнали, что его педагогическая и литературная деятельность, его блестящие успехи в Гатчинском институте, где он раньше был инспектором, обратили на него всеобщее внимание. Наши учителя, классные дамы, инспектриса открыто говорили о том (и это подтвердилось), что императрица Мария Александровна, желая поднять институтское образование, решилась ввести в нем многие реформы и сама указала министру народного просвещения Норову (члену совета института по учебной части) на Ушинского как на желательного для этого человека. И для нас стало очевидным, почему Леонтьева до сих пор не уволила его. Мы твердо начали верить, что при энергии Ушинского реформы будут проведены, и безапелляционно решили, что он будет в институте таким же реформатором, каким был Петр Великий в России.
Как-то, когда до выпуска оставалось всего несколько месяцев (тогда выпуски бывали в марте), ко мне подошел Ушинский и спросил:
– Не вы ли та воспитанница, которая вследствие падения с лестницы чуть не вдребезги разбила себе грудь и, испытывая жестокие боли, подвергая себя смертельной опасности, не пошла к доктору, опасаясь этим опозорить себя?
Я почувствовала в его вопросе иронию и молчала; подруги, стоявшие подле, подтвердили, что это была именно я. Вдруг этот строгий, суровый человек, тонкие, крепко сжатые губы которого так редко улыбались, разразился громким, веселым смехом, а мне это показалось каким-то оскорбительным издевательством, и я повернулась, чтобы уйти даже без реверанса, что считалось у нас невежеством.
– Что же вы сердитесь? Кажется, даже обиделись?
– Каждая на моем месте поступила бы так же…
– Ну нет! Если даже у всех вас такие «идеальные убеждения», то все-таки редко кто мог бы выдержать характер до конца. Право же, вы оказались настоящей героиней! Если у такой девочки, как вы, такой характер, столько силы воли, она может употребить их на что-нибудь более полезное. Одним словом, я хочу предложить вам вместо того, чтобы уехать домой после выпуска, остаться еще здесь и поучиться в новом, седьмом классе, который я устраиваю для выпускных. Уверяю вас… почитаете, подумаете, поработаете головой – и даже на такой вопрос, который мы только что обсуждали, будете смотреть иначе.
Видя мои колебания, он добавил, что если я соглашусь, то должна буду спросить разрешения родителей, но что для этого еще много времени впереди.
Ушинский явился первым светлым лучом в царстве институтского мрака, пошлости, невежества и застоя. Нужно, однако, иметь в виду и то, что во второй половине 50-х годов во всей России занималась заря новой жизни, являлись проблески наступающей эпохи возрождения. В обществе распространялись новые идеи, вырабатывались новые идеалы, пробуждалось отрицательное отношение к окружающим явлениям русской действительности. Оживление среди воспитанниц, наступившее вслед за назначением к нам Ушинского, усиливалось вследствие того, что прогрессивные идеи стали проникать и к нам, несмотря на наши высокие стены и на полную монастырскую замкнутость нашей жизни.
После непробудной спячки у нас вдруг зашевелился мозг, и мы стали обращаться к нашим родственникам с более живыми вопросами; поэтому каждый раз после приема родных одна из воспитанниц сообщала что-нибудь новенькое. Нечего и говорить о том, что все эти новые идеи в передаче институток и по форме, и по содержанию носили характер не то наивный, не то комичный.
– Представьте, мой брат-студент утверждает, что скоро все люди без исключения будут равны между собой. Ведь это же значит, что никакой разницы не будет между генералами и солдатами, между крестьянами и высокопоставленными людьми! Все должны будут решительно все делать сами, значит, даже люди знатные будут сами выносить грязную воду. Ведь если это верно, значит, все на свете перевернется!
– А мой папа говорил, что у всех помещиков скоро отберут крестьян, что мужицкие дети будут учиться на одной скамейке с господскими, а мы – с нашими горничными…
– Мой дядя настаивает, чтобы после выпуска я сделалась учительницею и учила самых простых детей, а взрослым внушала мысль о том, что теперь стыдно мучить крестьян, что это даже очень гадко…
– Мой папа (он служит в министерстве) говорит, что человек должен гордиться бедностью, – это значит, что он ничего не накрал, а что большая часть богачей богаты потому, что они наворовали на службе.
Все это мы обсуждали, обо всем вели бесконечные споры, судили-рядили вкось и вкривь, но хорошо было уже то, что у нас заработала, голова.
Нашему оживлению и развитию помогало и то, что наш библиотечный шкаф, в котором никогда не было ни одной книги для чтения, наполнился номерами журнала «Рассвет» Кремпина и другими книгами, пригодными для чтения юношества. Произведения русских классиков появились в нашей библиотеке несколько позже.
Внимательно осматривая в институте каждый уголок, Ушинский заметил одну всегда запертую комнату. Наконец она была открыта перед ним, эта таинственная дверь. Каково же было его удивление: он увидел огромную комнату, заставленную по стенам старинными шкафами с огромной коллекцией животного царства, с прекрасными для того времени коллекциями минералов, драгоценные физические инструменты, разнообразные гербарии.
Императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, получив от кого-то эти сокровища, подарили их институту, где их никогда не употребляли в дело, где никто никогда не показывал их воспитанницам. Ввиду того что это были дары двух императриц, институтское начальство находило необходимым беречь их, то есть крепко-накрепко запереть в большой отдельной комнате, о существовании которой, вероятно, уже давным-давно никто не вспоминал, кроме сторожа, наблюдению которого они были поручены, но и тот, видимо, не очень затруднял себя заботами о них, так как немало дорогих вещей оказалось испорченными молью.
Впоследствии Константин Дмитриевич не раз вспоминал при мне об этой находке, особенно приятно поразившей его. Считая необходимым ввести преподавание физики и естествознания вообще, он прекрасно знал, какое встретит затруднение: начальство, косо смотревшее на введение чего бы то ни было нового, сделало бы все, чтобы затормозить преподавание этих предметов. Под предлогом того, что на покупку физических инструментов, различных коллекций и моделей пришлось бы затратить значительную сумму, начальство могло отложить введение преподавания естествознания в долгий ящик. К тому же в институте уже многие поговаривали о том, что производить физические опыты немыслимо в классе, а особого помещения для этого не имелось. И вдруг мечта Ушинского осуществляется так неожиданно! Сравнительно небольшую сумму, необходимую для ремонта испорченных вещей и на добавочные приобретения кое-чего, выдали без затруднения, – так поразил всех доклад Ушинского об его находке. «Начальство увидало в этом чуть не перст божий, споспешествовавший мне в моих предприятиях», – смеясь, рассказывал он об этом.
Для присмотра за кабинетом был приставлен особый сторож. Комната, еще недавно постоянно запертая, с большим удобством послужила для уроков физики: для опытов в ней все было под руками учителя.
Этот «музей» тоже внес в жизнь институток некоторое оживление. «Все видели вечно запертую комнату, однако никто не заинтересовался ею настолько, чтобы проникнуть в нее. Он один все смеет, все может, из всего извлекает пользу, обо всем думает», – рассуждали мы, проникаясь все большим благоговением к Ушинскому, и после находки музея начали смотреть на него, как на что-то вроде мага и волшебника.
Мы то и дело бегали осматривать «музей», но скоро это было строго запрещено. Вместе с Ушинским туда приходил посторонний человек, выносил оттуда порченые чучела животных и приносил их обратно в исправленном виде. Так как вход в кабинет был запрещен до приведения его в порядок, то мы еще сильнее стремились заглянуть в него. Однажды две воспитанницы нашего класса, увидав, что Ушинский только что вышел из «музея», вбежали в него. Никого не заметив и рассматривая животных, расставленных временно на полу, одна из них, указывая подруге на зверька, утверждала, что то был соболь, другая настаивала на том, что это – куница. Вдруг из-за угла шкафа вышел молодой человек и проговорил:
– Ни то, ни другое, mesdemoiselles, – это только ласка… Мне говорили, что институтки не умеют отличить корову от лошади? Правда?
– Какая дерзость! – закричала ему в упор одна из воспитанниц.
– Мы непременно пожалуемся на вас Ушинскому! – бросила ему другая.
– Ах, барышни, барышни! Вы даже не понимаете, что жаловаться стыдно!.. – со смехом возразил молодой человек, видимо нисколько не испуганный их угрозою.
Девицы как ошпаренные выскочили из «музея» и чуть не со слезами передавали подругам этот эпизод. Мы долго обсуждали сообща, как бы проучить «нахала». Нам казалось это необходимым, так как в этом случае была затронута наша корпоративная честь. Но мы пришли к убеждению, что это немыслимо. Ушинский обыкновенно уходил и приходил вместе с молодым человеком (оставлять постороннего у нас не допускалось), и на этот раз он вышел, вероятно, лишь на несколько минут; следовательно, всякая «история» с нашей стороны причинила бы большую неприятность Ушинскому, и он мог бы посмотреть на это с очень нелестной для нас стороны.
Это маленькое приключение имело большое влияние на мою личную судьбу. «Разве Ушинский не сдерживает порою улыбку, когда мы с ним разговариваем? Разве при наших рассуждениях с ним с его уст не срываются слова: “Как это странно, как это наивно!” А мой брат еще более бесцеремонно повторяет, когда я что-нибудь рассказываю ему об институтской жизни: “Как это глупо, как это пошло!”. Да… над нами все издеваются, все смотрят на нас как на последних дур! Учиться, учиться надо!» – вот какие мысли обуревали теперь мою голову, вот что ясно и определенно сложилось теперь в моем уме.
В первый раз за всю мою институтскую жизнь я написала матери неказенное письмо: в нем я описывала появление у нас нового инспектора, оживление и волнение, которое нас всех охватило, предстоящие у нас реформы, устройство нового класса, в котором будут преподавать новые учителя, извещала ее о том, что Ушинский предложил мне остаться в нем, и просила на это ее разрешения; об этом я писала и моему дядюшке.
Начались выпускные экзамены; подготовление к ним и в то же время чтение только что доставленных нам книг, новые мысли, взгляды и вопросы, перегонявшие и сменявшие друг друга, образовали в моей голове невообразимый хаос. Вследствие своей наивности и невежества я решила, что, наверное, существует такое руководство, которое может мне выяснить, чем и как было бы полезно заниматься, что мне следует читать раньше и что позже. Это заставило меня обратиться к одной подруге с просьбою, чтобы она попросила своего брата-студента снабдить меня таким руководством. Как она формулировала мое желание своему брату, я не знаю, но он прислал мне книгу Павского «Филологические наблюдения над составом русского языка».
Боже мой, сколько мучений вынесла я из-за этой книги! Я отнеслась к ней как к кладезю величайшей премудрости, твердо верила в то, что как только я ее осилю, передо мной выяснится все и в жизни, и в книгах. Но ужас охватил меня с первой же страницы. Я решительно ничего не понимала, перечитывала каждый период по многу раз, твердила наизусть, но в голове не прояснялось, а только затемнялось. Тогда я решила записывать в тетрадь непонятные для меня слова и выражения, рассчитывая на то, что объяснения Ушинского дадут мне ключ к уразумению глубины премудрости Павского, но для этого я считала необходимым прочитать книгу до конца. Однако с каждой страницей я приходила все в большее отчаяние, и вместе с непонятными для меня фразами, выписываемыми из Павского, и вопросами по этому поводу я заносила в тетрадь и отчаянные вопли моего сердца о моем умственном убожестве.
В это время я получила от родных разрешение на продолжение образования. Как диаметрально противоположны были по своему содержанию письма дяди и матери! Дядя писал мне, что мое желание остаться в институте весьма удобно для него и для его жены: ввиду того что моя мать не может взять меня к себе, я должна была бы жить в его семействе, а он находит меня слишком молодою для того, чтобы вывозить в свет и на балы. Моя же мать выражала изумление, что я вдруг пожелала учиться и для этого решаюсь даже остаться в институте; она приписывала перемену, совершившуюся во мне, всецело влиянию Ушинского. «До сих пор, – прибавляла она, – ты писала мне деревянные, официальные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, которую я считала совсем окаменевшею, то это мог произвести только гениальный педагог». Она умоляла меня передать Ушинскому не только свое глубочайшее уважение, но и изумление, что он даже такой ленивой девочке, как я, мог внушить желание учиться. Она приказывала мне сказать от ее имени этому «необыкновенному человеку», что ее мечта о таком величайшем счастье как продолжение мною образования, вероятно, разлетится в прах. Она объясняла, что я была принята в институт по баллотировке, следовательно, имею право воспитываться на казенный счет только до выпуска; за остальное образование мое в институте ей пришлось бы, несомненно, платить, а для этого у нее нет никаких средств.
Хотя мне был очень неприятен конец письма, напоминавший о бедности, но я поняла, что скрывать это от Ушинского не имеет смысла. Моя мать была особа энергичная и, долго не получая от меня ответа, могла еще ярче изобразить ему свое тяжелое материальное положение. Вследствие этого я решила сама кое-что прочитать Ушинскому из письма моей матери, но никоим образом не доводить до его сведения ее похвалы о нем: мне казалось, что он мог принять их за ее желание «подлизаться» к нему. В то же время я собиралась поговорить с Ушинским и насчет книги Павского. Я решила напрямик высказать ему, что совсем не поняла содержания этой книги и что это, вероятно, заставит его отказать мне в приеме на новые курсы. Я находила, что скрывать это от него было бы не только наглым обманом, но и совершенно лишним: мои занятия, конечно, скоро покажут ему отсутствие у меня умственных способностей. Как это ни странно, мне гораздо легче было сознаться в этом, чем в бедности, несмотря на то что Ушинский так открыто издевался над теми, кто стыдился ее. Стыд за свою бедность исчез у нас позже всех других недостатков и диких взглядов, усвоенных в институте.
Стараясь поймать удобный момент для переговоров с инспектором, я расхаживала по коридору с письмом матери, с книгою Павского и с тетрадкой, в которой были отмечены непонятные для меня слова и выражения. Но когда мне посчастливилось встретить Ушинского, я переконфузилась и стала бессвязно бормотать, что не могу перейти во вновь устраиваемый им класс, потому что не понимаю Павского; к тому же, и казна не будет меня держать бесплатно после моего выпуска. Он не мог сразу понять мой бестолковый лепет. Продолжая объяснять ему свои недоразумения, я подала ему книгу, а сама начала пробегать по тетради вопросы, которые собиралась ему сделать, как вдруг услыхала с верхней площадки, что меня зовет к себе инспектриса. Я окончательно растерялась и в рассеянности сунула ему в руки письмо, книгу и тетрадь с просьбою, чтобы он сам прочитал. Когда через несколько минут я вспомнила, что письмо в руках Ушинского, что он узнает даже содержание моей тетради, – я пришла в отчаяние, но дело было сделано.
Возвращая мне Павского, Ушинский заметил, что на основании совсем неподходящего чтения нелепо приходить в отчаяние. «Прочел я и вашу тетрадочку… Что же… она в полном смысле полна “сердца горестных замет”! Это все трогательно!.. Ваши замечания еще более побуждают меня уговаривать вас остаться в институте, чтобы вы имели возможность серьезно поработать. Со всеми вашими недоразумениями можете обращаться ко мне. Только никогда не читайте книг, не посоветовавшись раньше со мною, а Павского, пожалуйста, не раскрывайте больше». Относительно платы за будущее мое обучение в институте он добавил, что постарается все уладить.
Не прошло после этого и месяца, как он вошел в наш класс, вызвал меня и сказал: «Вы будете стипендиаткой экзарха Грузии[60], который уже отправил в контору вполне достаточную сумму на ваше образование». Я сделала обычный реверанс, не сказав ему ни слова признательности, не имея ни малейшего представления о том, как трудно вообще выхлопотать какую бы то ни было стипендию, а тем более такую значительную, какая была внесена за меня, сколько хлопот и трудов стоило Ушинскому ее добиться. Всю силу великодушия этого благороднейшего человека я поняла гораздо позже: продолжая знакомство с Ушинским и после выпуска из института, я лично была не раз свидетельницею того, как он не только приходил на помощь советом, но и доставал работу нуждающимся, выхлопатывал им стипендии, а за некоторых вносил деньги из своего кармана. В последнем случае он неизменно просил не называть его имени тем, кому он помогал.
Выпускные экзамены окончены, а вот и выпуск. Церковь переполнена народом. Мои подруги, не пожелавшие продолжать своего образования, в первый раз, как птички из клетки, вылетают на волю. Все они в пышных белых платьях, в белых кушаках, в белых перчатках. Недостает только крыльев, чтобы походить на ангелов. Теперь, когда институты сделались полузакрытыми интернатами, когда институтки, оставляя школьную скамью, имеют хотя какое-нибудь представление о жизни, они уже не могут испытывать при выпуске такого волнения, какое испытывали воспитанницы дореформенного периода. Некоторыми из них овладевал невообразимый страх за будущее, и они ожидали чего-то страшного сейчас, сию минуту, точно вот-вот их поведут на эшафот; другие твердо верили в какое-то сказочное счастье, которое сразу свалится на их головы, как только они переступят порог института. Каковы бы ни были их надежды, все они были крайне взволнованны, и это отражалось на их лицах: у многих стояли в глазах слезы; щеки, даже у бледных воспитанниц, горели румянцем. Еще вчера, в неуклюжем форменном платье, девушка не отличалась особенною миловидностью, а сегодня, в рамке пышных белокурых или черных волос, она имела прелестный и грациозный вид. А я стояла тут же в своем форменном платье.
Безысходное отчаяние вдруг овладело мною. Мне сделалось невыразимо завидно и тяжело смотреть на подруг, навсегда оставлявших институт, а я меняла возможную свободу на прежнюю кабалу и неволю. «Счастливицы! – думала я. – Завтра их не разбудит ни свет ни заря проклятый колокол, вместо криков бранчливых дам их горячо прижмут к сердцу родные руки! Зачем, зачем я осталась? Ничего не выйдет из моего ученья, да и на что оно мне пригодится?». Я бросила взгляд на присутствующих в церкви: среди мужчин и пестро разодетых дам, родственников выпускных, резко выделялись стройные фигуры в белом, говорившие о чистоте, невинности и юной прелести. В углу я заметила серьезную фигуру Ушинского. У меня закипела злоба против него, как против человека, который уговорил меня остаться в институте. Чтобы не разрыдаться, я вышла из церкви, и в первый раз в жизни никто не обратил на это никакого внимания.
Когда я пришла в класс, он был совершенно пуст. Тоска одиночества, непоправимая ошибка, которую, как мне казалось, я сделала, добровольно оставшись в прежней тюрьме, письма матери и дяди в ответ на мою просьбу остаться – все представлялось мне теперь в новом, несравненно более мрачном свете, чем прежде. И я в отчаянии, упав лицом на пюпитр, рыдала, рыдала без конца. Вдруг я услыхала позади себя торопливые, нервные шаги Ушинского. Бежать уже было поздно, и я почувствовала, что если он со мной заговорит, я выскажу ему все в глаза. На его вопрос о том, что я делаю, я в первую минуту молчала из боязни, что голос выдаст мои слезы.
– Чего вы вечно конфузитесь? – начал он, подвигая свой стул к моей скамейке и положив свой портфель на пюпитр. – Вы годитесь мне в дочери и могли бы без стеснения разговаривать со мною. Скажите-ка откровенно, ведь вам взгрустнулось потому, что не удалось сегодня, как подругам, надеть беленькое платьице и беленький кушачок? Пожалуйста, отвечайте откровенно, да не смущайтесь вы, бога ради.
Я не только не намерена была смущаться, но почувствовала, что на меня напала даже «отчаянность», совсем исчезнувшая в последнее время. Я отвечала, что конфузиться не буду: все равно, он всегда издевается над нами…
Он отвечал, что такое мнение крайне для него прискорбно, но он все-таки надеется, что это только недоразумение. И он начал говорить о том, что вследствие оторванности нашей от жизни наши взгляды и выражения нередко оказываются действительно странными, иногда даже комичными… Очень возможно, что как-нибудь, слушая нас, он улыбнулся, но он не предполагал с нашей стороны такой обидчивости, такого недоверия к нему. Издеваться над кем-нибудь из нас здравомыслящий человек не может: мы не виноваты в том, что нас здесь ничему путному не научили, что нам привили дикие понятия… Наконец он спросил, что я делала с тех пор, как возвратилась из церкви, и получил в ответ, что ничего не делала. Он выразил удивление, как это можно целых два часа просидеть ничего не делая, даже без собеседника, говорил и о том, что человек, серьезно предполагающий работать, должен давать себе отчет в каждом проведенном часе.
Злое, мрачное настроение охватывало меня все сильнее. Мне казалось, что я своими заметками о Павском, а теперь и своими ответами достаточно унизила себя в его глазах, что теперь мне уже нечего терять в его мнении, и стала высыпать перед ним все, что думала перед его приходом. Он ошибается, говорила я ему, предполагая, что я взволновалась из-за того, что не могла надеть белое платье. Я несравненно более пуста, чем он думает, и вовсе не желаю казаться лучше, чем есть. Так вот, я считаю своею обязанностью признаться ему, что прихожу в отчаяние от того, что согласилась остаться в институте продолжать учение, которое меня вовсе не привлекает, а нередко кажется даже постылым. Да и к чему это учение? В ученые лезть я не собираюсь, а «синим чулком» называться не хочу.
– Да чего это вы из кожи лезете показать мне всю вашу институтскую пустоту? Раз вы уже более откровенны, чем это даже требуется в данном случае, то скажите по правде: вы, вероятно, думаете всеми этими словами уязвить меня, причинить мне боль? А между тем вы одна будете в накладе, если уедете с такой пустой головой… Если вы решили не учиться, так вам, конечно, лучше просить родственников взять вас завтра же отсюда.
Этот ответ меня и переконфузил, и разобидел, и я, еле сдерживая рыдания, начала жаловаться ему на то, что теперь взять меня из института уже немыслимо. Моя мать не может приехать за мной, следовательно, я вынуждена буду жить в семье дяди, а он находит, что я слишком молода, чтобы вывозить меня на балы, точно я просила когда-нибудь его об этом. Несчастнее меня нет человека на свете! Моя мать, моя родная мать, вместо того чтобы выразить желание повидать меня, обнять родную дочь после долгой разлуки, только в восторг приходит от того, что я могу продолжать свое учение.
– Вы не имеете ни малейшего нравственного права так говорить о своей матери! Это, знаете ли, даже совсем нехорошо с вашей стороны! Я читал ее письмо к вам и сам получил от нее недавно письмо (я узнала потом от матери, что она благодарила его за хлопоты о стипендии для меня) и нахожу, что она на редкость разумная женщина: вместо жалких слов, поцелуев, объятий и всех этих дешевых сантиментов она горячо высказывает одно желание – чтобы ее дочь была образованной девушкой, чтобы она училась и трудилась.
Мое злобное настроение против Ушинского как-то сразу рассеялось, и мне вдруг страшно захотелось узнать, что он ответит на один мой вопрос.
– Когда вы прочли письмо моей матери… (я вам отдала его по рассеянности). Она так превозносит вас… вы могли подумать, что она к вам подлизывается…
Ушинский расхохотался.
– Ну, казните меня. Право же, немыслимо оставаться серьезным, слушая иногда, как вы выражаетесь! Уверяю вас, я не нашел, что ваша матушка подлизывается ко мне. Я уже говорил вам, что я лучшего мнения о ней по ее письмам, чем ее родная дочь. А вот за вашу заботу о моей нравственности, – ведь вы боитесь, чтобы похвалы не вскружили мне голову, – я приношу вам глубочайшую благодарность… Мне кажется, что тучи рассеялись, и теперь можно приступить к делу. Итак, решено, вы останетесь здесь, несмотря на ваше отчаяние! Так принимайтесь же за чтение! Я захватил для вас восьмой том Белинского и несколько томов Пушкина… Окажите мне маленькое доверие. Начинайте сейчас же читать «Евгения Онегина», а затем немедленно прочитайте критику Белинского на это произведение. Так читайте и остальные сочинения Пушкина. Я бы желал также, чтобы вы по этому поводу написали все, что вам придет в голову. Если вы добросовестно отнесетесь к моей просьбе, даю вам слово, что вашу досаду как рукой снимет.
Как мне было совестно всего того, что я наговорила Ушинскому! Мне так хотелось просить его простить меня за все мои глупости, но порыв отчаяния прошел, а вместе с этим улетучился и подъем смелости, когда я только и могла говорить все, что мне приходило в голову. Мною овладела обычная конфузливость, и я знала, что, если бы в эту минуту встретила Ушинского, я бы не решилась произнести ни одного слова. Мое волнение быстро улеглось уже потому, что мне удалось высказать все, что меня так смущало. Этому душевному умиротворению помогло и чувство благодарности, и надежда, что при Ушинском все в институте изменится к лучшему. «Наконец-то и в этой казарме, – думала я, – появился человек, который действительно заботится о нас, с которым можно поговорить и посоветоваться, который, несмотря на мои пошлые выходки, не только не отвернулся от меня, но поспешил даже оказать новую услугу, – и при этих мыслях теплая струйка крови прилила к моему сердцу и согрела его. – Что из того, что меня не интересует чтение, – думала я. – Ушинский сделал для меня все, что мог, и я оказалась бы неблагодарной, если бы не исполнила немедленно его желания».
Хотя вновь устроенный класс именовался теоретически-специальным, но это было не совсем точное название: кроме естествознания, физики и педагогики, в нем проходили курс наук по программе среднеучебных заведений, но в более расширенном виде, чем в нашем прежнем выпускном классе. К тому же из этого седьмого класса желающие могли переходить в специальный класс, где во второй год своего пребывания воспитанницы должны были обучать детей кофейного класса под руководством учителей. Воспитанницы, оставленные во вновь сформированном классе, в числе которых была и я, поступая на новые курсы, переходили, собственно, в седьмой класс, но в ту минуту он не мог так называться потому, что при прежнем делении не было шестого класса.
Относительно воспитанниц, очутившихся в совершенно новом положении, то есть не вышедших из института по собственному желанию, не было установлено никаких правил: выпуск был в марте, а занятия в седьмом классе должны были начаться не ранее как через месяц, да и это не было еще точно определено. Какие классные дамы должны были руководить этими воспитанницами, что они должны были заставлять их делать до начала занятий, на это не было получено никаких инструкций. Классные дамы заявили, что они вовсе не желают торчать с нами, раз это не вменено им в обязанность. И действительно, они не обращали на нас ни малейшего внимания. «Пусть их околачиваются как знают», – говорили они про нас, и мы в полном смысле слова околачивались: кто из нас сидел в классе, кто в дортуаре, кто отправлялся в лазарет.
Времени для чтения было много, и я последовала совету Ушинского. Чем более я читала, тем более увлекалась чтением. Я скоро поняла, что прежде меня не прельщало чтение классиков только потому, что оно было отрывочно, а объяснения Старова лишь сбивали с толку. В несколько дней я так пристрастилась к чтению, что институтский колокол, отрывавший меня от него, сделался моим злейшим врагом. Я забыла все на свете и читала, читала без конца, читала днем, захватывая и большую часть ночи. Чтение так поглотило меня, что когда однажды я столкнулась с maman, выразившей удивление, что я не посещаю ее теперь, когда у меня так много свободного времени, я поблагодарила ее и сказала ей о том, какую работу дал мне Ушинский. Несколько позже я очень пожалела, что легкомыслие, а может быть и некоторая потребность протеста, заставили меня при этом прибавить: «Как обидно, что нас прежде никто не заставлял читать произведения русских писателей!». Хотя я заметила, что maman как-то особенно сухо простилась со мной, но я уже несравненно меньше придавала значения всему тому, что происходило вокруг: вся погруженная в новый мир идей и случайно оторванная от чтения, я торопилась снова погрузиться в него. За обедами и завтраками я с восторгом передавала подругам, какие интересные вещи я читаю: скоро все они точно так же набросились на чтение.
Узнал об этом, Ушинский немедленно прислал нам остальные тома Пушкина, Белинского и других русских писателей, кажется, из своей библиотеки.
Мы с великим нетерпением ожидали лекций Ушинского, но так как занятия все еще не начинались, у нас явилась мысль просить его прочитать нам что-нибудь. В то время, о котором я говорю, он особенно сильно был завален работою и разносторонними заботами, связанными с преобразованиями в институте. Несмотря на это, он с восторгом отнесся к нашей просьбе и заявил, что у него как раз теперь свободный час, и он сию минуту может приступить к чтению. Хотя в это время в классе сидело всего лишь несколько человек, он сказал, что прочтет вступительную лекцию в педагогику.
Он начал ее с того, что доказал всю пошлость, все ничтожество, весь вред, все нравственное убожество наших надежд и несбыточных стремлений к богатству, к нарядам, блестящим балам и светским развлечениям.
– Вы должны, вы обязаны, – говорил он, – зажечь в своем сердце не мечты о светской суете, на что так падки пустые, жалкие создания, а чистый пламень, неутолимую, неугасимую жажду к приобретению знаний и развить в себе прежде всего любовь к труду, – без этого жизнь ваша не будет ни достойной уважения, ни счастливой. Труд возвысит ваш ум, облагородит ваше сердце и наглядно покажет вам всю призрачность ваших мечтаний; он даст вам силу забывать горе, тяжелые утраты, лишения и невзгоды, чем так щедро усеян жизненный путь каждого человека; он доставит вам чистое наслаждение, нравственное удовлетворение и сознание, что вы недаром живете на свете. Все в жизни может обмануть, все мечты могут оказаться пустыми иллюзиями, только умственный труд, один он никогда никого не обманывает: отдаваясь ему, всегда приносишь пользу и себе и другим. Постоянно расширяя умственный кругозор, он мало-помалу будет, открывать вам все новый и новый интерес к жизни, заставит все больше любить ее не ради эгоистических наслаждений и светских утех… Постоянный умственный труд разовьет в душе вашей чистейшую, возвышенную любовь к ближнему, а только такая любовь дает честное, благородное и истинное счастье. И этого может и должен добиваться каждый, если он не фразер и не болтун, если у него не дряблая натуришка, если в груди его бьется человеческое сердце, способное любить не одного себя. Добиться этого величайшего на земле счастья может каждый, следовательно, человека можно считать кузнецом своего счастья.
От пламенного, восторженного апофеоза труда Ушинский перешел к определению, что такое материнская любовь, и какою она должна быть. Любовь к своему детенышу заложена в сердце каждого животного: хищные звери – медведица, волчица – защищают его с опасностью для собственной жизни, нередко падая мертвыми в борьбе с врагом; они питают его собственной грудью, согревают собственным телом, бросают в нору сухую траву, листья, чтобы ему мягче было спать. Возможно ли, чтобы женщина, разумное существо, заботилась, как и зверь, только о физическом благосостоянии и сохранении жизни своего ребенка? Инстинктивно сознавая это, женщина к естественной заботе, вложенной в ее сердце матерью-природою, присоединила еще любовь, которую она считает человеческою, но в громадном большинстве случаев ее следует назвать кукольной, так как она является результатом мелкого тщеславия. Тут он привел в пример матерей, употребляющих все средства, чтобы красивее разодеть ребенка, сделать его миловиднее, – они играют с ним, как дитя с игрушкой.
Уже с раннего возраста воспитатели должны развить в ребенке потребность к труду, привить ему стремление к образованию и самообразованию, а затем внушить ему мысль о его обязанности просвещать простой народ, – «ваших крепостных, так называемых ваших рабов, по милости которых вы находитесь здесь, получаете образование, существуете, веселитесь, ублажаете себя мечтами, а он, этот раб ваш, как машина, как вьючное животное, работает на вас не покладая рук, недопивая и недоедая, погруженный в мрак невежества и нищеты».
Теперь все эти мысли давным-давно вошли в общее сознание, всосались в плоть и кровь образованных людей, но тогда (1860 год), накануне освобождения крестьян, они были новостью для русских женщин вообще, а тем более для нас, институток, до тех пор не слыхавших умного слова, зараженных пошлыми стремлениями, которые Ушинский разбивал так беспощадно.
Все, что я передаю о первой вступительной лекции Ушинского, – бледный, слабый конспект его речи, тогда же кратко набросанный мною и притом лишь в главных чертах.
Чтобы понять, какое потрясающее впечатление произвела на нас эта вступительная лекция, нужно иметь в виду не только то, что идеи, высказанные в ней, были совершенно новы для нас, но и то, что Ушинский высказывал их с пылкою страстностью и выразительностью, с необыкновенною силою и блестящею эрудицией, которыми он так отличался. Что же мудреного в том, что эта речь огненными буквами запечатлелась в наших сердцах, что у всех нас во время ее текли по щекам слезы?
Вся внешность Ушинского сильно содействовала тому, чтобы его слова глубоко запали в душу. Худощавый, крайне нервный, он был выше среднего роста. Из-под его черных густых бровей дугою лихорадочно сверкали темно-карие глаза. Его выразительное, с тонкими чертами лицо, его прекрасно очерченный высокий лоб, говоривший о недюжинном уме, резко выделялся своею бледностью в рамке черных, как смоль, волос и черных бакенов кругом щек и подбородка, напоминавших короткую густую бороду. Его тонкие, бескровные губы, его суровый вид и проницательный взор, который, казалось, видит человека насквозь, красноречиво говорили о присутствии сильного характера и упорной воли. Мне кажется, если бы знаменитый русский художник В. М. Васнецов увидел Ушинского, он написал бы с него для какого-нибудь собора тип вдохновенного пророка-фанатика, глаза которого во время проповеди мечут искры, а лицо становится необыкновенно строгим и суровым. Тот, кто видал Ушинского хотя раз, навсегда запоминал лицо этого человека, резко выделявшегося из толпы даже своею внешностью.
Много десятков лет прошло с тех пор, мой жизненный путь окончен, и я у двери гроба, но до сих пор не могу забыть пламенную речь этого великого учителя, которая впервые бросила человеческую искру в наши головы, заставила трепетать наши сердца человеческими чувствами, пробудила в нас благородные свойства души, которые без него должны были потухнуть. Одна эта лекция сделала для нас уже невозможным возврат к прежним взглядам, по крайней мере в области элементарных вопросов этики, а мы прослушали целый ряд его лекций, беседовали с ним по поводу различных жизненных явлений.
Дальнейшему изменению наших взглядов, совершенному перевороту в нашем умственном и нравственном миросозерцании содействовали и новые преподаватели. Тем не менее, все шло от Ушинского и через него: он был наставником и руководителем не только для нас, но и для приглашенных им учителей, главным виновником нашего полного перерождения. Наша жизнь, если можно так выразиться, раскололась на две диаметрально противоположные части: на беспросветное, бессмысленное, жалкое прозябание до его вступления и на только что наступившую новую эру, полную живого интереса, стремлений к знанию, к мыслям и мечтам, облагораживающим душу. Постоянное чтение книг, выбором которых руководили опытные наставники, шевелило наш мозг и быстро расширяло наш умственный кругозор.
И теперь еще каждый раз, когда мой взор встречает портрет Ушинского, этого великого педагога, я вспоминаю его вступительную лекцию: необыкновенное волнение и глубочайшая признательность охватывают мою душу, и мне так хочется преклонить колени перед светлым образом этого замечательного человека.
С благоговением сохраняя в наших сердцах память о заветах великого учителя, я должна сознаться, что не все его ученицы могли сделаться «кузнецами своего счастья». От наших отцов и матерей, пропитанных вожделениями крепостнической эпохи и узкоэгоистическими принципами, мы не могли получить в наследство надлежащего закала для альтруистических устоев. Он утверждал, что высшее счастье человека состоит исключительно в служении народу, что личное счастье ничто: оно эфемерно, призрачно, часто не дает даже нравственного удовлетворения, а потому оно и должно быть принесено на алтарь служения народу. Выполнение такого сурового требования было не по силам большинству молодых существ, только что вступавших в жизнь, которых она опутывала всеми своими чарами, которых она так заманчиво, так властно манила испытать личное счастье.
Выход из института
В первых числах февраля 1862 года я должна была сдать в институте последний экзамен. За неделю до него приехала в Петербург моя мать. Я умоляла ее взять меня из института в тот день и час, когда окончится мой последний экзамен, не ожидая официального выпуска. От последнего экзамена до формального выпуска должно было пройти более месяца, и, сидя в институтских стенах без всякого дела, я бы напрасно потеряла много времени. Должна сознаться, что хотя я действительно рвалась к занятиям, но все же на первом плане тут умысел был другой. Мне казалось, что если меня возьмут домой тотчас после последнего экзамена, это будет блистательным протестом против начальства и наглядно покажет ему, что я сидела последние полтора года в ненавистном для меня институте только ради нового преподавания. О желании сделать из моего ускоренного выхода протест и тем уязвить моих врагов в самое сердце я не говорила матери.
Экзамен окончился в двенадцать часов утра. Воспитанницы отправились завтракать, а я бросилась в дортуар, где меня уже поджидала матушка со свертками и картонками. Возвратившись из столовой, несколько подруг прибежали к нам и начали помогать мне одеваться, сопровождая свои услуги болтовней, шутками, звонким смехом, примеривая на себя то одно, то другое из моего туалета. Окруженная толпою молодых девушек, моя мать с восторгом наблюдала их оживленные лица и обнимала то одну, то другую из них.
Прежде всего мы отправились прощаться к инспектрисе. После инцидента на лекции истории Сент-Илер, кроме официальных замечаний, ни разу не разговаривала со мной, и я делала все, чтобы не попадаться ей на глаза. И вот после долгого промежутка холодных отношений нам пришлось наконец столкнуться с нею, чтобы распрощаться навсегда. Радушно поздоровавшись с матушкою, она прижала меня к своей груди со словами: «Конец всем недоразумениям. Я всех вас горячо любила! И ты когда-нибудь вспомнишь меня с добрым чувством!». При этом она высказала мне самые лучшие пожелания, просила навещать ее и сама обещала посетить нас. Мою мать, видевшую нашу maman в первый раз, но знавшую ее не только по моим, но и по дядюшкиным рассказам, она просто очаровала. Когда мы вышли от нее, она все повторяла: «Нет человека без греха! А все-таки она обворожительная женщина!».
Как только мы спустились вниз, швейцар доложил нам, что инспектор просит нас зайти к нему в приемный зал. Последние дни я обдумывала все, о чем хотела говорить с ним в этот знаменательный для меня день. Я собиралась сказать ему, что буду с благоговением вспоминать о нем, укажу ему, какое громадное значение он имел для нас, его учениц. Но меня охватил ужас при мысли, что если я сию минуту и не прощаюсь с ним окончательно, то через месяца два-три, когда мне придется уехать из Петербурга, навсегда потеряю его, и я мысленно повторяла себе, что вместе с ним потухнет для меня весь свет, что я останусь навсегда без руководителя и поддержки. У меня так забилось сердце, когда я вошла в залу, где расхаживал Ушинский, что я забыла все, что собиралась ему сказать, да у меня и не хватило бы смелости произнести перед ним такую речь. Увидев его, я так сконфузилась, что забыла даже отрекомендовать мою мать и стояла посреди комнаты с опущенной головой, делая усилия, чтобы не разрыдаться, а слезы градом катились из моих глаз.
Ушинский молча остановился передо мною, положил руку на мое плечо и с отеческою ласкою заговорил:
– Ну вот, ну вот… (Его всегда смущали слезы.) А я ведь приказал скорее позвать вас сюда, думал, что вы носитесь теперь всюду с видом победительницы! Боялся, что устроите скандал, какой-нибудь протест! Ну что же, еще не успели?
Слезы душили меня, и, не будучи в силах отвечать, я лишь отрицательно покачала головой.
– И прекрасно! Какие там счеты! – И, видя, что я все еще взволнованна, он обратился к матушке, которая начала горячо благодарить его за все, что он сделал для меня.
– Вы знаете, – говорил он мне, – что я никого из моих учениц не оставлю теперь в покое. На какой конец света вы бы ни заехали, вы должны давать мне отчет о своем времяпрепровождении, о своих занятиях. Ведь вас нужно держать в ежовых рукавицах!
Моя мать тоже шутливо возразила ему, что со мною можно теперь обойтись и без этого, что я сама только и рвусь к занятиям.
– Вы не очень-то полагайтесь на ее слова: она особа увлекающаяся! Правда, в последнее время она серьезно занималась, ну, а услышит звон шпор (он знал, что до отъезда в провинцию я буду жить в военной среде), и вся уйдет в звуки вальса!.. Жаль, очень жаль, что она не может жить среди людей трудящихся! Тогда я не боялся бы за нее! Ну, да я вам не дам погрузиться с головой в ваши оборочки и фалборочки! Через недельки две-три непременно нагряну к вам, узнаю, что вы путного сделали за это время. Вы не думайте, что я враг веселья, напротив даже, но развлечения могут быть только после труда!
И он, по-прежнему обращаясь то ко мне, то к моей матери, говорил о том, как необходимо развивать в себе вкус к здоровым удовольствиям: советовал ходить в театр на пьесы Островского, но перед каждым представлением прочитывать пьесу, которую придется смотреть, а если есть возможность, и критический ее разбор, указывал на необходимость посещать публичные лекции, особенно лекции Костомарова, с тем же условием, то есть чтобы до нее подготовиться к ее слушанию.
– Видите ли, я все толкую о развлечениях, но ведь кроме них, должны же вы подумать и о каком-нибудь серьезном умственном труде. Когда я к вам приеду, я привезу вам список книг, и мы сообща решим, над чем вам следует поработать во время вашего пребывания в Петербурге. Но рука об руку с серьезной умственной работой и здоровыми развлечениями вы должны выбрать еще какую-нибудь воскресную школу, чтобы обучать детей грамоте и посещать лучшие элементарные школы, прислушиваться к преподаванию хороших учителей. Я вам привезу рекомендательные письма и укажу, в какие из школ вам полезнее проникнуть. Вы со всеми уже простились здесь? – вдруг спросил он, протягивая мне руку на прощанье.
Я отвечала, что мы должны явиться еще к начальнице, которая дала нам знать об этом через инспектрису. Ушинский пристально посмотрел на меня своими проницательными глазами и строго добавил:
– Надеюсь, вы не унизите себя на прощанье какою-нибудь неуместною выходкой?
Каждое слово Ушинского было для всех нас, его учениц, законом, нарушить который никто бы не решился. Но если бы он и не предупредил меня о том, что я должна держать себя с начальницей в границах предписанного почтения, я сама уже решила, что не пророню у нее ни звука.
Однако, несмотря на то, что я строго выдержала обет молчания и была нема как рыба, визит наш к ней окончился весьма печально. Как только мы были введены в приемный покой начальницы, мы подошли с матерью к столу, за которым она сидела. Чуть-чуть кивнув нам головой в знак официального приветствия, она тотчас начала говорить о том, как радо институтское начальство, что оно на месяца полтора раньше положенного срока избавляется от присутствия в институте моей особы. Все это она произносила, обращаясь к моей матери и, по своему обыкновению, медленно отчеканивая слова, желая точно молотом вбить их в ее голову, но та все выслушивала молча. Я уже начинала надеяться, что все сойдет благополучно, как вдруг Леонтьева, по-прежнему обращаясь только к моей матери, начала припоминать, как она выразилась, «грязную историю с братьями вашей дочери, в которой такую недостойную роль играл ваш брат, а ее дядюшка, с виду почтенный генерал, наделавший всем нам массу неприятностей».
Тут уже вспыльчивая по натуре матушка не стерпела и, прервав разглагольствования начальницы, запальчиво заговорила о том, что только институтское начальство могло сделать что-то грязное из простого свидания ее сыновей с их родною сестрою. Что касается ее брата, то она, начальница Леонтьева, должна быть ему еще бесконечно признательна за то, что он не довел эту историю до сведения государя. Матушка прибавила еще, что она решительно не понимает, «зачем ее превосходительству понадобилось вспомнить об этой во всех отношениях выясненной истории, в которой кругом виновато было институтское начальство, поверившее клеветническому доносу классной дамы. «Вероятно, ее превосходительство, – смело добавила матушка, – вспоминает эту историю потому, что она, ее превосходительство, привыкла говорить только с подчиненными, не смеющими возражать ей, что же касается ее, Александры Степановны Цевловской, то она не подчиненная ей, а потому и не желает выслушивать клевет, признанных за таковые даже институтским начальством, а что это было именно так, как она говорит, видно уже из того, что инспектриса просила ее брата не доводить эту историю до государя».
Такого потока горячей речи моей матери начальница не в силах была остановить. Величественно поднявшись с дивана, она протянутой рукой гневно указала моей матери на дверь. Но та повернулась к ней спиной только тогда, когда договорила последнее слово.
Мы спускались уже по лестнице, когда, вся запыхавшись, нас нагнала Оленкина (dame de compagnie – компаньонка (фр.) Леонтьевой). Она протягивала мне какую-то книгу и с ужасом лепетала: «Какие неслыханные дерзости вы осмелились наговорить начальнице! И все-таки ее превосходительство так ангельски добра, так бесконечно снисходительна, что приказала передать вам Евангелие. Она надеется, что эта священная книга…» Но я заметила, что моя мать еще не остыла, порывается что-то возражать, и, схватив книгу, потянула матушку за собой.
Мы быстро спустились вниз, тронулись в путь, и я навсегда оставила стены alma mater, чтобы вступить на новую, совсем неизвестную мне дорогу жизни, к которой я была совершенно не подготовлена институтским воспитанием.
Примечания
1
Бедное дитя (нем.).
(обратно)2
Подлинную фамилию этой классной дамы М. С. Угличанинова не захотела раскрыть, по-видимому, из личных соображений.
(обратно)3
Ангел, красавица, неподражаемая, небесная, божественная и очаровательная (фр.).
(обратно)4
Имеется в виду басня И. А. Крылова «Гуси» (1811).
(обратно)5
Ежемесячный журнал «Звездочка» издавался в Петербурге с 1842 по 1863 г. А. О. Ишимовой специально для воспитанниц институтов благородных девиц.
(обратно)6
Ср.: «Александра Федоровна любила, чтобы вокруг нее все были веселы и счастливы, любила окружать себя всем, что было молодо, оживленно и блестяще, она хотела, чтобы все женщины были красивы и нарядны, как она сама…» (Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания и фрагменты дневников фрейлины двора Николая I и Александра II. М., 1990. С. 41).
(обратно)7
Опера Г. Доницетти «Лючия ди Ламермур», первое представление которой состоялось в 1835 г. в Неаполе.
(обратно)8
Ешевский Степан Васильевич (1829–1865), историк, западник. Учился в Казанском и Московском университетах, слушал лекции Грановского, Кудрявцева, Соловьева, Буслаева, Каткова. В 1853–1854 гг. читал русскую историю в Одесском ришельевском лицее, с 1855 г. работал на кафедре русской истории в Казанском университете, в 1857 г. преподавал в Александринском сиротском корпусе, с 1858 г. вел курс древней и средней истории в Московском университете. С 1859 по 1861 гг. был в заграничных командировках в Германии, Италии, Франции. Впечатления об этих странах отразились в письмах к жене, Ю. П. Вагнер (ОПИ ГИМ).
(обратно)9
Вагнер (урожд. Грубер) Ольга Андреевна, жена П. И. Вагнера (дедушки А. С. Ешевской), профессора минералогии Казанского университета. Ее первый муж – П. С. Кондырев, профессор истории Казанского университета.
(обратно)10
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897), историк. После окончания юридического факультета Московского университета был учителем в кадетских корпусах; в 1856–1859 гг. помощник редактора «Московских Ведомостей»; с 1859 г. постоянный сотрудник «Отечественных Записок», редактор «Записок Географического общества». Составил для народного чтения брошюры «О Владимире Мономахе и его потомках», «О злых временах татарщины», «О том, как росло Московское государство». С 1865 г. занимал кафедру русской истории в Петербургском университете. С 1878 по 1882 гг. председатель Славянского благотворительного общества. Стоял во главе созданных им в 1878 г. Высших женских курсов. Член Академии наук. Главный научный труд – двухтомная «Русская история», выходившая в 1872 и 1885 гг.
(обратно)11
Леонтьева Мария Павловна (1792–1874), из рода костромских дворян, воспитанница Смольного. Фрейлина Вел. княгини Екатерины Павловны, затем гофмейстрина двора Вел. княгини Марии Николаевны. В 1838 г. назначена императрицей Александрой Федоровной помощницей начальницы Смольного Ю. Ф. Адлерберг; после смерти последней заняла ее пост.
(обратно)12
Васильев Василий Павлович (1818–1900), китаевед, известен трудами по буддизму. В 1840–1850 гг. был в составе Русской духовной миссии в Пекине; в 1851–1855 гг. профессор Казанского университета, с 1855 г. профессор восточного факультета Петербургского университета, в 1878–1893 гг. декан факультета.
(обратно)13
Вагнер Николай Петрович (1829–1907), профессор зоологии Петербургского университета; основные труды – по фауне беспозвоночных Белого моря, энтомологии. Писатель, автор «Сказок Кота Мурлыки». Полемизировал с Д. И. Менделеевым по поводу спиритизма, сотрудничал в «загадочном листке» «Ребус».
(обратно)14
Томилова (урожд. Энгельгардт) Ольга Александровна, из старинной дворянской ярославской семьи. Окончила Смольный в 1839 г. Пользовалась полным доверием императрицы Марии Александровны. С 1873 г. помощница начальницы, с 1874 г. начальница Смольного.
(обратно)15
Клеменко Е. К., дочь действительного статского советника. Окончила Смольный с шифром в 1854 г. Служила в институте с 1870 по 1875 г.
(обратно)16
Павлова Е. Н., дочь коллежского советника. Служила в Смольном с 1858 по 1873 гг.
(обратно)17
Фрейлих Е. А., дочь надворного советника, окончила Елизаветинский институт в Петербурге. Служила в Смольном с 1873 по 1877 гг.
(обратно)18
Александр II (1818–1881), старший сын Николая I, император с 1855 г.
(обратно)19
Бодунген К. К., преподаватель немецкого языка с 1872 по 1899 гг. Бодунген Ф. К., преподаватель географии с 1871 по 1881 гг.
(обратно)20
Пугачевский Я. П. Помимо преподавания в Смольном (1860–1872 и 1875–1886), читал физику в Петербургском университете.
(обратно)21
Тимофеев К. П., первый инспектор классов (1862–1881). Преподавал русскую словесность также в Театральном и Строительном училищах.
(обратно)22
Гречулевич В. В. (1822–1885); окончил Санкт-Петербургскую духовную академию; в Смольном с 1860 по 1874 гг.; с 1880 г. епископ острожский, с 1882 г. могилевский. Основал и издавал в течение 30 лет духовный журнал «Странник».
(обратно)23
Григорович И. И. служил в Смольном с 1862 по 1896 гг.
(обратно)24
Срезневский В. И., сын известного русского слависта Измаила Ивановича Срезневского. Преподавал русскую словесность в Смольном с 1871 по 1882 гг.; с 1876 по 1883 гг. секретарь Императорского русского географического общества; автор статей по стилистике и педагогике.
(обратно)25
Буссе В. Ф. служил в Смольном с 1859 по 1880 гг.
(обратно)26
Ольденбургский Петр Георгиевич (1812–1881), принц, член Государственного Совета, почетный опекун и председатель Санкт-Петербургского опекунского совета, главноуправляющий IV Отделением Собственной Е. И. В. канцелярии; инициатор и первый председатель «Русского общества международного права». В 1860 г. принцу было вверено управление всеми учреждениями ведомства императрицы Марии Федоровны. Смольный пользовался постоянным вниманием принца, по его инициативе устраивались балы, концерты, лекции. В 1889 г. в Петербурге на Литейном проспекте ему был воздвигнут памятник с надписью «Просвещенному благотворителю».
(обратно)27
Обручева М. Л. служила в Смольном с 1851 по 1879 гг.
(обратно)28
Мария Федоровна (урожд. София Фридерика Дагмара, принцесса Датская), дочь короля Христиана IX (1847–1928). С 1866 г. в браке с наследником престола вел. князем Александром Александровичем.
(обратно)29
Александр Александрович (1845–1894), вел. князь, второй сын Александра II, наследник престола, с 1881 г. – император Александр III.
(обратно)30
Мария Александровна (1853–1920), вел. княгиня, дочь Александра II. В 1874 г. вышла замуж за сына королевы Виктории Альфреда Эрнста Альберта Великобританского.
(обратно)31
Трепов Федор Федорович (1812–1889), петербургский градоначальник с 1873 по 1878 гг. В 1878 г. был ранен В. Засулич.
(обратно)32
Мария Александровна (1824–1880), императрица с 1855 г.
(обратно)33
После каждого бала, устроенного во дворце принца Ольденбургского, его контора отчисляла такую же сумму в учреждения для бедных.
(обратно)34
В первой публикации имелась следующая сноска: «Воспитанницы института и весь женский персонал, служивший в нем, кроме главной начальницы, названы вымышленными именами» (Рус. богатство. 1908. № 7. С. 132).
(обратно)35
Мать Е. Н. Водовозовой – Александра Степановна Цевловская (урожд. Гонецкая; 1813–1887).
(обратно)36
Дворянская книга предназначалась для записи дворян уезда или губернии. Велась соответствующими дворянскими депутатскими собраниями под наблюдением предводителя дворянства. Она разделялась на шесть разрядов по степени знатности. В третью часть дворянской книги вносились лица, получившие потомственное дворянство вследствие выслуги определенного чина на гражданской службе или в результате награждения российскими орденами.
(обратно)37
Сент-Илер Аделаида Карловна (урожд. Гилло) – инспектриса Александровской половины Смольного института в 1848–1867 гг.
(обратно)38
М. П. Леонтьева (1792–1874) была дочерью Солигаличского уездного предводителя дворянства Павла Антоновича Шипова; училась в Смольном в 1800–1809 гг., была выпущена с шифром. Муж Марии Павловны, генерал-майор Н. Н. Леонтьев, был на ней женат вторым браком, его первая жена, урожд. Пестель (двоюродная тетка известного декабриста), умерла, оставив ему троих сыновей. Два родных брата Леонтьевой – Иван и Сергей – были деятельными членами ранних декабристских тайных обществ (см.: Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 200–201). Гофмейстериной Мария Павловна стала в 1838 г., тогда же была назначена помощницей начальницы Смольного Ю. Ф. Адлерберг, а в 1839 г. – начальницей института. В 1864 г. ее сделали статс-дамой. В период начальствования Леонтьевой в Смольном были устроены новый лазарет, образцовая кухня и библиотека.
(обратно)39
Под псевдонимом Оленкина выведена воспитанница и компаньонка Леонтьевой – приемная (а скорее всего внебрачная) дочь ее институтской подруги Олимпиады Петровны Шишкиной – Анастасия Петровна Алонкина (1809–1885), которая жила у Леонтьевой с 1854 г.
(обратно)40
Гарусный капор — шапочка с оборкой вокруг лица, вязанная из крученой шерсти; камлотовый салопчик — широкое пальто из камлота.
(обратно)41
Врачей в описываемое время в Смольном было несколько: старший врач – действительный статский советник Иван Иванович Ниман, младший врач – статский советник Август Андреевич Зандер; штатный врач – Сергей Михайлович Ганшеев.
(обратно)42
Нюта — Анна Николаевна Савельева, урожд. Цевловская (ок. 1835—?), Шура (Саша) – Александра Николаевна Цевловская (ок. 1836—?), с 1861 г. помощница начальницы Мариинского женского училища в Смоленске.
(обратно)43
Кофейный класс – название, закрепившееся в институтском обиходе и происходившее от цвета платьев. Первоначально, когда в Смольном было четыре класса, воспитанницы носили соответственно платья коричневого («кофейный», самый младший класс), голубого, серого и белого цвета; к платьям полагались передники: у трех младших возрастов белые, а у «белых» – зеленые шелковые.
(обратно)44
Вдовьи дома были учреждены в 1803 г. при Московском и Петербургском воспитательных домах для призрения неимущих, увечных и престарелых вдов государственных чиновников; в 1828 г. выделены в самостоятельные учреждения Ведомства императрицы Марии. У Е. Н. Водовозовой речь идет о вдовьем доме при Смольном монастыре, основанном в 1808 г.
(обратно)45
Антраша – прыжок на двух ногах, во время которого ноги, разойдясь несколько раз, быстро скрещиваются.
(обратно)46
Дядя Водовозовой – Иван Степанович Гонецкий (1810–1887), старший брат матери, генерал-адъютант. Отличился при подавлении Польского восстания 1863 г. См.: Корнилов И. П. Воспоминание о польском мятеже 1863 года в Северо-западном крае (по рассказам генерал-адъютанта И. С. Гонецкого) // Рус. архив. 1899. № 7.
(обратно)47
Младший брат Водовозовой – Захар Николаевич Цевловский (ок. 1839—?).
(обратно)48
Дворянский полк был учрежден в 1807 г. при 2-м Петербургском кадетском корпусе как Волонтерный корпус для молодых дворян от 16 лет и выше, не желающих поступать на службу прямо в полк унтер-офицерами. Обучение в новом учебном заведении давало элементарное военное образование и при выпуске – сразу офицерский чин. В 1852 г. в Дворянский полк стали помещать воспитанников других корпусов, которые по молодости не могли быть выпущены в офицеры. В 1855 г. Дворянский полк был переименован в Константиновский кадетский корпус, а в 1859 г. – в Константиновское военное училище.
(обратно)49
Старший брат Водовозовой – Андрей Николаевич Цевловский (ок. 1834—?) окончил в 1850 г. Полоцкий корпус; затем учился в Дворянском полку, с 1853 г. служил в 3-м Финляндском батальоне.
(обратно)50
Старов Николай Дмитриевич – преподаватель словесности в Смольном институте в 1851–1860 гг., известный педагог. Среди учеников Старова были историк В. И. Семевский (второй муж Водовозовой), художница и мемуаристка Е. Ф. Юнге и др.
(обратно)51
Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1870) – педагог, служил инспектором классов Смольного института с февраля 1859 г. до лета 1862 г.
(обратно)52
Фонтанель – искусственно вызванное нагноение: глубокий надрез на коже, куда закладывали горошину, кусок марли и т. п. Мобилизуя защитные средства организма, фонтанель способствовал быстрому выздоровлению. Считался также хорошим профилактическим средством при эпидемиях.
(обратно)53
Царские дни – дни коронования царствующего императора, а также дни рождения императора, императрицы и наследника.
(обратно)54
Судя по сохранившемуся конспекту уроков домоводства одной из смолянок, относящемуся к началу XX в., с течением времени многие из недостатков, перечисленных Водовозовой, были устранены. Институткам сообщали не только способы приготовления блюд, но и сведения по качеству, сезонности и ценам продуктов. Например: «Парное мясо на второй день убоя цвета спелой малины. Оно не должно увлажнять руки, если до него дотронуться; если его положить на стол, не должно давать вокруг себя кровавого озерца и не должно давать истечения сока. Оно должно быть упруго, если нажать пальцем, ямка сейчас же заполнится. На обоняние – запах приятный, ароматичный. При варении и жарении мягкое. Оттаявшее мясо – признаки, противоположные парному мясу: цвет – красновато-коричневый, не упругое, мягкое, т. е. ямка, сделанная пальцем, не заполняется; если дотронуться рукой, она увлажняется; положить на стол – получается кровяное озерцо, если его подвесить, то будет капать. Под верхнею оболочкой лежит коричневая полоса. <…> Капуста бывает ранняя и осенняя. Ранняя – зеленая, горькая, кочаны неплотные, стоит 20–30 коп. маленький кочан. Надо ее ошпаривать кипятком, чтобы уничтожить горечь. Осенняя капуста – белая, кочны плотные. При покупке надо обращать внимание, чтобы кочерыжка не была бы очень толстой, чтобы кочан был плотный, чтобы не было слизняков, и чтобы снаружи кочан не был бы объеден. Самый дешевый сезон – это август, стоит 1–0,5 коп. фунт» и т. д. (Уроки домоводства в Смольном институте: Учебные конспекты смолянки. М., 1995. С. 23–24, 54).
(обратно)55
Годовые праздники — двунадесятые праздники (12 важнейших православных праздников – Рождество, Крещение, Сретение, Пасха и др.).
(обратно)56
Учреждения императрицы Марии (Ведомство учреждений императрицы Марии) – высший государственный орган управления женскими учебными заведениями и благотворительными заведениями, находившимися под покровительством императрицы и других представительниц императорской фамилии. Ведомство было основано в 1828 г. как IV отделение собственной е.и.в. канцелярии, получило свое название (в 1854 г.) в честь императрицы Марии Федоровны.
(обратно)57
Соболевский Дмитрий Петрович – выпускник Киевской духовной академии; преподаватель русской словесности в Смольном в 1851–1860 гг.
(обратно)58
Зонтаг Анна Петровна (урожд. Юшкова; 1786–1864) – детская писательница, автор нравоучительных повестей и сказок.
(обратно)59
Водовозов Василий Иванович (1825–1886) – преподаватель русского языка и словесности в Смольном институте в 1860–1862 гг.; детский писатель, переводчик; первый муж мемуаристки.
(обратно)60
Экзархом (главой православной церкви) Грузии в 1858–1866 гг. был Евсевий (Ильинский), позднее архиепископ Тверской и Кашинский.
(обратно)


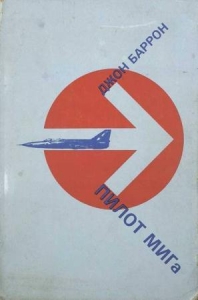


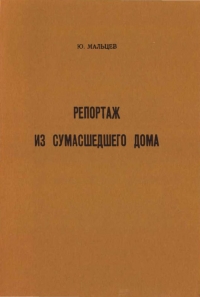

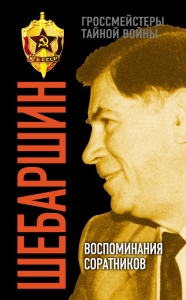
Комментарии к книге «Смольный институт. Дневники воспитанниц», Е. О. Мигунова
Всего 0 комментариев