Леонид Давидович Леонидов Рампа и жизнь
© Издательство «Человек», издание, оформление, 2014
Печатается по книге, изданной в 1955 году в Париже «Русским Театральным Издательством За границей» с сохранением авторской орфографии.
Служение русскому искусству
«…И пройдут времена, и исполнятся сроки… Театральный занавес опустится в последний раз, и автор воспоминаний предстанет пред Судьями своими, и на стереотипный вопрос, что ты делал на земле, ответит с виноватой улыбкой, но по чистой совести:
– Мне кажется, что служил я – радости!..»
Для автора этих строк «театральный занавес» опустился в последний раз 11 ноября минувшего года в Париже – «исполнились сроки» 98-летнего пребывания его на земле. Не менее 75 лет он нераздельно был связан с мировым искусством, и – в первую очередь – с пропагандой русского искусства за границей. Странен наш век – наследника богатой харьковской купеческой семьи приняла в свои недра земля французского пантеона – историческое кладбище Пер Лашез. А в «нормальный» век – сидеть бы Леонидову всю жизнь в своем родном Харькове за прилавком отцовского и дедовского торгового дела, подсчитывать ежедневную выручку за проданную мебель, время от времени меценатствовать, помогая «артистической братии», и в качестве именитого горожанина быть похороненным под стенали местного собора.
Но Леонид Давидович – как он сам пишет в своих воспоминаниях «Рампа и Жизнь» – с ранней юности влюбился в театр. Совсем молодым человеком еще в предреволюционные годы он, прирожденный администратор, начал «возить» на гастроли в провинцию знаменитых драматических артистов, а среди них и самого «старика» Варламова. Устраивал и концерты певцов – Димитрия Смирнова и Нины Кошиц с ее тогдашним аккомпаниатором… Сергеем Рахманиновым. Интересовался и балетом: работал с Мордкиным, Балашовой и другими звездами русской сцены. Закономерно пришел Леонидов к Художественному Театру и с основным его составом выехал в заграничные гастроли по Европе и Америке, чтобы уже никогда не возвратиться в Россию.
В Париже при зале Гаво много лет существовало его театрально-концертное бюро, но работал он и в Берлине, да и вообще в Европе свыше 50 лет.
В тридцатые годы организовывал Леонидов выступления Шаляпина и часто ездил с ним вместе, устраивал гастроли Николая Афонского и многих других артистов. В европейском артистическом мире Леонид Давидович был хорошо известен, но знали его и в Америке, еще со времен первых гастролей МХАТа, для успеха которых он немало потрудился.
Бывший директор Метрополитен Опера Рудольф Бинг тепло отзывается о Леонидове в своих мемуарах.
Вышедшие в 1955 г. в Париже воспоминания Леонидова «Рампа и Жизнь» представляют значительную ценность для любого исследователя истории русского театра и охватывают период от предреволюционных времен в России до начала Второй мировой войны в Европе. Справедливости ради, следует подчеркнуть, что в них автор порой несколько «увлекается» и оттого страдают они некоторой предвзятостью, но написаны живо и увлекательно, подчас несколько ностальгически.
Леонидов на всю жизнь остался наибольшим энтузиастом именно русского искусства, несмотря на то, что и на Западе завоевал значительное признание за свои художественные заслуги: был кавалером многих европейских орденов и наград государственных, театральных и академических организаций.
Вступление к своим воспоминаниям он заканчивает интересным размышлением: «…Не знаю, погладят ли меня по головке Нелицеприятные Небесные Судьи. Но одно я знаю наверное – это то, что я снова встречу своих самых заветных земных друзей: и Владимира Ивановича Немировича-Данченко, и Федора Ивановича Шаляпина, и Константина Александровича Варламова, и Владимира Николаевича Давыдова, и Константина Сергеевича Станиславского, и Варвару Васильевну Стрельскую, и Леонида Витальевича Собинова, неповторимого русского певца, и забубенную головушку Колю Ходотова…
И тут мы вместе вспомним нашу земную, суетливую жизнь, наши вагоны, наши корабли, наши успехи и провалы, и всю нашу милую театральную суету сует и всяческую суету…
Может быть, и взгрустнем по этой временной, но чудесной, расхлябанной, бестолковой земле.
А потом я услышу ангельские хоры и заранее знаю, что сейчас же подумаю:
– А какой из них лучше? Хор Санкт-Петербургского Мариинского или ангельский, херувимский?
Мысль греховная, сравнение непозволительное, но ангелы простят и, за благодарность к прошлому, не осудят».
В деловой жизни Леонидова считали «холодным бизнесменом». Но разве не таким именно и должен быть преуспевающий современный администратор? Видно, наследственная «купеческая закваска» в этом ему немало помогла.
«…И пришли времена, и исполнились сроки». В жизни Леонидова «театральный занавес» опустился в последний раз, но память о нем будет еще долго жить. Ибо значительное дело он совершил в своей долгой жизни.
Алексей Николаев
Газета «Новое русское слово» (Париж)
23 января 1984 года
От автора
Юлии Бекефи – безраздельно
Автор… И прийдут времена, и исполнятся сроки…
Театральный занавес опустится в последний раз, и автор воспоминаний предстанет пред Судьями своими, и на стереотипный вопрос, что ты делал на земле, ответит с виноватой улыбкой, но по чистой совести:
Мне кажется, что служил я – радости!..
Отвлекал от людей черные мысли, вводил их в соприкосновение с высшим и благородным, приобщал к красоте, музыкой услаждал восприимчивый слух, игрою красок радовал зрение, искусством великого лицедейства насыщал неуспокоенные сердца и соборно с ними творил легенду.
В меру данного и отпущенного мне, старался и отвлечь, и развлечь, и увести на воображаемые или действительные высоты – того, что на бедном человеческом языке именуется красотой, творчеством и искусством. И, говоря словами Марселя Паньоля, – заставить хоть на миг развеселиться тех, чья жизнь исполнена скорби и печали, или очищающими слезами заставить плакать тех, кто в убожестве своем привык только гоготать и веселиться – не в этом ли есть оправдание высокого ремесла, которое называют Театром?..
И, кто знает, может быть, и додумается Великий Конклав, на коем почила небесная благодать, и провозгласит во всеуслышание запоздалое свое признание:
Saint Jean-Baptiste: Moliere!
Святой Вильям Шекспир!
Святой и Равноапостольный Александр Островский!..
Не знаю, погладят ли меня по головке Нелицеприятные Небесные Судьи.
Но одно я знаю наверное.
– Это то, что я снова встречу своих самых заветных земных друзей: и Владимира Ивановича Немировича-Данченко, и Федора Ивановича Шаляпина, и Константина Александровича Варламова, и Давыдова Владимира Николаевича, и Константина Сергеевича Станиславского, и Варвару Васильевну Стрельскую, и Леонида Витальевича Собинова, неповторимого русского певца, и забубенную головушку Колю Ходотова…
И тут мы вместе вспомним нашу земную, суетливую жизнь, наши вагоны, наши корабли, наши успехи и провалы, и всю нашу милую театральную суету сует и всяческую суету…
Может быть, и взгрустнем по этой временной, но чудесной, расхлябанной, бестолковой земле…
А потом я услышу ангельские хоры и заранее знаю, что сейчас же подумаю:
– А какой же из них лучше? Хор Санкт-Петербургского Мариинского или ангельский, херувимский?
Мысль греховная, сравнение непозволительное, но ангелы простят и, за благодарность к прошлому, не осудят.
Рампа и жизнь
Часть первая
1
Кинжал из дерева, костюм цветной и маски,
Пурпурный плащ и блестки вкруг него,
Парик и тамбурин, белила, пудра, краски, —
Вот все, что нужно мне для счастья моего.
И верю, твердо верю я в свое призванье:
В нем – жизнь и смерть. Когда они замрут,
И отлетит в стихах последнее дыханье, —
На декорациях тогда меня снесут.
Maurice Magre (Пер. Ф. Н. Касаткина-Ростовского)В центре Парижа, в известном на всю Европу концертном зале Гаво – находится мое театральное бюро. Звонят телефоны, приходят и уходят бесконечные телеграммы. Кипит работа. Подписываются контракты с лучшими мировыми артистами. Организуются театральные турнэ.
Волнения. Сомнения. Надежды. Разочарования. Вечное горение. Вечное расточительство сердечное, душевное.
Стараюсь угадать в человеке талант и сделать из него будущую знаменитость.
Все это захватывает и делает жизнь и созидательной, и интересной.
Но… если в один прекрасный день мне скажут: в Россию! – Я пешком пойду! Не пойду, а побегу, в родной мой Харьков, или, как его щедро титуловал Ллойд-Джордж, – «генерал Харьков».
Пешком пойду в этот мой милый город, и слезами покрою руку «генерала»…
Стану перед ним во фронт и отрапортую:
– Честь имею явиться, Ваше Превосходительство!
И, когда с благосклонной улыбкой, генерал меня отпустит, то, затаив дыханье, я брошусь прежде всего в Городской Театр, в это волшебное здание, которое когда-то дало мне столько радости, которое раскрыло мне смысл всей жизни, предсказало будущее, направило мои стопы к великому счастью и… никогда не обмануло. Я пробегу по той лестнице, по которой я когда-то ребенком, первый раз в жизни, поднимался в отцовскую литерную ложу. В этой прекрасной ложе мы сидели всей своей счастливой семьей и смотрели пьесу, которая называлась столь просто и столь значительно:
«Недоросль».
Это было первое, что я видел в театре, и до сих пор помню каждого актера, каждый выход, каждую интонацию, каждый жест. С тех пор у меня родилась любовь к театру, и крестным отцом ее был единственный, несравненный российский классик Фонвизин, и отсюда и пошли все мои качества. Этот спектакль выбил меня из колеи и решил судьбу: в своих детских снах я только и видел, что театр, ложу, колыхающийся занавес, переполненный партер, музыкантов, и таинственную суфлерскую будку.
Об этих снах моих я помалкивал, ибо сразу же, детским инстинктом, понял, что они, эти сны, не встретят благоволения, сочувственного отклика близких моих.
Семья моя – старинная, купеческая. Большое мебельное дело, основанное дедом. Добрая половина Харькова была обставлена нашей мебелью. Дело столетнее, налаженное, как хронометр. Покупали за наличные и продавали за наличные: цены без запроса, никаких торгов и переторжек. Товар налицо, цены тоже налицо: хотите берите, не хотите – честь имеем кланяться.
Отец часто говаривал:
– Не понимаю, какого лешего тебе нужно? Кончил реальное училище, садись на мое место и продолжай дедовское дело: читай газеты и вечером неси домой выручку. Ни ты, ни дети твои не проживут того, что накоплено за сто лет. Чего портить глаза, надсаживать грудь и тому подобное, и прочее? Все равно, сколько ни учись, а всего не узнаешь и всего не уразумеешь. А нравится тебе театр, – покупай билет первого ряда и садись, смотри, слушай.
Но тут вступалась мать: она в таких случаях всегда оспаривала отца.
– Нет, ты этого не скажи, – говаривала она, – по теперешним временам нужно иметь диплом. Получит диплом и пусть тогда делает, что хочет. Диплом хлеба не просит, а дело твое от него не уйдет.
– Как знать? – вопросом отвечал мудрый отец.
Теперь, когда я вспоминаю эти разговоры, – я думаю: в какой темноте бродят люди, как они не знают того, что собирается над их головой, на краю каких пропастей они ходят…
А, между тем, vis tieatralis, как говорили древние римляне, уже глубоко вонзился в меня и начал овладевать мною с фантастической силой. Посещение театра сделалось органической потребностью. И это желание разрасталось с тем большей силой, что театр во всех смыслах был запретным плодом.
Театр запрещался и моим учебным заведением, и правилами патриархальной семьи.
Театр можно было посещать только в известных случаях, когда ставили что-либо из классического репертуара, и то – по специальным разрешениям.
И вот пришлось ухищряться.
Прийдя из училища домой, я немедленно садился за приготовление уроков к следующему дню. Конец этих занятий я всегда подгонял к восьми часам вечера.
Около восьми часов все было кончено и мне разрешалось погулять и подышать чистым воздухом.
Выйдя на улицу, не теряя ни минуты, я буквально летел – летел в театр. Там я вошел в соглашение со старым капельдинером, и он тайком пропускал меня в ложу с занавесками.
Я притаивался за этой занавеской и с замиранием сердца ждал поднятия занавеса. Увы! Я мог посмотреть только один первый акт, потому что к этому времени кончался срок моей отдохновительной прогулки на свежем воздухе.
Таким образом, после первого акта, я стрелой мчался домой и уже в передней, снимая пальто, нарочито громко говорил:
– Знаменито прошелся! Морозик градусов девять!
И никогда ни в ком не вызывал никаких подозрений.
У меня родилась тайна – второе счастье детской жизни. Вообще всякая тайна мила детскому сердцу, а эта тайна – тайна любви к театру, была особенно обаятельна: она говорила о двойной жизни, о сладости запретного плода, о какой-то необычайности, о борьбе за какую-то необыкновенную будущность, за нарождающуюся самостоятельность…
Бегая таким образом в театр, я просмотрел тридцать первых актов разнообразнейших пьес, и они, эти разрозненные акты, остались в моей голове, как огромный неразрешенный аккорд.
Кроме того, я, с чисто профессиональною настойчивостью, изучал известный актерский сборник: «Чтец-декламатор»: выучил наизусть почти все пьесы, вошедшие в эту книгу, и хранил ее, как единственное сокровище.
Это вносило какую-то пьяную сбивчивость, голова всегда была в тумане, но в тумане сладком и обольщающем.
Одно смешивалось с другим. Четко помню: на меня произвел сильное впечатление первый акт пьесы Трахтенберга «Потемки души» с актером Е. А. Лепковским в роли Питоева.
А с ученой частью происходило так: «все прямые углы – равны между собою»… – да, равны! Но как вчера эта самая Днепрова повернула голову в разговоре с матерью в «Грозе»!
«Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками»… но как, с каким презрением Иван Михайлович Шувалов отвернулся от своего обидчика! Какой актер!
Так началась жизнь, – большая, сложная и, в конце концов, трудная жизнь человека, которому коварная, но благосклонная фея положила в колыбель театральный бинокль и гримировальный ящик.
Я говорю в данном случае о жизни потому, что нигде в мире и никогда ни один человек не переживал того, что мы, русские, пережили за годы революции. Очень часто один наш день равнялся годам, десятилетиям у иных благополучных поколений.
По самому скромному подсчету, каждому моему современнику, а значит, и мне самому – тысяча лет, самое меньшее!
Извольте же сосчитать: сколько за это время было «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»!
2
Однажды, возвращаясь по Московской улице из своего Училища, я увидел, что из книжного магазина Дредера выходит артист И. М. Шувалов, мой любимец и для меня в те времена – существо высшего порядка.
Совершенно бессознательно, движимый каким-то непреодолимым инстинктом, я пошел вслед за ним. Чего я хотел, чего ждал – ни тогда, ни теперь объяснить не могу. Просто хотелось идти за актером, которого город чтил и обожал. А надо отдать ему эту честь: Харьков умел и чтить, и обожать…
Шувалов, пользуясь хорошей теплой погодой, гулял, а я, в качестве адъютанта, за ним следовал в тайной надежде, что он, вдруг, обернется и спросит:
– Реалист! Что ты за мной ходишь? Что тебе нужно?
И я уже подготовил речь, что считаю его великим артистом, что я – его усерднейший до гроба поклонник, что он доставляет мне огромную радость своим гением, что я – готов ему всячески служить и угождать, что я и сам собираюсь быть актером, чувствую в себе актерские силы и буду всегда, по мере сил, подражать ему…
Актер шел медленно, наслаждаясь теплом, солнцем. Я видел отпечатки его калош на мокроватом тротуаре, складку брюк, волосы из-под шляпы – и все казалось мне необыкновенным, не таким, как у других, а из ряда вон выходящим.
Воображение все работало по-детски, и я думал, что вот так и в Афинах, и в Риме, ученики скромно, скромно, обязательно скромно, ходили вслед за своими наставниками, исполняя их маленькие поручения, бегали за табаком или опускали письма в почтовый ящик…
Наконец артист вошел в подъезд своего отеля, и меблированные комнаты Подкаминского показались мне пышным дворцом…
И тут только я вспомнил, что сильно запоздал к обеду: с ужасом я услышал, как на колокольне пробило четыре часа. И я, что называется, со всех ног понесся домой. Так и знал. Дома сейчас же предположили, что я за хорошие дела был заперт в карцере.
– О нет! – снисходительно и гордо ответил я.
– А где же ты был? Что ты делал?
– Где был? Что делал? Гулял по Московской улице с Шуваловым.
– Что-о?
– Говорю, гулял с Шуваловым. Шувалов хотел потолковать со мной кое о чем.
– И что же?
– Ну, и поговорили…
Вообще лгуном я не был, и это в доме твердо знали, но на этот раз на меня, все-таки, посмотрели не без некоторого удивления.
– Гулял с самим Шуваловым!
Когда я вспоминаю эти дни и когда теперь вижу, нос к носу, современную Европу, то начинаю думать, что Харьков, большой, но все-таки, второстепенный русский город, – должен по всей справедливости считаться одним из крупнейших культурных центров Европы.
Когда тот же Шувалов неожиданно и скоропостижно скончался, то Харьков облекся в глубокий траур, даже уличные фонари завесил крепом, закрыл все свои магазины и несметной толпой шел за гробом любимого артиста и многие горько и, на этот раз, совершенно искренно плакали.
Вообще о так называемой российской отсталости и некультурности сказано было немало вздорного и нелепого.
Мало того, что в каждом городе, мало-мальски значительном, был постоянный театр с постоянной, сезонной труппой, – почти в каждом таком городе летом играл большой симфонический оркестр. При архиерейских кафедральных соборах были организованы широкой рукой превосходные хоры а-капелла, которые играли большую роль в развитии русского музыкального вкуса.
И потому неудивительно, что когда привез в западную Европу русскую оперу и балет Дягилев, то Париж, arbiter elegantiarnm раскрыл рот от изумления.
Как неудивительно и то, что и наш легендарный Шаляпин начал свою сказочную карьеру как простой певчий казанского архиерейского хора.
* * *
…«Погуляв часика полтора с Шуваловым» и мысленно переговорив с ним, ученик шестого класса реального училища почувствовал необычайный прилив душевных и интеллектуальных сил.
Среди своих товарищей и однолеток он сформировал нечто вроде маленькой театральной труппы, с которой и начал «играть» по частным домам.
Во всех этих частных домах, где была мало-мальски поместительная зала или гостиная, – «труппа» была желанным гостем.
Наша театральная возня, полная детского энтузиазма, вносила всюду оживление, приятный шум, нечто новое на фоне провинциальной жизни.
«Идет, гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум…»
За нами ухаживали, после спектакля угощали ужином, во время которого наводилась критика, почти всегда благосклонная, шли театральные разговоры, и было приятно чувствовать себя некоею фигурой, персонажем, действия которого обсуждаются, оспариваются, сравниваются и т. п. У каждого из нас уже завелся маленький чемоданчик с гримировальными карандашами, в классах на нас смотрели с завистью, как на каких-то людей особенных, завистливо вышучивали нас, – все это нравилось, подбадривало энергию, повышало шансы на успех у коричневых гимназисток, и вообще настраивало на весьма мажорный лад.
В конце концов зашла речь о постановке спектаклей в самом Училище.
Первым спектаклем поставили «Ревизора», и Хлестакова играл Сережа Ценин, впоследствии первый артист Камерного Театра и сподвижник А. Я. Таирова. Мое личное участие, как артиста, ограничилось маленькой ролью в последнем акте, но зато на мне лежала роль импресарио, антрепренера!
Эти спектакли смотрело все Училище во главе с преподавательским персоналом. Сфера нашего влияния разрасталась, уже ощутительнее чувствовались завистники, которым наши удачи не давали спать, и наше положение в Училище становилось особенным, в курилке вывешивались рукописные «рецензии» и должен признаться, что хотя я их читал с полным наружным спокойствием, но на самом деле – с большим душевным трепетом. И это тоже было большим очарованием вновь протаптываемых дорог.
Одним словом, шумели много, и, по окончании курса, вручая мне аттестат, директор шутя сказал:
– Слава Богу, что уходите. Без вас шуму меньше будет.
…С реальным училищем было благополучно покончено. Надо было выбирать иные пути, широкие дороги.
В семье давно по этому поводу велись споры и разговоры.
В те времена особенно гонялись за званием и положением инженера. В России был огромный спрос на специалистов, и работа инженера отлично устраивала в жизни – особенно с точки зрения материальной.
Но кто мог почувствовать или догадаться, о чем мечтала душа моя?
«Кинжал из дерева, костюм цветной, и маска…»
Все существо мое рвалось туда, к колдовству, к рампе, к мигающим театральным огням! Но об этом нужно было молчать, таить в душе, чтобы не возбуждать косых взглядов, неприятностей и унылых разговоров. Я знал о великом примере французского художника Коро, который должен был стать за прилавок отцовского магазина, каковой магазин и теперь благополучно существует.
Коро должен был оставаться за этим прилавком до тех пор, пока отец его окончательно не убедился в полной непригодности своего сына к коммерческой деятельности. И только после этого с печалью отпустили его на ту дорогу, на которой он впоследствии прославил и себя, и свою почтенную семью, и Францию.
– Вам нужен инженерский диплом? Хорошо. Отлично.
А там видно будет.
В специальные учебные заведения поступали по конкурсным экзаменам, довольно трудным. Конкуренция желающих была огромная.
Трудности были преодолены, – и я поступаю в Технологический Институт.
…Я все время мыслю театральными образами и в этот момент я бы мог честно продекламировать:
– Поднялся занавес и передо мной открылась большая и эффектная и… самая скучная дорога жизни.
Вот, стало быть, и я – студент Харьковского Технологического Института, в форменной тужурке, с царскими инициалами на золотых наплечниках. Детство кончилось.
Могу курить на улице, заходить в рестораны, а самое главное – могу свободно, без всяких разрешений и спросов, посещать театр и не ютиться там, где-то в райке, а сидеть в партере, хоть с самим директором рядом. И, разумеется, я – каждый вечер в театре. Знаком со всей труппой, свой человек за кулисами, веду дружбу с театральными рецензентами, пытаюсь как-нибудь сыграть на этой большой сцене, хотя бы крошечную роль, но, увы! это – недостижимо, дело серьезное и большое: рядом с огромными талантами много и того, что французы называют «utilite», и потому всякий держится зубами даже за роли без ниточки.
И, вдруг, какая-то добрая душа дает мне совет:
– Время у тебя есть, деньги найдутся – собери маленькую труппу из хороших, испытанных любителей и кати в ближайшие окрестности, в Бахмут, в Юзовку – мало ли куда…
Зерно упало на благодарную почву.
Кликнул клич, собрал небольшую группу любителей, срепетовал с ними несколько небольших, легко перевозимых пьес и на второй день Рождества покатил в Бахмут.
Там мы должны были найти популярную и, говорили, очень способную, уже одобренную Бахмутским «мондом» местную любительницу типа львицы, которая и должна была быть главной приманкой спектакля.
Подготовил все мой тамошний представитель, фанатик и энтузиаст драматического искусства, по профессии помощник провизора, по имени Миша, по фамилии Розенблат.
Но когда мы приехали, нас ждал удар и полный крах.
– Героиня, надежда, наш главный козырь, львица большого света, куда-то по семейным делам уехала из города в совершенно неизвестном направлении.
Лица вытянулись. Спектакль состояться не мог. Денег на обратный проезд не было. Среди труппы поднялся плач, стон, скрежет зубовный.
Миша носился как угорелый и кричал:
– Братья во Христе и во Израиле! Ведите себя прилично! Кто мог предполагать подобное осложнение? Само небо против нас!..
По свойству темперамента Миша был трагиком.
В ответ ему неслись проклятия: проклинали его, меня, Бахмут, львицу и страстно посылали ее ко всем чертям сразу.
Кончилось тем, что вся труппа мрачно отправилась на вокзал, единственное закрытое помещение, которое было в нашем распоряжении.
Мы же с провизором стали чинить военный совет: за помещение дан задаток, но надо расплатиться полностью. Но где взять, найти, достать соответствующую сумму?! Оставалось одно – просить клуб пойти нам навстречу и, так сказать, не сдирать с нас последней шкуры.
Дежурный старшина, как говорится, и гладиться не давался.
– Какое нам дело? – говорил он, разводя руками, – играете вы или не играете? Помещение вам сдано, задаток получен и кончен бал. Остальное на бочку. Без вас мы имели десять предложений, и может быть, и все двадцать, так что пожалуйте бриться, и никаких историй…
Что и говорить, старшина был прав, но дело было в том, что за всеми расходами у меня в кошельке оставалось несколько медяков, а еще отъезд в Харьков, не ночевать же здесь. Кроме того, в эту минуту во мне, очевидно, уже слагался будущий импресарио – и мне нестерпимо было думать, что я ставлю «мою» труппу в столь невероятное положение. Спектакль не состоится – это одно, это, так сказать, игра непреодолимых сил, форс-мажор, но доставить труппу в Харьков я обязан!
Стоим мы с Мишей и почесываем затылки. И вдруг, как в классических рождественских рассказах, послышались троечные залихватские бубенчики. В темноте голоса, не особенно трезвые:
– Где тут театр?
– А что?
– Шестнадцать первых мест для юнкеров юнкерского училища.
Мой фармацевт хотел уже пуститься в соответствующие объяснения, но меня вдруг охватило вдохновение, я прервал его и сказал:
– Эврипид, чортова кукла! Зажигай электричество, садись в кассу и бери с них по целковому! Спектакль состоится!..
Розенблат ошалело посмотрел на меня и вероятно подумал: не сошел ли я с ума, но потом хмыкнул, фыркнул, покрылся испариной и бросился исполнять директорские предначертания.
А меня осенила мысль, которую я еще долго потом считал гениальной.
Когда публика расселась по местам, я сам дал звонок, сам поднял занавес. А потом, через несколько минут, слегка загримированный, вышел на сцену. В зале водворилась мертвая тишина: никто не знал, что этот неизвестный молодой человек собирается делать.
А я, с пересохшим от волнения горлом, но вытянувшись в струнку, подошел к самой рампе, откашлялся, поклонился почтеннейшей публике и так, с места в карьер, стал читать никитинского «Хозяина».
Прочитал и вдруг слышу – гром аплодисментов.
Успех кружит головы. Была не была! Пропадать, так с музыкой! Гортань деревянная, а тембр металлический.
Я уже не только читаю, но и изображаю, действую, играю!
То Апухтинского «Сумасшедшего», то «Белое покрывало», «Сакья-муни» Мережковского, а то и просто – никаких испанцев! – монолог Чацкого.
Слушают, оказывается, сверх ожидания, даже внимательно.
Слушают, сочувствуют, одобряют.
Верхним чутьем угадываю – довольно лирики, пора перейти на легкий репертуар.
Сказано – сделано.
Попадаю в точку. Анекдот. Юмор. Чорт в ступе. Дивертисмент.
Смех. Аплодисменты. Полное одобрение. А я опять перехожу на лирику, переключаю и себя, и публику. А сам тайком – на часы!
Пятьдесят минут, как один сладкий миг! И даю условленный знак обалдевшему Мише. А тот трагическим голосом объявляет:
– Антрррракт!!
Стараясь подражать неподражаемому Шувалову, покидаю сцену, задергиваю занавес и иду в свою ложу (уборную), гляжу на себя в зеркало – загнанная лошадь! В дверь просовывается Миша, и в обеих руках несет выручку, жмет, прижимает, обнимает, рассказывает, что публика в восторге, что на Крещение спектакль необходимо повторить, что к тому времени возвратится примадонна, что Бахмут можно сделать золотым дном!..
А я сижу и мучительно думаю, чем же в следующем отделении я буду занимать свою почтеннейшую публику? И невольно в душу вливается досада на мою «труппу», предательски бросившую меня и демонстративно сидящую на вокзале.
А Эврипид, швырнув мне кассу, смывается, чтобы, как объяснил он потом, – подготовить публику.
Подготовка заключалась в том, что вот, мол, приехала большая харьковская труппа, но в последнюю минуту случилось несчастье: труппа пила чай с вишневым вареньем и угорела от самовара. Из строя не вышел только один знаменитый Леонидов, который и взвалил на свои рамена всю тяжесть спектакля, весь форс-мажор.
«Форс-мажор» действует на Бахмут магически.
А у меня в запасе еще множество веселеньких историй, которыми кишит добродушный, сытый и обильный юг России.
И во втором отделении я начинаю вываливать их, как раков из мешка.
Публика, дай ей Бог здоровья, «реагирует», одобряет, ржет.
Очарование успеха так велико, что мне уже хочется, чтобы спектакль никогда не кончился.
И, когда занавес, наконец, опускается, я испытываю первую радость театральной удачи и думаю:
– А все-таки, чорт возьми, кривая вывезла!
Сказать по совести, – был я в то время счастлив несложным, наивным, но настоящим актерским счастьем. Сверх ожидания, все сложилось как нельзя лучше. Первый блин не вышел комом.
Вспоминаю, как по темным и снежным улицам провинциального городка мы с моим восторженным Мишей шли на вокзал, а он без конца тараторил:
– Вижу в вас большого импресарио – в вашем положении не вывернулся бы и сам Барнум! А вы вывернулись смело, рискованно и удачно! О чем сие говорит? О том сие говорит, что в вас есть не какая-нибудь пружина, а полный механизм антрепренера! Ибо, скажем научно, что такое антрепренер? – Это прежде всего глазомер, быстрота и натиск. Мой скромный совет: копайте золотую жилу в этом направлении!
– А Технологический Институт!
– Плюньте! Ходите с большого козыря! И бейте его по усам, ваш Технологический Институт.
И удивительное дело, слова уездного Эврипида глубоко запали в душу.
Дотащились, наконец, до вокзала. Смотрю: в темном углу подремывает «труппа»…
Мы с Мишей демонстративно заняли центральный столик, и я громко скомандовал:
– Нежинской рябины и икры!
Труппа заволновалась, заходила, как море-окиян. Заволновалась, вытаращила глаза: откуда? из каких источников?
А Миша уже подымает рюмку и, полузакрыв глаза, восклицает:
– За ваш блестящий успех…
Труппа окончательно потрясена. Какой успех? Где? В чем?
А Розенблат кричит:
– Братья во Христе и во Израиле, приблизьтесь! Спектакль, – говорит, – сошел на-ять! Получайте по рублю.
Смущение, смятение умов полное.
Но в чем-же дело?
– Об этом долго рассказывать. Прочтете в газетах мою корреспонденцию с мест… – Все поймете!
Тут, кстати, подошел поезд и мы двинулись в Харьков.
Братья завалились на боковую, а я всю дорогу промечтал. О чем?
«О подвигах, о доблести, о славе!..»
За окном была волшебная снежная ночь с гоголевским месяцем в небесах. И ощущение счастья, счастья, счастья!..
* * *
В следующий вылет мы посетили Юзовку.
Говорят, что теперь Юзовка отстроилась, но в те времена это была одна из самых глухих провинциальных дыр. Грязища невылазная, темень непроглядная. Мы повезли туда пьесу С. Л. Полякова «Огненное Кольцо», только что получившую премию Островского и прошедшую на сцене Александринского театра с большим успехом.
На главную роль я пригласил С. Т. Строеву-Сокольскую, профессиональную актрису, пользовавшуюся большим успехом.
На местных львиц я твердо решил больше не полагаться.
Не успели мы войти в театр, как Строева задала вопрос:
– А рояль в театре имеется?
– Зачем вам рояль? Ведь в пьесе музыки нет.
– Сцену третьего акта я веду, опершись на рояль.
– Но вы можете опереться на стол!
– Нет. Не могу. Только на рояль!
Бегу, расспрашиваю – конечно, рояля в «театре» нет.
А Строева неумолима: рояль должен быть, иначе она не играет.
Понимаю, что ей хочется играть под большую гастролершу с «капризами» – увы! – тут ничего не поделаешь. Кроме того, за ее спиной стоит Е. М. Бабецкий, один из влиятельнейших харьковских театральных рецензентов – и это своим чередом входит в наши административные соображения…
Одним словом, не было печали – черти накачали. Извольте найти рояль в Юзовке! Начинаются поиски. Местные аборигены даже осведомились: а что такое рояль?
А Строева, как фатум, как Мойра, как неумолимая Судьба.
Что делать? Хоть отменяй спектакль.
Наконец объявляется местный реквизитор и говорит:
– Пианино есть, но только бутафорское и очень уж грязное.
– У кого?
– У местного фотографа Абрамовича.
Абрамович – культурный человек и за два бесплатных места готов служить святому искусству.
Приволокли пианино.
Кидаюсь к примадонне:
– Рояля в Юзовке нет. Есть пианино.
Строева почти рыдает:
– Боже! Куда я попала?!
А пианино такое, что на него смотреть страшно.
– Выкрасить можешь? – спрашиваю реквизитора.
– Ха! – отвечает презрительно он. – И не такое красили!
Начинается спектакль. Третий акт. Строева в глубокой задумчивости приближается к пианино, магнетическим взором глядит на роковые клавиши и произносит свой вдохновенный монолог. Я сижу в первом ряду. Публика затаила дыханье. Строева в своем лучшем белом платье. Она великолепна! Я благодарно думаю: вот актриса. Надо прибавить три рубля! Непременно прибавить!
Строева кончает монолог, и с каким надрывом, с глубочайшей душевной болью, как живого человека, обнимает свой любимый, родной инструмент, свидетеля ее мук и страданий!
И я чувствую, как и в моих, уже много насмотревшихся глазах, начинают появляться слезы, вынимаю платок и все думаю: «Надо с ней поставить на Пасхе, в Луганске, „Сестру Терезу“ или „За монастырской стеной“…»
И вдруг в театре взрыв хохота, но какого! Стены трещат.
Протираю глаза и с ужасом вижу: белоснежное, бальное, неземное атласное платье героини сверху до низу, от безмолвного декольте до шуршащего шлейфа, все сплошь… в страшной, черной непоправимой саже!
Возмущенная Строева, не понимая в чем дело, гневно поворачивается к непросвещенной публике и вызывающе спрашивает:
– Что случилось?
А зал неистовствует. А тут еще чей-то голос:
– Боже мой! Что вы сделали с моим инструментом?!
Никаких сомнений, это голос фотографа Абрамовича.
Я лечу за кулисы.
Строева в истерике, Абрамович вцепился в реквизитора. Реквизитор орет:
– Та це-ж сажа: як высохне, так и отскочить! Та це-ж ничего… И якого биса ты лаешься?
Я хватаюсь за эти слова, как за якорь спасения, и шепчу Строевой в самое ушко:
– Да это-же сажа: как высохнет, так и отскочит… И кроме того я прибавлю вам десять рублей.
– Чорт вас возьми! И за чистку заплатите! – кричит истерически Строева.
– Дирекция не останавливается ни перед какими расходами. За чистку, за мойку, за все заплатим!
Представление продолжается.
А в последующей рецензии ясно сказано:
– Спектакль имел неслыханный успех.
* * *
Знаменитый французский актер Луи Жувэ оставил после себя несколько книг о Театре, совершенно замечательных.
О Театре любят писать очень многие, тема интересная, модная и безответственная, и оттого большинство этих писаний всегда близко к вульгарности.
Но Жувэ – тонок и оригинален. И, как всякий актер, трогательно суеверен: он свято верил в невидимого духа Артура, который по вечной своей проказливости, может вам, вдруг, ни с того, ни с сего, подложить свинью и совершить какую-нибудь совершенно неожиданную гадость.
Но, разумеется, не об одном духе Артуровом писал талантливый человек.
Жувэ волновало значительное, а больше всего занимал его, не только как актера, но и как театрального директора, вопрос о публике.
К публике повсюду – отношение ироническое: так в России публику называли дурой. Во Франции ее просто называют: «cochon payant».
А между тем, именно она-то, дура и платящая свинья, является в театре краеугольным камнем: дура заупрямилась, в театр не идет, и судьба пьесы, хотя бы самой гениальной, – решена.
Жувэ удивляло одно обстоятельство – в его театре было семьсот мест и, какой бы успех ни сопровождал очередную пьесу, каждый вечер, к восьми часам всегда приходило одно и то же количество людей. Десять больше – десять меньше, но всегда около семисот.
Париж – город многомиллионный: ведь могла же потянуться в какой-нибудь вечер и тысяча человек? Нет, никогда. Всегда одно и то же число, нужное для заполнения имеющихся мест.
В этом Жувэ усматривал некую своеобразную мистику.
С самых своих первоначальных театральных шагов задумывался над этим вопросом и я.
Харьков был очень театральный город. Но для меня было совершенно ясно, что он никогда не дает того, что называется полной театральной нагрузкой. Есть такие пласты населения, которые к театру совершенно равнодушны.
И, все-таки, думалось мне, их можно поднять, надо только приступить к этому с известным умением.
«Во всяком доме есть деньги – надо только уметь их взять», – говорил Кречинский.
Так и во всяком городе есть равнодушная к театру публика, но если ее расшевелить, хоть бы кочергой раскаленной! – и из нее можно извлечь толк.
Такой эксперимент с кочергой я и решил произвести с харьковской публикой, уклоняющейся от театральной сени.
Сел в поезд и поехал в Москву, в первое свое, так сказать, ответственное антрепренерское путешествие.
В Москве пошел в Чудов монастырь, прослушал за обедней его великолепный хор, потом познакомился с регентом и пригласил его на гастроли в Харьков, во главе с протодиаконом Розовым, обладателем всероссийски-знаменитого баса.
И привез эту капеллу в Харьков.
В день концерта огромный театр Муссури был переполнен.
Харьковскую публику я достаточно хорошо знал, чтобы не понять, что на этот раз привалил какой-то иной, совершенно мне неведомый пласт!
Очевидно, моя железная кочерга расшевелила такие углы, которые годами не шевелились и сидели у себя по домам компактной массой.
Успех Чудовского хора был огромный, и можно было бы провести и еще два-три концерта, но хор обязан был возвратиться в Москву.
Я же был в восторге от столь хорошо удавшегося опыта.
Это уже была не Юзовка и не Бахмут – это было предприятие, как говорят французы, глубокого дыхания, и я как-то впервые почувствовал нарастающую силушку. И вот тут-то Харьков показался мне городом маленьким. Пробудилась тяга туда, на север, где летают горные орлы, к театрам Императорским, к Московскому Художественному…
Однако опять все то же – быть или не быть?
Оставаться в Харькове, или Технологический Институт по-боку?
В те времена человек, бросающий столь привилегированное учебное заведение, мог показаться сумасшедшим, но во мне уже бушевал и пожирал меня такой огонь, что ничего я с собою поделать не мог…
Хотя в Институте я дошел уже до третьего курса, до науки о сопротивлении материалов, «Кинжал из дерева» рушил все!
Много я в те времена провел бессонных ночей.
Самым беспокойным было сознание своей ответственности перед матерью, которой я дал слово получить столь желанный ею диплом.
Диплом должен быть и будет получен.
В крайнем случае, диплом об окончании Юридического факультета: скорее, проще, легче!
Хотя втайне я думал, что и суд мне нужен, как прошлогодний снег.
А с латынью я справлюсь. Piscis, panis..!
Вызубрю, сдам экзамен, кривая вывезет, мамашу милую не подведу.
Сказано – сделано. Экзамен сдан. В поезд, в Питер, в столицу, в Санкт-Петербург.
Я чуть не заплакал от радости, когда увидел этот волшебный, сказочный по красоте город.
Вот, где жить, работать и кончать дни свои. Какое движение на улицах, какая публика, какие театры!
Долго стоял перед фасадом Александринского Театра – быть может, самого красивого в Европе по строгости своих классических линий.
И сладко билось мое юношеское сердце.
А вот и Университет, старинное Петровское здание двенадцати Коллегий, а я – студент юридического факультета… каждый вечер заседаю в Александринском театре. Меня до слез умиляет маленькая вывесочка:
– Въходъ въ кресла.
Вывесочка, которую видел, вероятно, еще Гоголь.
Театр большой, четырехярусный, чинный, без того южного шума, который был так характерен для Харькова.
Поднимается занавес, и начинается «Ревизор», каждое слово которого у меня на слуху. Начинает свое вступление В. Н. Давыдов – великий актер, и я забываю все на свете.
Владимир Николаевич Давыдов!..
«Дедушка», как его звали в Театре. Величайший артист своего времени, неповторимый, несокрушимый, всей Россией почитаемый! Его Фамусов, Городничий, Расплюев, Мамаев, Подколесин, Любим Торцов, вошли в историю Театра и сделались образцами для всей актерской громады. И нашли тысячи и тысячи пламенных подражателей.
Потом я имел честь и счастие работать с ним. Гениальный на сцене, в жизни он был деликатен, благороден, справедлив и, главное, очень, очень умен. От него исходила какая-то удивительная душевная теплота. После нашей первой поездки он подарил мне свою фотографию, с надписью:
«Любите Театр, но бойтесь его! Нет ничего прекраснее Театра, но нет ничего и страшнее!»
Сегодня, когда обо всем этом вспоминаю, я думаю: как был прав великий чародей! И, если бы мне пришлось дарить карточку начинающему театральному деятелю, я бы повторил на ней золотые давыдовские слова.
А на сцене уже второй акт. Выступает К. А. Варламов, другой кумир России, и я чувствую, как бьется сердце, как обострился слух.
Вот где счастие, вот где настоящая жизнь!
Возвращаешься домой, как из заколдованного царства, переезжаешь за две копейки холодную реку, добираешься до постели утомленный, но весь как-то душевно собранный – и спать не можешь. Все думаешь: как самому подойти, приблизиться к заколдованному миру, как привязать свою ладью к корме «большого корабля»?
Гадаю, думаю, соображаю. А потом, очертя голову, и пускаюсь во все тяжкие.
Пользуясь своим знакомством, еще по Харьковским временам, с П. В. Самойловым, организую первую поездку во Псков.
Псков – в нескольких часах от Петербурга, но провинция – из глухих – глухая. Сонный, исторический город с преданиями, идущими еще от Иоанна Грозного, с удивительными старинными церквами, с Поганкиными палатами… И… с газетой по имени «Псковские Ведомости», в которой пишет театральные рецензии критик Каганский, в общежитии торгующий овсом. Нравы – архипатриархальные: чиновники платят за билеты не деньгами, а бонами – иди двадцатого и получай у казначея.
Наконец, в день спектакля, приезжаю с труппой. Во главе мужского состава – П. В. Самойлов, во главе женского – Е. М. Любарская. В репертуаре – «Коварство и Любовь» и ибсеновские «Привидения». Театр – имени Гоголя.
Предварительная продажа не плоха: можно надеяться на полный сбор.
И действительно, к началу спектакля театр явно наполняется.
Женский персонал приступил уже к гриму, но мужчин что-то не видно. Это отсутствие начинает тревожить, бегу в гостиницу и, о ужас! – все мертвецки пьяны. Через полчаса – спектакль, а в номерах – такой храп, что хоть всех святых выноси.
Что делать? Опять, стало быть, быстрота, глазомер и натиск: нашатырный спирт, холодные компрессы, одним словом, из юриста превращаюсь в медика и особенно хлопочу над главным виновником торжества – Самойловым.
Наконец горизонт стал проясняться. Кто-то фыркнул, кто-то закашлялся. Кричу над ухом каждого, что в театре уже начинает собираться публика, подаю пальто, всовываю руки в рукава, толкаю на воздух в чаянии, что авось от холода скорее прийдут в себя и кое-как довожу всю компанию до артистического подъезда, вталкиваю их в уборные, начинаю свиным салом мазать им морды, наливаю в глотки сельтерскую воду, вывожу на сцену, расставляю по местам и сам даю сигнальные звонки.
Все пьяно-распьяно, актрисы в ужасе, молчат, смотрят, ждут бедняжки.
Наконец, была не была, даю занавес и тут впервые не то, что понимаю, но как-то сердцем чувствую, что Театр – чудо из чудес, что главное в нем – не логика, а чертовщина и интуиция.
Поднимая занавес, слежу с тревогой за физиономиями своих лицедеев и что же вижу? По мере того, как это большое полотно поднимается и шуршит – на актерских лицах начинает проступать что-то разумное, ухо явно принимает суфлерский шопот и – чудо из чудес! – начинающий пьесу актер Викторов, который, как поется в «Птичках Певчих»: «сказать по чести, был пьянее всех вместе», – этот самый Викторов неожиданно берет правильное дыхание и полностью входит в роль, как будто на свете никакой водки никогда и не существовало.
Выходит Самойлов, и его волнующий, с легкой хрипотцой потцой голос становится особенным, трогательным, проникновенным, и я чувствую, как этот глубоко-провинциальный театришко, как чиновничество, платящее за места бонами, настораживается, внемлет, замирает и каким-то предвидением, уже навострившимся, безошибочно знаю, что спектакль будет иметь успех!..
В таких случаях актерам не нужно давать покоя, чтобы у них не упали нервы.
Поэтому начинаю браниться, негодовать, упрекать и это еще больше подвинчивает их, и я воистину почиваю на лаврах, отирая крупные капли пота на антрепренерском лбу.
А на другой день в неуемных водах «Псковских Ведомостей» уже захлебывается от восторга пораженный стрелой Прометея продавец овса.
Вспоминаю и думаю, – болезнь печени началась у меня именно с этого приснопамятного дня.
* * *
Второй раз я выезжал во Псков вместе с известным куплетистом С. Ф. Сарматовым, но это было много легче и проще.
В этих поездках вырабатывался опыт, наметывался глаз и то умение видеть, угадывать, ощущать эту самую пресловутую публику, которая и есть главный козырь в предпринимательском деле.
Мне была по душе эта суматоха сборов, поездка с актерами в одном вагоне, разговоры в дороге.
Потом – знакомство с новыми местами, с администрацией (много гоголевского было еще в милой России), с прессой, с типографиями.
Устанавливались связи, отношения, шли ужины после спектакля, встречи с людьми, которых в иных условиях никогда бы и не увидеть и не узнать.
Я всегда жалел, что Бог не благословил меня писательским даром, ибо сколько тем соблазнительных, невероятных возникало помимо воли. Романы, повести, комедии, драмы…
В то же самое время, будучи студентом в Питере, начал я подвизаться и в качестве актера: служил в Новом Драматическом Театре, на Мойке, в зале Кононова, где впервые были поставлены «Деньги» С. Юшкевича, «Белая Ворона» Чирикова и где шла сильно в те времена нашумевшая пьеса Л. Н. Андреева «Дни нашей жизни». Написанная в обычных реалистических тонах, без символов, без выкрутасов, с значительной дозой доброй старой мелодрамы, пьеса имела огромный успех.
В этой пьесе я изображал пьяного студента и придурковатого купчика во втором акте и, что называется, поддерживал ансамбль.
…Следующий мой сезон был в «Кривом Зеркале», театре З. В. Холмской и А. Р. Кугеля, недюжинного человека и тоже «одержимого театром».
Кугель был блестящим, тонким и остроумным журналистом и выдающимся театральным критиком, писавшим под псевдонимом «Homo novus».
Петербургские актеры, включая и императорских, не очень долюбливали его, но и очень боялись.
* * *
А вокруг нарастала предреволюционная эпоха. В длинном университетском коридоре гудела молодая, всегда восторженная и воспаленная толпа, суб-инспектора не высовывали носа, в огромном актовом зале беспрерывно шли сходки и все время было такое ощущение, что гроза скоро разразится.
…Наконец Университет окончен, диплом получен, сыновнее слово соблюдено. И нагрудный эмалевый ромб, для утешения мамаши, куплен.
Теперь я человек свободный и дорога моя выбрана, раз и навсегда.
А российская гроза все приближалась и приближалась.
В стенах царских дворцов стал появляться таинственный Григорий Распутин.
Маленький царевич, наследник престола, был тяжко болен. Болен неизлечимо.
Светила науки были бессильны. Белокровие истощало детский организм. Справиться с гемофилией не мог никто. Тогда приезжал сибирский мужик, беспощадно, в лицо издевался над докторами и светилами, накладывал руку на голову больного, шептал заклинания – и кровь останавливалась…
– Ну, что же ты, профессор кислых щей, небось сам ничего не можешь?
Денег шаман не брал, выпивал большую рюмку мадеры, отвешивал поясной поклон и в дворцовой карете уезжал к Симановичу.
Симанович, из ювелиров, маленький клубный игрок, которого за многие художества не впускали в большие клубы, неизвестно каким путем «подкатился» к Распутину и сделался его «секретарем» и путеводителем.
Секретарь быстро сообразил, что игра будет беспроигрышная.
Военные поставки, концессии, займы, продвижения по службе, чины, ордена – безграмотная записка Распутина может оказаться волшебным ключом, открывающим самые недоступные сезамы.
Распутин, особенно под пьяную лавочку, давал записки легко и охотно, лишь бы вокруг веселились бесы, лилось шампанское, и в зимних туманах петербургских ночей звенели цыганские гитары и пресмыкалась у ног искавшая чуда ненасытная женская страсть.
Симанович орудовал ловко… Устраивал балы, бдения и разворачивался во всю.
На одну такую Вальпургиеву ночь удалось попасть и мне, грешному.
Должен признаться, что это было незабываемо.
В первый и единственный раз в жизни очутился я лицом к лицу с демонами и хлыстами, доканавшими Российскую Империю.
За столом сидело человек двадцать. Распутина еще не было. Создалась особенная атмосфера «большого ожидания».
Где-то в отдалении играл струнный оркестр. Ливрейные лакеи переминались с ноги на ногу. Разговаривали вполголоса.
И вдруг в дальних комнатах раздался какой-то шум, хлопанье дверей, топот ног, голоса. Хозяин вылетел из-за стола, наскоро утираясь салфеткой. Вся компания заволновалась.
Напряжение достигло предела.
Все приглашенные, принадлежавшие большей частью к высшему свету и «всему Петербургу», затаили дыхание.
И вот шум все ближе и ближе, и наконец на пороге, трудно ошибиться – он.
Да, мужик, мужичище, сиволапый. И не лезет ни в какие переодевания, ни в какие «тройки». Длинные «духовные» густо напомаженные волосы; звериные, во всяком случае нечеловеческие, незабываемые, светлозеленые глаза, беспокойные, испытующие; крупные черты лица – и общее впечатление огромной загадочной силы. Одет по-мужицки, но со своеобразным вкусом и дорого: шелковая малиновая рубаха с косым воротом, плисовые штаны запахнуты в высокие ладные сапоги. Поверх – поддевка тонкого сукна. Худ и даже изящен, как-то непонятно изящен.
Первое лицо в Петербурге – человек неслыханный, невиданный, никогда никому не мерещившийся, добравшийся до самого высокого Трона в мире.
Вместе с ним приехал Алеша гармонист.
Григорий сел за стол. Около него – бывшая жена Собинова – Собинова-Вирязина.
Ест жадно. Пьет, не отрываясь, и всегда до дна. Смакует, облизывается.
И я не знаю, почему и откуда, но у меня создалось впечатление огромной, черноземной талантливости – и талантливости именно артистической, какая исходила от этого странного человека.
Но в чем она, эта талантливость?
В том ли, что он нагло и безнаказанно смеется над наукой и знаменитыми профессорами и каждую минуту может поставить их – бесспорно – в затруднительное и щекотливое положение с их ученым самомнением, ученой чванливостью и загадочным жреческим видом?
В том ли, что он захватил частицу власти высочайшей, освященной веками, и теперь, как хочет, играет судьбами людей? Или могуществом над женщинами: считалось, что нет ни одной, которая может «устоять» перед Распутиным. Или, быть может, той силой, темной, загадочной, колдовской, от сибирских шаманов, которая живет в нем, которую он ощущает и которою распоряжается по своему желанию?
А он все ел, ел, ел, видимо, что-то специально для него приготовленное и им любимое.
И вдруг кончил, осмотрелся кругом, все от себя отодвинул, вытер пальцы о скатерть, хотя, видимо, отлично знал, что вытирать их нужно о салфетку. Но умышленно и театрально гнул свою линию, кокетничал, играл.
Потом перешел в гостиную. За ним, точно по приказу, потянулось все общество.
Войдя в гостиную, Распутин стал в позу и многозначительно подмигнул Алеше. Алеша навострился и стал ждать вступления.
Мужик потомил немного и вдруг выставил правую ногу и подбоченился. И тут ударила гармонь. Распутин шевельнул каблуком, вывернул ладонь и пустился в пляс. Плясал ловко, легко, с вывертами и с удовольствием.
Для меня сразу стало ясно, что это – природный плясун, любитель этого дела, интересный, действующий на публику зажигательно: подходи и подписывай контракт.
Было в этом танце что-то и хлыстовское, и сибирско-шаманское, и был этот танец исключительным и единственным в своем роде. Танец по-настоящему стоил аплодисментов, и они были даны и приняты со снисходительной улыбкой!
Если бы этого человека повезти в турнэ по России и Европе – можно было бы заткнуть за пояс любую всероссийскую знаменитость!..
Ему принесли мадеры, он залпом выпил ее и вдруг залез Собиновой-Вирязиной за корсаж и вытащил наружу груди. Никто из присутствующих не шевельнулся, не возмутился, не вскочил с места.
Конца оргии я не дождался.
Рассказывали такое, о чем и вспоминать не стоит.
Вскоре после этой достопамятной ночи Распутин был убит.
О гибели шамана много писалось, пережевывалось – еще и поныне распутинская эпопея продолжает привлекать развязных сценаристов и драмоделов, не жалеющих красок, дабы сделать из нее еще более безвкусное и малодостойное зрелище.
Владимир Иванович Немирович-Данченко
О театральном мире можно сказать словами Царя и Псалмопевца Давида:
«Сие море великое и пространное, в нем же гади – им же несть числа».
Если вы – актер и если вы сегодня имели успех, т. е. вас вызывали, выкрикивали ваше имя, горячо приветствовали, и, может быть, бросили на сцену два-три цветка, – то знайте, то знайте, что у вас образовалось столько врагов, сколько насчитывает состав труппы. И среди них – ваша собственная жена, если и она актриса.
И, если вы драматург, и, если паче чаяния, ваша пьеса имела успех, и, в особенности, если этот успех плодоносен в смысле презренного металла, то весь Союз драматических писателей возненавидит вас лютой ненавистью.
Конечно, вас будут поздравлять, но с кривыми, уклончивыми улыбочками; бочком и втайне будут издеваться над вашей пьесой, скажут «дуракам счастье», или пустят слух, что вы незаконнорожденный, а сорочка, в которой вы родились, была вами украдена за одну минуту до рождения.
Когда с таким треском провалилась в Петербурге чеховская «Чайка», то можете быть уверены, что больше всех ликовал А. П. Ленский, который письменно советовал Чехову не писать пьес:
– Я же говорил. Я же предсказывал.
Согласно этой готтентотской логике, должен был бы радоваться провалу Чехова и Немирович-Данченко.
Немирович-Данченко в эту эпоху занимал первое место среди русских драматургов и зачем ему нужен был Чехов и чеховские театральные успехи – баба с возу, коню легче.
Но, если газетная и театральная вобла не понимала «Чайки», то Немирович-Данченко, тонкий художник и прекрасный учитель сцены, отлично воспринял ее достоинства и ее прелесть.
Он не чувствовал, а знал, что Чехов – великий соперник, что Чехов несет в театр новое освежающее слово, и именно этим новым освежающим словом Чехов в будущем забьет его, Немировича, со всеми его шедеврами.
И что, вообще с появлением Чехова, кончается и его карьера, и карьера князя Сумбатова, и Шпажинского, и многих других.
И вдруг «Чайка», этот несравненный шедевр, с треском проваливается: дураки сыграли, ничего не поняв; другие дураки прослушали и тоже ни аза не поняли.
По всем законам готтентотской логики, Немирович-Данченко мог только облегченно вздохнуть и сказать, как Скалозуб:
– «Довольно счастлив я в товарищах моих…»
Но недаром Немирович-Данченко, рожденный от русского отца армянкой, вырос на Кавказе, где закон чести и куначества всасывается с молоком матери. А Чехов был свой, кунак.
Так или иначе, а Немирович-Данченко вел себя, как рыцарь, редкий рыцарь театра и литературы.
Это был очаровательный, всегда спокойный и уравновешенный человек. Он редко бывал вежлив, но никогда не был невежлив. Он всегда был приятен, всегда терпеливо слушал вас и, когда он в чем-либо не мог убедить вас устно, то писал вам длинные письма, образец ясности и точности. И почерк его так и не изменился, как это часто бывает у стариков. Не говорю уже о том, какой это был работник и хлопотун: он приходил раньше всех и уходил позже всех.
Даже тогда, когда, в голодные советские годы, приходилось ему стоять в очереди за картошкой, и тогда оставался барином, в очереди он говорил только о Театре, которому среди всех этих смен и перемен могла грозить опасность.
Он, как и все, продавал вещи на Сухаревой площади и никогда никакого снижения в нем не чувствовалось.
– Что ж? Я – как все.
Одно его огорчало: исчезновение папирос «Яка», завернутых в восковую бумажку и в зеленой блестящей коробочке.
…Судьба удивительно плетет свои нити.
«Кому что суждено, то с тем и приключится», как поет Валентин в «Фаусте».
* * *
На короткий срок, всего на два дня, удалось мне вырваться в Москву. Прилип к афишному столбу: в Художественном Театре идет «Иванов», в Малом – «Волки и овцы».
Решил идти в Художественный, но билетов в кассе нет, нашел у барышника, рад и счастлив.
И странное дело: природное призвание сказалось, и я внимательно присмотрелся к корпорации барышников и внимательно же понаблюдал за их манипуляциями. Ничего не поделаешь – детали ремесла.
С каким волнением ожидал я вечера, чтобы в первый раз переступить порог знаменитого, легендарного Театра!..
Театр, как театр. Коридор подковой, но свет какой-то особенный. Помню первое свое ощущение, когда увидел, как начал, не сразу, а постепенно выключаться, погасать свет.
И публика! Иной мир, другие нравы! Чувствуется уважение к тому, ради чего люди пришли. Ни толкотни, ни спешки, ни громких разговоров.
Я всегда любил ту выжидательную жажду впечатлений, которая сквозит в глазах людей, только что попавших в театр. Может быть потому, что харьковцы – южане и эта «жажда» горит у них ярче, чем у москвичей-северян, но здесь есть что-то сосредоточенное, благоговейное, нечаянная радость: вот вошли в какой-то Сезам, который отворился, который сейчас раскроет свои удивительные тайны.
Ведь если чеховские три сестры вздыхают о Москве, то главным образом потому, что там есть Художественный Театр, который залечит все раны и укротит все боли…
В театральной зале ничего кричащего, ничего бросающегося в глаза, одна только летящая чайка на четырехугольном, серо-зеленом занавесе – чайка, сначала обольстившая и обманувшая, потом встрепенувшаяся и щедро благословившая.
Чувствуется, что в этом новом мире работают люди, как-то иначе думающие, как-то иначе воспринимающие и оценивающие жизнь.
И самый запах в театре какой-то иной, запах соснового дерева, никакой духоты, спертости.
Занавес раскрылся. Задвигались, заговорили актеры, и вы сразу чувствуете, что все здесь другое, новое, неожиданное, никогда и нигде невиданное. В чем дело?
Тон, ритм, жест, жизнь по-иному преображенная, как-то иначе, под другим углом показанная, и вам, зрителю, слушателю – хорошо, уютно, хорошо по новому, близко по новому, понятно, душевно мило и привлекательно.
И кажется, что во всем этом вы участвуете сами и, участвуя, испытываете какое-то душевное удовлетворение, радость, ощущение легкого счастья, которым омывается ваше сердце. И из Театра уходите иным, чем два-три часа тому назад, когда вы впервые вошли в залу.
И потом вы долго не можете заснуть.
И все больше и больше понимаете трех сестер: в Москву, в Москву, в Москву!
Броситься, окунуться в Чудотворную купель!
…И вдруг сумасшедшая мысль, из лирики быстро переходящая в реально профессиональную плоскость:
Если три сестры не могут осуществить своей мечты попасть в Москву, то нельзя ли привезти Москву к ним?!
Неумолимое сумасшествие овладевает театральной моей душой, и жду не дождусь утра…
Добиваюсь в полдень свидания с Немировичем-Данченко.
Он сидит за своим столом и, закрыв лицо рукой, слушает мои планы и проекты и поглядывает на меня сквозь пальцы.
И вдруг говорит:
– Все это правильно, но зачем вы нам нужны?
Ушат холодной воды.
– В таком случае прошу прощения, разрешите откланяться.
Вышел, постоял у парадного подъезда, а в душе – полынь, горечь, разрыв-трава…
«В одну телегу впречь не можно коня и трепетную лань»…
Первая связь с Московским Художественным Театром
Считайте меня старовером: как ни обольстителен был Художественный Театр, но в конце концов он пленил только мою голову.
Сердце мое, кровь моя, остались у Театра Малого с его великими чародеями:
М. Н. Ермолова, первая русская трагическая актриса;
О. О. Садовская, неповторимая художница, перл русского реалистического Театра;
А. П. Ленский;
К. Н. Рыбаков;
М. П. Садовский;
А. И. Южин-Сумбатов;
О. А. Правдин;
Е. К. Лешковская;
А. А. Яблочкина.
Каждое имя требует красной строки…
Но голову Художественный Театр заставлял работать…
Хорошо, думал я, – у вас есть своя администрация и, может быть, неплохая, но почему же вы годами сидите в Москве и не едете к этим бедным трем сестрам? Это не великодушно. Может быть, все дело в негромоздком, легко перевозимом репертуаре?
И в следующий свой приезд принялся изучать репертуар. Все изумительно, но каждая постановка сложная и в каждой пьесе тьма действующих лиц.
Разве только Сургучев? «Осенние скрипки»?..
Столь изруганные в печати, особенно петербургской…
В Москве Дорошевич писал:
«…Можно убить отца и мать, и по сиротству тебя оправдают, но написать пьесу… Какой храбрый русский народ! Раз-два и написал пьесу!»
А в то же время нет пьесы, которую бы так любила публика.
Я не говорю уже о Москве, но и в провинции представления «Скрипок» насчитывались десятками раз.
В Киеве, в первый сезон, она прошла более 50 раз и Синельников раздавал участвующим в ней актерам золотые жетоны в форме осеннего листа: случай небывалый в закулисной хронике.
Та же картина была и в Харькове, и в Одессе, и в Ростове.
И решил я снова попробовать счастья, но уже в большом всероссийском масштабе.
Опять в Камергерский переулок. Опять к Немировичу-Данченко.
Он, оказывается, меня запомнил и при второй встрече улыбнулся.
– На этот раз с какими-нибудь твердыми предложениями?
– Так точно.
– Что же именно?
– Я хотел бы показать провинции «Осенние скрипки».
– Но провинция их уже видела.
– Да, но не в вашей постановке…
– Вы говорили с автором?
– Ни с кем не говорил. Я полагаю, что прежде всего должен говорить с вами.
И неожиданно, и так очаровательно легко:
– Ну, что ж? Если актеры могут летом, во время отпуска, заработать, я ничего не имею против.
– Тогда разрешите поговорить с актерами?
– Пожалуйста, но куда вы собираетесь везти пьесу?
– В Харьков, Киев, Одессу, Ростов.
– Имейте в виду, что мы имеем разрешение автора только на Москву и Петербург. В намеченных же вами городах вам придется искать специального авторского разрешения. Имейте в виду, что и Синельников, и Михайловский эти разрешения тоже получили и оплатили их соответствующим образом, так что я не знаю, как вы будете устраиваться. Это очень острый вопрос, и я советую вам заняться им в первую очередь.
– А где находится автор?
– Автор на фронте.
И тут я впервые и совершенно неожиданно столкнулся с авторской проблемой.
Пока суд да дело, я начал переговоры с актерами и, прежде всего, с А. Л. Вишневским. И я понял, что тут надо действовать деньгами. Я предложил ему за месяц поездки ту сумму, которая равнялась его годовому окладу в Театре.
Удар был рассчитан верно, – и не в бровь, а в глаз.
Выяснилось, что О. Л. Книппер-Чеховой тоже нужны деньги для каких-то ремонтных работ в Гурзуфе, на даче, подаренной ей покойным ее мужем А. П. Чеховым.
Пока все шло, как по маслу.
Тем временем и авторский адрес был найден. Оставался вопрос, как редактировать телеграмму и, самое главное, как ее подписать?
Автор меня не знает.
И – быстрота, глазомер и натиск – я ее самовольно подписал именами почти всех артистов Художественного Театра.
Я рассуждал так: своим друзьям автор не откажет… Расчет оказался верным. Права на наши гастроли были телеграфно же даны.
В труппу вошли: О. Л. Книппер-Чехова, Муся Жданова, А. Л. Вишневский, И. Н. Берсенев, П. А. Павлов, Н. Г. Александров.
Кроме того, для добавочных работ мною были приглашены: И. Я. Гремиславский, художник-декоратор. Его задачей было делать на местах или декорации новые, или приспосабливать декорации старые, уже в театрах имевшиеся.
Еще мною были взяты сотрудники Театра, «коноводы» массовой сцены: остальной состав набирался на местах, ибо все считали за честь как-то быть полезными «Московскому Художественному Театру».
В. Бебутов заведовал сценой и труппой. Суфлировал К. Раич.
Костюмы для поездки, с разрешения Немировича-Данченко, были даны Театром.
И, несмотря на то, что в пьесе было главных действующих лиц всего шесть человек, везти пришлось человек тридцать: хотелось показать трем сестрам все со столичным размахом и по-московски.
Поездка с «Осенними скрипками» была триумфальной. Мы провезли их в Харьков, Киев, Одессу, Ростов. Везде – успех и аншлаги.
Иногда и нарывались на провинциальный патриотизм.
Так, например, в Киеве до меня долетел такой разговор:
– Книппер?.. Ну, что ж Книппер? В «Осенних скрипках» нужно смотреть нашу Пасхалову…
Надо сознаться, что русскую театральную провинцию не так-то легко было завоевать. Провинция видывала виды и умела запоминать.
И я был рад, что мой первый большой и настоящий блин не вышел комом и, когда в Ростове-на-Дону мы сыграли последний спектакль, – я воздел руки к небу – ныне отпущаеши!
Перед отъездом собрались на вокзале, насытились красным северо-кавказским борщом, турецким хлебом, настоящим черкасским мясом, закончили крымским виноградом, который назывался: «дамские пальчики».
Не пожалел я и шампанского, поздравил труппу с окончанием нелегкой задачи: мне ответили единодушными аплодисментами.
Но, Боже мой, сколько трудностей было в дороге, каким сложным было это путешествие, и как я облегченно вздохнул, когда все это, наконец, благополучно окончилось! Всем заплачено, все хорошо заработали, все довольны и, в добрый час, расстаемся друзьями.
И только Вишневский, как Мефистофель, шепчет на ухо:
– Слушай меня внимательно: не зарывай таланта в землю… Ты гениальный организатор, ты – Наполеон!
Посмотри, как блестяще прошла поездка в художественном, материальном и административном смысле. Твой «штаб» работал на пять с плюсом… Ты выдержал экзамен перед Немировичем, а это нелегко, уверяю тебя… Ты – Наполеон! А кроме того ты оказываешь великую идейную пользу русскому Театру… ибо, показывая спектакли нашего Театра, ты подымаешь восприятие провинциальной публики. И в то же время и сами провинциальные директора принуждены будут поднять уровень своих собственных спектаклей, отказаться от халтуры – ты понимаешь? Какой это прогресс в искусстве? Задумав возить наши спектакли, ты открыл золотую руду! Слушай старого актера… Ты нащупал золотую руду и не выпускай ее из своих рук… Ты кончишь миллионером! Не бросай начатого, не отшвыривай удачи, которая тебе в руки идет!
– А что вы еще советуете?
– «На дне», Леонид! «На дне», дорогой мой Леонид Леонидов!
– Веселенькая история, – ответил я, – в «Осенних скрипках» шесть человек, а в «На дне» будет втрое больше!
– Давай считать.
И мы с Вишневским стали считать по пальцам.
В нем, не взирая на годы, было что-то наивное, детское и непосредственное.
И любила его вся Москва.
Он был неизбежным посетителем всех мало-мальски видных московских свадеб, обедов, вечеров и везде он суетился, был своим человеком, помнил дни всех именин и сорокоустов, проведывал больных.
А кто раззвонил Леонида Андреева по Москве? – спрашивал он, – я! – и Вишневский гордо бил себя в грудь.
Актер он был в общем средний, но с большим чутьем к ансамблю и, кроме того, по словам Немировича, «в нем свойство чудное имелось» – он был везуч и пьеса с его участием всегда имела успех.
Не желая входить в пререкания с этим милым чудаковатым человеком, я обещал подумать об его «прожектах», а в это время звонок и хриплый выкрик швейцара:
– Поезд на третьем путе!..
И все бросились к выходу.
Актеры – в Москву, я – в Новороссийск. Нервы стали отходить, и я сразу ощутил свою усталость, усталость от всего: от поездки, от вечного напряжения, хлопот, сомнений, недоразумений, актерских самолюбий, и прочего, и прочего, и прочего. И в то же время меня неукоснительно занимал один вопрос: в чем дело? Я каждый спектакль, из вечера в вечер, смотрел «Осенние скрипки». Играют, произносят те же слова, что играют, произносят другие актеры и в Харькове, и в Киеве – и в то же время в манере, интонации, в игре есть нечто совершенно иное – неуловимое, воздушно-приподнятое и прелестное: как будто те же слова и те же реплики покрыты легким налетом лака, которого нет нигде в России и, может быть, – нигде в мире.
Передо мной целый месяц жили люди, которых нигде не встретишь: Федот, да не тот. Была какая-то особенная, тонкая и непостижимая портретная и речевая ретушь, которой никакой театр до сих пор не знал.
Играют превосходно в Малом Театре, что и говорить – играют, может быть, даже лучше, чем в Художественном, а вот этого скольжения, касания, налета нет и в помине. И тут я в первый раз задумался:
– Не в этом ли заключается то, что называется искусством Художественного Театра и что делает его единственным в мире и непревзойденным?
В самом деле, прелестные чеховские пьесы не имели успеха нигде, кроме сцены Художественного Театра. Провинция, после долгих опытов, отказалась от их постановок.
В чем дело?
В особом подборе актеров?
Я слышал о словах Немировича-Данченко:
– Мы не набираем своих актеров – мы их коллекционируем.
Может быть, в этом «коллекционировании» и заключается истина?
Московский Художественный Театр облагородил Москву; в этом тучном и богатом Китай-городе, рядом с мукой и рогожей, вырос цветок, совершенно неожиданный и столь очаровательный, что о нем можно говорить только в стихах, писать его только призрачными красками…
Но тогда, кто же этот «коллекционер», кто этот волшебник Мерлин, который ведет такую таинственную, полную ворожбы, работу?
Тут опять зазвонили звонки, которых не знают железные дороги Запада, опять хрипло пробасил швейцар, послышалось имя Новороссийска и я завалился в свой вагон.
Растянулся на мягком, пружинящем диване и очнулся только утром.
В Новороссийске, слава Богу, обычного нордоста не было, подошел из Батума пароход Русского Общества «Георгий», снова мягкий диван, и я не встал с него до самого прибытия в Ялту.
Я был счастлив: много есть красот на земле, но уютнее и милее Ялты – нет ничего.
Но… Я был отравлен Художественным Театром. Все время меня мучила мысль:
– В чем заключается его секрет? Каким образом достигается то обаяние, которым окрашены все спектакли этого Театра? В чем дело? Самовнушение? Гипноз? Какой-нибудь невероятно тонкий фокус?
Но фокусы, рано или поздно, легко разоблачаются, гипнозы размагничиваются… Один и тот же оркестр играет различно в зависимости от того человека, который стоит за пультом: Тосканини или Огюст Дюпон.
Ялта, милая Ялта… И понимаю, как в начале «Казаков» Толстой чувствовал горы. Для меня уже нет Ялты, а есть Ялта и Театр, море и Театр, вот тот белый дворец и Театр…
Театр этот, как сладкий яд, всосался в мою кровь, и нет никакого средства, чтобы нейтрализовать его отравляющий и сладчайший дурман.
Я мысленно слежу за актерами, теперь уже подъезжающими к Воронежу… Завтра они будут в Москве, завтра Вишневский начнет «раззванивать» нашу поездку… И мне досадно, что меня с ними нет. Я как-то прирос к ним, прирос к Театру, к его занавесу, к сосновому запаху зрительного зала, к вышитой на занавесе чайке.
Вспоминаю почему-то, что архитектор Шехтель, построивший этот Театр, сошел с ума: ему примерещилось, что фундамент дал трещину.
На извозчике, сверху закрытом легким полотнищем, подъезжаю к гостинице «Россия», беру номер с окнами на море, пью божественный воздух, насыщенный иодом, иду по набережной, по тем квадратным плитам, по которым гулял Чехов, – а вот и его любимый книжный магазин Синани, вот и скамеечка около магазина, на которой он любил сидеть…
Вхожу в этот магазин – маленький, провинциальный. Мне отвечают:
– Чехов? Писатель, как писатель. Конечно, большой писатель. Всегда ходил в пальто, боялся простуды… Посмеивался баском. Покупал книги редко, был скуповат…
Ну, а «Вишневый сад»? А «Архиерей»? А «Дом с мезонином»? Поди, объясни человеку, который имел счастие разговаривать с Чеховым!
Дохожу до Городского сада. Сегодня в саду играют вторую симфонию Калинникова. Боже! Под этим синим потемневшим небом послушать симфоническую музыку – какое счастье!
И опять лезет в голову Театр: конечно, дело в дирижере, а в чем секрет дирижера, знает только Господь Бог.
И вдруг я почувствовал, что Вишневский прав: трудно, но надо браться за «Дно» и провезти его по всей России. Будь, что будет!
И Ялта как-то странно отошла в сторону. Так бывает, когда начинаешь понимать, что любишь другую…
…И вот прошло много, много лет… И все они умерли, умерли как в тургеневском стихотворении.
Нас, свидетелей, близко, вплотную стоявших к Художественному Театру, осталось на земле немного, три-четыре человека. О. Л. Книппер-Чехова, автор «Осенних скрипок» Сургучев, да автор этих воспоминаний… Появляются у советов архивы Немировича-Данченко. Я впиваюсь в его беседы с актерами, в его разговоры о режиссуре, в его статьи, которые он то писал, то диктовал.
Все это не то. Тайну свою старый волшебник держал за семью замками.
Но я-то тайну эту теперь знаю. О ней как-то, в добрую и доверительную минуту, он рассказал мне, сидя на балконе гостиницы, в Эвиане, на берегу Женевского озера.
Но об этом речь впереди.
Одно могу сказать: правильно сказал Шаляпин:
– Что ж? Все поют и правильно поют. Поют, как написано… Но вот горе: вздоха то не напишешь.
Так и Немирович-Данченко мог бы сказать:
– Что ж? Все играют и правильно играют. Играют, как написано. А вот вздоха то не напишешь…
И, прослушав вечером симфонию Калинникова, на другой день я уже катил на лошадях в Севастополь, стараясь поспеть к скорому московскому поезду.
И всю дорогу вспоминал, как пел Шаляпин песенку Шуберта:
– В движеньи мельник – жизнь ведет, в движеньи…
«На дне»
Немирович-Данченко, суеверный человек, говаривал, что пьеса, в которой участвует Вишневский, всегда имеет успех.
Я этот взгляд расширил и решил, что всякое дело, в котором участвует Вишневский, всегда, по аналогии, будет иметь успех.
Есть люди, приносящие счастие и наоборот.
Когда, по приезде в Москву, я явился в Художественный Театр, меня встретила обстановка родного дома: очевидно Вишневский «раззвонил» меня во всю. Во всяком случае, Немирович-Данченко явно забыл свое такое еще недавнее:
– «А на что вы нам нужны?»
Он понял, что на некоторые и очень полезные вещи я, все-таки, могу быть нужен, и принял меня деловито, но с полной мерой своего обаяния.
Долго и подробно расспрашивал о поездке с «Осенними скрипками», похвалился, между прочим, тем, что это он нашел Сургучева, и улыбаясь, спросил:
– Чувствую, что чреваты вы какими-то новыми и интересными предложениями.
– Задумал идти с большого козыря… показать губерниям и уездам знаменитую вашу постановку «На дне»!
И тут я имел острое удовольствие увидеть, как такой испытанный игрок, как Немирович-Данченко, на секунду – но только на секунду – потерял свое обычное равновесие.
– Вы это серьезно? – спросил он после маленькой паузы.
– Владимир Иванович, я не посмел бы вас беспокоить, если бы собирался играть в бирюльки.
Он пристально посмотрел на меня, как бы взвешивая мой удельный вес.
– Но вы учли количество действующих лиц?
– Первым долгом учел.
– Тогда разверните мне ваши соображения.
И я начал развертывать.
Внимательно выслушав, он ответил:
– Дорогой мой, если бы я с вами играл в карты, я бы ни секунды не задумался над вашим ходом, но тут ведь не карты, а живые и почтенные люди.
– Артисты первого в мире Театра, – с подчеркиванием добавил я.
– Во всяком случае – артисты Художественного Театра, – исправил он с довольной улыбкой, – это в некотором роде обязывает…
– И даже очень, – согласился я вполне искренно.
– «Осенние скрипки», – это было почти просто… А тут… Простите меня, я привык понимать механизм сложных предприятий… Я осведомлен, что вы блестящий организатор, и все-таки, на этот раз я боюсь единоличной ответственности. Завтра у нас заседание Правления: не откажетесь ли вы присоединиться к нам?
– Помилуйте, Владимир Иванович, за честь почту…
– Ну, ну, молодчик упал нам на голову, – сказал он на прощанье.
На другой день, на ять подкованный, явился я на заседание Правления.
Увидев меня, Вишневский бросился навстречу, прижал к груди и задыхаясь воскликнул:
– Какая счастливая и веселая была поездка!
– Да вот, затеваю другую.
– «На дне»?
– «На дне».
– Ну, а я же тебе что говорил? Успех, успех, успех!
И, чтобы не сглазить, плевал через плечо, стучал по суху дереву, которое, мол, назад не пятится.
Ждали Станиславского, дверь отворилась, и Олимп снизошел на землю.
Я никогда не видал его вне сцены – и был поражен: в жизни он был еще выше и обаятельнее.
Огромный рост, стройный, поразительные молодые глаза и совершенно седая голова – вечный первый любовник.
Российский первой гильдии купец, фабрикант, за театром ни на секунду не забывший своего московского купеческого дела, а в купечестве говорили, – прижимистый хозяин.
В нем уживались два естества – и это было самое поразительное.
Потом, после долгих дней, уже выяснилось для меня из «тайн» театра, что он многого, и даже по-купечески, не понимал: он не понял сначала «Чайки», он не понял прелести «Вишневого Сада», «Доктора Штокмана»… Но, когда такой педагог, как Немирович-Данченко, брал его, что называется, за бока и растолковывал ему, в чем дело, – богато одаренная натура начинала постигать сущность вопроса, – он становился виртуозом и доходил до подлинной гениальности.
На сцене у него было такое обаяние, какого даже испытанные театралы не запомнят.
На сцене проступала его третья ипостась: детскость. Самое пленительное человеческое и актерское начало.
И вот, все, что он постиг и почерпнул от Немировича-Данченко, он, на старости лет, решил оформить в «систему».
Иными словами, решил алгеброй проверить Гармонию. Начал бередить свой внутренний мир и хронометрировать каждое биение своего творческого сердца и… на этом потерпел горькое крушение! Он стал играть хуже, он потерял то, что называется непосредственностью, и уже, например, совершенно не мог справиться с Пушкинским Сальери.
Это было тем же наказанием, какое когда-то Господь Бог наложил на Адама и Еву: не прикасайтесь к древу познания добра и зла.
И чем больше и упорнее разрабатывал он свою «систему», тем дальше от него уходил Рай. Пропадали, линяли цветные нити, – и его игра очень часто становилась сероватой.
И самым главным было то, что он сам это отлично понимал.
Умница Немирович-Данченко всегда говорил молодым писателям:
– Никогда не читайте книг по искусству, не ковыряйтесь в душе своей и не старайтесь познать, что и откуда идет: потеряете главное!
Увы! Подобного совета он не мог дать такому человеку, как Станиславский, – дружба связывала, правда съеживалась.
* * *
Но поди, разберись в Немировиче-Данченко. Наши отношения начались: «на что вы нам нужны?» А кончились трогательной и доверительной взаимной нежностью на многие годы. Присмотревшись к нему внимательно, я понял, как сложен и малопостижим был этот человек.
Таков же был и Станиславский.
Когда меня представили ему, – первое, что он сказал:
– А халтурить не любите?
Это было так сказано, что, в простоте сердечной, я не сразу дал себе отчет. Что это? Грубость? Бесцеремонность?
Ни на то, ни на другое у Станиславского не было никаких оснований.
Но тут снова выручил шумный Вишневский:
– Что вы? Что вы, Константин Сергеевич? Леонидов халтурщик? Да что вы? Бог с вами! Мы в «Скрипках» ни одной буквы не изменили. Я по минутам следил: как у нас в Камергерском переулке. Что вы?
Потом я начал догадываться, что это у Станиславского была ревность к Театру, к которому старался приблизиться «чужой» человек.
В конце концов поездка с «Дном» была одобрена.
Поездка с «На дне»
Поездка была хлопотливою. Ехало не менее сорока человек: Качалов, Книппер-Чехова, Лужский, Вишневский, Москвин, Бурджалов, Бакшеев, Александров, Смышляев, Массалитинов, Успенская, Шевченко, Коренева… Кроме них взяли и художника, и помощника режиссера, и двух помощников Лужского, задачей которого была подготовка массовых сцен до нашего приезда в город.
Вся Москва была горда своим Художественным Театром – и это необычайно облегчило мои хлопоты по отъезду.
Нужен нам отдельный вагон для размещения труппы? – вагон дается немедленно, – помощник начальника станции Тихон Иванович Александров оборудует это в два счета.
Мало того, он на вагоне повесит щит с надписью:
– «Артисты Художественного Театра».
Трудно себе представить, как этот щит будоражил и волновал и поездных пассажиров, и станционную публику.
Во время остановок возле нашего вагона всегда бывала толчея: всем хотелось видеть живых Качалова, Книппер, Москвина…
То же Александров дал нам проводника с самоваром – комфорт был полный!
Вообще, когда вспомнишь, как было весело и уютно путешествовать по российским железным дорогам в этих неуемно-широких вагонах с поднимающимися диванами, – на душе начинают скрести кошки: немало лет провел я в этих вагонах!
Вообще вагон – это актерская эмблема, герб вечных пилигримов и театральных передвижников.
Приехали в Харьков, и нас встретил начальник станции. Звали его фон-Рункель.
Конечно, сейчас же был отдан приказ о переводе специального вагона на запасный путь и держать оный в полном нашем распоряжении.
И вот снова Харьков, родной город, где автор воспоминаний учился любить Театр, где когда-то мальчишкой смотрел украдкой только первые акты и трепетал перед актерами.
Теперь он хозяином приехал во главе лучшей в мире труппы, на спектакли все билеты проданы, и завтра начнут барабанить но телефону эдилы и нотабли, чтобы получить хоть какое-нибудь захудалое местечко, а сам хозяин – центр внимания, герой газетных интервью.
Играли мы в театре Муссури.
Этот Муссури был когда-то управляющим никитинского цирка, а потом построил один из самых больших театров Европы: на три тысячи человек.
Такой разворот мог быть только в древних римских театрах, и мое антрепренерское сердце не могло нарадоваться – овации трехтысячной толпы, восторженный рев, цветы и венки, толкотня в уборных, автографы. Теперь, по прошествии десятилетий, все это кажется потерянным, невозвращенным раем.
Времена стояли предреволюционные, в воздухе чувствовалась гроза, и горьковское «Дно» как-то незримо отвечало этим настроениям, и это еще больше поддавало пару. На сцену летели почти исключительно красные цветы, и в неистовстве театральной толпы уже чувствовалась улица.
Но мы тогда еще плохо расшифровывали эти приметы, да и не до них нам было дело: мы привезли радость и сами были счастливы!
И тогда я начал понимать, что не думая, не гадая, вышел я на большую, широкую дорогу и что, конечно, никакие дипломы, ни технологические, ни юридические, не могли бы мне ее заменить.
Когда я слышал этот радостный гул трехтысячной толпы и когда, по окончании спектакля, стоял на выходе и видел эти воистину счастливые лица людей, которые, может быть, не сразу заснут в эту ночь, и которые и завтра и послезавтра будут жить виденным и слышанным, будут долго вспоминать волшебный спектакль, – я нескромно подумал:
– А, пожалуй, это уж не так плохо быть продавцом иллюзий, обольстителем толпы, расточителем радости?!
А труд большой и подчас нестерпимый.
Газеты трубили славу. Особенно усердствовали «Южный Край» и «Утро». Приглашения сыпались из тех домов, в которых когда-то детьми разыгрывали мы всяческие водевили.
И не хотелось уезжать из милого, родного Харькова, но время летело молниеносно – и вот мы снова в «специальном» вагоне, на своих местах, катим в Екатеринослав, из Екатеринослава – в Ростов, в театр Машонкина; из Ростова в Тифлис, в театр Тарто; из Тифлиса – в Киев, в славный соловцовский театр; из Киева – в Одессу к Сибирякову.
Везде все тот же восторг, переполненные сборы, волнующая обстановка зрительного зала, овации, цветы и крики:
– «Приезжайте снова, мы вас ждем!..»
Мои актеры горды и забыли думать, что все это сделал Немирович! Мои актеры веселы и думают, какую бы пьесу повезти в следующий раз? Я им говорю, что у нас еще не до конца использовано «Дно», в перспективе еще поездка по Волге, по широкому раздолью, на лучших в мире пароходах, в условиях несравненного дорожного комфорта – Боже мой! Какое счастие быть актером Московского Художественного Театра!
Но…
Но, как в симфониях Чайковского, после интродукции, исполненной благостного примирения, вдруг раздаются грозные звучания труб – зловещая тема Рока.
На Западе разыгрывалась кровопролитная война, и даже у нас, в Великой России, начало чувствоваться какое-то опустошение и оскудение. То там, то тут не хватает то одного, то другого; то явно исчезает белый хлеб, нет кускового сахара, маловато мяса и с трудом найдешь в лавке новые сапоги. Рубль начал падать, выросли цены, стало исчезать из обращения разменное серебро.
– «Неблагополучно в королевстве Датском!»
Пьеса, которую мы возили, не содержала в себе никаких революционных призывов, но это была пьеса Горького; текста революционного не было, но был революционный подтекст, и публика его чувствовала и расшифровывала, и это как-то отвечало существовавшим настроениям, вызывало особый блеск в глазах, решительность жестов, зажигало кровь.
На фронте приносились гекатомбы человеческих жертв.
Французский посол становился перед Царем на колени и умолял об ускоренном и усиленном русском наступлении.
Страна содрогалась от боли – от нестерпимой физической боли, и это еще сильнее поднимало протестующие чувство. Росли, ширились недобрые слухи. И в воздухе заструилось зловещее слово:
– Измена. Измена. Измена.
* * *
В Одессе гастроли закончились. Опять на вокзале прощальное шампанское, но уже не французское, а русское, Удельного Ведомства, Абрау-Дюрсо.
Чтобы не сидеть на одном месте, пускаюсь в новое плавание:
– Опера и балет.
Организую поездку Мордкина и Балашовой, потом везу по городам и весям знаменитого тенора Дмитрия Смирнова и Нину Кошиц с аккомпаниатором…
– Рахманиновым!
Необыкновенно очаровательна была балерина Александра Михайловна Балашева: в ней сочеталось все, что может дать самая благодетельная фея – талант, грация и красота.
Опять удачи, снова полные сборы, аплодисменты, венки, чувство удовлетворения, молодости, радости.
А все-таки больше всего тяга к драме.
И часто под убаюкивающее гудение чугунных рельс – думы, размышления все о том же, о недавно пережитом, о Московском Художественном.
Думал и проверял.
Проверял и понимал, что в структуре Художественного Театра таится какой-то творческий, хитро и глубоко запрятанный фокус: в конце концов, за малыми исключениями, я видел перед собой актеров средних, обыкновенных, но так вышколенных, что неискушенный зритель принимал их за небожителей.
В них осязаемо горел талант, но чужой, посторонний, отраженный.
Свет луны, отражавший свет солнца.
Спектакли того же «Дна» повторялись с точностью современной кинематографической картины.
Дайте этим актерам новую неигранную пьесу, уберите от них Немировича Данченко и получится спектакль хорошей, средней провинции.
И мне стало казаться, что Немирович-Данченко – это и был гипнотизер из «Трильби», непревзойденный Свенгали Камергерского переулка.
А вот, когда весной 1915 года повез я опять по любимому юго-западу Варламова, Давыдова, Стрельскую, Корвин-Круковского, да к этим тузам Императорской сцены присоединил тузов провинциальной сцены: Степана Кузнецова, С. Т. Строеву-Сокольскую, и других, и с этим составом поставил «На всякого мудреца довольно простоты» и «Свадьбу Кречинского», то тут уже ничего вышколенного, раз навсегда сделанного, не было.
А каждый вечер что-то неуловимое менялось в этом поистине высочайшем искусстве, которое шло уже не от выучки, а от нутра, от таланта, от сокровищ своей собственной души.
Иногда это бывало лучше, иногда – хуже, но это был огонь костра, а не самой усовершенствованной электрической лампы.
И я упивался этими спектаклями. Горели и сверкали настоящие бриллианты, и сочинил их не гениальный Свенгали, а родились они из недр, из пластов, из глубокой подземной русской руды.
И здесь мои родные впервые увидели меня на сцене, окруженного Варламовым, Давыдовым и Стрельской. Лед был сломан, и на мне, с этих пор, почило отцовское и материнское благословение.
К. С. Станиславский
Прабабушка – турчанка.
Бабушка – француженка.
Мать – русская.
А по мужской линии – три ярославских мужика.
Генеалогия не каждодневная.
А биография еще неожиданнее.
…В балете Московского Большого Театра состояла некая танцовщица Станиславская.
В нее без памяти был влюблен ярославский турецко-французский отпрыск, по фамилии Алексеев, по имени-отчеству Константин Сергеич.
И, когда эта балерина преждевременно умерла, увлекавшийся театром, молодой купец стал называться Станиславским.
В Москве была у него фабрика позументов, большое золото-канительное дело.
Купеческая Москва, насмешливая и острая, так и говорила:
– Кокоша разводит канитель.
Под канителью на этот раз разумелась его любовь к театру.
Кокоша в своем безмерном увлечении театром начал с того, что был жестоко освистан в Рязани: осмелился приехать вместо заболевшего Александра Иваныча Южина.
А в другой раз, в каком-то невероятно нелепом водевиле, в роли первого любовника, порхнул на сцену с букетом цветов, предназначавшихся предмету страсти, и поперхнулся так, что язык его, что называется, «прильпе к гортани»: в ложе у самой сцены сидели: тятенька, маменька и старая гувернантка.
И наутро тятенька сказал:
– Если ты любишь театр, то в этом ничего плохого не вижу. Но тогда собери подходящих людей, а не это барахло… И, самое главое, гляди – фабрикой не манкируй!
Фабрикой Кокоша и не думал манкировать и каждый день честно высиживал в конторе от зари до зари.
А среди «барахла» высмотрел все-таки Артема, Санина, Лилину. Тятенькин совет упал на добрую почву, и беспорядочные спектакли превратились в хорошо организованное «Общество Искусства и Литературы»…
Общество состояло при Охотничьем клубе.
Играли по четвергам – и так проиграли пятнадцать лет.
Но… конторские обязательства остались нерушимыми.
– Играй и ерунди сколько хочешь, но в конторе – от зари и до зари.
Делу – время, потехе – час.
Это психология мирового купечества: французский Коро так же подчинялся этим законам, как и русский Станиславский.
Когда французскому художнику Коро был пожалован орден Почетного Легиона, то отец Коро очень долго был уверен, что орден пожалован ему, а не Камиллу. Ему, отцу, коммерции советнику, за полезную коммерческую деятельность, а не за какую-то там, прости Господи, мазню.
Разочарование было смертное, когда именно Камилл, художник, явился с красной петличкой.
– Нет правды на земле! – подумал, вероятно, отец.
Но, как Коро, так и Станиславский, во всю свою жизнь не подумал выйти из родительской воли, из родительского повиновения.
И, если бы родитель Коро сказал сыну:
– Становись опять за прилавок. – Сын стал бы беспрекословно.
Станиславскому этого и повторять не надо было, он и без того из-за прилавка не выходил.
Единственное, о чем сокрушался отец – это о женитьбе сына. Мог бы, по своему купеческому положению, отхватить миллионершу, а отхватил дочку какого-то захудалого нотариуса Перевощикова.
Мезальянс. Хотя, говорят, что не бездарная актриса.
По сцене – Мария Петровна Лилина…
За эти пятнадцать лет Станиславским была проделана огромная работа…[1])
Досидев свои сакраментальные часы в конторе, – он несся на театральную работу.
Режиссером-учителем у него состоял А. Ф. Федотов, муж Гликерии Николаевны, человек недюжинных способностей, и фанатик дела.
Именно у него Станиславский познал главные основы режиссуры, и именно Федотов должен, по всей справедливости, считаться его главным водителем по сложному пути сложного режиссерского искусства.
Затем – интерес к массе, к массовым сценам у него пробудил знаменитый московский «маг и волшебник», М. В. Лентовский, который много лет изумлял своими постановками не только Москву, но и всю Россию, в нее приезжавшую…
Особенность Станиславского заключалась в том, что на первых порах он туго воспринимал каждое новое явление.
Он, например, никогда не мог сразу понять и оценить чеховских пьес. Он совершенно не понял сначала роли Тригорина в «Чайке».
Но, когда ему хорошо и дельно растолковывали непонятное, – тогда просыпался гений, в полной мере присущий Станиславскому, и он возносился на подлинные вершины мирового искусства.
И вот, после работы с Федотовым, на его пути вырастает не кто иной, как сам Владимир Иваныч Немирович-Данченко.
Блестящий и в полном смысле знаменитый драматург, автор «Цены Жизни», взял Станиславского из рук Федотова и привел его на положение первого актера России.
Немирович-Данченко был настоящей душою Художественного Театра, но по своей неслыханной скромности, он всегда оставлял себя в тени.
И Станиславский, красавец, герой всех чеховских и классических пьес, кумир и идол бесчисленных поклонниц, в блеске своего исключительного обаяния, представительствовал Театр и создал ему имя «Театра Станиславского», имея, конечно, на это права, но далеко не все…
Он чувствовал силу Немировича-Данченко и по-монашески подчинялся ему во всех его указаниях.
Немирович без долгих разговоров, просто отбирал у него роли, которых он явно не мог одолеть.
В своей книге «Моя жизнь в искусстве» он чистосердечно признается:
«Роли Астрова я не любил вначале и не хотел играть, так как всегда мечтал о другой роли – самого дяди Вани. Однако Владимиру Ивановичу удалось сломить мое упрямство и заставить меня полюбить Астрова».
Роль доктора Штокмана была сделана Немировичем-Данченко, как и роль Тригорина.
«Село Степанчиково» Немирович-Данченко просто отобрал у Станиславского.
И Немирович-Данченко в шутку называл себя Фирсом при Станиславском:
– «Платочек ему подай и леденцов приготовь, и спатеньки уложи и перекрести…»
Но тайно Немирович-Данченко завидовал Станиславскому. И его бесспорному гению, и невероятной на сцене душевной и физической чистоте, и очаровательной детскости, и, в особенности, его росту Петра Великого.
Сам Немирович-Данченко был роста маленького, и это мучило его всю жизнь.
Поэтому он один только раз, в 1923 году, в Варрене, на даче, около Штеттина, снялся со Станиславским: это когда Немировичу-Данченко удалось вскочить на ту ступеньку лестницы, на которой он казался одинакового роста со Станиславским.
К моменту организации и рождения Художественного Театра у Станиславского была готовая труппа, выпестованная Федотовым, а у Немировича-Данченко – группа учеников с Книппер, Роксановой, Загаровым и Мейерхольдом.
Художественный Театр был создан буквально в одну ночь. И, как Венера на картине Ботичелли, в одно прекрасное утро приплыл на раковине к московским сонным берегам.
И удивил весь мир.
* * *
Станиславский и Немирович-Данченко: камень и огонь.
Неудивительно, что между ними возникали горячие разногласия, приводившие часто ко всяческим размолвкам и, в конце концов, образовавшие серьезную, трудно поправимую трещину.
Немирович-Данченко, который вел весь Театр еще и в административном отношении и особенно при большевиках должен был всячески изворачиваться, чтобы не погубить дела, был, конечно, царедворцем, и по временам лукавым.
Станиславский в этом отношении оставался русским купцом, не сдававшим своих купеческих позиций. Так, например, на праздновании тридцатилетия Театра, он самого «отца народов» заставил встать, чтобы почтить память московского купца С. Г. Морозова.
Он не признавал ни обезьян, ни обезьяньих штучек…
Главное и неугасимое горе Станиславского заключалось в том, что с младых лет ему хотелось проверить алгеброй гармонию…
* * *
Громадная фигура. Рано поседевшая голова. Косой пробор, черные соболиные брови, еще больше выделяющие молодую седину головы. Пенснэ на черной ленточке, заброшенной за ухо. Ласков, предупредителен и чрезвычайно, как все значительные люди, рассеян.
Но жесток и неверен; что-то от турецкого востока.
Сегодня кого-нибудь вознесет до небес, а потом отшвырнет и забывает даже имя любимчика, которого так недавно считал талантом и надеждой.
А вся его алгебра выражалась в следующем:
– Есть две категории актеров – ремесленники и художники.
Актеры-ремесленники, в целом ряде поколений, выработали известные условные формы выражения своих чувств на сцене, и это называется штампами.
Актеры-художники, актеры переживаний должны неустанными упражнениями выработать в себе способность сосредоточивания.
Только в этом состоянии актер может быть самим собою, несмотря на то, что он постоянно поставлен в условия неестественные, т. е. если его окружают такие неестественные условия, какими являются: подмостки, рампа, публика.
Выработав в себе способность сосредоточивания, актер вырабатывает в себе и соответственное самочувствие, которое и позволяет ему выключить себя из окружающей обстановки.
Такое самочувствие Станиславский называет вхождением в круг, в соборность, в ансамбль. Короче говоря, сущность своей системы Станиславский определяет так: научиться искусству естественно переживать.
Однажды, между первым и вторым турнэ по Северной Америке, когда труппа приехала на каникулы в Европу, я, по какому-то очередному делу, посетил Станиславского на курорте, где он отдыхал с семьей.
Снова зашла речь о «системе», и я спросил:
– А вот знали ли и творили ли по системе великие русские и иностранные артисты, имена которых мы вспоминаем с благоговением и которые оставили после себя и традиции, и классические образцы: Ермолова, Савина, Коммисаржевская, Садовская, Стрельская, Федотова, Лешковская, Медведева, Яблочкина, Фанни Козловская, Ек. Рощина-Инсарова, Давыдов, Варламов, Дальский, К. Яковлев, Шувалов, Павел Самойлов, Медведев, Далматов, Писарев, Южин-Сумбатов, Ленский, Рыбаков, Садовский, Рощин-Инсаров, Горев, Монахов, Киселевский, Андреев-Бурлак, Иванов-Козельский, Орленев, Петипа, Синельников, Уралов, Тарханов, Степан Кузнецов, а среди украинцев: Кропивницкий, Заньковецкая, Затыркевич, Саксаганский, Карпенко-Карый, Садовский, Манько?.. А среди иностранцев: Дузэ, Сарра Бернар, Сальвини, Росси, Новелли, Поссарт, Зонненталь, Мунэ-Сюлли, Барнай, Коклэн, Люсьен Гитри?..
На что Станиславский мне ответил:
– Вы говорите об исключениях.
Я невольно подумал, что ни одно правило не подтверждает себя таким огромным и убедительным количеством исключений…
И, когда вышла из печати первая книга, где было между прочим и о системе, Станиславский подарил мне первый экземпляр с трогательной надписью…
Увы!
Этот экземпляр вместе со всем остальным погиб в Берлине во время бомбардировок.
Но память о великом и не до конца разгаданном артисте всегда живет во мне и никакая суета мирская ни разу ее не омрачила.
Золотой банк
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья, -
Бессмертья, может быть, залог…
ПушкинОхотничий клуб. Золотая комната. В золотой комнате держит банк Директор Московского Художественного Театра В. И. Немирович-Данченко.
В Москве было много замечательных и прославленных игроков. Но, когда по клубу распространялся слух, что в Золотую комнату пришел В. И. Немирович-Данченко, то вся публика, включая и клубных поваров и лакеев, устремлялась туда: так смело, спокойно и, главное, красиво он играл.
– Игра высокого давления.
И вот, Немирович-Данченко, с мундштуком во рту, щурясь от дыма и улыбаясь, мечет банк.
Около него, на приставном столике, бутылка неизменного Шабли.
В банке – десять тысяч золотых, полновесных, всюду уважаемых, царских рублей.
Немирович-Данченко, по всем правилам игры, давно уже имеет право «сняться», но он не снимается, а ждет продолжения игры. Ему что-то нашептывает на ухо его театральный секретарь Никита Балиев. Немирович-Данченко улыбается в ус и медленно потягивает вино.
Наконец он спрашивает, обводя публику глазами:
– Господа, желающих нет?
– Капиталов нет, Владимир Иванович, – говорит кто-то хриплым голосом.
– Ну уж так таки нет в Москве капиталов? – иронически отвечает Немирович-Данченко своим полу-тенором, полу-баритоном.
И вдруг из толпы высовывается не то пьяная, не то сумасшедшая фигура и протягивает чековую книжку:
– Владимир Иванович! – кричит фигура, – сейчас я не при деньгах, но вот моя чековая книжка. Вы меня знаете. Даете банк на чек?
– С удовольствием, – отвечает Немирович.
И в Золотой комнате воцаряется могильная тишина.
Немирович-Данченко, не переставая улыбаться, дает карту. Купчик изрыгает радостный крик: он победил, банк сорван.
Никита Балиев валится в обмороке на диван. Четверть часа его не могут привести в себя, кричат – нет ли в клубе врача?
Немирович-Данченко преспокойно допивает свое вино и, как ни в чем не бывало, едет из клуба в театр, где идет уже третий акт «Царя Федора».
Немирович-Данченко знает, что сегодня полный сбор. «Царь Федор» имеет огромный успех. Да, но завтра идет «Ганнеле» и касса будет пуста.
И «Ганнеле» съест все, что дал великолепный «Царь Федор».
И тут сердце Немировича-Данченко сжимается. Положение катастрофическое. Театр в опасности. Нужно искать выхода, а выход только в сильном репертуаре. А где его найдешь? Этот сильный репертуар?
И Немирович-Данченко снова идет ва-банк. Теперь на кону стоит уже не десять тысяч золотых рублей, а гораздо больше. На кон поставлен самый Театр, Московский, Художественный: мечта всей жизни, самая жизнь, молитва, самое сладкое и дорогое, волшебный сон.
И нищий Немирович-Данченко ставит на карту эту свою мечту. Он пишет в Ялту Чехову длинное письмо и просит у него разрешения поставить «Чайку».
Говорят, что Чехов страшно испугался, получив это письмо. Он подумал, что Немирович-Данченко сошел с ума.
– Ставить «Чайку», с таким треском только что провалившуюся в Петербурге, может только безумец. Опять пережить этот позор, беготню по ночным улицам Петербурга, пережить этот стыд, эти рецензии, улыбки друзей, – никогда в жизни!..
И Чехов, очень экономный в почтовых расходах, шлет срочную телеграмму, по тройному тарифу: «Нет».
Он терпеть не может «Чайки», он проклинает те дни и часы, когда в Мелихове, в особом флигеле, невезучем, он писал ее.
Но Немирович-Данченко упрям: недаром родился на Кавказе – если у него что-нибудь засело в голове, то засело крепко.
Он сам ночью везет на телеграф телеграмму в сто двадцать слов.
Ответ по ординарному тарифу:
«Ни за что на свете. Чехов».
Немирович-Данченко едет в Ялту, ведет Чехова в погребок, угощает его крымским шашлыком и, конечно, шабли.
Но Чехов не сдается:
– Нет, нет и нет! Тысячу раз нет!..
На другой день Чехов угощает Немировича-Данченко борщом со сметаной от Чичкина, только что полученной из Москвы, – а дело с «Чайкой» ни на шаг не двигается.
Немирович-Данченко ночи не спит, худеет, но банка надышать не может.
Чехов обжегся на молоке и дует на воду.
Проходит еще один мучительный день.
И, наконец, на третий день, закрыв лицо ладонями, окончательно замученный, Чехов утвердительно кивает головой.
Слов уже нет, не хватает.
Но когда Немирович-Данченко приехал в Москву и заявил, что он ставит «Чайку», то среди труппы воцарилось то самое молчание, которое было в золотой комнате перед срывом банка. Никита Балиев снова мог завалиться в продолжительный обморок: Немирович-Данченко поставил на карту весь свой Театр…
Зашептались:
– Сошел с ума. Рехнулся…
Станиславский, предназначенный для роли Тригорина, ничего в ней не понимал, о чем, не стесняясь, говорил всем и всякому.
Петербургский провал повергал всех в полное оцепенение.
Среди труппы пошли шушукаться, что Театру – конец, дела не идут и что Немирович-Данченко только и ищет, как бы этот конец подать и поэффектнее.
И действительно, даже теперь, четыре десятилетия спустя, часто себя спрашиваю:
– Ну, вот, собрать, скажем, соединить воедино самых знаменитых, самых испытанных мировых директоров театра и поставить перед ними тот же самый вопрос:
– Имеет ли смысл дерзнуть, сыграть ва-банк, вызвать из тьмы забвения только что провалившуюся пьесу и подвергнуть ее новому испытанию?
Ответ будет один:
– Нет! Нельзя искушать здравый смысл!
Ибо Немирович-Данченко этот здравый смысл явно искушал.
Больше всех пришлось возиться со Станиславским. Он ничего не понимал в роли Тригорина, и его, как дрозда, нужно было «насвистывать». Да и других тоже.
У Немировича-Данченко была бездна работы.
Но он один только не унывал.
Говоря языком игроков, он «чувствовал удар» и пил маленькими глотками волшебное, везучее шабли.
В Театре знали, что он чуть ли не каждый день ездит к своей придворной гадалке. Это как раз актеры понимали, но, чорт возьми! Что же говорит гадалка? По бесстрастному выражению лица Немировича-Данченко ничего не поймешь.
Репетиции шли вяло, без энтузиазма, роли не раскрывались, были написаны непривычным тугим языком, и Немировичу-Данченко неоднократно приходилось повышать голос, чего он терпеть не мог.
С ним было только два человека: всегда оптимистический Вишневский и царедворец Лужский.
Эти два человека и теперь, и потом, всегда, верили ему, как Богу. И Немирович-Данченко говорил, что пьеса, в которой занят Вишневский, всегда имеет успех. Этот европеец с головы до ног был суеверен, как деревенская баба.
Вся Москва судачила о «Чайке».
«Чайка» стала предметом всех салонных разговоров. Особенно волновался Охотничий клуб, который задним чутьем понимал позиции знаменитого игрока. Начались пари: кто за? кто против?
Больше же всех страдал бедный Чехов, одиноко живший в своей теплой Сибири, как называл он Ялту.
О том, чтобы ему приехать на премьеру, – не поднималось даже речи. Он, как Бойто перед представлением «Мефистофеля», ложился в кровать и закрывался с головой одеялом. Об этом писал Немировичу-Данченко доктор Альтшуллер, пользовавший Чехова.
Народу в день премьеры набралось видимо-невидимо. В конце концов интересно присутствовать на театральном скандале. Из Петербурга прикатил режиссер Александрийского Театра Е. П. Карпов, ставивший и проваливший «Чайку». Ему несомненно было интересно, как будет изворачиваться и проваливаться Немирович-Данченко.
Чехов лежал в постели и думал, и ругал себя, почему он в свое время не послушался советов такого театрального авторитета, как знаменитый актер А. П. Ленский, который упорно талдычил:
– Никогда и ничего не писать для Театра, ваше дело беллетристика.
И вот, раздвинулся занавес, на котором еще не было никакой птицы.
Со сцены послышались в непривычных, заунывных тонах:
– «Люди, львы, куропатки…»
Но смеха не последовало: московская зала была много культурнее той купеческой петербургской залы, которая в бенефис в связи с 25-летним юбилеем пересмешницы Левкеевой переполнила театр Александринский.
Стояла насторожившаяся тишина.
В уголок кулис забился Немирович-Данченко и, одну за другой, вытаскивал папиросы из зеленой коробочки «Яка». Коробочка не спроста была зеленой: зеленый цвет – цвет надежды: это вам всякая гадалка скажет.
В зале, справа от сцены сидела его жена, Екат. Никол., урожденная баронесса Корф, тоже обвешанная самыми могучими талисманами, вплоть до кораллового винта, привезенного с острова Капри.
Кончился первый акт, и театр вздохнул от напряжения: аплодисменты, тогда еще не запрещенные, раздались в количестве весьма ограниченном.
Актеры многозначительно переглянулись между собой – восхождение на казнь, на эшафот.
Начался второй акт. Внимание публики приподнялось. Актеры это чувствуют, и нервишки, и без того напряженные, натянулись еще крепче. Но, после занавеса, прием опять сдержанный.
Петербургский Карпов прошелся по коридору торжествующей походкой: он, бородатый Евтихий Карпов, не ошибся – пьеса никудышная, и Александринский приговор – окончательный.
Наконец зазвонили звонки к третьему акту, к самому решающему.
Симфоническое андантэ. Занавес еще не раздвинули, и Станиславский перед присутствующими актерами вдруг сорвался с места и пустился в присядку, чтобы поднять настроение! Немирович-Данченко стоял в боковой кулисе с бокалом в руках – все то же волшебное шабли… И ни на минуту не переставал улыбаться.
Жест Станиславского ему понравился, это было по-товарищески.
И началось знаменитое андантэ пьесы… Играли с бьющимися сердцами. Может быть, это была не игра, а самая святая молитва, которую могли выговорить актерские уста… Минуты казались часами…
Но вот кончается акт, сдвигается занавес – и в зале мрачное молчание.
– Владимир Иванович, вы проиграли свой самый страшный банк! Начинайте жизнь сначала…
Мороз. Зима. И вдруг, среди мороза и зимы – чудотворный летний гром… Все остолбенели. Владимир Иванович, вы до самой смерти будете Директором самого прекрасного Театра на земле, вы, оказывается, выиграли банк. Последний глоток верного шабли. В зале разорвался потолок, что-то орут, что-то кричат, актеры, как на Пасху, целуют друг друга. Станиславский опять несется в присядку, но присядка уже другая, не danse macabre, а настоящая, русская, вдохновенная плясовая!..
– Здорово пляшет, старый чорт! – думает Немирович-Данченко, совершенно забыв о том, что нужно дать занавес.
А зала накаляется все больше и жарче… Вбегает Коля Александров и орет:
– Давайте же занавес, черти полосатые!..
И вот перед публикой – актеры с еще не остывшими слезами на глазах. Только один Немирович-Данченко спрятался: он никогда не подает себя. Кроме всего прочего, он не во фраке, а в простом пиджаке, а это не годится перед Ея Величеством, публикой. Т акой уж у него адат, кавказский традиционный адат.
Он снова спокоен, хотя в эту минуту он сорвал свой самый великий банк, иными словами он выиграл:
– Непостижимый, Великолепный Театр, Театр Театров.
И, во-вторых, он выиграл:
– Самого великого драматурга современного мира – Антона Чехова.
Того самого Антона Чехова, про которого потом такой беспощаднейший в мире насмешник, как Бернард Шоу, скажет, что за один «Вишневый сад» он согласен отдать все свои самые прославленные произведения.
Длиннобородый петербургский Карпов, «гробокопатель», пришел к Немировичу-Данченко в кабинет и сказал:
– «Ты победил, Галилеянин!»
Полетели телеграммы в Ялту.
Чехов босыми ногами бегал к телефону и дрожащими руками держал трубку. Всю ночь летели эти телеграммы, было ногам холодно, но все-таки этот холод не походил на петербургский.
И наутро букет чудесных белых роз от Ноева полетел к цыганке. Но так как Калхасы не особенно долюбливают цветы, то к букету была прикреплена сторублевая бумажка (полдюжины баранов).
* * *
За всю свою полувековую историю Художественный Театр несколько раз менял имена.
Был он:
«Художественно-Общедоступный».
«Художественный».
«Художественный имени Чехова».
«Художественный имени Горького».
Но я уверен, что в будущем он еще раз переменит свое имя. И будет просто тем, чем по логике и здравому смыслу он должен быть, то есть:
«Московский Художественный Театр имени В. И. Немировича-Данченко».
А эпиграфом к биографии великого волшебника будут выгравированы вдохновенные пушкинские строфы:
«Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья, Бессмертья, может быть, залог…»И разве в будущем Москва не дождется памятника В. И. Немировичу-Данченко, бронзовой хвалы ему, залога бессмертия?
Помечтаем.
А может быть, как памятник Минину и Пожарскому, и этот памятник будет двойной:
«Владимиру Немировичу-Данченко и Антону Чехову»?
Гримасы революции
Десять лет, лучших молодых лет работал я в Русском Театре.
И вот, уже больше тридцати, работаю в театре западно-европейском.
Мне начинает казаться, что в театре я разбираюсь и кое-что в нем смыслю.
Кроме всего прочего, знаю директоров, художников, декораторов, писателей, актеров, музыкантов, прессу, и, если угодно, нет такого театрального здания в Европе, которого я не знал бы.
И вот теперь, если бы меня спросили: какая разница между западным театром и русским, то я бы сказал так:
– Разница такая, какая есть между титулами: Его Величества и Его Высочества.
Театр западно-европейский – Его Высочество.
Театр русский – Его Величество.
В России было около 1.000 театров и столько же театральных директоров.
Самым крупным театральным директором в России, да, пожалуй, и во всем мире, был Русский Царь.
Он «держал» в Петербурге – Мариинский для оперы и балета; Александрийский – для русской драмы; Михайловский – для французской драмы; Эрмитажный, Китайский, Петергофский и Гатчинский.
В Москве: Большой – оперный и балетный; Малый – русской драмы; Новый – для молодых драматических сил.
И все это делалось с размахом, совершенно не представляемым в Западной Европе. Например, французский Михайловский театр мог свободно идти сейчас же за Сот^е Frangaise.
Десятилетиями в нем играли такие звезды французского искусства, как Люсьен Гитри, Франсэн, Ферроди, Баллета, Роджерс и др.
Да и кроме того, над русским Театром сияла какая-то аура, особенная звездная диадема, чистейшей красоты венец, и этого не могла отнять у него даже революция.
* * *
Не случайно сказал Наполеон, что революция задумываются идеалистами, осуществляются палачами и используются проходимцами.
В начале октябрьской революции я очутился в Харькове.
Настроение было подавленное. Отталкивание от провозглашенного Рая – немедленное и глубокое.
А тут еще случилось худшее, чего я мог ожидать.
Харьковские актеры, на общем собрании, выбрали меня в президиум организующегося своего Союза. И с этого начинается хождение по мукам.
Революционная Чека арестовала певца – баса Гуляева. Певец был маленький и довольно бездарный, но тем не менее, актер, член Союза.
И вот с этим делом ко мне пришли мои товарищи по Союзу, Н. Синельников младший и А. Альтшуллер, проездом очутившийся в Харькове.
– Надо выручать члена Союза.
– Но как?
Наметили идти к коменданту города. Большевистская комендатура помещалась на Михайловской площади, в реквизированном особняке Бураса, крупного табачного фабриканта.
У дверей часовой – раздрызганный и неуклюжий, прислонился к стене, курит козью ножку. Шапка на затылке, ноги раскарякой.
– Можно видеть товарища коменданта?
Солдат мотнул головой по направлению к лестнице, и мы начали свое первое революционное восхождение.
На каком-то этапе нарываемся на другого красногвардейца.
Впрочем, гвардейского было в нем столько же, сколько в козьей ножке табаку Бураса.
– Вы куда?
– К товарищу коменданту.
Кивок головой в сторону ближайшей комнаты.
Входим. Стоим… Ждем. Начинаем кашлять.
Отворяется дверь, и появляется фигура, по всей видимости не вполне трезвая.
Фигура одета в офицерский костюм, на голове папаха, ноги в ночных туфлях. Лицо почти красивое, глаза умные.
– Что за люди? – юпитерским басом спросила фигура.
– Мы хотели бы видеть товарища коменданта.
– Я и есть товарищ комендант. По какому делу? Кто вы такие будете?
Почтительно докладываем, что мы представители местного артистического союза.
– Ага! Актеры, значит?
– Так точно, актеры.
Хриплый бас сразу переходит в нелишенный обвалакивающей теплоты баритон.
– В чем же суть дела, товарищи?
Объяснили, в чем суть.
– А вы ручаетесь за вашего товарища?
Ответили, что ручаться, конечно, можем, но все же хотелось бы знать, за что он арестован. Мы в скором времени предполагаем дать концерт для бойцов, и участие этого товарища совершенно необходимо.
Комендант, очевидно, понял, что перед ним люди действительно театральные: он стал вежлив, предупредителен, немедленно предложил курить. Объяснил нам, что он сам близок к театру, не так давно «держал» театр миниатюр в Москве и как раз в том доме, где помещается Русское Театральное Общество.
Когда мы назвали свои фамилии, оказалось, что имена наши были ему давно известны и, надо полагать, до некоторой степени даже импонировали.
Мы все это мгновенно учли и сразу взяли тон слегка фамильярный и даже снисходительный.
– Так вы – наш брат Исаакий…
– Ну, конечно! Какие там разговоры?
– Тем приятнее!
Мы уже расселись, закурили, положили нога на ногу… И уже «коменданта» перед нами не было: был человек от театра и ранга не особо великого.
Отцовское сияние Синельникова падало и на сына, в тоне у коменданта появились почтительные нотки. В «рассуждении» преступника Гуляева мы уже начали фамильярно «щекотать» коменданта, и он дал определенное заверение:
– Не беспокойтесь, спите на оба уха: все сделаю, раз за него хлопочет Союз. А теперь, не останетесь ли вы со мной пообедать? Повар у меня потрясающий, у Великого Князя служил. И выпивон и закусон, все есть! Вообще по-товарищески посидим, надоела мне шпана. А повар, повторяю, от Великого Князя, евангельские чудеса делает…
– Миша! – на всю квартиру гаркнул комендант.
Через несколько минут в комнату вошел Миша.
Это и был великокняжеский повар.
Он уже, видимо, опустился и испьянствовался, но на всем облике его, в повадке лежал еще отблеск былого «величия». Он нам подал руку не сжимая ее, с плохо скрываемым отвращением. Развязно в кресло, завладел комендантскими папиросами, и товарищ комендант дал ему огня.
Миша принял, как должное.
– Чем ты нас кормишь сегодня? – спросил комендант.
– А что у тебя есть? – довольно нагло ответил повар. – Все, ведь, сожрали! Остались куры, – ну, можно сделать котлеты де воляй, соус перкассэ и потом рис императрис. И потом еще есть спаржа в консервах, но это ерунда, консервы!.. И потом, господа, должен вас предупредить, что я закусочный повар и только и всего. Конечно, я могу приготовить соус перкассэ, но это любительство, а закуски – это мой конек!
– Господа! – с восторгом сказал комендант, – он вам так заправит селедку, что кажется: селедка дышит! А? Неправда?!
– Да, какие там у тебя селедки? Ты дай мне голландскую или худо-бедно, керченскую, или дунайскую, – тогда я тебе покажу игру, а тот товар, что ты даешь, ведь это курам на смех…
– Революция, брат! Ничего не попишешь. За неимением гербовой, пишем на простой…
– Вот то-то и есть, что на простой, а мы привычны к гербовой. – Повар говорил необыкновенно презрительно и этим великолепным своим презрением он, видимо, и держал коменданта.
– Ну, ну, Миша, ты не запускайся!.. А то – на мушку!
– Неизвестно – кто кого, – как-то неожиданно печально ответил Миша.
Под разными предлогами от обеда мы отвертелись. Но фамилию товарища коменданта запомнили. Звали его:
– Домбровский.
* * *
После этого визита к Домбровскому я утвердился в мысли, что шансы театра, даже в этой рабоче-крестьянской республике, стоят высоко. И начал серьезно думать о какой-нибудь подходящей работе.
Железные дороги – расхлябаны и растерзаны, и, если у нас, в южной полосе, еще кое-как можно было управляться с продовольствием, то на севере этот вопрос обстоял совсем худо. Там уже основательно и твердо сел на престол Царь-Голод.
И вот, как в сказке, в одно прекрасное утро приходит ко мне телеграмма от Московского Художественного Театра. Доверие ко мне было там полное и лестное, и потому, немедленно по получении телеграммы, я выехал в Москву.
Надо было жить в тогдашней России, чтобы понять и в достаточной мере оценить такой подвиг, как поездка по революционным железным дорогам.
Домашние с отчаянием отговаривали меня от этой безумной поездки, приводили тысячи всяких вполне основательных соображений и резонов, которые я и сам разделял, но оставаться в Харькове, когда лучший в мире Театр зовет меня к себе – не хватило сил и я пустился во все тяжкие.
Выйдя на московском вокзале, я не мог поверить глазам своим.
– И это – Москва? Этот мрачный и еще более Харькова заплеванный город, – это Москва?!..
Москва, как Париж, была, прежде всего, веселым городом, полнокровным и шумным. Москва любила смех и шутку, анекдот, здоровье, талант. И, если столицей правительства русского был Петербург, то столицей народа русского была Москва. О ней думали в самых захолустных углах, к ней стремились в мечтах, в ней искали услады и отдохновения.
– «В Москву, в Москву, в Москву!..»
Когда я ехал мимо Кремля, то казалось, что и Кремль как-то полинял, осунулся, сгорбился, съежился, потерял свои чарующие краски. И народ какой-то иной, не московский: торговли нет, все траурно, закрыто, настроение народного бедствия; люди бегут, опустивши голову, боясь или стыдясь смотреть друг на друга; трамваев нет, извозчиков мало, лошаденки у них полудохлые, плохо кормленные.
И нет прежней, такой привычной радости, что приехал, мол, в матушку Москву.
В гостинице, где меня знали, как своего, постоянного клиента, никого из прежней администрации не было, попался только один старый коридорный, который, увидев меня, только махнул рукой и, не желая разговаривать, куда-то скрылся. Комнат свободных и в помине не было, пришлось с горемычным чемоданом направиться прямо в Театр, в Камергерский переулок.
Меня встретили, как Лоэнгрина, как спасителя от бурь и невзгод, как свежую голову, которая может что-нибудь придумать, изобрести, вызволить из беды.
Театр явно чахнул. На сцене шли какие-то репетиции, но уже чувствовалось начало агонии, слабеющий пульс.
Еще шли спектакли, но это уже была тень прошлого, выцветший негатив, пожелтевшая фотография…
Встретив меня В. И. Качалов, вместо приветствия, шутливо продекламировал:
«В мире есть Царь: Этот Царь – беспощаден, — Голод – прозванье ему…»От всей этой картины у меня сжалось и замерло сердце: чем помочь и как? Сломался какой-то главный винт, исчезла таинственная энергия – и где тот врач, который мог бы излечить этот недуг?
Театр еще до моего приезда пришел к мысли:
– Надо всеми правдами и неправдами покинуть Москву, перебраться в какой-нибудь южный центр, обосноваться там, подкормиться и тогда уже решить, что и как делать дальше, к какому берегу приткнуться, куда идти и куда повертывать? Леонидов только что приехал с юга, вид у него дай Бог всякому, он знает обстановку, все входы и выходы, кому, как не ему, обмозговать все это, конечно, сложное, но необходимое предприятие.
– Иначе Московский Художественный Театр, гордость Москвы, прикажет долго жить…
Для меня стало ясно, что речь идет не мало, не много, как о переселении народов! И стало не менее ясно, что по крайней мере для ближайшего времени это – мечта совершенно несбыточная.
Но вот вопрос: как об этом скажешь голодным людям? Какие слова найдешь? Какие доводы? Легко сказать – переехать! Но как? На чем? Верхом на палочке?!
С холодным ужасом вспоминал свое путешествие из Харькова в Москву, но никто ничего и слышать не хотел.
Мечта была одна: Юг, благословенный юг, где грудами на базарах лежит божественная картошка и крупная соль… Лоэнгрин должен спасти свою Эльзу и на волшебной лодочке, запряженной лебедем, отвезти ее в страну… где есть картошка! А когда утроба насытится, тогда снова, как встарь, проснется вдохновение, тогда снова услышим божественный глагол, создадим новый репертуар, повезем его в Европу, в мир, в Пикадилли, в Альказары, в Елисейские Поля!..
Бред, сумасшествие, – чем тут поможешь?
После длительной работы, после бесчисленных и утомительных переговоров, было решено: пока не двигаться и Москвы всем театром не покидать. Тогда я решил выехать «частично». Составим труппу для двухтрех чеховских пьес и поедем, а там, с Божьей помощью, и остальных вызволим.
В смысле репертуара я наметил две чеховские пьесы: «Дядя Ваня» и «Вишневый сад». Кроме того в этот же план входили: спектакль-концерт, пьесы одноактные, драматические отрывки и чтение.
Для выполнения этого плана нужны были всего на всего: В. М. Греч, Н. Н. Литовцева, О. Л. Книппер-Чехова, Е. Ф. Краснопольская, М. А. Крыжановская, В. В. Орлова, В. Н. Павлова, Н. Г. Александров, П. А. Бакшеев, И. Н. Берсенев, В. И. Васильев, В. И. Качалов, С. М. Коммисаров, Н. О. Массалитинов, П. А. Павлов, Н. А. Подгорный, П. Ф. Шаров. Художник-декоратор И. Я. Гремиславский и режиссер-администратор С. Л. Бертенсон.
Я предложил поехать сначала в Харьков, а там видно будет. Надо было видеть суетливость, взвинченность и нетерпение этих изысканных и избалованных судьбой людей.
Они все еще продолжали играть, повторять все те же слова, сохранять все те же мизансцены, но в то же время было ясно, что они, как говорят музыканты, не доносят на полтона, – и это, конечно, было результатом голода.
С огромными трудами и усилиями удалось, наконец, раздобыть отдельный вагон, в какой-то благословенный час артисты погрузились в него и, как аргонавты, тронулись на поиски золотого руна.
Лично я поверил в это дело только тогда, когда почувствовал, что колеса загудели, покатились по рельсам.
А когда прибыли в Харьков, то стало очевидно, что это то, что являлось пределом, кульминационным пунктом всей моей антрепренерской карьеры. Такие сны не снились ни английскому Куртису Брауну, ни датскому Карлу Стракошу, ни американскому Барнуму.
Все было сложно, безумно, непреодолимо в это милое, незабываемое время!
Но молодость, молодость, будь она благословенна! – не хотела знать препятствий, и мы голыми руками брали твердыни за твердынями.
Попробуйте в до отказа перенаселенном городе разместить труппу по квартирам!
И прибавьте еще заботу, совершенно непонятную самому захудалому европейцу – нужно избежать мест неблагополучных по сыпному тифу.
Смерть косила Россию сыпно-тифозной косой.
А ведь тут даже от насморка надо было беречь каждого члена столь экономно составленной труппы.
И потом, – самые пустяки! Надо же было театр, театр достать!
Направляюсь к начальству. Начальство носит имя английского актера:
– Кин.
Кин – бывший рабочий харьковского паровозостроительного завода, ныне председатель совета рабочих депутатов.
Кин занят телефонным разговором и самым житейским тоном говорит в трубку следующее:
– Да что вы с ним списываетесь? Приказываю вам: расстреляйте его немедленно и делу конец. Что? Да, это мой приказ! А если не исполните, то я тебя самого в два счета к стенке поставлю. Понятно? Ну, вот и делу конец. Что? Письменный приказ? Я тебе такой письменный приказ нашью, что и своих не узнаешь. Что тебе шутки или революционная служба? Либо ты служишь, либо на легком катере…
Наконец трубка повешена и тем тоном, в котором еще не остыл смертный приказ, спрашивает:
– А ты, шляпа, чем дышешь?
– Товарищ, я дышу театром. Мне нужен театр. Я привез из Москвы труппу Художественного Театра.
И слово «театр» снова оказывает свое магическое действие.
– Вы привезли из Москвы театр? Присаживайтесь.
И сейчас же неизменное и обязательное:
– В чем суть дела?
Большевистская традиция заключается в том, чтобы на каждую вашу самую законную и невинную просьбу сказать прежде всего:
– Нет.
Затем вам предоставляется право и возможность вдалбливать в его деревянную башку всяческие соображения, которых он не поймет ни на этом свете, ни в будущем.
Меня, что называется, ни одним потом прошибло, покамест «Кин» начал отдаленно понимать, в чем дело.
А тут все время звонил телефон, что-то халифу на час докладывали, халиф неизменно и кратко отвечал:
– Расстрелять!
По совести должен сознаться, что мне было не по себе. Вдруг позвонит, ткнет пальцем и скажет:
– Возьмите этого молодца и расстреляйте – он мне густо надоел!
И все-таки в конце концов, городской театр, бывший синельниковский, был получен для гастролей артистов Московского Художественного Театра.
* * *
Теперь предстал новый этап: заказать афиши. Во всех типографиях вам отвечают:
– На штанах что ли я вам афиши печатать буду?! Бумаги нет. Красок нет. Ничего нет.
Но тут, по крайней мере, разговор ведется без смертных приговоров. Татарская брань, конечно, столбом стоит, но это дело – уже салонное, тут можно дружеским тоном сказать:
– Товарищ, давайте говорить делом и не будем заворачивать друг другу контрафалды. И бумага у вас есть, и краска у вас есть, но у вас слабо со спиртом, а у меня слава Богу! Времена трудные, надо друг друга выручать.
Общий язык найден.
И вот начинается благоденствие и мирное житие: театр играет, штандарт скачет, сборы переполненные, актеры едят и не только картошку, но и малороссийскую колбасу с салом, мечта поэта исполнилась, я хожу гордый – не подступись!
И вдруг новое осложнение.
Перед началом спектакля, каждый вечер ко мне приходят с записками то от Кина, то от Домбровского, то от других влиятельных лиц, какие-то товарищи с просьбой – устроить им местечко на спектакль. Отказать нельзя – и я приказал своему администратору оставлять мне десяток запасных мест.
И вот однажды, когда в соседней кофейне он передал мне эти самые запасные билеты, между нами, как чорт из-под земли, выросла фигурка какого-то весьма плюгавенького студента, который властно положил длань на мои билеты и строго сказал:
– Ага! Это что? Билетики для черной биржи?!
– Для какой черной биржи? Товарищ, вы с ума сошли.
И началось целое дело: о злоупотреблениях с билетами.
Тянулось несколько дней. При всей своей смехотворности, все же и оно стоило нервов. Оказалось, что вся «суть» дела в том, что студентик, предъявивший мне свой билет члена харьковского Чека, сам лично жаждет билетов на спектакль. Я ему их дал, и мы мирно расстались.
Но все это были цветочки в сравнении с ягодками, которые созревали на юге.
Телефонный звонок:
– Кто у аппарата?
– Полковник Б.
Мой добрый знакомый, бывший полковник бывшего генерального штаба.
Надо сказать, что незадолго перед тем в Харьков приезжал «фельдмаршал» Л. Троцкий, объявил мирный Харьков крепостью и назначил полковника Б. начальником этой крепости.
– Чем могу служить?
– Не угодно ли вам заехать ко мне на минутку по важному делу.
Я являюсь.
Грешным делом, думал, что дело в билетах.
Ничего подобного.
Полковник берет с меня честное слово полной тайны, потом подводит к географической карте и говорит:
– Видите эту линию?
– Вижу.
– Это – большевистский фронт. А эту линию видите?
– Вижу.
– Это – белый фронт.
– Дальше? – спрашиваю, как барон в «На дне».
– Дальше, – говорит полковник, – дальше вот что. Через несколько дней белые будут в Харькове.
И на реплику горьковского барона отвечает мне словами Чебутыкина из «Трех сестер»:
– «Не угодно ли вам этот финик принять?»
Очень был театральный человек.
24 мая 1919 года Харьков без единого выстрела был взят Добровольческой Армией.
Мы продолжали играть, так как никто из труппы в Москву не спешил.
В день, когда вошли первые войска, мы играли «Вишневый сад». Вечерний спектакль из-за экономии света начинали в четыре часа. Не успел начаться второй акт, как на Сумской улице, где помещался Городской Театр, появились первые разъезды, причем для переполнившей театр публики это случилось совершенно незаметно: в театре не было слышно уличного шума.
Я решил объявить публике о том, что произошло, с просьбой сохранить спокойствие.
Публика ответила дружными аплодисментами, и спектакль продолжался.
Лишь в половине июля мы благополучно закончили харьковские гастроли.
Таким образом, мы перешли от красных к белым.
По моему совету, пригласили в группу синельниковских артистов, которые оставались в Харькове: прекрасного актера М. М. Тарханова, брата И. М. Москвина, и его жену Е. Ф. Скульскую. М. М. Тарханов был нам необходим для расширения репертуара.
Из Харькова наш путь был в Крым – в русскую Италию…
И хотя мы вышли из красной зоны, но в общем разницы бытия не чувствовалось.
– Что есть революция? – спрашивал один публицист, и отвечал: – Революция – это расплавленная государственность.
А что есть государство? Это – отвердевшая революция.
Эта расплавленность чувствовалась и в белой зоне.
Здесь война проходила в атмосфере гомерических генеральских кутежей. Особенно отличался в этом отношении очень популярный атаман Шкуро, – человек, несомненно, одаренный, но кутила первостепенный.
Преходящая «государственность» все больше и больше приходила в расплавленное состояние.
Расплавилось все до неузнаваемости – вплоть до самого глубокого произвола. «Благодарное население» поставляло все, и платил за эти «поставки» только Господь Бог.
В постоянной тревоге будущее было окутано холодным туманом и было только одно желание: забраться в какую-нибудь невылазную дыру поглуше, – лишь бы только не видеть того, что делается на белом свете.
Добрались до Евпатории.
Как все Божие было прекрасно: море, воздух, солнце, горы! После дальнего бега немного отдышались. У некоторых актеров неподалеку от Евпатории были небольшие именьица. О. Л. Книппер-Чехова уехала к себе в Гурзуф.
Отдых – отдыхом, но нужно кому-то думать и о дальнейшем.
Дальнейшее выпадало на мою долю. Я был главой этой небывалой в летописях русского театра экспедиции.
И, пока актеры начали готовить новый репертуар, я должен был оформить все практически – иными словами: надо было опять куда-то ехать, опять искать театральные помещения, заключать контракты, подготавливать зимний сезон и все это в условиях, давно переставших быть нормальными.
И вот, в один прекрасный день, мы с Берсеневым выехали обратно в Харьков.
Симфония продолжалась: переполненные вагоны, вместо дверей лазят в окна, сыпной тиф, грязь, толкотня, давка, и на каждом шагу знаменитая проверка документов.
Единственное звание, которое еще как-то уважали, было звание актерское и, в особенности, звание артиста Художественного Театра.
Кое-как доползли до станции Синельниково.
Здесь было особенно тревожно. Говорили, что пошаливают «шкуринцы». «Пошаливают» это выражение разбойничье. И действительно – на станции я вылез из вагона и пошел в буфет, так как жажда замучила, но, когда ударил второй звонок, я побежал к своему вагону, уже занес ногу на первую ступеньку, но втиснуться на площадку не мог, ибо коридорчик был вплотную заполнен. Чувствую, что сзади мне кто-то поддает грудью. Обернулся, солдаты в примелькавшихся шкуринских папахах. С ног до головы обвешаны наганами, несуществующими знаками отличия, лентами, орденами. Разит от них сивухой невообразимо. Вид наглый, победительный – все дозволено!
Не имея возможности пролезть в вагон, один из шкуринцев заорал:
– Всем выходить! Поверка будет!
Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я обернулся и тоже во всю мочь закричал:
– К чортовой матери! Здесь все по ордерам генерала Деникина едут!.. Поняли?!
Сердце билось невероятно.
И вдруг слышу, папаха снизу растерянно отвечает:
– Если по таким ордерам, то нам здесь делать нечего.
И ушли.
Из Харькова в Ростов на Дону. Надо было заручиться театром для предстоящих гастролей.
Ростов, вообще большой коммерческий город, на этот раз совершенно напоминал собою столицу: здесь была Ставка, министерства, «недорезанные буржуи», остатки интеллигенции, – все это кипело, бурлило, носилось по улицам в каких-то необыкновенных, почти маскарадных костюмах, осаждало газетные киоски, толпилось перед витринами пропагандного отдела; обсуждало всякие слухи, сведения из сфер и атмосфер. А вокруг земных благ изобилие. В магазинах Чичкина, как ни в чем не бывало, любая снедь в любом количестве; в ресторанах настоящие бордосские вина, шампанское льется рекой.
Куда ни посмотришь – Пир во время чумы.
И оркестры, оркестры, и всюду одно и то же:
– «Сильва, ты меня не любишь? Сильва, ты меня погубишь!..»
На каждом шагу знакомые, то московские, то петербургские.
– Вы чего здесь?
– Везу Художественный Театр.
– Сюда? В Ростов?
– Сюда. В Ростов.
– Боже, какое счастье! Наш Театр будет с нами!
– Ваш Театр будет с вами.
– Какое счастье! Мало вас расцеловать. Какая радость! Как это украсит нашу сумасшедшую жизнь!
И снова в моих руках была чаша Радости.
Сунулся в главный асмоловский театр с целью снять его.
Сухой отказ.
– Нам самим нужен. Сборы – переполненные.
Что делать? Положение катастрофическое.
На Садовой улице был еще один театр, деревянный и невзрачный, но поместительный. Я кинулся туда. Увы! Реквизирован для сыпно-тифозных больных.
Решил обратиться к военным властям с просьбой снять реквизиции. Отправился в Таганрог, к генералу Лукомскому, и от имени артистов Художественного Театра изложил свою просьбу…
И… даже в такие страшные времена, обаяние Театра оказало свое влияние.
Реквизиция была снята.
Немедленно бросился к подрядчикам, чтобы произвести необходимый ремонт, так как помещение было невероятно запущено.
Сошлись, сторговались, ударили по рукам.
Бодрость, доброе самочувствие вернулись ко мне, и я обдумывал план дальнейшего путешествия, дальнейшей авантюры.
Повинуясь какому-то слепому инстинкту, направился я в Екатеринодар. Тут было легче, и владелец театра актер Э. Берже сдал мне его на шесть недель.
Осень приближалась. Мои актеры отдохнули в Евпатории, подкормились, были спокойны и твердо верили в мою звезду и в то, что на всяком пути я их выручу и спасу.
В это время к труппе примкнула М. Н. Германова и мы могли включить в репертуар «У врат царства» Кнута Гамсуна и «Братьев Карамазовых».
Из Евпатории, благословившись, направились в Одессу.
Море, синее небо, веселая толпа, шумные кафэ, союзные войска, «все флаги в гости будут к нам». И действительно – французы, англичане, греки, итальянцы, разноязычная речь, иностранные деньги… Обилие газет и неискоренимая южная любовь к театру.
Театр был, что называется, столичный, отделанный с большой роскошью. Пресса серьезная и испытанная, и мы, в полном смысле слова, отдались своему любимому делу.
Репертуар увеличился и расширился: возобновили «Где тонко, там и рвется» Тургенева, «Осенние скрипки», но… тяжесть времен чувствовалась и тут, настроение в городе было беспокойное и это, в конце концов, сказалось и на сборах.
После спектаклей мы часто ходили в артистическое кабарэ с Морфесси, Вертинским, Утесовым, Кара-Дмитриевым и другими.
Кабарэ это называлось «Дом Артиста». Во главе стояли: Н. И. Собольщиков-Самарин, А. И. Сибиряков, Мих. Чернов, Вас. Вронский, П. Г. Баратов, Н. Я. Золотарев и мой многолетний приятель, ныне здравствующий и живущий в Париже, К. Г. Константинов.
В этом кабарэ между прочим чествовали генерала Слащева… вскоре после чествования перешедшего к красным.
Здесь я познакомился с комендантом города, неким Бордом. Он произвел на меня самое лучшее впечатление, и, когда после падения Одессы, он приехал в Екатеринодар, я оказал ему некоторые услуги и помог ему пробраться в Тифлис. За это, на память, он подарил мне маленький браунинг…
Из Одессы мы двинулись в Ростов на Дону, где мною уже заранее были подготовлены необходимые позиции.
Осень на юге России упоительна. Изобилие плодов земли, виноград, дыни, арбузы, тысячи сортов яблок, всевозможные овощи, чудесный хлеб из первой в мире кубанской пшеницы, и все это в таком избытке, не надо никаких очередей, только давай деньги. А деньги были фантастические: каждый город выпускал свои ассигнации, и все шло, все принималось в обращение.
В Ростове нас ждало крупное разочарование. Арендованный мною театр был обновлен достодолжным образом – генерал Лукомский сдержал свое обещание, но… второй этаж остался все-таки за сыпно-тифозными. В таких условиях играть, разумеется, было нельзя, да и публика едва ли стала бы ходить в зачумленное место.
Осложнение гибельное, жуткое…
В конце концов, нашли небольшой театр миниатюр, принадлежавший брату артиста Художественного Театра Бурджалову, который и уступил мне его на две недели, пока я не перевезу труппу в Екатеринодар.
В этом театре мы давали концертную программу, которая состояла из инсценировок Чехова, Мопассана, чтения стихов и литературных отрывков.
О спектаклях и думать было нечего, но магнит имени Художественного Театра делал свое дело, и мы шли на переполненных сборах и таким образом как-то оправдывали свое существование.
Единственным нашим утешением было то, что в Ростове, или, вернее, в Нахичевани, мы нашли молодую артистку Аллу Тарасову и немедленно ее завербовали. Художественный Театр приобрел в ее лице одну из выдающихся женских сил.
Из Ростова без труда перебросились в Екатеринодар, столицу Кубанского казачьего войска.
Здесь неизменно сталкивались и переплетались острые политические страсти.
Только что был повешен священник Алексей Калабухов, один из глашатаев казачьей самостийности. Но, не взирая на все ужасы, жизнь продолжалась, кипела, бурлила, и мы… делали переполненные сборы.
Широко развернули репертуар, публика была настороженная, атмосфера создалась московская.
Вместе с С. Л. Бертенсоном жили мы на квартире зубного врача Шварца. Благодаря всяческим связям, у меня скопилось большое количество старорежимной водки, которую я декоративно расставил под огромным зубоврачебным роялем.
Водка давала возможность время от времени устраивать легкие товарищеские пирушки, которые проходили дружно и весело, конечно, и как-то отдаленно тоже напоминали пир во время чумы, тем более что сыпной тиф, по всей справедливости, мог с чумою смело конкурировать.
И вот однажды торжественно объявляется реквизиция всего мужского населения для рытья окопов вокруг города. Дурной знак. Белый фронт подавался на юг. Большевики нажимали. От этой реквизиции были освобождены только артисты Художественного Театра. Сижу как-то в конторе, и вдруг ко мне молнией врывается харьковский актер Григорий Р., веселый молодой человек, рассказчик всяческих смешных историй и анекдотов. Он выступал в каком-то театрике, имел успех – и вдруг, как снег на голову, упала вышеупомянутая реквизиция на предмет рытья окопов.
– Ради всего святого, дайте мне вы, как представитель труппы артистов МХТ, записку, что вы меня знаете и ручаетесь, тогда личный начальник охраны Деникина устроит, что я буду освобожден от рытья окопов. Я к нему получил доступ, говорил с ним, и он обещал, потребовав только этой рекомендации.
Я выписал ему рекомендацию. Через некоторое время Р. явился ко мне счастливый и благодарный: от рытья окопов он был освобожден.
– Слушайте, – сказал он, – личный начальник охраны Деникина хочет с вами познакомиться, любит актерскую компанию. У вас есть выпивка, у него есть закуски. Устроим на лужайке детский крик?
– Устроим.
И условились.
Я пригласил из нашей труппы несколько человек, любителей «приложиться», и в том числе и В. И. Качалова. Как сейчас вижу его выходящим из театра в широком заграничном пальто.
Стол у Шварца был уже сервирован, не хватало только обещанной закуски и Р. Но через несколько минут прибыл и он со своими приглашенными. Приехала и корзина с закусками.
Вместе с корзиной вошел какой-то военный в великолепно сшитом френче с накладными Царскими инициалами на погонах.
Познакомились. Оказалось, это был начальник личной охраны генерала Деникина. Под его наблюдением начали выгружать из корзины всяческие закуски. И тут, при виде этих закусок, все ахнули. Только в мирное время, в первокласснейших московских ресторанах, в каком-нибудь «Яре» или «Стрельне», могли так приготовить закусочные блюда. Это была работа художника в полном смысле этого слова.
Розовая и прозрачная ветчина трубочками, масло в кругляшках, ростбиф как-то особенно нежно положенный среди аппетитной зелени, заливная осетрина под хреном и какие-то сосудики с майонезом, с белой подливкой, какие-то особенно блестящие маслины, ревельские кильки, сардины…
– Гриша! Но откуда, с каких небес все это? – невольно воскликнул я.
– А это вот от них-с, – ответил Гриша и указал на деникинского охранителя, который скромно и шутливо раскланялся.
У актеров лихорадочно блестели глаза, они потирали руки, отпускали остроты, разглядывали на свет царскую водку.
Наконец сели, хватили по одной, но по одной не закусывают, – хватили по другой и вонзились в сельдей, которые были распластаны на тарелках.
Восторженные актеры пустились в воспоминания о знаменитых ужинах после первых представлений, – особенно вспоминали «На дне» и «Осенние скрипки», – вспоминали московские торжища, еды и пития, – «Руси есть веселие пити», вспоминали города и вокзалы, славившиеся своими специальностями… И я в свою очередь вспомнил, что знал одного такого великокняжеского повара, закусочного специалиста, который был вынужден служить большевикам.
– И звали этого повара Мишей, – сказал я, – за здоровье Миши!
И поднял приветственно рюмку.
И вдруг мой сосед, охранитель Деникина, нагнулся ко мне и тихо спросил:
– Вы знали Мишу?
– Знал. Он служил у коменданта Харькова Домбровского.
– А Домбровского вы знали?
– Я раз его видел, но слышал о нем много хорошего.
– А что именно?
– Он вывез из Екатеринослава много буржуев в Одессу, да и в Одессе он оставил после себя хорошую память.
– А что в Одессе?
– В Одессе он вел беспрерывную борьбу с Мишкой Япончиком, который грабил население, любил артистическое общество, ухаживал за Тамарой Грузинской…
И вдруг я заметил, что охранитель нервно сунул руку в револьверный карман.
И я почувствовал, как смерть шевельнулась в складках моего пиджака.
Да, это был он!
Рядом со мною сидел Домбровский, большевистский комиссар в Харькове.
Стол шумел, галдел, и никто этой сцены не заметил, а я видел только стальные, на все решившиеся глаза. Еще одно пьяное слово, сорвавшееся с моего языка – и смерть сказала бы мне: – «здравствуйте…»
Рука Домбровского явно лежала на рукоятке браунинга.
Актеры затянули «Черных Гусар»…
А у меня в голове без конца проносилась только одна мысль:
– «Как я мог его не узнать?»
И стала ясна вся эта съедобная роскошь. Конечно, все это он «стяжал» из продовольственного вагона Главнокомандующего.
И хотелось, до какого-то болезненного ощущения, чтобы нечестивый пир этот поскорее кончился…
А актеры, как на грех, вошли в раж, рассыпали блестки таланта и остроумия.
На колокольнях зазвонили утренние часы, когда компания начала расходиться.
Вставая и ни на кого не глядя, Домбровский шутливо сказал:
– Ну, господа, а теперь разрешите напомнить вам русскую пословицу: – ешь, как говорится, пирог с грибами…
И не докончил. Актеры покатились со смеху и поняли это так – теперь, мол, в такие трудные времена, не нужно разбалтывать о роскошном пире. Это могло бы вызвать известные и, конечно, справедливые нарекания.
А Домбровский вдруг добавил по-латыни:
– Sapienti sat.
Только я один расшифровал его слова по-иному… И Екатеринодар, несмотря на то, что нами были завязаны самые лучшие отношения и с обществом, и с правительством, стал сразу чужим, и я, грешным делом, был рад, когда гастроли, по истечении театральной аренды, благополучно окончились.
Дела на фронте шли все хуже и хуже. Белые армии отходили на юг: и в штабе генерала Май-Маевского оказались тоже (как впоследствии выяснилось) хорошо запрятанные большевики. История с моим Домбровским была далеко не единственной. В голову опять запала мысль, что белое дело проиграно и что мне, с моей многочисленной семьей, нужно держаться поближе к выходам в море.
И направили мы свою утлую ладью в Поти, а оттуда в Тифлис, который теперь назывался Тбилиси – столица Грузинской республики.
Это в некотором роде была уже «заграница». Грузинская республика с президентом Ноем Жордания, с министром иностранных дел Е. П. Гегечкори, впоследствии моим большим приятелем, оказавшим мне во время немецкой оккупации Парижа ряд дружеских услуг. Е. П. недавно умер, и добрую память о нем я сохраню навсегда.
Тут же мы встретили и Зиновия Пешкова, приемного сына Максима Горького.
И публика, и правительство встретили нас приветливо. Уступили нам Государственный Театр, которым заведывал бывший питомец школы Художественного Театра, некий Цуцунава, самонадеянный и довольно туповатый человек.
И опять начались триумфы, полные сборы… Стояла изумительная весна, было весело, сытно и уютно.
Когда весенний сезон кончился, мы всей труппой переехали в Боржом, божественное по красоте место, где поснимали дачи и стали отдыхать.
А на фронте все хуже и хуже. Мои екатеринодарские предчувствия начали оправдываться, и в один прекрасный день я кратко и ясно поставил вопрос о выезде заграницу. Я знал, что, поставив этот вопрос, я взваливаю на свои плечи невероятную обузу и ответственность, но оставалось только это. В большевистские условия жизни возвращаться никто не хотел.
После этих разговоров у всех создалось неуловимотревожное настроение.
Боржом стал не мил, да уже и осень подступала, и нужно было на сезон перебираться в Тифлис, что мы и сделали. Это было тем приятнее, что из Тифлиса было легче выбрать, в случае надобности, надлежащее «стратегическое» направление.
В Тифлисе нас уже с нетерпением ждали, и мы, с надлежащим блеском, начали свой осенний сезон. Опять переполненный театр, опять любовь, цветы, овации.
Как-то перед началом спектакля, – была премьера «Братьев Карамазовых», – сижу я у себя в кабинете, занимаюсь выдачей, очень скупой, контрамарок, – вдруг входит Борд и тоже просит контрамарку, становится в очередь. За Бордом просовывается голова некоего Гроссбаума.
– Вы здесь? Это очень хорошо. Вас желает видеть один человек.
Сказал и исчез.
Пока я занимался своими делами, Гроссбаум опять влез в комнату, но уже не один, а с обещанным «одним человеком»… Я взглянул на вошедшего и… обмер. Передо мной, улыбаясь и протягивая руку, стоял Домбровский.
Он был уже в штатском, осунулся, постарел, напоминал театрального первого любовника, оставшегося без ангажемента.
Я начал разговор с Домбровским, и через минуту происходит вещь совершенно невероятная: его разглядел Борд и… бросился ему на шею. Оказалось, что они земляки и оба из Иркутска, оба недоучившиеся проходимцы, авантюристы, революционная накипь.
Борд несколько раз приходил ко мне за всяческими советами.
Вскоре я узнал, что Борд, чтобы не быть высланным Грузинской республикой, поступил па службу в тифлисское охранное отделение. Никаких советов в этом направлении я ему дать не мог. Когда же Кедия, начальник охраны, стал Борда обвинять в бездействии, то он, Борд, вынужден был выдать своего земляка Домбровского. Домбровского арестовали, но так как за ним грехов по отношению к Грузинской республике не числилось, то его скоро выпустили и выслали из пределов республики. Домбровский очутился в Константинополе и там, на улице, был убит, очевидно «своими», при сведении «счетов».
Борд тоже был выслан и отправился к большевикам. С границы он прислал ко мне человека, который передал его последние, по моему адресу, слова:
– Из того револьвера, который я ему подарил, его и прихлопнут.
Гримасы революции…
«И пользуются ими проходимцы» – пророческие слова Наполеона.
…После спектаклей мы обыкновенно собирались в ресторане Ковалевского. И здесь, в один прекрасный вечер, я встретил… Мишу, повара. Он служил у Ковалевского, заправлял диковинные закуски и копил деньги, чтобы отправиться за границу и отыскать там Великую Княгиню Марию Павловну, у которой он когда-то служил.
– А уж княгинюшка-то меня не выдаст. Еще и ресторан в Париже открою. Чем чорт не шутит! Мы – народ бывалый…
У грузин Миша учился жарить, а, главное, мариновать шашлыки.
– Это дело не простое. Надо понимать, что и как…
* * *
Как всякий театральный человек, и я, несмотря на все мое «высшее образование», не лишен суеверия.
А когда друзья за слабость эту вышучивают меня или попрекают, я начинаю ссылаться на великих мира сего, а с особой охотой ссылаюсь на того же Наполеона, который перед назначением всякого нового министра, всегда справлялся, и очень внимательно: везет этому кандидату в жизни или не везет?
Так и я: женившись, я начал думать о том, везучая моя жена или нет? И скоро жизнь ответила на это самым положительным образом.
Иду я как-то по Головинскому проспекту и встречаю московского театрального критика Я. Л. Львова. Львов бросается мне навстречу и сообщает, что здесь, в Тифлисе, организовалась солидная группа, которая желает создать в Италии большое кинематографическое дело с исключительным участием артистов Художественного Театра.
Возглавляет эту финансовую группу некий Хапсаев. Этой группе удалось спасти как-то часть своих капиталов, и они хотят вложить их в верное дело. Случай исключительный.
Сначала подумал, что это один из обычных в те времена фантастических проектов, но скоро ко мне явились лица, финансирующие это дело, и мы вошли в переговоры, в конце концов оказавшиеся серьезными.
Нам было предложено организовать артистическое ядро и сразу начать работу в Италии под коммерческой эгидой хапсаевского «треста».
Были выработаны надлежащие условия, а главное, внесен соответствующий аванс с подписанием контракта.
Нечаянная радость! Мы окрылились самыми радостными надеждами. Были немедленно командированы в Крым люди, которые, между прочим, купили у Сургучева сценарий, специально написанный для Качалова.
В те времена кинематограф, недавно только родившийся, находился на детском уровне своего развития. Полная художественная безграмотность, засилие пошлости испортили вкус целого поколения… С этим-то и должен был повести борьбу наш московский аппарат, с этого и должно было начаться облагораживание всех этих «Глупышкиных, переезжающих на новую квартиру» (так назывался тогдашний кинематографический гвоздь) и, может быть, Холливуд, достойный двадцатого века, зародился бы в Италии, классической стране искусства.
Одним словом, если кроме паспорта для выезда заграницу нужна была еще и идеология, то она была налицо.
В моей карьере было много скачков и смелых, и опасных, и полных риска, – без этого наша беспокойная профессия обойтись не может. Но этот скачок, этот овраг, который сейчас предстал перед моими глазами, был самый ответственный, самый сложный и самый опасный. В конце концов на моих плечах оказалась огромная семья, в сорок четыре человека, – людей не только незаурядных, но и выдающихся, которых знала и чтила вся Россия.
И вот, с очень ограниченными средствами, с какими-то туманными возможностями, везу я их… в полном смысле слова – куда глаза глядят! Что нас ждет? «Что день грядущий…» и прочее, и прочее.
Через несколько дней мы погрузились на итальянский пароход.
Медленно уходили, погружаясь в туман, берега страны родной. Уходила Россия. Уходила великая и неповторимая красота. Оставался по ту сторону добра и зла родной, ничем незаменимый дом. Уходили родные звезды. Многие из нас больше никогда не увидят их.
И, как сказано в Евангелии:
– «Лучше надеть на шею жернов мельничный…»
Через несколько дней перед нами открывается новый город златоглавый, пристань с крепкою заставой…
Царьград. Царь земных городов. Святая София. Неправдоподобный синий Босфор. А по берегу Босфора бежит трамвай.
– Господа! Смотрите! Трамвай! Живой, настоящий, трамвай, о котором в опрокинутой, придушенной родине мы уже успели позабыть.
За золотым руном
Константинополь сразу очаровал: смесь Европы и Азии, Евразия. Европейская Пера, духи л-Ориган, галстуки от Дусэ, кофе с кюрасо у знаменитого Токатлиана.
Зато Галата была уже настоящая Азия, беспримерная, художественная, невиданная. Чалмы, чадры, фески и смуглые, всамделишные, невыдуманные турки.
Прозрачный воздух, черноморские волны, резные минареты; тысяча и одна ночь, звенящие запястья на божественных ногах Шехеразады…
Но восторги проходят, а хапсаевские лиры тают.
Надо продвигаться в Европу, получать визы от трех государств: английского, французского и итальянского.
Все это было сложно, нелепо, хлопотливо, и подчас казалось, непреодолимо.
Однако и это преодолели и, облегченно вздохнув, двинулись к двоюродным братушкам, в королевство Болгарское.
В Софии директором Государственного Театра был не кто иной, как наш собственный И. Э. Дуван-Торцов, бывший актер Художественного Театра, и мы сразу попали в братские объятия. Открыли сезон пьесой Островского «На всякого мудреца довольно простоты», и с этих пор наше колесо завертелось во всю.
В это же время приехали из Константинополя балетные артисты, во главе с талантливой Маргаритой Фроман, партнершей М. М. Мордкина.
Не теряя времени, организовал балетную труппу, в которую вошла и Юлия Бекефи – от прилагательных, по причине супружества, воздерживаюсь.
Дела пошли отлично: болгары в восторге, народ валом валит, в обоих театрах полные сборы.
А тут еще и Царь Борис, хотя и с немецким акцентом, но на русском языке, говорит всякие слова и всей труппе ордена жалует…
После Софийских успехов, для полноты звучания, перебросились в Белград.
Успех! Успех! Успех! На руках носят. Благодарят.
Опять ордена жалуют. Актеры говорят, что скоро бюстов не хватит, чтобы ордена вешать.
После Белграда – Любляны, Новый Сад и наконец Загреб.
Загреб – это уже настоящий, европейской культуры город.
Во главе замечательного театра «Народно Казалиште» стоит интендант Андрич, хорват. Драматической частью ведает И. Раич. Режиссирует и заведует музыкой Милан Закс, ученик Никиша. Все эти лица с дорогой душой шли нам навстречу, и мы сыграли в Загребе весь наш репертуар. С чувством почтения вспоминаю сейчас директора этого театра, милого человека и великого энтузиаста И. Баха.
Однако в Загребе постигло нас немалое разочарование.
Приехал из Константинополя Я. Л. Львов, представитель хапсаевских каннитферштанов и объявил нам, что задуманное дело, по всяческим непредвиденным обстоятельствам, расстроилось и что остается одно: ликвидировать наши взаимные отношения… что и было сделано быстро, полюбовно и даже с возвратом тифлисским финансистам некоторой части внесенного ими аванса.
Не по такому ли случаю говорил Бен-Акиба:
– «Всякое бывало…»
Наши огорчения полностью рассеялись в Вене, куда мы двинулись из Загреба.
В Вене мы продержались два сезона – весенний и осенний. Потом перекочевали в Прагу, которая почти сплошь знала русский язык, оттуда в Пильзен, из Пильзена опять в Вену, которая буквально скучала по нас. На этот раз мы показали Качалова в «Гамлете» и это было настоящей сенсацией.
После Вены – Берлин, в котором уже надолго задержались. Везде и всюду наши спектакли оставались верными заветам Художественного Театра, и во всех странах, где мы побывали, российские актеры безусловно положили начало тому престижу и влиянию, которое русское искусство после революции завоевало за пределами России.
Во время берлинских спектаклей к нам приехал из Копенгагена директор Фреде Скоруп и пригласил нас в столицу Дании.
В Копенгагене мы играли в его Дагмар-театре и имели воистину сумасшедший успех. Конечно, в столице Дании необходимо было сыграть шекспировского «принца датского», и мы его с благоговением сыграли и потом ездили в Эльсинор.
Было любопытно видеть Василия Ивановича Качалова, театрального Гамлета, склонившегося перед усыпальницей подлинного Гамлета.
После копенгагенского успеха перед нами открылись ворота Скандинавии и мы переехали в Стокгольм, в королевский драматический театр.
В Стокгольме повстречались с семьей Нобеля, основателя нобелевской премии. Все свое огромное состояние Нобель нажил в России, и теперь, естественно и охотно, эта семья всячески нам помогала.
Потом двинулись по Швеции, играли в Гетеборге, Мальмэ, Хельсиборге.
Всюду ошеломляющее торжество русского искусства.
По окончании шведских гастролей вернулись в Берлин и снова подняли занавес.
Опять начались привычные успехи, на душе у всех было весело, в кассе весело… но угрожающий трубный звук шестой симфонии прогремел над нашими закружившимися от успеха головами: из Москвы приехал эмиссар Художественного Театра, артист Н. А. Подгорный. Он приехал со специальной миссией «возвратить блудную труппу в советское лоно».
Несмотря на все успехи, несмотря на комфорт, которым была обставлена наша жизнь в европейских условиях, несмотря на то, что все знали, что в Москве их ждут тяготы большевистской обстановки, артистов, тем не менее, тянуло в отчий дом, в родной несравненный Театр.
Согласились возвратиться в Москву: Качалов, Книппер-Чехова, Берсенев, Бакшеев, Тарасова, Бертенсон, Комиссаров, Александров, Орлова, Тарханов[2], Скульская, Литовцева.
Отказались возвратиться: Германова, Греч, Павлова, Шаров, Васильев, Массалитинов, Краснопольская, Крыжановская и автор настоящих воспоминаний.
На последях труппа, чтобы выполнить предыдущие обязательства, еще раз выехала в последнюю скандинавскую поездку. С нами поехал и московский эмиссар Подгорный и выступал в соответствующих ролях.
Окончилась скандинавская поездка, и все перечисленные актеры сели в московский поезд.
Расставались, как родные. Но каждый думал свою думу. И самое дело, конечно, распалось.
Американское турнэ
«Иль русский от побед отвык?»
ПушкинВ Америке, в Нью-Йорке, проживал провиденциальный для нас человек, по имени Морис Гест.
Выходец из России, он в раннем возрасте эмигрировал в Новый Свет и, по традиции многих замечательных людей, начал свою карьеру с продажи газет. А ко времени нашего с ним знакомства он уже был одним из самых могущественных американских театральных менеджеров.
В 1921 году он пригласил в Нью-Йорк Н. Ф. Балиева с его «Летучей Мышью», которая имела очень большой успех.
Наслышавшись от Балиева и его актеров о МХТ, Гест решил пригласить в Америку и этот театр.
В 1922 году завязались переговоры Геста с Москвой, и, когда они дошли до такого момента, что могли стать реальностью, то В. И. Немирович Данченко и К. С. Станиславский решили:
– Дело этого европейско-американского турнэ должно быть передано в мои руки.
И вот, в Берлине, в мае 1922 года, появляется представитель МХТ Н. А. Румянцев, который и привез мне полную доверенность на ведение переговоров с Гестом.
Я быстро снесся с ним по телеграфу и подписал условие, по которому наши гастроли должны были начаться в Нью-Йорке 8 января 1923 года.
Стояла чудесная осень, до 8 января было еще далеко, и я выписал МХТ в Берлин к сентябрю, наметив для европейских гастролей – Берлин, Прагу, Париж, откуда и должен был состояться отъезд в Америку.
И вот, в сентябре месяце знаменитая труппа, во главе со Станиславским, прибывает в Берлин, в заарендованный мною Лессинг-театр и мы открываем сезон «Царем Федором».
Золото, блеск, пышность и подлинное художество покоряют берлинцев.
«Царь Федор» сменяется «Вишневым садом», а элегический сад уступает место горьковскому «На дне».
Полнозвучная гамма вызвала соответствующий резонанс: сумасшедший успех, восторженные рецензии, «переполненные сборы», что и требовалось доказать.
Из Берлина в Прагу, где тамошняя эмиграция устраивает нам великолепный приветственный банкет, из Праги в столицу мира, в Париж.
Первый парижский контракт был подписан с Жаком Эберто, известным парижским директором.
Играли мы в огромном театре «Шан-з-Элизэ» и, по стопам Дягилева, покорили Париж.
Вообще для судеб русского искусства Париж был и, вероятно, будет основным звеном, благословенным трамплином.
Упоенные парижским успехом погрузились москвичи на пароход «Мажестик» и в триумфальном порядке поплыли к берегам Нового Света.
Попали мы в невиданную по ярости бурю и среди разбушевавшихся стихий, в ярко освещенных, нарядных залах «Мажестика» встретили праздник Рождества и Нового Года.
Наконец и долгожданный Нью-Йорк.
Нервы натянуты, глаза кого-то ищут, – увы! – никто не идет нам навстречу. Стоим группой на палубе и ждем разгрузки. И, вдруг, видим процессию – что-то вроде крестного хода.
По трапу на пароход поднимается сонм православного духовенства в полном облачении, в сверкающих ризах, с иконами и хоругвями. За ними медленно следует Гест… Отслужили молебен, и Гест поздравил нас с благополучным прибытием и по русскому старинному обычаю поднес Станиславскому хлеб-соль…
Нечего и говорить, что фотографов на пристани был целый легион.
Спустились на берег, и духовенство уселось, не снимая риз, в какой-то особенно блестящий автомобиль, к ним присоединили совершенно растерявшегося Станиславского, и, во главе этой процессии, мы медленно отправились на завоевание Нового Света.
Барнум умер, но идеи его остались живы и впечатление на янки производили потрясающее.
Волновались мы невероятно: – Европа была «своя», европейские восприятия, в конце концов, соответствовали нашему собственному, разница во вкусах если и была, то мы ее знали и учитывали.
Америка же, Новый мир, нам неизвестный, со своими присущими ему вкусами, Барнумами, требованиями обязательных сенсаций, Америка – это неслыханная смесь, конгломерат, коктэйль!
Поди разберись в них, когда в театре сидят рядом славяне, тевтоны, негры, англо-саксы, ирландцы и израильтяне, шведы и итальянцы; протестанты и идолопоклонники!
Поди найди равнодействующую, угоди столь разным и малопонятным вкусам, столь различному мышлению, столь разному мироощущению!
С другой стороны, игра стоила свеч и было очень лестно захватить этот новый рынок художественного «сбыта», новую возможность работы и существования, ибо Россия, вследствие своего революционно-расплавленного состояния, явно ускользала из нашей орбиты. Конечно, все это, в конце концов, «образуется», но пока суд да дело – годами, десятилетиями – нужно ждать, а жизнь человеческая не ждет, солнце не останавливается.
И поистине с биением сердца и трепетом подняли мы в первый раз занавес над нашим заветным «Царем Федором».
Переполненный зал и ни одного знакомого лица.
Со сцены слышится чужая речь. Конечно, в программах содержание пьесы разжевано во всех смыслах, но все же, все же:
– «Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин…!»
И мучительная дума: как соединятся эти две полярности? Захлеснет ли нас волна равнодушия, или блеснет нам безмерно атлантическое солнце?
Мы играли, мы выиграли!.. Да здравствует солнце! Успех превзошел все ожидания.
В коридоре я встретил Мориса Геста. С сияющим лицом он сказал, пожимая мне руку:
– Америка открыта во второй раз!
За кулисами царила высокая радость – мы обрели еще один гостеприимный дом.
В следующие дни, после громоподобных газетных отзывов, с таким же успехом прошли и другие козыри: «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «На дне», «Три сестры».
Какая же у нас была публика?
Во-первых, славянские братушки и русские евреи, когда-то прибежавшие в Америку от разных тягот российских.
Во-вторых, нас посещали американские снобы – самый текучий и неверный элемент.
В-третьих, нашими особо преданными зрителями были американские актеры и режиссеры.
Эти ходили к нам, как в университет.
И впоследствии, по прошествии многих и многих лет, я понял, какую огромную и высокую роль сыграл Художественный Театр в жизни театра американского.
Американские режиссеры и актеры не пропустили ценного урока и прочно впитали его в себя.
Труд В. И. Немировича-Данченко и здесь дал свои благотворные плоды.
К великому сожалению, его не было с нами. Он, как наседка, как верный страж, остался в Москве, чтобы охранять Театр, потому что в те времена развала и разгильдяйства все могло случиться, вплоть до овладения зданием и имуществом Театра.
И, как чеховский Фирс из «Вишневого сада», Немирович-Данченко остался в холоде и голоде, на пороге созданного им и взлелеянного дела.
В то время, как мы обильно пользовались плодами его гения – в то время, как мы поедали вершки, ему в Москве остались корешки, и подчас очень горькие.
И поэтому писали мы ему каждый день подробные рапорты и донесения. Ему, конечно, причиталась и законная доля доходов, составившая немалую сумму вашингтонских долларов.
И вот окончился и весьма благополучно первый американский сезон.
На очередь стал вопрос о втором сезоне.
Морис Гест прямо и без всяких околичностей заявил, что несмотря на сказочный успех, на второй сезон он не рассчитывает, что Художественный Театр уже потерял прелесть новизны; что сенсация побледнела, и тем не менее, он не отказывается от возобновления контракта и на второй сезон, но… со значительным процентным понижением его ответственности.
Я ответил, что эти новые весьма огорчительные условия мы должны обсудить сообща с труппой.
И вот, когда мы начали обсуждать новые условия Мориса Геста, ко мне явился другой, тоже большой американский импресарио, и так же, как и Морис Гест, из русских еврейских выходцев.
Когда я осведомился, что он может нам предложить, он без запинки ответил, что он предлагает нам условия еще лучшие, чем контракт первого сезона, и немедленно вносит авансом икс тысяч долларов.
Я, сказать по совести, был озадачен и доложил обо всем московской труппе. Ответ был восторженный и единогласный:
– Немедленно подписать.
При встрече с Гестом я ему победоносно рассказал о новом контракте, но Гест только горько улыбнулся и пригласил меня на обед в русский ресторан, который носил громкое имя «Русского Орла».
Конечно, обед был с борщом, икрой, битками в сметане, с неизбежной водкой. А когда были поданы украинские вареники с вишнями, Гест стал доказывать мне, что, подписав контракт с другим менеджером, мы влетели в невыгодную сделку.
– Подписать хороший контракт нет ничего легче, но боюсь, что ему трудно будет его выполнить.
И Гест опять начал доказывать мне, что первоначального успеха Театр иметь уже не может, и снова повторил все свои доводы: сенсации, столь дорогой американской душе, уже не будет, прелесть новизны утеряна, и так далее, и так далее.
Мы проговорили очень долго, Гест представил мне тысячи новых доказательств, счетов, вырезок, документов, и я начал с огорчением соглашаться с тем, что мы несомненно сделали ошибку, уйдя от опытного Геста и соблазнившись внешне эффектными новыми условиями.
Положение было не из легких. Что делать?
Гест говорил:
– Неужели вы думаете, что я мог бы подвести своих земляков, но в будущем вы увидите, что я был прав. Исправляйте вашу ошибку и идите на мои скромные, но реальностью продиктованные цифры!
Сомнения, колебания, тревоги и, в конце концов, еще один обед с борщом, с пирожками, но уже с новым менеджером, которому за сладким я и выложил все свои сомнения. Сначала он широко раскрыл глаза, но после пятичасового «прения сторон», почти на рассвете, согласился порвать подписанный контракт.
Вареники с вишнями были съедены, соблазнительный американский чек по принадлежности возвращен.
Честный Гест был прав: второй сезон МХТ уже не имел первоначального успеха.
Открыли «Братьями Карамазовыми», потом пошел «Доктор Штокман» с В. И. Качаловым, вместо Станиславского.
К. С. Станиславский не чувствовал себя вполне здоровым, а роль Штокмана была и трудна и сложна. Пришлось, волей неволей, передать ее Качалову. Но сделал это Станиславский с великою, видимо, болью в душе. Он искренно страдал. Каждое представление он приходил за кулисы и настороженно слушал аплодисменты, которые сопровождали окончание каждого акта. Выслушав аплодисменты и взвесив на своих актерско-аптечных весах их театральную нагрузку, Станиславский облегченно вздыхал: нагрузка явно была не та, и Качалов явно не имел того успеха, который в этой роли имел он, Станиславский…
Стараясь быть незаметными, мы, тем не менее, каждый вечер наблюдали эту, с виду детскую, но на самом деле – подлинную драму великого артиста.
Кроме этих пьес, во втором сезоне шли еще: «Братья Карамазовы» полностью, «Трактирщица», «Смерть Пазухина» и «Осенние скрипки».
Гастроли прошли в строгих границах, предсказанных опытным и мудрым Гестом.
Единственными верными и неизменными нашими клиентами были и остались те евреи – выходцы из России, о которых я уже вскользь упоминал выше. Боже мой, как эти люди любили Россию! Уже казалось бы, прошли все законные божеские и человеческие сроки, а память о ней была по-прежнему свята. Уже давно было принято американское подданство, дети говорили только по-английски, но старики оставались верными и русскому языку, и русским обычаям, и русской широте. Они оказывали нам тысячи всяческих услуг, знакомство с русскими актерами считали величайшим счастьем, и однажды Вишневский торжественно объявил нам:
– Господа! Такой-то магазин, по такому-то адресу, бесплатно чистит нам платье по самым усовершенствованным американским способам.
В эту эпоху американцы сидели на «сухом» режиме, спиртные напитки были строго запрещены и мы искренно и не без зависти удивлялись, какими способами актер А. ухитряется каждый день быть навеселе.
А. долго и ревниво хранил свою тайну, но однажды выложил все на чистоту.
Оказалось, что в одной аптеке владельцем был русский еврей. У него был спирт для выдачи по врачебным рецептам. Но когда к нему заглянул А. и рассказал свою биографию, то этот еврей пошел на риск и, с громадной ответственностью для себя, выдал большую часть своих запасов.
А. к нему зачастил и никогда не уходил с пустыми руками.
Однажды старый аптекарь не выдержал и сказал ему:
– Господин А.! Я тоже хочу выпить с вами рюмочку. Пригласите ваших товарищей ко мне, я устрою закусончик, мы повеселимся и сообща выпьем за Россию!
Сказано – сделано.
А. взял с собою несколько актеров выпивох и притащил их в аптеку.
Еврей накрыл большой стол, полный русских закусок, и предупредил, что основным блюдом будет фаршированная щука, шедевр еврейской кулинарии. Жена его надела свое лучшее шелковое платье; веселой компанией сели за соблазнительный русский стол и начали потягивать по рюмочке, напевая: тир-лим-бом-бом, тир-лим-бом-бом…
Аптекарь был искренно счастлив – своя компания, свои люди, все говорят на своем родном языке… Аптекарь вспоминал свою далекую родину, какое-то минское местечко, каких-то еврейских замечательных актеров, приезжавших туда, какую-то смешную пьеску под названием:
«Вельвель кушает компот»…
Аптекарь забыл свою Америку, упивался своей далекой русскостью, гордился ею и своей преданностью матушке-России.
– Многих людей я не могу любить, – говорил аптекарь, – но небо русское, леса, цветы, птиц, – таких птиц, «такого пения», – я люблю до слез, до сжимания сердца.
И тут встал полупьяный А., глубокомысленно уперся обеими руками на стол и вымолвил:
– Фармацевтам и евреям разговор воспрещается.
С неба грянул гром – и бедный еврей не выдержал – он пошел в другую комнату и истерически расплакался.
К нему бросились, стали утешать, говорить, что это дружеская шутка, что у актеров так уж принято вышучивать друг друга, но уже ничто не могло помочь и вечер окончился в глубокой оскорбленной печали.
– «Всякое бывало»…
* * *
По окончании гастролей Театр уехал в Европу и оттуда направился в Москву.
Расставание было грустное, каждый понимал, что это уже всерьез и навсегда.
А для меня началась новая и длинная глава жизни на чужбине…
Третий банк В. И. Немировича-Данченко
Знаменитые «капустники» Художественного Театра традиционно устраивались на первой неделе Великого Поста.
В этот вечер артисты «дурили».
К. С. Станиславский, например, исполнял что-нибудь цирковое, – с громадным бичем в руках гонял по сцене воображаемых лошадей, или показывал китайские фокусы, или еще что-то изобретал, и все это было чудом наблюдательности и театральной техники.
Качалов пел тонким голосом шансонетки, Москвин изображал французских актеров в трагедии, и все это подавалось с громадным знанием дела и с неподдельным искусством.
Немирович-Данченко всегда выступал, как дирижер оркестра. Ему давали небольшой оркестр, и он исполнял так называемые «летние» номера: «Торреадора и Андалузку» Шарпантье, вальсы Иоаганна Штрауса и всегда – обязательно всегда – попурри из «Кармен».
Около меня однажды сидел крупный музыкальный критик и говорил:
– Конечно, все это шутка, пародия, но вот что я вам скажу: в Немировиче-Данченко сидит огромный музыкальный дирижер большого оркестра. Глядите, он валяет дурака! Но как! Смотрите, как он заражает музыкантов, как он их подчиняет, как у него звучит «Кармен». У этого человека огромные музыкальные возможности. Видите, как у музыкантов блестят глаза? Это показательно, мой друг. Значит, Бог, сидящий в дирижере, доходит и до них.
И действительно, когда Немирович-Данченко поворачивался к публике, трудно было его узнать: как творчески блестели его глаза, лицо молодело и казалось, что он был загримирован.
Очевидно, в словах музыкального критика была какая-то доля истины. В то время, как качаловская группа подвизалась в Европе, Немирович-Данченко оставался в Москве, как мы уже говорили, чтобы караулить помещение Театра, предохранить его от всяческих покушений, всегда возможных в те безответственные времена.
Но без дела Немирович-Данченко сидеть не мог, и тут он задумал создать музыкальную студию.
Набрал молодежи, уже советской, и начал культивировать оперетку, которую любил и очень жаловал. Сначала он ставил «Дочь Мадам Анго», потом воплотил такой перл, как «Перикола» Оффенбаха, взялся за «Лизистрату» в 1923 году, а в 1924 – за «Кармен».
«Кармен» он ставил не в подлинном ее виде, а по-своему переделав либретто, порядок действия, – вообще по-новому приступил к партитуре, назвал ее «Карменситой», но, конечно не изменил ни одной ноты: пиэтет к Бизэ был непоколеблен.
Студия в Москве имела огромный успех.
И вот, когда качаловская группа возвратилась домой, Немирович-Данченко взял отпуск и, по своему старому обычаю, отправился в Карлсбад, чтобы пройти курс лечения, которому следовал всю свою жизнь.
* * *
Зажигательная и веселая «Дочь Мадам Анго» родилась в Москве 16 мая 1920 года. Немирович-Данченко работал над ней около года. Премьера состоялась, когда наша группа артистов МХТ была по ту стороны Москвы, у белых. Эта группа называлась качаловской.
Премьера «Периколы» состоялась в 1922 году, 14 июля.
Приехав в Берлин, он по-дружески навестил меня, и тут я его атаковал насчет Музыкальной Студии. Дело это было интересное и антрепренерски привлекательное.
Как раз в это время в Берлине гостил наш американский приятель, Морис Гест, я представил его Немировичу-Данченко, и не успел Немирович-Данченко выпить первый глоток карлсбадской воды, так контракт на Америку был им подписан.
По моему плану труппа Музыкальной Студии приехала в Берлин в январе 1925 года и немедленно дала свои представления в Berliner Theater.
Увы! Ожидавшегося успеха не было, и особенно в штыки была взята «Карменсита». Известный музыкальный критик Ад. Вейсман текстуально написал:
«Владимир Иванович, вы на этот раз ошиблись».
– Посмотрим, – ответил ему Немирович-Данченко, лукаво улыбнувшись. Отсутствие полного успеха он объяснил:
– Мы привезли вещи, в Европе хорошо известные, вещи с давно установившимися канонами и штампами. К ним привыкли, их знают, и всякое покушение на перемену, хотя бы в мизансценах, всякий новый подход здесь считают преступлением: в данном случае мы встретились со староверами оперетты. Особенно ревниво они, немцы, относятся к Жаку Оффенбаху, который, будучи кельнским немцем, подарил французам славу создателей классической оперетты. Поедем в Северную Америку: там страна новая, не зараженная никакими национализмами: там посмотрим и разберемся, кто ошибся, кто не ошибся.
После гастролей в Дрездене и Лейпциге, Музыкальная Студия, во главе со своим создателем, направилась на завоевание Океана.
Я остался в Берлине, и вместе с Немировичем-Данченко поехал неизменный С. Л. Бертенсон, которому пришлось заменить меня, по моей просьбе, что он прекрасно и дружески выполнил, имея уже солидный заграничный административный опыт.
По моему совету, Гест открыл сезон «Лизистратой». Для открытия пригласили Шаляпина, который произнес несколько теплых слов по адресу Студии и ее создателя Немировича-Данченко.
Успех был, но успех того сорта, который французы называют «Succes d’estime». Бертенсон держал меня в курсе дела, все время посылая телеграммы за телеграммами.
Но сенсации не было. Не было «Царя Федора». Критики заявили, что в постановке нет опереточной изюминки, нет интригующего оформления.
Я начал себя упрекать, что не поехал вместе с театром. Это ведь, как в жизни: когда находишься при беде, то ее как-то легче перенести, чем ее воспринимать на расстоянии, да еще таком, как Берлин – Нью-Йорк. И когда я прочитал в нью-йоркских газетах, что спектакль «Периколлы» – спектакль на одну ночь, т. е. сегодня вечером вы сыграли, а к утру вы уже в другом городе, – то посыпал главу свою пеплом.
Получаю телеграмму от С. Л. Бертенсона с просьбой о немедленном выезде в Нью-Йорк. Чувствую, что вызывают лечить мертвого.
Свой третий банк Немирович-Данченко явно проигрывал по всем швам.
Приезжаю в Нью-Йорк. Погода отвратительная, серо, мокро. Встречает меня кислый Бертенсон и доверительно сообщает, что все против меня: и Немирович-Данченко, и Гест.
Немирович-Данченко жалуется, что я втянул его в «такую историю», а Гест, что я подбил его на дело, явно для Америки неинтересное. Оба они были не правы. Немирович-Данченко верил в свою студию, в свои создания, а Гест знал, что от Немировича-Данченко могут идти только создания первоклассно художественные.
Бертенсон рассказывал:
– Немирович-Данченко бранится, что вы не поехали вместе с Театром, а Гест, что вы втравили его в авантюру; из Москвы сыпятся дикие телеграммы, что, мол, скомпрометированы все предшествующие успехи и на Немировича-Данченко ополчились все его давние недоброжелатели и завистники. Даже Москвин и тот осыпал его оскорблениями.
Немирович-Данченко ответил Москвину тремя словами:
– «И ты, Брут».
Из всей труппы только с одним Москвиным он был на ты.
Я начал присматриваться к ходу вещей. Труппа была молодая, очень смешанная, густо-советская, традиций не было. Актеры стали бегать к советскому представителю Красного Креста, который в те времена играл там роль посольства, потому что настоящего правительства, дипломатического, еще не было.
Подавались жалобы, и под всем этим я разгадывал их настоящие намерения. Все эти молодцы в глубине души жаждали, чтобы дело из-за неудач распалось и был бы законный повод задержаться в С. Америке.
Особенно отличался в этом направлении покойный Б., дирижер и вообще хороший музыкант, явно занимавший при этой молодой труппе какое-то особое «положение», очень специальное и явно навеянное заботливой и предупредительной советской опекой.
Гест откровенно заявил мне, что терпит большие убытки и оплачивать полностью дальше труппу не может.
Неразыгранной картой в неуспешной колоде Немировича-Данченко оставалась «Карменсита», не имевшая в Германии успеха, и я был под этим навождением.
– Что же мы будем делать дальше, Владимир Иванович? – спросил я Немировича-Данченко.
И он буквально, как в клубе, за игорным столом, спокойно, невозмутимо ответил:
– Тройка, семерка, туз! Даю «Карменситу»…
Меня взяла досада, и я напомнил ему слова берлинского музыкального критика:
«Владимир Иванович, на этот раз вы ошиблись».
Он спокойно, потрагивая бородку, ответил:
– Нет, не ошибся… Тройка, семерка, туз…
Формула пушкинского Германна в «Пиковой Даме».
– Тройка проиграла, семерка проиграла, но туз всегда выручит. Даю «Карменситу».
И я видел, что он испытывает величайшее наслаждение игрока. И вдруг он прибавил:
– Как жаль, что в этой скучной стране нельзя достать белого вина, оно всегда приносит счастье.
Этот, уже немолодой человек только что проглотил горчайшую жабу: только что из Москвы была получена телеграмма, ругавшая его на все корки. И осрамил-то он Художественный Театр, и свел на нет все его предшествующие успехи, и «рекомендуем вам немедленно прервать ваши бездарные спектакли и возвратиться в Москву» и т. д., и т. д.
– Владимир Иванович, что касается белого вина, то я и в этой скучной стране могу достать его сколько угодно, хоть сороковую бочку.
– Сороковую бочку – это много. Можете ли вы достать хоть одну бутылку хорошего шабли?
– К вечеру шабли будет!
Он протянул мне руку, с чувством пожал ее и сказал:
– Я всегда думал, что вы – не двенадцать на дюжину!
Но в душе была тоска, горечь, что-то безнадежно и упорно щемило.
Рядом в «Метрополитэне» идет «Кармен» с мировыми певцами, а мы на русском языке даем доморощенную «Карменситу» с доморощенными птенцами! И это именуется «тузом», хотя бы и с самым лучшим шабли на свете! Как даже большой человек может так по-детски самообольщаться?
К вечеру я достал бутылку настоящего французского шабли, в классической пузатой бутылке. Немирович вспыхнул от радости.
– Теперь у нас запляшут лес и горы! – сказал он улыбаясь.
Улыбнулся и я, но улыбка у меня была, вероятно, кислая.
В вечер премьеры шагаю с Гестом вдоль театрального подъезда. Нервы разошлись так, что мы в закрытом помещении оставаться не могли.
Шагаем и думаем думу: Как быть дальше? Куда идти, куда повертывать?
Печальные моменты театральной усталости и разочарования.
Театр не полон. Атмосфера непривычно тягостная.
Театр устроен так, что вы прямо с улицы входите в зрительный зал. Слышу по пению, что кончается третий акт.
Входим в зрительный зал, останавливаемся на пороге, спускается занавес, в театре молчание…
Чорт его разберет, это театральное молчание! Не то – потрясающее впечатление, не то – такой провал, что хоть спасайся бегством!
В первом ряду сидит Olin Downes, известный музыкальный критик «Таймса», тот самый, который разнес и «Лизистрату», и «Анго» и в заключение похоронил «Периколу». Слежу за ним больше всего: как он? И, вдруг, в полной тишине, нарочито громко, так, чтобы все слышали, Downes говорит:
– Человек, поставивший эту «Карменситу», отмечен печатью гения.
И первый начинает аплодировать.
И вслед за ним весь театр устраивает такую овацию, что я подумал: не во сне ли это?
Бесконечные вызовы, восторг, горящие глаза, какие-то женщины, устремившиеся к рампе…
Настоящее, поголовное, соборное помешательство!
Как всякое коллективное сумасшествие, оно заразительно: поворачиваюсь направо и вижу совершенно ошалевшего Геста, с которым я только что мирно гулял по театральному тротуару – он сорвал с головы шляпу, машет ею и что-то орет.
И, неожиданно для себя, я тоже срываю свою шляпу, размахиваю ею и тоже начинаю что-то неистово восклицать.
Уже не помню, как мы очутились в кабинете Немировича-Данченко. Полулежа, на кушетке, он мирно попивал французское шабли. Я бросился к нему, начал его целовать, и он протянул мне только что, по-видимому, полученную телеграмму из Москвы:
«Немедленно возвращайтесь в Москву. Нам надоело следить за вашим „провалом“»…
Я передал телеграмму Гесту. Гест прочитал ее и трагически рассмеялся.
– Что? Теперь возвращаться в Москву? – сказал он. – После такой сенсации? Что? Гест с ума сошел? Немедленно телеграфируйте в вашу сумасшедшую Москву, что Гест отвечает за все!
Немирович-Данченко грустно помалкивал. На душе у него, видимо, скребли кошки.
– Вот, когда вы вернетесь в Москву, Владимир Иванович… – начал, было, я.
Немирович-Данченко грустно отрицательно покачал головой.
– Нет. Я останусь здесь. Я предпочитаю здесь быть собакой и лаять на луну, – процитировал он из «Цезаря», – чем ехать в Москву к таким друзьям и товарищам!..
– Что же вы будете делать здесь, Владимир Иванович? – спросил я.
– А вот господин Гест устроит меня ламповщиком в какой-нибудь театр…
Гест расхохотался и обнял Немировича.
И я не знаю, было ли в этом какое-нибудь участие Геста или нет, но через несколько дней Немирович-Данченко получил от знаменитой кинематографической фирмы «United Artistes» приглашение на должность режиссера с жалованием в 25 тысяч долларов в год. Немирович-Данченко сорвал третий и на этот раз огромный банк. В качестве его, как говорят французы, adjoint’a поехал с ним и С. Л. Бертенсон, который и до сих пор благополучно пребывает в Холливуде. Бертенсон, о котором я всегда храню память, как о благородном, достойном и знающем человеке: явление, к сожалению, очень редкое в театральном мире.
Исправленный и дополненный пушкинский Германн.
…Растянувшись на диване в импровизированном директорском кабинете, Немирович-Данченко с невероятным наслаждением, потихоньку, с чувством, с толком, с расстановкой, потягивал белое французское вино и вдруг произнес нянькину фразу из «Дяди Вани»:
– «Давно я, грешница, лапши не ела…»
Ему дьявольски хотелось спать, сказалось невероятное нервное напряжение последних дней: сорвать такой банк – это даром не проходит.
На другой день газеты захлебнулись от восторга и театральный Нью-Йорк валом повалил.
Немирович-Данченко шутя говорил мне:
– Это вы, Леонидов, душа моя, привезли успех! У вас легкая рука! Ох, легкая!
И в течение нескольких недель мы не только покрыли все убытки, но и изрядно заработали. Все стало на свои должные места. В труппе водворилось благоденствие и мирное житие.
Москва была пристыжена и прикусила язык.
Но рана в сердце Немировича-Данченко осталась, и, человек с характером, он решил больше в Москву не возвращаться.
* * *
«United Artistes». Знаменитое кинематографическое общество, Дэвис, Чаплин, Фербанкс, Мэри Пикфорд, Гиш, директор-распорядитель Шенк. Сливки американского кинематографа.
Но…
Однажды Генрих Гейне зашел в какую-то немецкую пивную и у хорошенькой буфетчицы спросил:
– Есть ли у вас ирония?
Буфетчица, потупив глазки, скромно ответила:
– Многоуважаемый господин! У нас есть все сорта пива, но иронии у нас нет.
– Почему же нет?
– Нет спросу, многоуважаемый господин.
Так было и с «United Artistes». У них были огромные таланты, дубовые сценарии, колоссальные деньги, сногсшибательный успех у черни, но… «иронии» у них не было. Конечно, такие гениальные люди, как Чаплин, понимали это и неоднократно ставили этот вопрос на очередь, заговаривали о реформах, о художественных нововведениях.
И тут «подвернулся» Немирович-Данченко. Иосиф Шенк, директор-распорядитель, понял, что можно позволить себе такую роскошь: «нанять» Danchenko, создателя МХТ, его директора, и, как говорят, известного в России драматурга, к тому же поставившего сенсационную «Карменситу», – и какое имеет значение еще 25 тысяч?! Капля в море! Пусть будет консультантом, а там видно будет.
И тут у Немировича-Данченко началось томление духа.
Какие бы он ни представлял проекты, отношение к ним было всегда скептическое: как в берлинской пивной, здесь были все сорта пива, но «иронии», изюминки, не было. Он сделал для синема «Бурю» Шекспира.
– Ерунда, неинтересно, для нашей публики не подходит! Это скучно, неинтересно и что это за Ариэли, Калибаны? Кого это интересует? Это в Америке не может пройти.
И сидел Danchenko в своем кабинете и думал: как объяснить слепым, что такое красный цвет?
Так прошел год, тяжелый год. Может быть, самый тяжелый в жизни гениального человека. И все чаще вспоминалась далекая, уютная Москва, серый занавес, Камергерский переулок.
В это время на юге Франции умирает А. И. Южин, старый соратник и верный друг. Заныло сердце, все холливудское – пошлое, омерзительное, показалось еще более хамским и еще более омерзительным.
Тогда Немирович-Данченко идет на телеграф и пишет Станиславскому такую телеграмму:
– «У свежей могилы нашего общего друга подадим друг другу руку и начнем снова работу на пользу русского искусства».
А в Москве давно уже царила паника, там давно уже стали почесывать затылки.
Конечно, все эти новоявленные «системы» Станиславского были, возможно, великими откровениями в теории искусства, но уже кое-кто поговаривал:
– Систему выдумал, а сам стал играть хуже… много хуже.
Немирович-Данченко триумфально возвратился в Москву, был триумфально встречен, и тут начался самый блестящий период его жизни.
Советская драматургия предъявляла вещи почти всегда посредственные, и с этими посредственными вещами Немирович-Данченко начал творить театральные чудеса.
Как когда-то из посредственных, почти всегда провинциальных актеров, он сотворил чудо Художественного Театра, – так и теперь: из посредственных и довольно нудных пьес он сделал блестящие представления: – «Бронепоезд», «Страх», «Любовь Яровая», «Враги»…
И только на «Воскресении» и на «Анне Карениной» Толстого он по-настоящему отвел свою замученную душу.
Тайна В. И. Немировича-Данченко
Он мыслил театр, а следовательно и пьесу, как оркестрион, как огромный орган, ухо его было полно звуками совершенного театрального аккорда. Все амплуа были заняты в его пьесах совершенно так, как в оркестре заняты все роды инструментов, – и это и есть сущность оркестровки.
А Р. КугельВ один прекрасный день Немирович-Данченко приехал в Париж, после отдыха в Эвиане, и поселился в отеле «Резиданс».
И тут я видел его в последний раз.
Он очень постарел, как-то врос в землю, бородка была белая, как лунь, хотя все так же a la Henri IV аккуратно подстрижена. Но глаза оставались все теми же – слегка насмешливыми. И сверкал в них все тот же исключительный, обезоруживающий ум.
Тот же спокойный голос, то же изящное поглаживание бородки, снизу, наружной частью кисти руки.
Начались наши старые разговоры на вечную и неизменную тему.
– Вот, – сказал Немирович-Данченко, – приближается сорокалетие нашего Театра. Вы подумайте – сорокалетие! Как быстро пронеслась жизнь! Что поставить для этого юбилея? Мне советуют «Цезаря и Клеопатру» Бернарда Шоу. Но как-то не тянет к нему.
– А что бы вы хотели сами? – спросил я.
– Что хотел бы я сам? – переспросил Немирович-Данченко, – сам бы я хотел возобновить «Трех сестер». Как говорят французы:
«On revient toujours a ses premiers amours».
– Да, Владимир Иванович, но «Три сестры» столько раз играны и переиграны.
– Это ничего не значит, их можно поставить заново так, что вы и не догадаетесь, что это старая пьеса.
– Но как же это так, Владимир Иванович, – ведь слова те же, сюжет тот же, действие то же?..
– Совершенно верно, – ответил Немирович-Данченко, – слова останутся те же, действие то же, а постановка будет новая, – и вы не узнаете пьесы!
Я чувствовал, что мы находимся где-то вблизи, около тайн его режиссерского творчества, – тех тайн, которые всегда подозревались, но которые он где-то, в глубинах души, ревниво хранил.
– Но что же в ней может быть нового? – прикидываясь простачком, спросил я.
– Что в ней будет нового? – Немирович-Данченко немного подумав, ответил: – Ритм, дорогой мой! Ритм! Новый ритм – в этом все каноны и законы Художественного Театра.
Я понял, что рыба первый раз в жизни клюнула, и начал осторожно, чтобы не спугнуть, насаждать новые наживки.
– Это что же, наука?
– Какая там наука! – с легкой досадой отвечал Немирович-Данченко. – Островский сказал, что театр, как наука, не существует, и это глубочайшая истина. И напрасно Станиславский пишет толстые книги. Это – суета-сует и всяческая суета. В театре науки нет, и наш Константин Сергеевич, как в басне, катает пустые бочки.
– Но ритм, – сказал я, – это ведь тоже наука?
– Ритм? – ответил Немирович-Данченко, – ритм не наука.
– А что же это?
– Ритм – это вздох.
– Не понимаю.
– Не трудно понять, – пояснил Немирович-Данченко, – Шаляпин хорошо сказал: «Все поют. Правильно поют. Как написано поют. А вот вздоха нотами не передашь! Вздоха не напишешь. Вздох-то в душе!» Так и ритм. Ритм в душе.
Помолчали.
– У Чайковского, – сказал Немирович-Данченко, – была маленькая записная книжечка, с которой он никогда не расставался. В ней была переписана партитура «Испанского Каприччио» Римского-Корсакова. Чайковский всю свою жизнь любовался этой инструментовкой: сидел ли он в кафэ или в вагоне, ложился ли спать, – прежде, чем потушить лампу, он всегда, хоть на несколько минут, перелистывал заветную книжечку. Он и сам был великий инструментатор, но в «Испанском Каприччио» Римский-Корсаков раз и навсегда поразил его воображение.
– Не понимаю, – сказал я, – какое Чайковский и Римский-Корсаков имеют отношение к Художественному Театру?
– Очень большое, дорогой друг мой, – ответил Немирович-Данченко и вдруг достал из бокового кармана маленькую кожаную записную книжечку.
– Это «Испанское Каприччио»? – глупо спросил я.
– Нет, дорогой мой, это – Московский Художественный Театр.
У меня дрогнуло сердце, я чувствовал, что стою у истоков какого-то большого откровения. А Немирович-Данченко хитро улыбался. И вдруг раскрыл книжечку, медленно перелистал ее и показал мне какую-то страничку.
– Вот смотрите, что написано наверху.
– «Чайка», – прочитал я и с удивлением заметил, что под этой надписью роится ряд мелких цифр.
– А это? – спросил Немирович-Данченко, перелистав дальше, – а это?
– «Дядя Ваня».
– А это?
– «Три сестры».
– А это?
– «Осенние скрипки».
Под «Осенними скрипками» – цифр совсем мало.
– Вы видите, как мало здесь цифр? – спросил Немирович-Данченко.
– Вижу.
– Это потому, что пьеса проста и несложна. Чеховские вещи необычайно сложны. У Чехова, в некоторых актах, насчитывается до пятнадцати ритмов. А в «Скрипках» много проще. Вот смотрите: первый акт весь идет в четыре четверти. Второй акт – шесть восьмых. Начало третьего акта – четыре четверти. Подали шампанское и до конца – шесть восьмых. Четвертый акт, начало – шесть восьмых; подали обед – четыре четверти; пришел швейцар – опять впадает в шесть восьмых и так до конца.
– Но ведь это музыкальные термины, Владимир Иванович?
– Это – вздох! – ответил Немирович-Данченко.
– Тогда, значит, вы ставите пьесы, как музыкальные произведения?
– Пьесы и есть музыкальные произведения, мой друг, – продолжал Немирович-Данченко, – и это, к сожалению, мало кто понимает. Об этом смутно догадывался Кугель, великий театральный критик. Я подчеркиваю слово: великий. Потому что это у нас – единственный великий критик. Но, к сожалению, он нас не любит. Из-за упрямства характера.
Немирович-Данченко спрятал книжечку в карман.
– Вот вам, второму человеку, показываю эту книжку, мое святое святых. И знаете, почему я показал вам эту книжку?
– Почему?
– Чтобы вы поняли, что можно заново поставить «Трех Сестер», во-первых…
– А во-вторых?..
– А во-вторых, чтобы вы поняли, почему Чехов имеет успех только в Московском Художественном Театре. Когда в Петербургском Александринском Театре ставили «Вишневый Сад», – нарочно поехал посмотреть. Боже мой! Семенова-Пищика играл Варламов, – подумать только! Ну что перед ним наш Грибунин? Букашка! Вся Александринская гвардия была мобилизована, а успеха нет и нет. Сижу в третьем ряду и тайно смеюсь. И думаю словами Фирса: «секрет забыли».
После третьего акта иду на сцену, – ну, конечно, актеры окружили, волнуются, спрашивают: «ну что? ну как?» «Отлично, – говорю, – составчик такой, что мурашки по спине ползут». Но актеры народ тонкий, нутром чувствуют и говорят:
– Но успеха нет.
– Отвечаю: «секрет забыли».
– Какой секрет?
– Фирсовский, говорю, о том, как прежде солили вишню. Никто ничего не понял, пожали плечами.
– Но, Владимир Иванович, если не ошибаюсь, «Вишневый сад» был поставлен Станиславским?
– Да, им. Но Станиславский в нашем театре всегда был Гаевым, а я при нем Фирсом. Я ему и платочек, когда надо, подам, и спатеньки уложу, и брючки почищу, – такая уж моя служба была. Ничего не попишешь: все делал для Театра. Вот, например, роль доктора Штокмана… Кто ее делал? Фирс! Это вам всякий скажет в нашем Театре.
И Немирович-Данченко задумался. После длинной паузы сказал:
– Вот только не знаю, как быть с актерами в «Трех сестрах», Тузенбах, например?
– Хмелев, – дерзнул подсказать я.
– Пожалуй. А Соленый?
– Ливанов.
– Пожалуй.
И опять пауза.
– Чувствую в воздухе войну, – вдруг неожиданно сказал Немирович-Данченко, – кровью в воздухе пахнет. Но, может быть, я умру, тогда запомните: победит Россия!
– Владимир Иванович! Недаром на Капустниках вы всегда дирижировали оркестром. И недаром ваша «Карменсита» – гениальная постановка. Ах, какие я тогда лапти сплел!
– Какие лапти?
– Да вот во время гастролей Музыкальной Студии в Нью-Йорке.
– Что именно?
– Надо было начать «Карменситой», а я начал «Лизистратой».
Немирович-Данченко закурил русскую папиросу с картонным мундштуком и долго молчал. Потом ответил:
– Как вам сказать, дорогой мой? Вы сыграли, может быть, инстинктивно, но правильно.
Слова «сыграли правильно» в устах старого игрока, – это было лестно и для слуха ласкательно.
– Можно проигрывать все сражения, кроме последнего. Как у англичан, мой друг. Вы как раз выиграли последнее сражение. Что и требовалось доказать. Должен признаться, – суеверие старого игрока – я всегда думал и думаю, что вы везучий. Ах, какой везучий!
И с невыразимой сладостью закончил, прищурив глаза, как кот:
– «Тройка, семерка, туз!»
И это были последние слова, которые я от него слышал.
* * *
Началась страшная война. Мы были разъединены с Владимиром Ивановичем, и, к моему великому горю, навсегда.
Однажды ночью, сидя у радио и слушая передачу из Москвы, я услышал следующее сообщение:
«Сегодня праздновалось сорокалетие со дня основания Московского Художественного Театра», и дальше шли подробности: «имени Максима Горького, ордена Ленина» и тому подобное, все, что полагалось. – «Шли „Три сестры“ в постановке Немировича-Данченко. Пьеса пленила своей новизной и свежестью. Великолепным Тузенбахом был Хмелев».
У меня что-то оборвалось в душе. Мне показалось, что где-то там, в далекой Москве, была и моего капля меду…
Часть вторая
Мамонт Дальский
«Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог».
ДержавинИмператорский Александринский Театр.
Час дня.
Громадная четырех-ярусная зала погружена во тьму.
Освещена, да и то слабовато, только сцена.
Идет репетиция. Актеры уже устали и думают о борще.
Но вот последние реплики, и можно сматывать удочки.
Не тут-то было.
Совершенно неожиданно из боковой кулисы выходит длиннобородый главный режиссер Е. П. Карпов. И просит господ артистов задержаться еще на пять минут: он имеет сделать сообщение от имени Его Сиятельства, князя Сергея Михайловича Волконского, директора Императорских Театров.
Актеры замерли на своих местах – помилуйте! голос с Синая.
Е. П. Карпов, бывший народоволец, потом быстро поправевший. Не очень талантливый человек, он умел каким-то способом быть всегда на командных высотах, то в Театре Александринском, то у Суворина, то в других не менее значительных местах.
Тихий, покорный, елейный, но в душе – гордость дьявольская, злоба сатанинская. Актеры знают ему цену, но властям предержащим повинуются. Ничего не пропишешь – иерархия.
Карпов стал у суфлерской будки, нацепил на нос очки, достал из внутреннего кармана по-казенному сложенную бумагу. И многозначительно провозгласил:
– От господина Директора Императорских Театров.
Актеры благоговейно склонили головы.
И Карпов начал:
– Господин Директор Императорских Театров, князь Волконский, получил на днях от артиста Императорских Театров М. В. Дальского докладную записку о том, каков должен быть репертуар Императорского Александринского Театра при наличии его, единственного трагического актера в труппе. Писание таких записок не согласуется с обязанностями артиста Императорских Театров. Дирекция Императорских Театров сама знает свои обязанности и поступает по всей мере прав, вверенных ей Его Императорским Величеством. Полагая такое поведение артиста Дальского нарушением законной дисциплины, – Директор Императорских Театров, камергер Двора Его Величества, князь Сергей Михайлович Волконский, делает артисту Мамонту Дальскому соответствующее замечание.
Карпов прочитал свое сообщение и, поверх очков, посмотрел на смущенных актеров, отыскивая преступника Дальского.
Преступник стоял на заднем плане, опершись локтем на бутафорское пианино.
– Это все? – спросил преступник.
– Пока все, – ответил елейно Карпов.
– Тогда передайте Его Сиятельству, Господину Директору Императорских Театров, камергеру Двора Его Величества, князю Волконскому, что он – потрясающий болван! Шубу!!..
Лакей подал николаевскую шинель и бобровую шапку.
Дальский отдал по-военному честь и сказал актерам:
– Честь имею кланяться, товарищи.
И торжественно, по-барски, вышел.
Извозчик подвез его к «Палэ-Ройалю».
«Палэ-Ройаль»… Это был огромный меблированный дом не первого разряда на Пушкинской улице, в котором проживала петербургская богема всех цветов и оттенков. Актеры, писатели, музыканты, газетчики, какие-то милые, но погибшие создания. Было во всем этом что-то от Ноева ковчега, еще не пришедшего на Арарат.
Дальский поднялся в свою комнату. В комнате сидел какой-то долговязый молодой человек и прилежно переписывал ноты. При входе Дальского он почтительно вскочил и начал помогать ему освободиться от тяжелой шинели.
– Репетиция кончилась, Мамонт Викторович? – спросил долговязый.
– Кончилась, дорогой мой, кончилась. И репетиция кончилась, и еще кое-что кончилось, и многое кончилось.
Дальский продолжал раздеваться и скоро остался в чем мать родила. Потом завалился на кровать и, утомленно закрыв глаза, буркнул долговязому:
– Пой «Лучинушку»!
Долговязый подсел к пианино, взял несколько минорных аккордов и запел.
– Пой с чувством, с толком, с расстановкой…
И в номере зазвучал голос неслыханной красоты: полу-бас, полу-баритон. В коридоре начали растворяться двери, и жильцы всех званий и всех категорий сгрудились у номера Дальского. Долговязый, действительно, пел с чувством, с толком, с расстановкой. У него были такие пианиссимо, что сердце сжималось. Дальский украдкой стыдливо смахнул слезу и сам себе сказал из «Гейши»:
– «Прослезился тут даже Том Жакки…»
Певец, сам взволнованный гениальной песней, кончил и дал последний аккорд.
В коридоре раздались аплодисменты и восторженные крики:
– Браво! Бис! Еще, еще!
– А рожна не хотите? – крикнул им Дальский. – Платите за вход, чорт возьми! Даром только птички поют.
И потом сказал долговязому:
– Если бы ты, сукин сын, умел дышать на сцене, то покорил бы весь мир от запада до востока. Ты слышишь, что делается в коридоре? Это – твоя судьба, брат! И знай, что это говорит тебе сам Мамонт Дальский, который зря на ветер слов не бросает. Каждое слово Мамонта Дальского – пуд. Иди, нагнись, я тебя поцелую. Поцелуй Мамонта Дальского – это благословение судьбы, брат. Экой ты длинный!
– У меня шея длинная, Мамонт Викторович.
– Да, шейка ничего себе. Вешать за такие шеи хорошо… Удобно. Ну и вот, слушай меня внимательно: певцов хороших на сцене не мало, но вот артистов, актеров – раз-два и обчелся. У нас вот есть один только – Фигнер, да и то слабизна. И голоса совсем уже нету. А если тебе дать актерскую суть, то ты весь мир раскачаешь. И судьба благосклонна к тебе: она с первых твоих младенческих шагов ставит тебя на путях Мамонта Дальского – самого Мамонта Дальского, самого Дальского, единого нашего настоящего трагического актера! Лучшее украшение нашего Александринского Театра и вообще всей Российской сцены! На него там не надышатся, им там восхищаются, ценят, уважают! и о, люди – порождение крокодилов!.. на свете, друг мой Фридрих, есть многое такое, что и тебе даже, ишаку, не снилось! Да-с!
– Да я потому и прибиваюсь к вам, Мамонт Викторович.
– Ах, только потому?
И Дальский вдруг вскипел.
– Ах, только потому? Значит, ты только пользы от меня ждешь? Чтобы я тебя, сукина сына, ремеслу выучил? А потом ты мне на хвост наплюешь? Самого меня, Мамонта Дальского, не любишь? Я для тебя хурма японская? Скот! Дурак! Пошел вон!
– Мамонт Викторович, вы не так меня поняли…
– Скажите, пожалуйста, я не так его понял! Шекспира понимаю, Шиллера понимаю, а тебя, осла, не понимаю. Пошел вон!
– Я не то хотел сказать, Мамонт Викторович.
– Я знаю, что ты хотел сказать. Я и не таких еще, как ты, раскусывал.
– Простите, Мамонт Викторович.
– То-то, простите… Лети сейчас на Невский и купи три пары молочных сосисок. И полбутылки нежинской!
– У меня мелочишки нет, Мамонт Викторович. Мелочишки нет, и разменять нечего, так что ли?
И Дальский вдруг раскатисто рассмеялся. Долговязый вздохнул с облегчением.
– Возьми вон там, в жилетном кармане.
Долговязый поднес ему жилет.
– Достаньте сами, Мамонт Викторович.
– А сам почему не берешь?
– Неловко как-то, Мамонт Викторович.
– Бери, бери, не ломайся. Ты – великий артист и другого великого артиста обворовывать не станешь. А потом поедим, выпьем и пройдем из «Бориса». Коронацию! А теперь пулей лети. Жрать захотелось.
Долговязый вылетел пулей, счастливый и радостный – гроза прошла.
Имя долговязого было: Федор Иванович Шаляпин.
Через четверть часа сосиски грелись на спиртовке и на столе аппетитно красовалась, в форме Эйфелевой башни, розовая, прозрачная рябиновка.
– Я, Мамонт Викторович, еще у Филиппова пять пирожков прихватил. Ваши любимые, с капусткой. Только что из печки вынули…
– Молодец! Открой рябину-матушку.
Долговязый, с ученым видом знатока, хватил ладонью по дну бутылки, и пробка как-то радостно вылетела.
Дальский приложил горлышко ко рту, выцедил половину и сказал:
– «Выпьем с горя… Где же кружка?»
– Мы по-военному, Мамонт Викторович.
– Давай пирог скорее.
Шаляпин подал промасленный мешочек с пирожками. Мамонт перекусил один и с наслаждением зажевал.
– Говорят – я алкоголик. Вздор какой! Алкоголик не закусывает. Алкоголик понюхает корочку хлеба и делу конец. А мне жрать, жрать давай! Сосиски давай, дьявол!
Шаляпин вынул дымящуюся сосиску и подал. Достал с окна горчицу.
– А ты чего не выпьешь?
– Жду вашего разрешения, Мамонт Викторович.
– Какой дурак!
Шаляпин нацелился было на горлышко, но Дальский крикнул:
– Не смей из горлышка! Возьми рюмку!
Шаляпин взял рюмку.
– Ну, вот то-то. Ты не обижайся, Фридрих, я не совсем в себе…
Еда кончилась.
– Как же насчет выхода, Мамонт Викторович?
– Насчет выхода? Вон – ширма. Это – собор. Там тебя великий патриарх только что повенчал на царство, на российское царство – понимаешь? Теперь ты, внутренне взволнованный, а снаружи спокойный, выходишь к народу. Тут тебе орут славу, звонят колокола и тому подобное. А ты в ответ: «Скорбит душа…»
Шаляпин пошел за ширму и вскоре вышел оттуда в царской позе.
– А где же посох?
– Посоха нет, Мамонт Викторович.
– А ты сделай так, чтобы я видел его в твоей руке. Это же и есть актерское искусство. Вали снова.
Шаляпин снова вышел из-за ширмы, протянув руку, как бы с посохом.
– Это, брат, ты не посох держишь, а селедку за хвост. Дай мне купальный халат.
Через секунду из-за ширмы выходит Дальский. И Шаляпин побледнел. Действительно, в правой руке, пустой – был посох. Чудо! Казалось, что даже было слышно, как он постукивает.
– В чем дело, Мамонт Викторович? Как это вы?
– А это очень просто. Секрет такой есть.
– Откройте, Мамонт Викторович.
– А, брат, нет. За открой деньги платят.
– Я бы заплатил. Не сейчас, – так позже.
– Это ты-то заплатишь? Нет, брат, чего-чего, а платежей я от тебя не жду.
– Помилуйте, Мамонт Викторович.
– «С тех пор, как вечный судия мне дал всеведенье пророка», – продекламировал Дальский, – а у меня оно есть, это всеведенье пророка. Это и есть то, что люди называют талантом, гением. Это – всеведенье. Я не только вижу тебя, но и на семь аршин под тобой вижу. От тебя ничего не жди. Ты будешь великим артистом, но в глазищах у тебя блеснет иногда такой стальной неумолимый отблеск, что мне жутко делается. Ты из того теста, из которого Гарпагоны делаются. Если я в старости, больной и дряхлый, приду к тебе, то ты пошлешь меня на кухню и велишь дать рюмку водки и кусочек колбасы. И, может быть, еще пятачок деньгами. И потом скажешь: никогда больше старика этого не принимать. В три шеи его по лестнице. Да, да. Я не ошибаюсь, брат. Твое счастье будет только в том, что Мамонт Дальский к тебе никогда не придет. Мамонт Дальский-Неелов, из хорошего и благородного дворянского рода. А ты – хам, дорогой мой. Ты вот все ластишься ко мне. А почему? Потому что ты умен в какой-то мере и понимаешь, что я тебе нужен Я тебя человеком могу сделать, развить, научить, потому что там, где Дальский, там настоящий театр. Вот и с посохом. Весь секрет – в пальцах. Ты их вот так растопырил, а их нужно сжать, чтобы из ладони кровь брызнула! Понял?
– Понял, Мамонт Викторович.
– Иди на выход.
Шаляпин опять скрылся за ширмой и вдруг вышел оттуда другим человеком: встревоженным, беспокойным – готовым идти на все.
– Посох! Посох! – кричал Дальский.
И ногти Шаляпина впились в ладонь.
* * *
– Ну, вот, это другое дело. Стучи посохом по полу.
И Шаляпин отсутствующим посохом начал стучать по полу.
– Вот теперь слышу. Скажи спасибо, сукин сын.
– Спасибо, Мамонт Викторович. Век не забуду.
– Ну, это ты своей бабушке обещай. А теперь переключайся из царя в бедного поэта и пой: «Глядя на луч…»
Шаляпин сделал какой-то жест и вдруг предстал бедным молодым человеком, может быть сыном Макара Девушкина из Достоевского.
И опять по пыльным коридорам «Палэ-Ройаля» понеслось:
– «Глядя на луч пурпурного заката…»
И опять под дверью послышалась взволнованная мышья суетня… Опять слушатели…
Старинный русский романс зазвучал такой болью, что у Дальского глаза налились слезами. Он слушал, сжавшись, и только движением губ повторял избитые, запетые, но трогательные слова.
– Тут ты велик, сукин сын. Тут ты – Казбек, Шат-Гора! Слышишь, что делается под дверью?
– Бесплатно слушают, Мамонт Викторович.
– А ты возьми шапку и поди собери. Три копейки соберешь…
– Это-то и печально, Мамонт Викторович.
– Первый раз такую жадюгу встречаю в искусстве… Когда-нибудь спой Гаспара в «Корневильских Колоколах». А пока дай рябиновую. Выпьем с горя. Где же кружка?
– С какого горя вам-то пить, Мамонт Викторович?
– Есть горе, брат Федя. Сегодня моя жизнь сломилась вот так, пополам, как карандаш…
Федя сел против него, и оба они начали есть молочные сосиски, которые в кипятке треснули вдоль шкурки.
Потом Дальский сказал «елки-палки», повернулся к стене и мгновенно, мертвецким сном, заснул.
Шаляпин встал и на цыпочках начал наводить порядок в комнате.
Дальский происходил из старой русской семьи Нееловых. Отец был предводителем дворянства, никакого отношения к искусству не имел, весь род с честью служил в гвардии, но все дети его ушли в театр. Это такая же загадка, как рождение Чайковского в семье, в которой ни один человек не имел музыкального слуха.
Их было четыре брата актера: Мамонт Дальский, Сергей Ланской, Виктор Рамазанов и Григорий, кажется, Мерцалов. Их так и называли – «братья-разбойники». Сестра их Маргарита Дальская тоже довольно известная актриса, еще более известная тем, что сильно помогла одному из семьи миллионеров Стахеевых как можно быстрее растратить его богатство.
…Мамонт был великий артист не только в российском масштабе, но и в мировом. В эпоху, о которой идет речь, не было такого артиста, разве только величайший итальянский трагик Эрнесто Новелли мог отчасти с ним сравниться. В расцвете таланта Дальский и в Париже, и в Лондоне, и в Берлине затмил бы и Росси, и Сальвини, и Барная, и Поссарта. Но мешало одно – Европа не знала «скифского», непонятного ей языка. Какой это был «Отелло», «Гамлет», «Кин», «Уриель-Акоста», маркиз Поза в «Дон-Карлосе».
Вдохновенный и благородный, призывающий к «свободе мысли»; призывающий с невероятной страстью, с глубокой верой и так, что весь театр был зачарован и потрясен: в эти минуты у зрителя останавливалось дыхание и сжималось сердце.
И часто спрашиваешь себя, как мог этот не перегруженный высокой моралью Дальский, лишенный понятия чести и порядочности – как он мог найти в себе чувства благородства, искренности и душевной чистоты? Сила таланта? Дар Божий?
Такого Рогожина в «Идиоте» никто никогда и нигде не видал.
Я возил его по России много раз, знал наизусть каждое его движение, каждый жест и, тем не менее, бросал все дела, самые срочные, чтобы посмотреть, как в «Женитьбе Белугина», такой трогательный и простодушный, он подойдет к окну и скажет:
– Серый, Серый… Куда ты повезешь меня теперь?
Прошли большие десятилетия, но эти слова, но голос Дальского и сейчас звучит в ушах.
… – А это что? – спрашивает Настасья Филипповна.
– Сто тысяч-с, – как-то особенно непередаваемо отвечает Рогожин-Дальский, пятясь к двери спиной.
Однажды в Петербург приехал Сальвини и объявил «Отелло». Дальский тоже объявил «Отелло», но начальство не позволило ему сыграть эту пьесу.
…В чем было горе Дальского?
У него не было личного обаяния.
Его, как человека, никто не любил. Не выносила Савина, не любил Карпов, не любил директор.
Смотрели, восторгались, но когда опускался занавес, в сердце снова проникало равнодушие, отталкивание.
В жизни Дальский был нагл, невероятно нагл. У него не было ничего святого. В его существе сидел какой-то дьявол, ни на минуту его не покидавший. Он был обуян страстью к карточной игре, мог играть днями и ночами.
Во время поездок с ним очень часто случалось, что я не мог оторвать его от карточного стола в то время, когда уже приближался час спектакля.
– Какой сбор? – спрашивает Дальский.
– Такой-то.
– А ну его к чортовой матери! Не хочу сегодня играть.
И спектакль отменяли. Надо сказать правду, что когда он выигрывал, то покрывал все убытки.
…В начале первой мировой войны он сочинил пьесу «Позор Германии» и пошел с нею к старику Суворину, который обладал незаурядным нюхом и считался первым театроведом.
А. С. Суворин, директор и хозяин большого петербургского Малого Театра, собрал свой комитет, и Дальский прочитал пьесу.
Суворин, что называется, разинул рот.
– Нечто шекспировское! – сказал он, и пьеса единогласно была принята к постановке.
Но, когда она была поставлена и когда ее начали читать обыкновенные актеры, то выяснилось, что пьеса совсем не шекспировская, а довольно обычная, среднего сорта, театральная стряпня. Благодаря своей злободневности, пьеса, однако, имела успех. Театр не проиграл, но старик Суворин, как знаток и ценитель, был посрамлен зело и долго не мог забыть этого «пассажа».
Как ни странно, Дальский, при всей своей высокой и исключительной одаренности, не имел успеха материального и сборов в провинции не делал.
Возил я его много раз, но и до сих пор не могу уяснить себе равнодушия публики.
В театральном успехе и неуспехе есть что-то таинственное и никакому учету не поддающееся. Вы прочли пьесу: она вас захватила, актеров захватила, они срепетировали ее с энтузиазмом, сыграли с нервом и трепетом, но… через рампу пьеса не перелетела, и после шести-семи представлений вы поставлены в необходимость снять ее с афиши.
«Платящая свинья», как вульгарно называют во Франции публику, не желает на нее расходоваться.
Да и самые афиши бывают намагниченные и размагниченные – и тайна сия велика и не понятна есть.
В. И. Немирович-Данченко, великий чудодей, рассказывал мне как-то, в дружественной и доверительной беседе, сколько ночей он не спал, создавая для Художественного Театра образец афиши.
Все это, кажется, так просто: афиша, как афиша. Увы! – это далеко не так. Каждая строка обдуманна, каждый шрифт обдуман и, особенно, размер афиши имеет громадное значение. Большая простыня никого и ни в чем не убеждает. Но есть какой-то размер, который вас, прохожего, останавливает и начинает интересовать.
– Самая важная строка в афише, – говорил Немирович, – вот эта.
И он показывал на строчку, набранную самым скромным шрифтом:
– Все билеты проданы.
* * *
По уходе из Императорских Театров Дальский имел вид затравленного зверя.
Во время русско-японской войны он, совершенно неожиданно, бросился на Дальний Восток, занимался там какими-то темными коммерческими делами; нажил сотни тысяч рублей и, вернувшись в Петербург, в две ночи проиграл их в каком-то подозрительном клубе.
И потянулись опять тяжелые и утомительные дни гастрольных скитаний, в которых уже не было подлинного артистического содержания, а только одно стремление: «зашибить копейку» на хлеб насущный; не было уже стремления к созданию новых ролей, а только – повторение старых азов, может быть и блестящих, но, как все блестящее, потускневших от беспощадного времени.
Это была агония великого таланта, данного человеку необузданному, дерзкому, грубому, неуживчивому и больному.
Эпопея Дальского кончилась в начале революции; он сильно «сдал», постарел, лицо стало бульдожьим, и остались только глаза, вечно горящие, большие и неправдоподобно выразительные.
В непослушной шевелюре появилось много серебряных нитей, которые он аккуратно темнил, приговаривая:
– Сначала они меня красили, а теперь я их крашу…
Вероятно, с отчаяния он объявил себя анархистом, сошелся с каким-то Ге, и они, в качестве анархистов, подвизались в Москве, в самую смутную пору русской революции.
Что они собственно вытворяли, эти бутафорские анархисты, остается неизвестным.
Жил Дальский тогда на Большой Дмитровке, в роскошной и, конечно, реквизированной квартире со своей дочерью Верой, матерью которой была прибалтийская графиня Стенбок-Фермор.
Конец его был так же нелеп, как и большая часть его жизни: русский Кин погиб под колесами московского трамвая, в котором Дальский никогда не ездил, избегая его и боясь.
Когда я узнал об этой бессмысленной гибели, то невольно вспомнил слова Стасова:
– Когда Дальский играет Рогожина, тень Достоевского присутствует в театре.
Может быть, и при кончине Дальского великая тень была где-то по близости и в смертный час раскрыла ему свои отцовские объятия.
Никто другой не мог бы понять и успокоить эту смутную, мятущуюся, одаренную русскую душу.
В. Ф. Комиссаржевская
«Я помню чудное мгновенье, —
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье…»
ПушкинТаким мимолетным виденьем Русского Театра была Вера Федоровна Комиссаржевская.
Родилась она в 1864 году, умерла в 1910. Значит, жития ее земного было всего 46 лет. У нее было бестелесное лицо, что-то не от мира сего.
Увидев его раз, вы уже никогда не могли забыть это лицо.
Если бы она в свое время жила в Италии, ее ни на шаг от себя не отпустил бы Корреджио: она была бы его самой любимой, самой волнующей моделью.
В орбиту Врубеля, с его даром потустороннего видения, Комиссаржевская, к сожалению, не попала.
Как пришла она в театр?
Совершенно случайно. После банальной семейной истории, которая приключилась у нее с мужем. После психиатрической больницы, куда ее доставили, уже всю изрезанную петербургскими хирургами.
В этих случаях женщины обыкновенно уходят в монастырь.
Комиссаржевская ушла в театр. И я думаю, что у монастыря с театром есть что-то общее – есть какое-то определенное отречение от самого себя. Уход от мира. Есть свое посвящение, принятие своеобразной и очень трудной схимы.
Она пошла в Театр, как утопающий, который плывет к маяку, ибо – там спасение.
Ее театральным восприемником был знаменитый актер И. П. Киселевский.
Странно, но это нужно отметить, что В. Н. Давыдов не почувствовал в Коммиссаржевской ее огромного дарования и дал о ней отрицательный отзыв.
Но Киселевский привел ее к Николаю Николаевичу Синельникову, на которого она произвела огромное впечатление как актриса. Синельников, очень редко выступавший на сцене, стал играть с ней водевили: «Школьная пара», «Роковой дебют», «Волшебный вальс».
Это было в 1893 году.
Опытный и чуткий актер разгадал ее сердечную драму и стал, как ребенка, развлекать смешными пустячками, чтобы отвлечь от черных мыслей.
В какой-то мере это произвело на Комиссаржевскую целительное действие. Она стала оживать, стала забывать свои душевные потрясения, стала возвращаться к жизни.
Синельников, быстро разгадав ее театральные возможности, предписал ей, как самый опытный врач, своеобразный режим и только потом допустил к общему столу: дал сыграть Лизу в «Горе от ума» и Бетси в «Плодах Просвещения». И это было не только умно, но и глубоко человечно, и об этом кто-нибудь когда-нибудь расскажет подробнее. И, быть может, это будет самая блестящая страница в богатейшей биографии Синельникова.
Сравнительно успокоившаяся от своих душевных переживаний, она от Синельникова перешла к Незлобину в Вильно. И здесь определенно проявила качества большой артистки. Это уже были годы 1894–1896.
Здесь она впервые сыграла свою будущую коронную роль – Ларисы в «Бесприданнице» Островского. И потом, всю жизнь, эту роль она играла буквально кровью сердца своего, доходя до высот поистине гениальных.
Иногда я осмеливаюсь думать, что Лариса Комиссаржевской была выше Ларисы Островского, который и сам, пожалуй, не докопался до ее предельной глубины.
Во всяком случае, Лариса Комиссаржевской осталась незабываемым вкладом в русском искусстве.
И, если бы она за всю свою восемнадцатилетнюю карьеру, сыграла бы одну эту роль, то и тогда ее имя осталось бы в анналах Русского Театра, как имя величайшей актрисы, как у Ермоловой – Орлеанская дева, у Дальского – Рогожин, у Давыдова – Городничий, у Ленского – епископ Никлас, у Стрепетовой – Катерина, у Рощина-Инсарова – Чацкий, у Варламова – Ахов, у Станиславского – Сатин.
А так как Императорская сцена пристально следила за провинцией, то, при первом же удобном случае, а именно в 1896 году, она ангажировала Комиссаржевскую к себе. И Комиссаржевская оставалась там до 1902 года.
Но тут уже не было теплой семьи Синельникова или добродушного толстяка Незлобина. Здесь, как говорит Царь Давид, «было море великое и пространное, в нем же гади, им же несть числа». Я иногда думаю, уж не писал ли А. П. Чехов свою Нину Заречную с Комиссаржевской? Именно Ниной Заречной она и была, пока Синельников не взял ее в свою новочеркасскую клинику.
И странная игра судьбы – именно с Комиссаржевской в роли Нины Заречной «Чайка» глупо и грубо провалилась на сцене петербургского образцового Театра.
Этот провал глубоко ранил автора, только начавшего подходить к русскому театру, чтобы впоследствии сделаться его реформатором. От этого глубокого удара его излечил потом Московский Художественный Театр. Так Коммиссаржевскую выручили «Огни Ивановой Ночи» Зудермана, в которой она играла Марикку.
– Ты мне делаешь больно, Марикка…
И кто может забыть, раз он его слышал, трепещущий ответ Марикки-Коммиссаржевской:
– «А разве ты мне не делаешь больно?»
Это шло из тех просыпавшихся глубин раненой души, которых до конца не мог залечить Н. Н. Синельников… Это навеки осталось, и это не уйдет, может быть, и по ту сторону…
И вот тут «море великое» Александринского Театра встрепенулось и «разыгрался грозный вал», как в «Рогнеде»: Комиссаржевскую стали «заедать» по всем правилам этого сложного искусства.
Что могла сделать эта маленькая женщина с бестелесным лицом? Эта Нина Заречная? Взяла свой гримировальный чемоданчик и ушла с казенного порога. Куда?
Куда поведут глаза-маяки.
…В Александринском Театре Комиссаржевская сыграла пьесы: «Бой Бабочек», «Нору», «Чайку», «У Царских врат», «Гибель Содома», «Родину», «Дикарку», «Бесприданницу», «Снегурочку», «Волшебную Сказку», «Огни Ивановой ночи».
Комиссаржевскую стали называть в обществе «белой чайкой» и стали связывать с ней символ предвестницы грядущей бури, которая вот-вот должна всколыхнуть могильную тишину русской действительности.
С 1902–1904 года Комиссаржевская бродит по огромной стране с «собственной» труппой, чтобы сколотить нужные средства для открытия собственного Театра, своего и по духу, и по стремлениям.
И осенью 1904 года она – уже в собственном Театре в петербургском Пассаже.
«Авдотьина жизнь» Найденова, «Дети Солнца» Горького, «Иван Мироныч» Чирикова, «Весенний Поток» Косоротова, «Дачники» Горького, «Дядя Ваня» Чехова.
Театр в Пассаже имел успех, который мог бы длиться бесконечно, но тут из театрального моря, «великого и пространного», выплыл такой змий-искуситель, как В. Э. Мейерхольд.
«Блажен, кто свой челнок привяжет К корме большого корабля…»На беду Коммиссаржевской, Мейерхольд понял, что она – большой корабль.
Самым главным притягательным свойством в Комиссаржевской было, конечно то, что она может делать деньги. Деньги же были нужны для производства лабораторно-театральных опытов, к которым большая публика относилась, как к театральной чепухе.
Мейерхольд был влюблен в Commedia dell Arte. Он был влюблен в 18-й век, в старую театральную Венецию и, специально – в театр Карло Гоцци.
Разумеется, по идее, все это было очень интересно. Мейерхольд собрал вокруг себя с полсотни фанатических девиц и юношей, жаждущих театрального «посвящения». Девиц этих звали в Петербурге «девами со светильниками», а сам Мейерхольд принял титул «доктора Дапертутто», – имя одного из героев Гоцци.
Кружок этот стал издавать маленький театральный журнальчик под названием: «Любовь к трем апельсинам» (название одной из пьес Гоцци).
Доктор Дапертутто забрал в свою далеко не итальянскую, а твердо-немецкую голову намерение воскресить Commedia dell Arte и, действительно, воскресил, и публика валом валила на эти спектакли, но при обязательном условии – бесплатно.
Доктор Дапертутто, при всей своей настойчивости, не мог все-таки сотворить чуда: населить зрительный зал тоже итальянцами, и той же, Карло Гоцци, эпохи. В зрительной зале бесплатно сидели скифы двадцатого века и дапертуттовская Commedia dell Arte наводила на них зевоту и желание уйти в буфет.
Дело в том, что все пьесы, в конце концов, создававшиеся в Commedia dell Arte, были записаны, собраны и вошли в известный сборник Эвариста Герарди, каковой в издании 1646 года я и до сих пор храню в своем библиотечном шкафу.
«Арлекин – император луны», «Коломбина – адвокат за и против», «Комическое золотое руно» и тому подобное, – все это когда-то, триста лет тому назад, может быть, как-то и звучало под итальянским синим небом, на фоне шестимесячного карнавала, перед партером, преисполненным восприятия, очень далекого от нашего… Но в Петербурге это было неинтересной смесью французского с нижегородским, итальянского с калужским и вызывало только впечатление скуки и неловкости.
Девы в длинных туниках томно ходили со светильниками, но рта открыть не могли. И знаменитых итальянских импровизаций что-то не было слышно и из уст самого доктора.
Доктор, как он и сам впоследствии признавался, «обчитался книгами», немецкий мозг варил усердно и упрямо, но перспектив не замечал, и девицы начали подумывать о замужестве в Херсонской губернии.
Дапертутто продолжал свои искания и после революции и, в конце концов, так надоел большевикам, что они, по своей прямолинейности, загнали его в Сибирь за великое преступление – «затемнение народного самосознания».
Там он и погиб. А из девиц со светильниками сделали доярок.
Но доктора Дапертутто, по человечеству, все-таки жаль. Несмотря на все, был он человеком своеобразным: своими пустяками он как-то оттенял достоинства настоящего Театра, животворного и дышащего, и его пламенность, как и всякая пламенность, была порой интересна и заслуживала иного эпилога, а не сибирского поселения.
И вот этот полусумасшедший Дапертутто сумел подойти к такой большой актрисе, как Комиссаржевская. И уговорил ее вручить ему свою судьбу, славу и огромный талант.
И, еще раз, повторилась история Трильби и Свенгали.
…С осени 1906 года в театре на Офицерской улице Мейерхольд начал свои никому ненужные эксперименты. Публика шла на первые представления, – все остальные проходили при пустом зале.
Для Комиссаржевской это был третий удар: первый был нанесен мужем, второй – Александринским Театром, третий – Мейерхольдом.
В этот злосчастный период шли: «Гедда Габлер» Ибсена, «Сестра Беатриса» Метерлинка, «Балаганчик» Блока, «Жизнь Человека», «Черные Маски» Андреева и «У Царских врат» Гамсуна.
И, конце концов, Комиссаржевская была разорена и нравственно и материально. Написала на прощание Мейерхольду:
«По этому пути вместе идти не можем. Путь этот – ваш, а не мой».
И из Петербурга пришлось бежать.
Куда? Конечно, на провинциальные гастроли. Опять строить карточный домик.
Была собрана труппа, и поехали в Среднюю Азию.
И где-то в Ташкенте Вера Федоровна Комиссаржевская заразилась оспой и в жестоких страданиях скончалась.
…Кто, хоть раз услышав, может забыть ее обольстительный, грудной, пронзавший сердца, голос?
Александр Блок пропел ей последнюю песню:
«Так спи, измученная славой, Любовью, жизнью, клеветой, — Теперь ты с нею, с величавой, С несбыточной твоей мечтой…»«Бесприданницу» можно было изъять из русского репертуара: Лариса умерла.
Могила ее находится в Петербурге, в Александро-Невской Лавре.
«Придите к ней вы с белыми цветами К могиле наших грез и лучезарных снов…»Так призывал поэт.
К. А. Варламов
«Я знал его, друг Горацио.
Какой это был весельчак!»
«Гамлет» Шекспира
– Варламов!
Самое удивительное явление на мировой сцене.
– Волшебник Театра!
Какая бы плохенькая пьеса ни шла, но раз в ней занят Варламов, все начинало блестеть и сверкать: и текст, и партнеры, и декорации, и души зрителей.
Актер великой щепкинской школы…
По своей профессии, перевидал я почти всех европейских корифеев. Видел я их и в русских пьесах: большей частью это была великая жалость и непонимание.
А когда Варламов играл Сганареля, то Comedie Frangaise могла бы принять его с горячо распростертыми объятиями, как актера, который только и знал в жизни, что Мольера.
В этой роли он был уже актер французский, чистой воды, продолжатель мольеровских традиций, и с таким пониманием их сущности, что приходилось в недоумении разводить руками:
– Откуда? Из каких источников? Какими судьбами?
Варламов никогда не был заграницей, за исключением Дрездена, где в санатории «Weisser Hirsch» он лечился, называя ее по-своему: «Вейсу Хиршу…»
Варламов никогда не видел ни одного спектакля Comedie Frangaise и вряд ли хорошо был осведомлен об ее существовании.
Он мог знать только Коклэна Старшего по его приездам в Россию.
Сценическому искусству Варламов нигде не учился и сам ни на какое преподавательское искусство не претендовал.
– Да чему я могу учить? – говорил он своим московским говорком, – да я все, что знаю, в полчаса расскажу, и потом бери меня за рупь, за двадцать…
Как любила его вся Россия! Не любила, а обожала.
Были даже такие папиросы под названием: «Дядя Костя».
На портрете на коробочке был изображен толстый бритый человек с удлиненным лицом и немного удивленными, широко открытыми глазами.
Из глаз этих излучалась доброта. И, может быть, это качество инстинктивно людьми чувствовалось и влекло к нему человеческие души. Он был инстинктивно доброжелателен, никогда не вмешивался ни в какие интриги, какими особенно кишел Александринский Театр.
Даже путаный Мейерхольд, человек иной полярности, пользовался его отеческим, снисходительным благоволением.
Варламов добродушно подсмеивался над его вычурами и говорил:
– Все стерелизуешь? Ну, стерилизуй! Тренти-бренти, коза на ленте…
Больше всего на свете Варламов боялся революции.
– Помилуй Бог, – говаривал он, – чины отберут, пенсию отберут…
Был он человеком малообразованным, ничего не читал, кроме «Петербургской Газеты», и по этой газете составлял свое мировоззрение: Бога бойся, Царя чти!
И когда разговаривал по телефону с директором, то кланялся по пояс даже в трубку.
…Летом на даче лежит Варламов в качалке и читает.
– Иди, Костя. Обедать пора.
– Обедать? Сейчас. Только вот страничку дочитаю.
– А что ты читаешь?
– Да вот… как его… роман… очень хороший роман… э-э-э… «Отцы и Дети», роман.
– А чей роман-то?
– Сейчас посмотрю… Тургенева роман. Да, Тургенева… Очень бойко написано.
Учтивость и благожелательность Варламова были легендарны.
За его столом сиживали всяческие люди.
– Что-то, милай, я тебя давно не видел…
А через минуту спрашивает своего соседа:
– Скажи, милай, а кто это собственно будет? Первый раз вижу.
Квартира Варламова представляла собой настоящий музей: золотые электрические звонки, старинные венецианские вазы; кувшины чудесной филигранной работы, осыпанные бирюзой, золотые вышивки на стене. Висели оригиналы Айвазовского, Беггрова, Кондратенко. В красном углу – образа, осыпанные бриллиантами. На столе – золотое перо с рубинами, золотой порт-сигар, сверкающий бриллиантами. В столовой – горка с серебром, массивная серебряная чаша для крюшона, целая коллекция жбанов, кувшинов, солонок, – все подношения бесчисленных поклонников.
Гастроли Варламова были беспроигрышной лотереей.
Куда б его ни привезли – в университетский ли город, или в самую захолустную, забытую Богом, дыру, – все спектакли проходили с аншлагом.
Популярность была сказочная.
Однажды в переполненном поезде он по ошибке сел в какое-то чужое нумерованное купэ. Проверка билетов. Варламова «застукали».
– Ну, сел, потому что не было другого места. Поищи, пожалуйста, что-нибудь. Скажи, что для дяди Кости.
– Для какого дяди Кости?
– Да для меня, милай.
Кондуктор торжественно извлекает из кармана коробку папирос с портретом Варламова и говорит:
– Вы мне очков не втирайте. Вот – дядя Костя.
– А теперь, милай, ты свои очки хорошенько протри и посмотри.
Кондуктор «протер очки» и посмотрел. Боже мой! И в самом деле он. Как живой!.. Дядя Костя…
– Простите меня, дурака, оставайтесь здесь, устраивайтесь, а я уж там за все отругаюсь. Может, кипяточку на чай принести?..
– А что ж? Дело доброе… Притащи, голубчик.
…Постигал он все только интуицией, таинственной, от Бога данной. Это постижение было вне образования, вне учености, вне книг, которыми «обчитался» Мейерхольд. И отсюда – величайшая и единственная свежесть, обаяние, преодоление всех трудностей.
Как известно, у певцов голос «ставят», но есть голоса – от природы поставленные.
Так и в драматическом искусстве: есть таланты, которые «ставят» в специальных школах. Но есть таланты, поставленные от природы. Это, как лебеди, только что вылупившиеся из яйца: их плавать не учат.
И потому Варламов был всюду интересен, он постоянно продолжал сцену, даже за обеденным столом.
Им всегда можно было любоваться. Под разными гримами и в разных костюмах он продолжал давать самого себя, и нельзя было оторвать глаз от этого феномена.
– Откуда это у вас, Константин Александрович?
– И не спрашивай, и не выпытывай. Не знаю, милый, и знать не хочу. Как Бог на душу положит, – так и играю. А откуда, куда – это не нашего ума дело. Бог дал – Бог и взять может. И тогда что? Тряпье… Грош цена! Вот у меня отец очень музыкален был. Теперь-то очень уж все поумнели и романсов его не поют… А в старину-то и сам Михаил Иваныч Глинка любил их певать…
– Времена переменились, дядя Костя.
– Да, конечно… А вот, если бы у меня был голос, как у Давыдова, я бы снова отца на ноги поставил. Ты послушай только: «Не шей ты мне, ма-атушка, красный сарафан… Не входи, родимая, по пусту в изъян…» Ведь это наше, отцово, сколько лет на ногах держится!..
Всю жизнь он хотел сыграть Обломова. Конечно, это была бы его коронная роль. Но ни один драматург не мог одолеть гончаровского текста, перенести его на сцену.
Смерти Варламов не боялся; боялся только умереть внезапно, без покаяния и причастия.
Он глубоко верил в будущую жизнь, а главным образом, мечтал встретиться на том свете с Гоголем.
– Будет о чем поговорить. У меня есть кой-какие соображения насчет Осипа…
Кроме безоговорочного и любовного моего поклонения, привлекал меня Варламов и как несомненный лотерейный выигрыш.
Но, в то же время, я знал, что старик не любит работать с людьми новыми. У него было свое привычное административное окружение, к которому он привык, которому верил и которое входило в его природную обстановку.
Лезть к нему напролом было бы бесцельно. Поэтому я задумал движение обходное.
Решил познакомиться с Н. Н. Ходотовым, артистом Александринского Театра, очень в те времена популярным. В особенности Ходотов был популярен, как эстрадный чтец, исполнитель мелодекламаций, которые писал для него его верный Личарда, пианист Е. В. Вильбушевич.
Ходотова тянуло влево, и в городе его насмешливо называли:
– Социалист Его Величества.
Театральная и вообще придворная бюрократия смотрела на его выступления сквозь пальцы, но старцу Распутину сие не понравилось, и Ходотову пришлось переехать на службу в Киев, к Н. Н. Синельникову.
Но в те времена, когда я с ним познакомился, он был признанным кумиром, особенно у студенческой молодежи.
Каждую неделю у него на квартире собиралась артистическая богема Петербурга. Было много второсортного вина, дешевых закусок, еще более – непринужденного веселья, смеха и пения под гитару.
Ходотов был египетской казнью для своих соседей, но ничего поделать с ним было нельзя: хоть и социалист, но Его Величества. Для полиции это было табу.
Попасть к нему на вечера было нетрудно, попал и я. И быстро сдружился, да на всю жизнь, с этим милым, добрым, талантливым и бесшабашным человеком.
В своих воспоминаниях, вышедших в Ленинграде после его смерти, за несколько лет до войны, – он уделил мне несколько теплых страниц.
…Я пригласил Ходотова в маленькую поездку. Надо сказать, что Александринские первачи очень любили такие вылеты – отдыхали в них от напряженности Императорской сцены. И потом, русская провинция, несмотря на миллионы своих недостатков, была все-таки и живописна, и интересна. Кроме того, как говорят французы, полезно иногда «changer ses idees». Пригласив Ходотова, Кондрата Яковлева, Есипович, Киенского, Лешкова и других, взяв в репертуар «Преступление и Наказание», «Доходное место» – я отправился в Псков и Вильно.
Псков был мне уже известен со своими чиновниками, бравшими билеты по специальным бонам, и с театральным рецензентом, торгующим овсом. Но в Вильне я налетел на необыкновенного полицеймейстера.
Усач, дон-кихотистый, он встретил меня крайне неприветливо. Когда я подал ему афишу для подписи, он, прежде всего, вычеркнул традиционные слова «с дозволения начальства», написанные над нарисованной лирой.
– Глупо, молодой человек, писать подобные вещи! – буквально заревел он. – Глуписсимо!
– Но мы везде так пишем, – робко заметил я.
– Ну, вот и глупо, что вы везде так пишете.
– Но раз так принято…
– Принято! Принято! – орал полицеймейстер, – глупо принято. Надо мозгами шевелить! Ничего нельзя делать без дозволения начальства – вы понимаете? Ни-че-го! Раз афиша висит на заборе, то всякий осел должен понимать, что она висит с дозволения начальства и иначе быть не может! Поняли?
– Понял.
– Ну, вот то-то и оно-то, – угрожающе сказал полицеймейстер и дал понять, что аудиенция окончена.
Играли мы в Вильне в старинной ратуше, спектакли прошли прекрасно, успех был большой. Заплатил я артистам свыше уговора, – одним словом, «произвел впечатление», и на обратном пути в Петербург отношение ко мне со стороны труппы было уже почтительное.
Этим я и воспользовался, и сказал Ходотову, что хотел бы поездить с Варламовым.
– Это труднее, – ответил Ходотов, – потому что Варламов это – курица с золотыми яйцами и у него уже есть свои придворные импресарии. Своих прерогатив они не уступят, да старик и не любит новых людей. У него много своих чудачеств, их нужно знать и свято исполнять.
– Например?
– Ну, вот, например, простая вещь: выплата денег. Что может быть проще? Вынул и заплатил. С Варламовым не совсем так. Это – церемониал. После спектакля он у себя в номере пьет чай. И непременно из ярко начищенного самовара. К этому чаепитию вы должны придти обязательно. И принести деньги в белом запечатанном конверте коммерческого образца. Это – закон. И сидеть надо до тех пор, покамест он сам вас ни отпустит.
Второе. По приезде в гостиницу, он первым долгом расспрашивает о том, какие святыни есть в городе и немедленно едет на поклонение. Для этого у подъезда его должен ждать заранее приготовленный извозчик.
– Все это не так трудно…
– Это – нетрудно, но это надо знать. Об этом вам лучше всего расскажет карлик.
Какой карлик? – Он всегда ездит со своим карликом. Это его porte-bonheur и с ним, первым долгом, нужно установить добрые отношения. Вот, как приедем, я поведу вас к нему обедать.
– Без приглашения?
– Ну, какие там приглашения? Это – проще простого. Не забывайте, что Варламов – не Россия, а Русь, семнадцатый век! Это вельможа типа Безбородко, Разумовского. Всем – вольный вход, все – гости дорогие!
Через несколько дней Ходотов привел меня к Варламову.
Варламов с места в карьер обратился ко мне:
– Штой-то я тебя давно не видал? Где пропадаешь? Все за барышнями постреливаешь?
Я растерялся и не знал, что отвечать, но выручил Ходотов. Он взял старика под руку и увел его в соседнюю комнату. Через несколько минут они вернулись.
– Ну, господа, – сказал Варламов, хлопнув в ладони, – рассаживайтесь по местам. Ты вот здесь садись, – сказал он, указывая около себя, – я, брат, тебя за другое лицо принял, ты уж извини. Постное ешь? Сегодня – пятница, едим постное. Елизаветушка осетровую селянку завернула.
Елизаветушка была женой его покойного брата и заведывала всем хозяйством.
Селянка была красная от томатов, огромные куски осетра плавали вальяжно, жир подтекал с краев.
Варламов смотрел на всю эту снедь с нежностью и говорил:
– Лимона надо серьезного. Лимона к этому делу… Чтобы оссажэ было.
Потом обвязал салфетку вокруг шеи и начал есть, сказав после первой ложки:
– Такой селянки и сам Царь не ест. А почему? Потому что Елизаветушки нету. Что там все эти Кюба? Меланхолия!
Он разрезал рыбу ложкой и вкушал, и причмокивал с истинным наслаждением.
– Кушайте, кушайте, господа, – просил хозяин, – там еще запас есть. Сколько ты заправила сегодня? – спрашивал он у Елизаветушки.
– Пять фунтиков с походом, – отвечала Елизаветушка.
– Ну, так вот. Это на полк солдат хватит, – успокаивал хозяин, – кушайте, кушайте, на том свете такого не будет.
Съев тарелки четыре огненной селянки, Варламов вдруг провозгласил:
– А теперь квасу!
И ему подали огромный хрустальный жбан сахарного квасу со льдом.
– Что вы делаете? – невольно вскрикнул я.
– Как, что я делаю? – спокойно ответил Варламов. – Квасок кушаю.
По моим расчетам его должен был хватить карачун через пять минут. Но он только осовел слегка.
Мы пили Удельное, номер двадцать первый, а он поглощал квас и в мгновение осушил весь жбан. И все это с превеликим удовольствием.
Гости еще должны были отведать какое-то блан-манжэ, а он уже встал.
– Вы простите старика, – сказал он, – но мне сегодня играть надо. Полежать потребность есть. А ты, Количка, попой здесь папины романсы, а я тебе подтяну.
И, как гора, направился в спальню.
Ходотов подошел к пианино и нарочито сладеньким тенорком запел: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан…» И мы слышали, как из спальни раздалась густая басовая втора, которая скоро превратилась в откровенный храп.
Я думал: этот человек сегодня должен умереть!
А этот человек вечером легко и гениально играл «Свадьбу Кречинского».
Я нарочно пошел на этот спектакль и смотрел его с огромным наслаждением. По сцене ходил сияющий здоровьем Варламов, дышал весельем, и я видел, как люди, наполнившие театр, смотрели на него с радостью и восхищением.
В антракте спустился к нему в уборную. Уборная была чистенькая, кокетливая, с занавесочками, а на диване лежала уютнейшая в мире туша и тяжело дышала.
– Ты что? Хочешь, чтобы я поехал с тобой? Поеду. Количка мне много про тебя хорошего рассказал. Только пока что держи язык за зубами, не пыли. Мне каждый вечер двести колес в белом конверте, – понял? И труппочку собери не то, что с бору да с сосенки, а такую, чтобы не стыдно было. Надо совесть иметь: раз люди принесли в кассу деньги, надо им товар отпустить. Понял? В этом секрет. А насчет времени, репертуара, – приходи как-нибудь за полчаса до обеда, поговорим, обсудим. Стой. Вот что. Приходи в четверг: лапшу куриную Елизаветушка сварганит. А насчет другого, прочего расскажет тебе – он.
Кто он? – подумал я и тут только заметил, что около нас стоит карлик с неподвижным, серьезным и внимательным лицом. Карлик учтиво поклонился.
А мне от неожиданности стало даже как-то не по себе.
– Ну, не стану больше вас беспокоить, Константин Александрович, – сказал я откланиваясь.
– Да ты меня ничем и не беспокоишь, – ответил Варламов, – рад тебя видеть, хлебодавец. По-моему, из тебя выйдет толк. Нагнись.
Я нагнулся, и он поцеловал меня в щеку.
– Храни тебя Господь. В Бога-то веруешь?
– Верую.
– Ну, вот и хорошо. Иди с Богом.
* * *
И, как сейчас, помню день нашего отъезда.
Яркий солнечный день, не холодный, но и не теплый. Все прекрасно одеты: петербуржцы.
Все радостны. Предстоит прекраснейшее путешествие. Никаких сюрпризов, с нами дядя Костя, священный Апис, беспроигрышная лотерея… И среди этой труппы – женщина, которая заставляет биться мое сердце.
Смотрю на часы. До отхода поезда остается десять минут, а дяди Кости еще нет.
И сердце начинает замирать от зловещих предчувствий. А вдруг опять хватил ледяного квасу после огненной селянки – и много ли человеку нужно? Мои предчувствия, много позже, но, увы! в конце концов, оправдались: от этих пиршественных излишеств Варламов и умер.
И вдруг, о радость! На горизонте начинает обрисовываться престранная процессия.
Идет, животом вперед, какой-то гигант в котелке, окруженный тоже какой-то не совсем обыкновенной свитой. Тут и железнодорожные жандармы, и станционное начальство, и какие-то дамы в накидках, и просто пассажиры с чемоданами, очутившиеся на вокзале в ожидании поезда.
Все волнуются, кричат, и чувствуется восторг, обожание, преклонение. Они мешают ему идти, и я боюсь, что поезд уйдет перед самым носом. Бросаюсь на выручку и слышу Костенькину октаву:
– Пуговиц, пожалуйста, не рвите, пуговиц! Время прохладное. Простужусь – играть не смогу. А, Леничка! Выручай, Бога для!
Я принялся за выручку и, при помощи других, подоспевших актеров, водворил дядю Костю и карлика в вагон.
Очутившись в вагоне, дядя Костя прежде всего скомандовал:
– Туфли и подушки!
Потом лег и немедленно заснул, пожевав губами.
И я только тогда понял, до чего этот человек утомлен.
…После его смерти осталось наличными 60.000 рублей.
Из них – 15.000 было завещано Елизаветушке.
20.000 он оставил своей воспитаннице, дочери швейцара.
2.000 – на учреждение стипендии имени Варламова при Театральном Обществе и некоторые суммы на учреждение стипендий при других учебных заведениях.
А чтобы добыть эти деньги, больной старик мучил себя утомительными поездками и работой, в конце концов, очень трудной, сложной и суетливой. Лично ему эти деньги не были нужны, ибо по штату он получал 12.000 рублей в год.
Теперь, за отдалением времени, начали забывать, что такое представлял собой русский золотой рубль.
Поэтому варламовского жалованья, при его холостяцкой жизни, ему хватало за глаза, и, если еще он работал дополнительно, то только для того, чтобы обеспечить каких-то людей, которых он, по доброте сердца, приблизил к себе: свою крестницу, дочь швейцара, и вдову брата.
И это была одна из многочисленных черт варламовского обаяния.
Он был добр, и добры были его слова, жесты, интонации голоса. Добротою этой он весь излучался, а люди инстинктивно чувствуют и тянутся к доброте, которой так мало в жизни, – и это-то и придает таланту особое очарование.
Многие притворяются добрыми, но это не помогает: публика чутка и быстро отделят правду от притворства. И ее, эту публику, не проведешь на мякине. Так и в театре, так и в литературе, так и во всех видах искусства.
…Приехали во Псков – и Варламов немедленно поехал на поклонение святыням, один, никого с собой не взяв. Это было делом его души, и он не любил свидетелей. Псковские святыни были ему хорошо известны, и ездил он часа два. Вернулся свежий и восторженный.
– А что мы сегодня играем? – усаживаясь за гримировальный стол, спросил он. – «Правда хорошо, а счастье лучше»? Правда, так правда!.. Давай паричек.
Билеты давно все проданы, около театра праздничное оживление, на лицах жажда видеть, жажда впечатлений, жажда какой-то обещанной, необыкновенной, счастливой встречи.
Занавес! И снова, в который раз, звучит со сцены старая, немудреная, пропитанная неувядаемым ароматом поэма.
Зрительный зал затаил дыхание. И вдруг появляется он, поворачивается к публике и говорит, – говорит звучным, идущим из нутра, голосом, сильным и в то же время необыкновенно добродушным:
– Вот и я!
И тут напряженная атмосфера разряжается в грозу и бурю.
И вдруг со смущением я ловлю себя самого, что я ору и кричу больше всех. Что такое? Почему?
И смутно начинаю понимать, что и я подпал под влияние толпы, что какое-то течение несет меня помимо моей воли и я ничего поделать не могу. Я буду плыть, буду кричать, буду неистовствовать, драться, бороться, бросаться в огонь и так и не отдам себе отчета. И тут я впервые понял, что такое толпа, что такое гипноз, сила толпы и что можно при умении со всем этим сделать!..
Спектакль был сплошным праздником.
Псковский провинциальный театрик сиял светом радости и веселья, и виновником всего этого был священный Апис, сидевший в поддевке на красном диване.
Видел я потом шаляпинские триумфы: небо и земля.
И в триумфах есть свои оттенки… Другой состав воздуха. И я счастлив, что был свидетелем варламовских торжеств. Ничего подобного потом больше не видел и не увижу.
К моему большому удивлению, кончив роль, Варламов опять запросто повернулся к публике и сказал:
– А теперь до свиданья.
И ушел.
Полное нарушение всяческих сценических иллюзий!
В Художественном Театре Немирович-Данченко в обморок упал бы от такого нарушения канонов и правил.
Варламову все это было, как с гуся вода. Напротив, это снова дало повод для грандиозной овации.
Разумеется, и в Петербурге, на Александринской сцене, ему не позволяли таких кундштюков, но в провинции он чувствовал себя, как дома, и по примеру Живокини, здоровался и прощался с публикой. И что всего удивительнее, иллюзия игры через секунду опять царствовала с полной силой.
После спектакля я пошел к нему с белым конвертом в руках и попал на торжественное чаепитие.
На столе стоял до отказу начищенный самовар. Тут же – петербургский погребец с балыками разных сортов, с осетровым маринадом, икрой паюсной и свежей.
На председательском месте в великолепном бухарском халате восседал с торжествующим видом сам хозяин, отменно довольный и вечером, и спектаклем, и приемом публики. Чай он пил крепкий, с лимоном, пил аппетитно, по-купечески: казалось, что продолжается какая-то пьеса Островского.
Я почтительнейше передал ему конверт, в который было вложено два сотенных билета. Он осмотрел его формат, заклейку, потом взял карандаш и написал:
– От Леонидова. «Правда хорошо, – а счастье лучше».
И потом сказал:
– Ну, а теперь садись чай пить. А на завтра как?
– Все продано, Константин Александрович.
– Люблю Псков. Вот уж Русь, так Русь. Ты палаты Поганкина видел?
– Нет, не видел.
– Тогда поезжай, посмотри! Это его Грозный так окрестил. Называйся, говорит, Поганкиным, и делом с концом. Очень интересно… Это, брат, допетровская Русь! Бери икорки, неплохая…
И здесь, в псковском номере, царила старая, неуемная, неизъяснимая, самое себя создавшая Русь.
* * *
…Приезжаем мы как-то в Ярославль.
Грузно и тяжело спускается Варламов по лесенке вагона. И вдруг, как из под земли, перед ним вырастают две фигуры: полицеймейстер, с лихо, по-кавалерийски закрученными усами, и элегантный, вылощенный чиновник особых поручений при губернаторе.
– Честь имеем явиться Вашему Превосходительству! – рапортует полицеймейстер, – мы по поручению Его Превосходительства, Начальника Губернии. Его Превосходительство просит Ваше Превосходительство остановиться у него, во дворце. Вам уже приготовлены специальные апартаменты. Его Превосходительство будут счастливы и весьма будут польщены.
И я вижу, как лицо Варламова заливается краской смущения. Ему очень трудно кому-нибудь в чем-нибудь отказать.
Прошу передать Его Превосходительству, что я страшно рад и счастлив приглашением Его Превосходительства, но это никак невозможно. Я должен жить вместе с труппой, мы бесконечно репетируем и работаем. Мне неудобно будет обременять дворец этой суетней и толкотней. Я приеду лично поблагодарить Его Превосходительство за его гостеприимство.
– Тогда разрешите довезти Ваше Превосходительство до гостиницы. В распоряжении Вашего Превосходительства есть автомобиль и парный экипаж. Что предпочитает Ваше Превосходительство?
– Лошадок, лошадок, Ваше Высокоблагородие… Грешный человек, боюсь я этих машин и не уважаю.
И вся платформа покатилась со смеху: так это, по-варламовски, было сказано!
Дядю Костю с торжеством водрузили в лакированный великолепный экипаж, рядом с ним сел полицеймейстер, на передней скамеечке поместился чиновник особых поручений, и коляска плавно поехала к Георгиевской гостинице.
Пока остальная труппа со своим багажом тронулась вслед, прошло с полчаса времени. И, когда я приехал в Георгиевскую гостиницу, дядя Костя сидел один в своем номере и на глазах у него сияли слезы.
– Что с вами, Константин Александрович?
– Как что? Ты слышал, он все время называл меня Вашим Превосходительством?
– Слышал.
– Ну, а я всего статский советник.
– Ну так что?
– Как, ну так что? Ведь я буду Превосходительством…
– Ну, и слава Богу…
– Тебе все слава Богу. Но когда? Когда?
И в голосе дяди Кости зазвучали трагические ноты.
– Чем скорее, тем лучше! – сказал я.
– Типун тебе на язык и сто под язык, – ответил со слезами дядя Костя, – это будет тогда, когда отставка выйдет! Когда я должен буду покинуть сцену, уйти из театра!.. Это – смерть, дорогой мой, смерть!.. Смерть от несварения желудка, как у Крылова… Скорей лошадей к подъезду, еду к ярославским святыням. Ой, головонька моя горькая… А что мы сегодня играем?
– «Не все коту масленица».
– Ой, придет и великий пост, ой придет… Лошадей, лошадей!..
Предчувствия не обманули милого дядю Костю: он, действительно, как и Крылов, умер от несварения желудка в 1915 году.
И так и не дождавшись генеральского Превосходительства.
Приехав с гастролей в Петербург, Варламов долго ожидал свободного вечера.
Наконец, он наступал, этот желанный вечер.
Тогда он облачался в свой торжественный халат и выходил в гостиную с кучей конвертов в руках.
В гостиной уже был приготовлен стол и на нем – длинные ножницы. Варламов с наслаждением начинал разрезать конверты и вынимать оттуда сотенные билеты.
Наутро, сосчитав их, нанимал извозчика со смирной лошадью и торжественно ехал в Банк. Там он их клал на текущий счет, чтобы потом передать Елизаветушке, приемной дочери, престарелым актерам…
Какой это был добряк! Можно добавить к «весельчаку» Шекспира.
И вот уже сорок лет прошло, как дядю Костю опустили в семейный склеп на Александро-Невском кладбище.
И нет возможности пойти и поклониться ему и принести хотя бы маленький букетик фиалок, которые он так любил.
Ф. И. Шаляпин
«Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник».
Пушкин«Шаляпин – радость безмерная».
В. В. СтасовЯ работал с Шаляпиным много лет.
В 1927 году провел исторический, неповторяемый сезон в Берлине, когда дал с Шаляпиным «Бориса Годунова», «Фауста» и «Дон Кихота».
В Берлине спектакли шли в театре Государственной Оперы.
Я собрал всех лучших русских певцов в эмиграции, главным образом бывших артистов Мариинского Театра, лучших декораторов, пригласил дирижера Э. Купера, выписал хор Рижской национальной оперы, который пел по-русски. В Риге еще оставались традиции Мариинского Театра, режиссером там был П. Мельников, бывший режиссер Мариинского.
Балет с известными танцовщицами Юлией Бекефи и ее сестрой Еленой Бекефи, состоял под управлением Е. Девильер, балерины Московского Большого Театра. В состав артистов входили: К. Пиотровский, Е. Садовень, М. Давыдова, К. Кайданов, К. Запорожец и др.
Шаляпин был умен.
Вероятно, он, в глубине сердца своего, решил так:
– К черту дальнейшую работу. Не хочу беспокоить себя. Пусть другие выдыбают, все равно им меня не переплюнуть! А с моей стороны, интересно будет посмотреть, как оно и что. А моих, уже сделанных работ – на мой век хватит.
Он слегка разухабисто и не очень вдумчиво всю жизнь мечтал о революции и вдохновенно пел «Дубинушку». Но вот дубинушка пришла, размахнулась и перебила хребет всему, чему поклонялся и что ценил Шаляпин.
А поклонялся он, что греха таить, все-таки золотому тельцу.
С презрением пел:
– «Люди гибнут за металл».
Но денежку любил.
Или, как Варлаам:
– «Христиане скупы стали: деньгу прячут, деньгу любят. Мало Богу дают…»
И деньгу прятал, и деньгу любил, и накопил капитал весьма завидный, и вот пришла эта самая революция, и все отняла, до последней денежки, до последней копеечки, а в утешение подарила ему роскошную шубу, снятую с какого-то московского широкого купеческого плеча. Ибо все же соображали новые правители, что Шаляпину не след простуживаться. Власть берегла его. Власть и подарила шубу.
В этой шубе нараспашку Шаляпин позировал художнику Кустодиеву для его знаменитого портрета.
Во всяком случае, за время своего пребывания в эмиграции, Шаляпин не спел «Дубинушку» ни разу…
Шаляпин, Федор Иванович, казанский мещанин, животишко, как говаривали русские в старину, – Шаляпин – великий артист, несравненный художник и поэт, умер в тот самый короткий момент, когда, покидая Россию, он переступил через русскую границу. В этот самый миг закатилось солнце русского искусства, гордость России, которую умом не понять, аршином общим не измерить и в которую можно только верить.
Шаляпин, очевидно, не очень «поверил» в нее и, немало полукавив, упросился Федор Шаляпин в вагон тогдашнего комиссара по иностранным делам Литвинова, который по советским делам ехал заграницу.
Литвинов, человек культурный, европеец, вывез Шаляпина заграницу. И вот, когда комиссарский вагон остановился на рижском вокзале, из него вылез труп Шаляпина, отпущенный в отпуск, по хорошо найденному слову Бисмарка. Вылезло тело Шаляпина, казанского мещанина…
А артист Шаляпин где-то погребен там, в России, на неизвестном кладбище, и, может быть, в общей могиле, бескрестной и ненаходимой.
В эмиграции это был казанский мещанин, и ничто мещанское ему не было чуждо. Был он мелко-расчетлив, дрожал над копейкой, никогда ничего не дал никому.
– А кто мне давал? – всегда отвечал он этой корявой, чисто мещанской фразой:
– «А кто мне давал?»
Своим бывшим товарищам, которые часто, на российских сценах, делили с ним упоительные успехи, почти ничего не давал, никому не помог («а кто мне помогал?») и не любил, когда эти бывшие друзья его беспокоили.
– «А кто мне давал?»
Так хотелось ему ответить:
«Ох, давали, Федор Иванович, и как еще давали! Щедрой рукой давали: и „беспутный гений“ Мамонт Дальский вам давал, там в „Пале Ройале“ и приобщил вас к великой русской реалистической культуре в актерском искусстве – а это дорого стоит – и Коровин вам давал, а Рахманинов сколько давал! Ваш первый учитель пения в Тифлисе, прекрасный певец и просвещенный педагог, пропагандист русской музыкальной школы Д. А. Усатов, а В. В. Андреев, первоклассный балалаечник, столь блестящий рассказчик и балагур; а глубокий знаток и ценитель русского музыкального творчества, Государственный контролер, Тертий Филиппов, любитель и знаток русской песни; Савва Мамонтов, меценат и деятель русского искусства; композитор М. М. Ипполитов-Иванов, В. В. Стасов, основатель „Могучей Кучки“, оказавший большое влияние на ваше творческое развитие, а историк В. О. Ключевский, а Максим Горький, а И. Труффи, талантливый провинциальный дирижер, который тоже вам помог в ваших первых шагах на столичной сцене[3].»
Сколько таких садовников было в вашем волшебном цветнике!.. Но они умели давать так, что никто – и вы в том числе – не замечали этого. То есть, щедрой душой давали Вам по-настоящему, по-русски, по-Божески. И левая рука не знала, что делала правая. И в рот не заглядывали.
Так как у меня вся моя жизнь, с самого детства, проходила через призму театральности, то когда я бывал у Шаляпина, мне иногда казалось, что я пришел и сижу в доме найденовского Ванюшина. Вот, на председательском месте, сидит сам Ванюшин и, вокруг него, эта бедная, забитая ванюшинская семья. И семья была особенная: сидящая на горячем месте и одного страстно желающая: поскорей ускользнуть от папашиных глаз, в которых поблескивает этот холодный, неумолимый стальной блеск, который еще в Петербурге, на заре юности, заметил Дальский.
– Ишь вот вы какие… А мне кто давал?
Дети боялись его панически. Это чувствовалось.
Сезон наш в Берлине в 1927 году в анналах берлинской оперы значится историческим.
Конечно, произошел очередной скандал с Э. Купером, но все быстро прошло, уладилось и гастроли прошли триумфально.
Голос его звучал еще по-российски, пластинки были еще свежи, и иллюзия прежнего величавого Шаляпина сохранилась вполне.
Но для немногих, посвященных и искушенных, уже вполне выяснилась драма раздвоения.
Та самая драма, которая могла бы быть описана Эдгаром По или Стивенсоном.
В России великий артист любил общество писателей и художников. С ними он вел бесконечные дружеские беседы, обсуждал создаваемые им образы, прислушивался к их советам и мнению.
Здесь, заграницей, все это его уже не интересовало. Он начал довольствоваться компанией прихлебателей, льстецов. При них он распоясывался во всю, а однажды «разошелся» и в присутствии Рахманинова.
Рахманинов постучал средним пальцем по столу и глухо сказал:
– Федор…
Федор вздрогнул, что-то далекое, дорогое и забытое возникло на миг в душе, он съежился, как Мефистофель перед крестом, и налег на виски.
И еще по старой памяти, боялся он Горького.
…В 1934 г., на летний отдых, в Карлсбад, приехал из Москвы В. И. Немирович-Данченко и привез ордера на возвращение в Россию, подписанные знаменитым Енукидзе, тогдашним халифом на час.
По этим ордерам разрешался въезд в СССР Ф. Шаляпину, М. Чехову, Е. Лансере, Е. Рощиной-Инсаровой и, полагаю, не без участия В. И. Немировича-Данченко, автору настоящих воспоминаний.
Вместе с этими ордерами Немирович привез и «устную буллу» Сталина специально для Шаляпина.
– Пусть приезжает. Дом дадим, дачу дадим, в десять раз лучше, чем у него были!..
Шаляпин мрачно выслушал и пробормотал:
– Мертвых с погоста не носят…
И потом:
– Дом отдадите? Дачу отдадите?.. А душу? Душу можете отдать?
И тут мне стало его до слез жалко. Какому орлу подрубили крылья! Какой творческий ум и сердце остановили в биении!
Да, он был уже не тот.
Душа отлетела. Осталось только вот это огромное тело, облеченное в великолепный лондонский костюм. Осталось дыхание, пропитанное египетскими папиросами, да потухший взгляд когда-то проникновенных глаз.
– Федор Иванович, не разучить ли новую оперу?
– Пускай медведь разучивает!
– А вот эти романсы, замечательные…
Берет тетрадку в руки, как-то пренебрежительно ее рассматривает, безвольным движением руки бросает ее на стол и опять говорит:
– Пусть другие поют, дружище, а мы свое отпели. Нас нужно на живодерню…
* * *
Он любил деньги, как деньги. В поездках почти ничего не тратил, кроме пустяковых расходов на гостиницу. В компаниях, когда подходили к платежу по общему счету, у него в жилетном кармане оказывалось всего пятьдесят франков. В России, по рассказу Коровина, это была традиционная трехрублевая бумажка.
Однажды мой брат понес ему в отель в Берлине гонорар за выступление, в расчете: один доллар – 4.20.
– Позвольте, – невольно сказал Шаляпин, – сегодня по газетам, доллар – 4.21.
Тогда я послал в банк разменять десять долларов и банк заплатил по 4.16.
Рапортичку послал Шаляпину.
Он посмотрел рапортичку, число месяца, все сверил и… ничего не сказал.
Человек он был честный. Однажды я спросил у него, как идет продажа его дисков в Швеции.
– Продано две тысячи, – ответил Шаляпин.
На другое утро позвонил мне по телефону.
– Я ошибся вчера, – сказал он, – не две тысячи, а тысяча двести.
Никогда не лгал, не хвалился и ничего не преувеличивал. Вообще о своей жизни ничего не говорил, был скрытен.
А годы шли.
Голос стал тускнеть и иногда вовсе исчезал. Вот семь часов, через час – начало спектакля или концерта, а голоса нет, как нет.
Тогда Шаляпин начинал не молиться, а разговаривать с Богом.
– Ну, что Тебе стоит? – спрашивал он, подняв глаза к небу. – Дай его мне на два только часа. Больше я у Тебя ничего не прошу! Я всем доволен. Но голос сейчас дай, исполни мою просьбу!
Такое обращение иногда ниспосылало ему некую успокоенность, и, странное дело, голос появлялся.
Но иногда молитва не давала результатов, и тогда Шаляпин приходил в бешенство, грозил небу кулаками и просто-напросто богохульствовал.
Что происходило в душе этого недюжинного человека?
Этот вопрос занимал и мучил меня немало.
И однажды, кажется, я нащупал разгадку.
Это было на каком-то обычном ужине в ресторане, в шумной компании, когда много выпили и наговорились, и навспоминались.
Шаляпин откинул голову на спинку дивана, на котором, посередине, председательствуя, он сидел один.
Глаза его были закрыты, лицо утомлено и измучено, руки повисли, как плети.
Казалось, что он задремал. Но нет, не задремал.
Правая рука поднялась и сделала вдруг останавливающий жест.
Все стихло.
И, не открывая глаз, как бы разговаривая сам с собою, Шаляпин медленно и проникновенно начал читать:
«Свинья под дубом вековым Наелась желудей до сыта, до отвала; Наевшись, выспалась под ним, Потом, глаза продравши, встала, И рылом подрывать у дуба корни стала. – „Ведь это дереву вредит, — Ей с дуба ворон говорит: – Коль корни обнажишь, оно засохнуть может“, – „Пусть сохнет, – говорит свинья, — Ничуть меня то не тревожит; В нем проку мало вижу я; Хоть век его не будь, – ничуть не пожалею: Лишь были б желуди: ведь я от них жирею“. – „Неблагодарная! – промолвил дуб ей тут: Когда бы вверх могла поднять ты рыло, Тебе бы видно было, Что эти желуди на мне растут“.»– Понятно? – вдруг открыв глаза, спросил полупьяный Шаляпин, – понятно или нет?
– Понятно! – хором ответили на все согласные собутыльники.
– Ни черта непонятно! – ответил Шаляпин, – за это стихотворение (он так и сказал: стихотворение), всю современную русскую литературу отдам и моего друга Максима в придачу. Ну, а теперь давайте платить по счету и по домам. Ай, да у меня, кажется, денег нет…
И он полез по карманам и вдруг из жилета вытащил какую-то бумажку.
– Нет, пятьдесят франков есть. Довольно с меня будет, ай нет?
– Довольно, довольно, Федор Иванович, – кисло закричали собутыльники.
– Спойте «Дубинушку», Федор Иванович…
– Что-о? «Дубинушку»? Пусть медведь поет.
И пошел, пошатываясь, к двери.
– Боже мой, как вы читаете, Федор Иванович! Какой из вас драматический актер вышел бы…
– Драматический актер? – и Шаляпин круто обернулся, сжал руку в кулак и ушел.
* * *
Я подписал с Шаляпиным контракт на ряд европейских стран.
За каждый спектакль, по три тысячи долларов. Начинаем с Варшавы.
Шаляпин останавливается в «Бристоле». Я неподалеку, в «Европейской». По разным соображениям, я никогда не останавливался с ним в одном и том же отеле.
И сейчас же около Федора Ивановича, как бесы в октябре, закружились благоприятели.
Благоприятели первым долгом затащили его в «Фукетц», где были сосредоточены лучшие коньяки Варшавы, якобы оставшиеся еще от времен Наполеона.
И началась баталия.
Мне становится известно, что за три дня до концерта, каждую ночь Шаляпин возвращается домой «мокренький»…
Что делать?
Он не гимназист, я не инспектор.
Но сердце у меня начало побаливать. Быть беде!
– Пересушит связки, иди потом, доказывай!
За час до концерта являюсь к нему в «Бристоль» и застаю его во всем параде. Фрак на нем сидел восхитительно. Вид сияющий и как будто вполне благополучный.
Садимся на извозчика и подкатываем к театру.
У подъезда толпа неслыханная.
Пробрались за кулисы. Настроение у издерганного Федора Ивановича неожиданно изменилось. Раздражен. Печален. Взгляд потухший.
Оставил его одного в уборной и не успел дверь за собой закрыть, как слышу и ушам своим не верю: Шаляпин разговаривает сам с собой… И как разговаривает, и что говорит!
– Боже, – слышу я, – Бог Авраама, Исаака и Иакова! Не оставь меня в эту трудную минуту. Пожалей не меня, но детей моих. Верни мне голос на один только час. Всего на один час. Ты сотворил небо и землю в один день. Не отвергни меня, как Бориса, от лица Твоего. Укрепи Твой дар драгоценный, прости меня и мои согрешения, вольные и невольные…
Я, как ни в чем не бывало, постучался в дверь.
– Скоро начинать, Федор Иванович, – сказал я.
– Начинать-то начинать, да начиналки нет, – мрачно ответил Шаляпин, – прийдется, Леня, перенести концерт!
Меня в жар бросило.
– Никак нельзя, Федор Иванович, у нас нет свободных дней.
– Я не могу петь сегодня. Горло пересохло. Ни один звук не идет. Молился Богу, просил Бога – ничего. Не слышит. Не отвечает.
– Успокойтесь, Федор Иванович. Все будет хорошо. Выйдете на эстраду, и зал, овации, аплодисменты, и все станет на место.
– Не сегодня, – отвечал он, – не сегодня!
Я выскочил пулей и, как в воду бросился, велел давать занавес.
По программе концерт начинался выступлением шаляпинского аккомпаниатора, весьма посредственного пианиста.
Этот самонадеянный музыкант не нашел ничего лучшего, как угостить варшавян… Шопеном.
После «Вальса» и «Ноктюрна» бедняга прибежал за кулисы потный, растерянный и явно убитый.
Пот с него катился градом, воротник смок, можно было подумать, что верст двадцать он бежал без передышки.
– Трудная публика, ох, мать моя, трудная, – не переставая лепетал незадачливый Епиходов.
Все это окончательно доканало бедного Федора Ивановича.
Я чувствовал, что у меня земля горит под ногами, но…
Была единственная надежда: услышит боевой сигнал и оживет! А может и нет?!
Одним словом, был я в положении той бабы, которая с печки летит и, покуда на пол грохнется, семьдесят семь дум передумает.
Но вот Шаляпин встрепенулся и обычным своим завоевательским шагом пошел на сцену.
Боже мой! За целую жизнь я таких оваций никогда не слыхал. Зал трещал. Громы небесные, казалось, падают на бедные человеческие головы. Минимум пять минут длилась восторженная встреча, буря рукоплесканий, такой сердечный прием, какого и в России Шаляпин, наверное, не находил.
Но вот послышались глинкинские аккорды и Шаляпин вступил:
«Уймитесь волнения страсти…»
И меня снова обдало холодом.
Опять аплодисменты, но уже на пятьдесят градусов ниже:
– «Succes d’estime».
Может быть, распоется?
Увы!
Аплодисменты есть, но градус все больше и больше понижается. Я готов бежать из театра, закрыться с головой одеялом и молить Бога о том, чтобы скорее пронеслись эти страшные часы.
Одним словом, когда я перед вторым отделением посмотрел в зрительный зал, он был наполовину пуст. Второе отделение – полный провал.
Шаляпин сказал:
– Ну, идем на Голгофу. Помоги нести крест.
И я не нашелся, что ему ответить.
Я сидел перед шаляпинским гримировальным зеркалом, зажав голову руками, и не узнавал в зеркальном отражении ни его, ни себя самого.
На извозчике, после концерта, я довез постаревшего, сгорбившегося Шаляпина до «Бристоля». Не знаю, спал ли он в эту ночь.
Наконец забрезжил день.
Потом принесли газеты… Долго я не хотел до них дотрагиваться. Но потом бросился, как в воду…
Боже мой, что в них писали! Как бы хотелось, чтобы это был сон. Вот проснулся, и никакой Варшавы, а я снова в Харькове, в родном доме, и никаких концертов, никаких газет. Выглянул в окно. Блестящий город, прелестный день, бегут трамваи, снует нарядная толпа, что-то есть, действительно, от Вены. И какие все счастливые люди! Никаких концертов они не устраивают.
Ну, что же дальше?
Ах, куда не шло и где наша не пропадала!
И по какой-то непостижимой интуиции, я направился в государственный оперный театр, чтобы повидать директора.
Директор, пан С., немедленно меня принял.
«Хочет поиздеваться над москалями!» – пришла в голову невольная мысль.
– Ну что вы обо всем этом думаете? – спросил я.
– Во всяком случае, не то, что пишут эти болваны, – ответил искренно пан С., показывая на газеты. – Певец был болен, вот и все. И Мазини оставался без голоса, и Патти оставалась без голоса – и никакой драмы никто в этом не видел.
Слово за слово, и я предложил пану С. гастроли Шаляпина на осень. Пан и глазом не моргнул: с радостью согласился. И дал три тысячи долларов за спектакль…
И, когда я вышел от пана С., подо мной снова горела земля. Но на этот раз бенгальским огнем. Это был огромный антрепренерский успех, о котором я и мечтать не мог. Я был горд и счастлив.
Сразу завернул в «Люрс», модное и бойкое в то время кафэ, и с каким-то вызовом – неизвестно кому – судьбе, случаю, капризной фортуне – заказал бутылку Клико. Лакей поставил бутылку в серебряное ведро и завертел ее во льду.
И тут началось…
– Вчерашний успех справляете?
– Нет, будущий, – скромно отвечал я.
– А именно?
– Осенью поем «Бориса» и «Фауста».
– Где изволите петь?
– Да тут же, у вас, в варшавском оперном театре… По четыре тысячи долларов за спектакль.
– А вы совсем здоровы?
– А вот вам записка пана С.
– Но вчера было что-то не совсем так…
– Вчера он был без голоса… Что со всяким может случиться. Это бывало и с Мазини, и с Патти… И с Карузо… А вот осенью мы вам покажем, где раки зимуют…
У поляков много южной экспансии, и через пять минут газетчики ринулись к телефонам «Люрса». Развалившись в кресле, я жадно пил шипучий нектар вдовы Клико, и он огнем осаждался на мою измученную печень. Но мне было все равно. Где-то бились крылья успеха.
Под вечер мы покинули Варшаву. Шаляпин был мрачен, как туча. Пошли обедать в вагон-ресторан.
И вдруг Шаляпин спросил:
– Нет ли у вас такого чувства, точно мы куда-то забрались, обокрали и теперь незаметно едем восвояси с награбленным добром.
– Нет, – ответил я, – битва еще не кончена. Мы проиграли первый наскок.
– Нет, битва кончена, – сказал Шаляпин, – мы капитулировали.
– А что бы вы думали об осенних гастролях в Варшаве?
– Дорогой мой, я двадцать лет не был в Варшаве, а теперь забуду, что такой город даже на свете существует. Воображаю, что они там написали в газетах…
Шаляпин никогда не читал рецензий.
– Одним словом, я оффициально предлагаю вам две гастроли в варшавском правительственном театре: «Борис» и «Фауст».
– Вы шутите?
– Федор Иванович, я далек от всяких шуток.
На глазах Шаляпина показались слезы.
– По 2.500 долларов за гастроль.
Я хотел заработать на этом деле тысячу долларов.
– Что-о? 2.500 долларов? Вы с ума сошли!
И шаляпинские слезы мгновенно высохли.
– Моя плата – три тысячи, и вам пора бы это знать.
– Делать нечего, так и протелеграфирую, – ответил я и со станции Аахен послал телеграмму директору С., что его условия приняты.
* * *
Осенью гастроли состоялись, и та самая толпа, которая весной заушала артиста, теперь носила его на руках.
И те самые газеты, которые его поносили, теперь признали, что Шаляпин – единственный и престол его – твердыня священная.
Явные убытки – арифметика души не имеет – я претерпел с легким сердцем, ибо для меня это было вопросом престижа.
И, может быть, мне поверят, борьба за спасение блистательной российской славы.
Шаляпин все это понял, и на Пасху прислал мне великолепную палку с массивным золотым набалдашником, на котором автографически были вырезаны запоздалые, но нежнейшие его, по моему адресу, признания.
Я свято храню этот подарок-память. Подарок музейного значения, и для меня он дороже списанных со счета варшавских долларов.
* * *
…Недели за две до безвременной кончины Федора Ивановича мы с женой пришли проведать его. Он оживился и сказал:
– Помните? А то помните? «Бойцы вспоминают минувшие дни, и битвы, где вместе рубились они…» Ну, давайте выпьем рому, что ли.
Жена его, Мария Валентиновна, делала мне знаки, чтобы я отказался, но с Шаляпиным трудно было спорить.
Выпили. В последний раз на земле выпили.
– Эх, – сказал он, – еще бы годочков пять-шесть… Да не выйдет коммерция…
Я посмотрел на его прекрасные руки и понял, что они уже мертвые.
Я старался быть бодрым, говорил об осенних поездках и он печально сказал:
– Нет, дорогой мой, на этот раз вы не захотите поехать со мной…
* * *
Отпевали его на rue Daru, в Александро-Невском соборе. Пел хор русских оперных артистов.
Когда кончилось отпевание и люди стали подходить ко гробу с последним прощальным целованием, – с клироса вдруг послышался голос Шаляпина:
– «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром…»
Голос единственный, несравненный.
Это поставили пластинку Шаляпина, и казалось, что артист поет из теснины гроба.
Один из самых жутких и незабываемых моментов.
У многих потекли слезы…
Вечные странники
Еще одна памятка, зарубка, дань прошлому.
Когда я думаю о них, – об этой разновидности актеров, – то всегда невольно вспоминаю драгоценные строки из школьной хрестоматии:
– «Тучки небесные, вечные странники…»
В полном смысле слова – это были вечные странники.
Странники, сыгравшие огромную роль в истории русской культуры.
В России любили говаривать:
– У нас есть три верных дела: швейные машины Зингера, конфеты Жоржа Бормана и братья Адельгеймы.
Братья Адельгеймы! Всероссийская известность.
Роберт и Рафаил.
Оба – с высшим образованием, инженеры-технологи. И, кроме того, оба окончили драматическое отделение Венской Консерватории. Были выдающимися полиглотами, в совершенстве владели европейскими языками. Всю жизнь учились и всю жизнь работали, работали неустанно.
Помимо всего этого, Рафаил был исключительным пианистом, а Роберт блестяще окончил курс пения в Италии. Изучали фехтование (нужно было для «Гамлета» и «Кина») и вообще, как говаривал Пушкинский Сальери:
– «Ремесло поставили подножием искусству…»
Родом были из зажиточной московской семьи. Третий брат был очень известным московским зубным врачем, жил как раз в том доме на Лубянке, где потом водворилась знаменитая Чека.
Большая редкость: в братьях Адельгеймах не было ничего от Шмаги.
Джентельмены, безукоризненно воспитанные и прекрасно одетые люди, спокойные во всех обстоятельствах жизни, очень своеобразные, с милыми причудами, очень часто не от мира сего.
Ни карт, ни пьянства, ни дебошей, ни бахвальства, ни шумных появлений в ресторанах, ни амикошонства, ни исканий в прессе, ни заискиваний в публике.
Играли они классический репертуар: «Гамлета», «Отелло», «Разбойников», «Уриэля Акосту», «Кина», «Короля Лира», «Шейлока» (в свое время царская цензура потребовала от Роберта в роли Акосты изменения грима, так как нашла, что он очень походил на Христа).
Вместе с этим они играли и современные вещи, как «Кручина» Шпажинского, «Трильби» и «Казнь» драматурга Ге. В «Казни» Роберт был исключительно блестящ и искрометен, никто в России лучше не играл Годда.
Автор «Трильби» и «Казни» Г. Г. Ге тоже и сам был с наклонностями «вечного странника»: актер Александринского Театра, он в каникулярное время набирал труппу и колесил с ней по огромным пространствам России. И тоже как-то стоял в стороне от шумной актерской колеи, жил чудаковато в собственном доме, был окружен самыми невероятными зверями и птицами, которых свозил со всех концов земли. Однажды на таможне его попросили «предъявить» багаж. Ге открыл ящик и «предъявил» живого крокодила, которого звали Мишей.
Адельгеймы никогда не занимались актерской общественной жизнью, не появлялись ни на каких съездах и знали только одно: колесить по России, которую беззаветно любили.
Они имели полный театральный гардероб для своего репертуара и, в случае надобности, легко могли обойтись без предпринимателя. Но, если таковой находился и если он подходил для них по своему характеру и, главное, по воспитанию, – то они охотно принимали его услуги и были тоже своего рода беспроигрышной лотереей.
Потому что Адельгеймы – это, прежде всего, аншлаги. Любовь Адельгеймов к театру была исключительная и до краев заполняла их существование. Это невольно отразилось и на их личной жизни: они были холосты, у них не могло быть оседлости, и, если как у Роберта, случались какие-то увлечения, то все это было мимолетно.
Они были талантливы, пересмотрели в России и заграницей всех великих мастеров сцены и, как пчелы с цветов, собрали с них мед искусства и внесли его в свое собственное творчество, разукрашивая свои находки собственной филигранной отделкой.
Огромный труд и на редкость добросовестное отношение к делу.
И не было такого города, такой театральной дыры, в которой бы ни играли братья Адельгеймы.
Если находился сарай, в который зрители являлись со своими креслами и стульями, – Адельгеймы играли в этом сарае. Но… надо отдать им справедливость – и в этом сарае они играли с такой же тщательностью, как и на лучшей столичной сцене: так же приходили за два часа до начала спектакля, так же тщательно гримировались и так же незримо волновались перед первым выходом на сцену.
Это были, в полном смысле слова, апостолы и проповедники русского театра, и, когда большевики дали им звание народных артистов, то это были самые заслуженные в мире звания.
И, вместе с тем, при большевиках они уже работать не могли или не хотели: «были несозвучны эпохе».
И я всегда с волнением вспоминаю такую сцену.
Берлин. Сижу как-то дома, звонок. Иду к двери, открываю – передо мной Роберт Адельгейм.
Мы бросились друг другу в объятия и не заплакали, а зарыдали.
О чем? О своих личных жизнях?
Едва ли! Что личная жизнь? Личная жизнь всегда как-то устраивается. И я устроился, и Роберт ехал в Италию к единственному своему сыну.
И, если подумать и по чистоте признаться, мы плакали о русском театре, несравненном и любимом, об единственном смысле нашего на земле существования.
Мы плакали о Потонувшем Колоколе, под звон которого, серебряный и сладостный, мы прожили свою жизнь, – прожили радостно, горячо и, может быть, и не совсем бестолково.
Мы плакали о незабываемой родине нашей, все пути-дороги которой мы своими ногами вытоптали, для которой, как верные сыны, работали.
Мало ли о чем можно долго и горько плакать? Плакать, когда «народный артист» не может больше играть для своего народа.
Бедный Роберт!
Он говорил, и какими словами говорил? Что осталось только умереть, умереть около сына, поскорее закрыть глаза, которым уже не любопытно смотреть на землю, ибо театра нет, зрительной залы нет, гримировальное зеркало ослепло… все равно уже лежу в гробу и, может быть, придет время, когда гроб этот можно будет перенести в Россию и тогда лечь рядом с Рафаилом. И чтобы была на гранитной плите короткая надпись:
– «Братья Адельгеймы».
И больше ничего.
– Как у Дон-Кихота была надпись на могильном камне: «Доброму Альфонсо». И больше ничего. Потому что, в конце концов, мы были маленькими дон-Кихотами. Клянусь Богом, мы никогда не играли денег ради и деньги для нас были делом второстепенным. И это была не фраза в устах Адельгейма.
Я отчетливо вспоминаю, как во время екатеринославских гастролей в Зимнем Театре, я говорю своему администратору:
– Слушай, скажи Адельгеймам, чтобы зашли в контору получить гонорар и проверить билеты. После спектакля я буду их ждать.
Сижу после спектакля в конторе – Адельгеймов нет.
На другой вечер повторяю свою просьбу, опять сижу ночью в конторе, и опять их нет.
Что за черт! Терпеть не могу таскать в своих карманах чужое добро.
Наконец встречаю их в гостинице и говорю, что уже два вечера жду их в конторе для получения гонорара, «а вы, господа, не являетесь».
Они как-то по-балетному отступили на два шага и ответили:
– Мы никогда, за всю нашу театральную жизнь, не переступили порога конторы. Нам приносят деньги в уборную после спектакля – вот и все.
– Да, но нужно же проверить билеты?
По условию полагалось им процентное отчисление.
Ответ:
– Мы никогда не проверяем билетов.
– Но как же иначе?
Ответ:
– Всякому человеку мы даем возможность обмануть нас. Но только один раз.
Пришлось носить им деньги в уборную.
Каждый день у них полагалась своя пища: когда, например, Роберт играл «Гамлета», он ел бифштекс и пил ланинскую воду. Когда играл «Отелло», то полагалась по расписанию пимы молочная.
Странные очаровательные люди, белые вороны…
Сознание своей артистической значительности у них было отчетливое.
Уже после революции, при Керенском, вдруг встречаю Роберта в Петербурге, на Невском Проспекте.
Выступает своей своеобразной походкой, на ногах – ботфорты, вид воинственный, бравый.
– Что вы делаете в Петербурге?
– Да вот подал прошение в Военное Министерство… Хочу ехать на фронт и там развлекать солдат чтением. Жду ответа уже третью неделю.
– И что же, когда едете?
– Когда едете! Мне ответили сегодня: «Ну что нам один Адельгейм? Нам для фронта нужно сто-двести Адельгеймов». Вы слышали что-нибудь подобное? Они хотят иметь сто-двести Адельгеймов. Адельгеймы на улицах валяются. На каждом углу стоит Адельгейм и ждет ихнего приглашения.
Возмущению его не было конца.
…И, скажу в заключение, – заветная моя мечта – перенести прах Роберта в Россию.
Если это не суждено мне, – то пусть со временем тот, кто когда-нибудь прочтет эти строки, – пусть он вспомнит о чудесном русском актере, прах которого засыпан чужой для него, итальянской землей. И я уверен, что будет в России намогильный камень с краткой надписью:
«Братья Адельгеймы».
И души театральных дон-Кихотов будут успокоены и благодарны.
Из других «вечных странников» особое внимание должно быть уделено П. Н. Орленеву.
Человек огромного таланта, он был угадан прозорливым А. С. Сувориным и был принят в театр Литературно-Художественного Общества на водевильные роли, которые и играл с неподражаемым мастерством.
Суворин увидел его случайно, в 1895 тоду, на сцене дачного театра в Озерках, где он с Домашевой играл «Школьную пару», «Роковой дебют», «Под душистою веткой сирени».
В этих же самых вещах Орленев и начал свою карьеру и в суворинском театре, но, когда Суворин получил разрешение на постановку «Царя Федора Иоанновича», Орленеву, совершенно неожиданно, было предложено сыграть Царя Федора.
Орленев сыграл и на другое утро проснулся знаменитостью.
Это было такое высокое художественное перевоплощение, что Петербург, видавший виды, ахнул от изумления.
Потом Орленев с таким же мастерством сыграл Освальда в пьесе Ибсена «Привидения».
Молниеносная слава Орленева упрочилась, и русский театр завел новое амплуа: неврастеников. Жизнь сделала свое дело, и неврастеники завоевали права печального гражданства.
Орленев по природе был алкоголиком. Под влиянием успеха, скоро составившейся российской известности, под влиянием легких побед, – побед без режиссера, – под влиянием газетных признаний и восторгов, – он с особой силой отдался своему пороку.
Он никогда не бывал трезв и перед спектаклем отпаивался молоком.
Рассказывали, что однажды ночью, едучи из ресторана домой, он осадил своего извозчика, на пьяных ногах подошел к городовому и в упор спросил его:
– Царь я или не Царь?
И растерявшийся городовой признал в нем Царя и вытянулся в струнку.
Это было в Петербурге после спектакля «Царя Федора».
Разумеется, с такими наклонностями он не мог долго оставаться в столичной труппе и вынужден был скитаться по России.
Я много возил его и всегда удивлялся, как этот человек может не только играть, но и вообще существовать на свете?
Пьяного, бесчувственного, измученного, мы в известный час доставляли его в театр, усаживали перед зеркалом, гримировали, и он, что называется, почти ползком находил место своего первого выхода.
Но вот роковой момент приближался!.. Помощник говорил ему:
– Ваш выход.
Орленев ударял себя обеими руками по бедрам и словно включал в них мотор внутреннего сгорания.
И появлялся на сцене свежий, озаренный, во всей силе своего исключительного дарования.
И всегда был на высоте. Чародействовал.
Ему не нужны были декорации, он никогда не обращал внимания на обстановку: он требовал только стул, на который он должен был сесть, и стол, на котором он должен был писать.
И публика никогда не замечала ни отсутствия декораций, ни бедности обстановки, ни того нищенского актерского состава, которым этот великий артист себя окружал.
Внимание зрителя он впитывал в себя до самой последней капли.
Вся соборная душа зрительного зала на несколько часов сосредотачивалась в его переставших дрожать руках.
Он поистине царил в театре и был, как любили говаривать когда-то, властителем душ.
Каждая роль была у него продумана до мельчайших подробностей.
Но… кончался спектакль, и этот блистательный человек снова превращался в жалкое нетрезвое существо и требовал штоф водки и одну черную маслинку на закуску.
Как он жил, откуда приобретал элементарные физические силы, не могу понять до сих пор, но прожил, все-таки, больше шестидесяти лет. Он был растратчиком своего богатого дара, своих сил, топя все в ночных бдениях.
Дузэ, Комиссаржевская, Орленев – родственны, артисты одной и той же тональности. Они, эти трое, обладали большой силой того, что на сцене называется самоотдачей. Только они могли увлекать, заражать и возносить!
«Царь Федор», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Привидения», «Горе-зло-счастье» В. Александрова, иногда «Евреи» Чирикова, – вот и весь репертуар, который, оторвавшись от постоянного и серьезного дела, Орленев сорок лет возил по всем городам и весям обширной России.
Дальский тоже был пьяница, но это был Кин: он любил дорогие отели, блеск, нарядные выезды и всегда кричал своему помощнику режиссера:
– Сашка! Пару лошадей!
– Сашка! Как ты одет? Секретарь Карузо не позволил бы себе этого!
Это у него была обычная ссылка на «секретаря Карузо», очевидно, у него составилось представление о себе, как об артисте, равном Карузо.
* * *
…И, когда я, сам вечный странник театра, треть своей жизни проведший в вагонах и пароходных каютах, – вспоминаю их, русских вечных странников, – я не могу обойти молчанием еще одного фанатика странствий Н. П. Россова.
Человек самого скромного происхождения, Россов рано «заболел» театром, самообразовался, сделался выдающимся шекспироведом, создал ряд классических ролей.
Идеалист, глубоко гуманный человек, Россов не составлял собственных трупп и «дел», не искал менеджеров, но за свой страх и риск переезжал из города в город, – все равно какой, – лишь бы там был «действующий» театр. И предлагал директору свои гастроли.
У Россова было имя среднего, но солидного актера, который борозды не испортит.
Он много писал о театре в столичных журналах и, в частности, в кугелевском «Театре и Искусстве», который очень был уважаем в глазах русского актерства.
Что же? Провинция гастроли любит, это всегда поднимает сборы. Гастролер – новый человек, приносит свой репертуар, хорошо обыгранный, риска нет, условия скромные – Россов всегда был желанным гостем.
Но иногда директор начинал артачиться и Россову отказывал.
Тогда Россов, невероятно заикаясь, говорил:
– Если не будет моих гастролей, застрелюсь на пороге вашего театра.
И вынимал из кармана здоровенный турецкий пистолет.
Испуганный антрепренер (а вдруг мимоходом в него пальнет, иди потом, доказывай) обыкновенно соглашался и получал два-три хороших сбора. «Гамлет», «Отелло», «Король Лир»… Между прочим, Гамлета Россов играл прекрасно.
Слушая Россова на сцене, никогда не могло придти в голову, что этот человек в жизни – безнадежный заика.
На сцене он говорил чисто, ясно, без всяких болезненных задержек.
Очевидно, и у него внутри был мотор, безошибочно действовавший.
Загадочная вещь сцена!
Россов умер в советской России на восьмом десятке лет.
Актер-кукушка, бездомный и безродный, – он вечно жил в мираже шекспировских чувств и только им отдал свою истинно подвижническую жизнь.
Вечная память!
* * *
«Ах, быстро молодость моя Звездой падучею мелькнула…» Пушкин.Что же еще?.. Что добавить, передать другим, вслух сказать самому себе?
– Эта книга воспоминаний – мой кипарисовый ящик, в котором я храню последнюю горсть русской, родной земли.
Отсюда, с чужой улицы La Boetie, низко кланяюсь матери России, которую ничто человеку заменить не может.
Благословляю милый родной город и милый родной дом, отцовскую шубу в прихожей, фикус в столовой, портрет Шувалова в детской комнате.
Благословляю все исхоженные пути-дороги, каждую тропу и каждую тропинку, и широкую колею, и узкую колею, и все рельсы, рельсы, рельсы, по которым мчали нас курьерские поезда, и везли на-авось теплушки…
А наипаче всего, благословляя, кланяюсь – пояс и до земли – любимому, неповторимому, Русскому Театру: запаху его кулис; бахроме его колыхающегося занавеса; суфлерской будке; волшебным огням рампы и малым и великим вершителям российской театральной славы, без которой жизнь была бы беднее, душа скуднее, а сердце суше.
Примечания
1
В Обществе Искусства и Литературы К. С. Станиславский впервые поставил 8 февраля 1891 г. пьесу Л. Н. Толстого: «Плоды просвещения». Играли: К. С. Станиславский (Звездинцев), В. Ф. Комиссаржевский (Бетси), М. П. Лилина (горничная Таня).
(обратно)2
М. М. Тарханов, попавший в труппу еще в Харькове, как я уже упомянул, по моей инициативе, сделался выдающимся артистом М.Х.Т., получив звание народного артиста.
(обратно)3
Первое выступление Ф. И. Шаляпина на сцене Большого театра в Москве, состоялось 26 сентября 1890 года в «Хованщине». Эта дата стала знаменательной датой, записанной на одной из славнейших страниц истории русского искусства.
Н. Малков, музыкальный критик начала 20-го века, назвал Шаляпина: гастролер per nature. Где бы Шаляпин ни выступал, в каком бы спектакле ни участвовал, он всегда оказывается неизмеримо выше своих партнеров. Любя беззаветно искусство, стремясь к художественной правде прежде всего, Шаляпин роковым образом нарушает цельность впечатления, на которое рассчитано данное сценическое произведение. Пред ним все меркнет. Когда поет Шаляпин, внимание зрителей сосредоточено исключительно на нем, остальные исполнители имеют лишь второстепенное значение. Оказываемое Шаляпиным подавляющее внимание на зрителей производит перемещение центра тяжести пьесы, точнее сводит на нет художественное равновесие. Созидая, Шаляпин разрушает. И так велика сила его сценического дарования, что даже незначительная партия, за которую возьмется Шаляпин, сразу вырастает на гигантскую высоту. Если хотите, в этом есть трагедия.
Носитель жизненных художественных начал, Шаляпин всегда являлся по существу гастролером. Шаляпина давила сила его дарования. Ему надо было или выступать только с Шаляпиными же или же примириться с положением гастролера. Вот крест, который суждено было нести Шаляпину всю жизнь. Не отсюда ли проистекали вспышки гнева, раздражительность и вспыльчивость, столь характерные для артиста? Не являлись ли они результатом болезненного столкновения с досадной немощью окружающей среды?
Шаляпин открыл дорогу шедеврам Римского-Корсакова, Мусоргского.
(обратно)
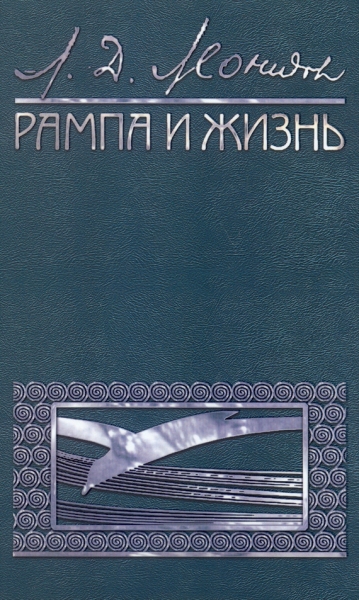




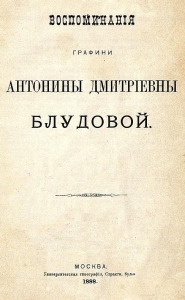

Комментарии к книге «Рампа и жизнь», Леонид Давидович Леонидов
Всего 0 комментариев