Рюрик Ивнев Серебряный век: невыдуманные истории
© Ивнев Р., наследник, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Александр Блок на берегах Невы
На одну невидимую нить были нанизаны, как бусины, и это венецианское окно снимаемой мною комнаты, и ветки берез с едва раскрывшимися почками, и книга Александра Блока «Нечаянная радость», и колеблемая ветерком желтая занавеска, похожая на мантию самого солнца, которое взошло в это майское утро 1909 года только для того, чтобы взглянуть, как юный студент теряет голову не от любви, а от стихов.
Но если я потерял голову от стихов Александра Блока, то и неожиданно сделал находку – ответ на мучивший меня вопрос, почему мои стихи не печатают. Ответ был равносилен падению с Эйфелевой башни. Хотя я видел ее только в раннем детстве, но хорошо представлял, что это значит. «Нечаянная радость» Блока, казалось, убедила меня в том, что, еще не родившись, я уже умер как поэт. Забегая вперед, скажу, что через два с половиной года Александр Блок если не воскресил меня, то, во всяком случае, не подписал смертного приговора, вынесенного тогда его стихами. Он же протянул мне рецепт для воскресения.
В чем же была тайна обаяния стихов Блока? Никто из нас, тогдашней молодежи, любящей поэзию, не мог этого объяснить обыкновенными словами. Мы становились в тупик, когда кто-нибудь из «трезвомыслящих» говорил нам, что «куплеты Блока» ничто перед такими, к примеру, стихами Батюшкова:
Я берег покидал туманный Альбиона, Казалось, он в волнах свинцовых утопал. За кораблем неслася гальциона, И тихий глас певцов ее увеселял.Нам эти стихи очень нравились, но «Незнакомка» Блока, лишенная торжественности Батюшкова и полная неведомой еще нам таинственной силы, больше волновала и кружила голову.
В то время никто из нас еще не знал, что Александр Блок, по его же словам, был лишен самого элементарного музыкального слуха. Да и вряд ли мы тогда поверили бы этому, очарованные прежде всего тончайшей инструментовкой, музыкой его поэзии.
Певучесть стихов Блока была равна соловьиной. Мы могли только чувствовать эту певучесть, но не анализировали ее.
Теперь я думаю, что, может, отсутствие музыкального слуха и сделало столь тонким и изощренным его поэтический слух.
В 1911 году его величество случай поселил меня рядом с Александром Блоком на Малой Монетной в маленьком деревянном особнячке, похожем на мальчика, заблудившегося в каменном лесу новых домов, стремительно выраставших на Каменноостровском проспекте за рекой Карповкой. Подумать только, Александр Блок проходит каждый день по улицам, по которым хожу я! И опять взрывается пласт времени и перекладывает по-своему все предметы и впечатления, ставя знак равенства между реально существующими вещами и оттенками мыслей и ощущений.
И над всем этим витает маленькое облачко все более и более увеличивающегося желания пойти к Александру Блоку. Оно вырастало, как бы пробиваясь через ограду юношеской скромности, препятствовавшей ворваться без спроса в жизнь большого поэта. Только в эти дни я понял по-настоящему, что спор с самим собой куда труднее спора с другими. Мой товарищ Юрий Ясницкий говорил мне, что если я не решусь пойти к Блоку теперь, когда он живет рядом со мной, то я уже никогда к нему не соберусь, и добавлял: «И будешь потом рвать на себе волосы».
И вот я решился. Волнуясь с каждой ступенькой все больше, поднялся по лестнице и нажал наконец кнопку звонка, от которой отскакивал раз десять, если не больше.
…Дверь открылась. Все оказалось проще, чем я ожидал. Никто меня не спросил, кто я такой, живу ли я в Петербурге или приехал из провинции и по какому делу пришел. Потом, когда я рассказывал моим сверстникам о посещении Блока, восхищаясь той простотой, с которой он меня встретил, кто-то из них пытался острить, что нет ничего удивительного в том, что автор «Незнакомки» так легко и просто принял незнакомца. Когда Блоку сказали, что пришел студент, он вышел в переднюю и повел меня в глубь квартиры. Если бы это происходило сейчас, в наши семидесятые годы, то я бы не удивился, но тогда обстановка, в которой жил Блок, меня поразила. В ней ничего не было типичного для того времени, для среднебуржуазного быта, даже обязательных, как погоны или кушак для солдата, спальни, столовой и гостиной. Александр Блок выбросил этих «трех китов» в свои большие светлые окна. Все три комнаты напоминали усеченную анфиладу. В каждой из них были широкие диваны, полки с книгами, цветами, небольшие книжные шкафы. Полное отсутствие громоздкой мебели, несколько картин, из которых я запомнил Кустодиева и Судейкина, и две или три фарфоровые вазы. Модных тогда кресел и диванов стиля «модерн» не было, стулья простые, полумягкие, но быт отсутствовал или так глубоко запрятался, что его никак нельзя было обнаружить.
Мы прошли через две комнаты в третью. Все двери были раскрыты настежь. В последней Блок остановился у одного из столиков, на котором не было ничего, кроме нескольких книжек, по-видимому, только что полученных. У меня было такое впечатление, как будто я вошел не в незнакомую квартиру, а в обжитую, где я часто бывал. И Александр Блок был простым, отнюдь не натянутым. Обычно большинство известных людей бессознательно играют роль, которую полагается играть знаменитостям. Блок не задал мне ни одного трафаретного вопроса, он просто начал говорить со мною как с человеком, с которым часто встречался, и вышло как-то естественно, что я без всякого прямого вопроса начал ему рассказывать, что учился в Тифлисском корпусе, но не захотел поступать в юнкерское и приехал в Петербургский университет только потому, что в Петербурге у меня много родственников, в Москве – никого. Блок слушал с таким вниманием и интересом, что я рассказал почти всю свою биографию и, конечно, не скрыл, что начал писать стихи с девятьсот четвертого года, и что в девятьсот шестом году дал тетрадь моих ученических стихов преподавателю русского языка Владимиру Ивановичу Базилевичу, и как меня удивило то, что, указав на наименее слабые стихи, он ни слова не сказал про политические, вроде «Добьемся кровавой ценою свободы, желанной для всех». Блок улыбнулся, вероятно, вспомнив свои стихи девятьсот пятого года, и задал мне единственный вопрос: «Какого поэта вы больше всего любите?» Я молчал, так как сказать «вас» было бы как-то неудобно. «А стихи молодого Алексея Толстого вам нравятся?» Молодого Алексея Толстого я не читал, поэтому промолчал. Блок, вероятно, это понял и взял со стола маленькую книжечку стихов, прочел:
Родила меня мать в гололедицу, Пестовал меня лютый мороз.Разве это не хорошо? Или вот:
И росли золотые волосики У меня на груди и спине.Мне эти стихи очень понравились, но сказать «нравятся» не повернулся язык. Потом я понял, что это было глупо с моей стороны, но, наверное, объяснимо: я так был счастлив, что разговор с Блоком шел гладко и естественно, что боялся какой-нибудь неудачной фразой все испортить. Ответил я так: «Стихи хорошие, но не такие, которые любишь до самозабвения». Александр Блок улыбнулся опять, вероятно, поняв, чьи стихи я люблю до самозабвения. Беседа закончилась тем, что я попросил его прочесть мои стихи и рассказик, напечатанные в одном сборнике. Блок взял мой адрес и сказал, что свое мнение он мне напишет.
С этого дня я только и думал о том, что мне напишет Блок. Наконец ответ пришел в лиловом конверте с черной подкладкой.
Письмо было очень суровое, но доброжелательное. Он дал мне рецепт лекарства, которое должно было вылечить меня от слепого подражания декадентам.
В шестидесятые годы я прочел в дневнике Блока: «… ноября 1911 года. Приходил студент Ковалев с честными, но пустыми глазами». И я подумал, как опасно приходить к знаменитостям. А вдруг бы он написал «с выразительными, но лживыми глазами»? Это было бы куда неприятнее. Зато в письме ко мне, в котором он подвергал строгой критике мои стихи, он писал: «Все, что Вы рассказывали мне о себе, было гораздо живее и интереснее того, что Вы пишете».
Александр Блок был замкнут не для всех, но для многих. Числясь в литературном кругу Петербурга, он в то же время как бы отсутствовал в нем, так как не любил бывать в литературных салонах и ни разу не был в кафе «Бродячая собака», хотя там очень часто бывала его жена.
У Блока было врожденное отвращение ко всякой ходульности, напыщенности, шаблону, пошлости и мещанству. Даже легкий налет пошлости раздражал его и вызывал неприязнь к тем, кто был в этом повинен.
Особенно он ненавидел «окололитературных прилипал», которые проникали во все щели помещения, в котором хотя бы чуть-чуть «пахло литературой». От них некуда было деться, и оставалось только одно – терпеть их присутствие, так как все же их услугами иногда администраторы театров и литературных кафе пользовались. Все они были назойливы и трусливы, и стоило им резко ответить, как они стушевывались. Корректный и вежливый Блок не мог произнести «резкого слова» и поэтому просто избегал те места, где мог их встретить.
Я представляю себе, как его отпугивала мысль, что какая-нибудь весьма почтенная дама, вздыхая и охая, начнет просить его, чтоб он ей рассказал, как он себя чувствует, когда создает стихи или же отвечает на вопрос: «Вы часто думаете о своей Прекрасной Даме?», или скажет: «Но кто же была эта «Незнакомка», которую вы так дивно описали?» Я убежден, что именно эти причины отпугивали Александра Блока от слишком частого соприкосновения с литературными кругами Петербурга.
…Второй раз судьба столкнула меня с Блоком через четыре года после встречи на Большой Монетной именно в одном из салонов, которые он так не любил.
Это было в 1915 году. Жене Федора Сологуба Анастасии Николаевне Чеботаревской удалось каким-то образом «заманить» Блока в свой салон.
Я был на этом вечере с моим другом пианистом Николаем Бальмонтом (сыном поэта). Александр Блок пришел позже, как всегда корректный и собранный, очень мрачный. Мрачность эта не была ни напускной, театральной, ни тем более вульгарной мрачностью опустившегося человека. Это была мрачность, одухотворенная глубоким страданием.
В ту пору публичных собраний было больше обычного, ибо война породила множество благотворительных вечеров в пользу раненых, сбора средств для фронта и т. п. Блок нередко выступал на таких вечерах. Но выступать в салоне… Однако вежливость не позволила ему отказаться, когда хозяйка вскоре попросила его прочесть «что-нибудь новое».
И вот он своим характерно глуховатым голосом, без тени скандирования, модность которого игнорировал, начал вместо «нового» читать самое подходящее к его настроению стихотворение из цикла «Пляски смерти» (1912 год). В сущности, это была публичная исповедь, ибо всем было ясно, кто был героем стихотворения Блока. Когда он дошел до строк, как, утомившись хождением по городу,
В зал многолюдный и многоколонный Спешит мертвец. На нем – изящный фрак. Его дарят улыбкой благосклонной Хозяйка – дура и супруг – дурак…Аудитория замерла. Я сидел на одном пуфе, спиной к спине с Николаем Бальмонтом, и почувствовал, как его спина дрожит от сдерживаемого смеха. Я посмотрел на Чеботаревскую и Сологуба. И он и она настолько были убеждены в том, что Блок читал это стихотворение без задней мысли, что все стало на свои места и прошло бы вполне благополучно, если бы вдруг не раздался визгливый смешок какой-то девицы. Но и этот смешок быстро утонул в благопристойном молчании, не вызвал, как это бывает в театрах, всеобщего хохота.
Строгое правило не аплодировать, введенное Художественным театром, было установлено и в салоне Сологуба – Чеботаревской. После того как Блок кончил читать, хозяйка сделала как бы маленький перерыв и потом попросила меня прочесть стихи. Я набрался смелости или, вернее, наглости, сидя почти рядом с Блоком, прочесть, да еще, вдобавок, яростно скандируя, стихотворение – явное подражание Блоку:
Пересекаю всю Россию, И предо мной одно: вокзал. И в нем горят твои слепые И сумасшедшие глаза.Кончив читать, я посмотрел на Александра Блока. Но у него был такой отрешенный вид, как будто он даже не слышал того, что я читал.
Ни один поэт не был так кровно связан с Петербургом, как Блок. Казалось, что он дышит петербургском воздухом даже тогда, когда бывает вдали от него. Тени Блока витают по всему городу, особенно по тем местам, где он бывал часто. Вот шпиль над Адмиралтейством. Вот неповторимый Летний сад; сколько раз гулял я с Володей Чернявским, ярым поклонником Блока, и Володя, сжимая мне руку, шептал: «Посмотри, вот идет Блок». Вот аудитория «же де пом» в университете, в которой юный Блок читал свои ранние стихи. Я помню эту аудиторию с 1908 года. От нее веяло как бы законсервированной стариной, перенося нас в Париж 1789–1794 годов. Петербург неотделим от Блока. Иной раз мне казалось, что Исаакий, Петр на вздыбленном коне, Острова, кони Клодта на Аничковом мосту и Летний сад – это не что иное, как иллюстрация к ненаписанной книге «Александр Блок и Петербург».
И вот последняя встреча. Середина декабря 1917 года… Я иду к поэту с приглашением выступить на большом митинге «Интеллигенция и советская власть». Свое согласие уже дали А. М. Коллонтай, В. Э. Мейерхольд, художник Петров-Водкин, Сергей Есенин. Блок жил уже не на Большой Монетной, столь памятной мне, а на Офицерской, вблизи Мариинского театра. Блок был один. Открыл дверь и, увидев меня, приветливо улыбнулся. Мы вошли в его кабинет. Блок был весь как натянутая струна – редко кто, пожалуй, так остро переживал тревогу за судьбу России. Когда я объяснил цель митинга, он без всякого колебания дал согласие.
О благородной позиции А. А. Блока в самые бурные дни и месяцы советской власти столько написано, что я не буду повторять известного.
Перехожу к последнему эпизоду, связанному с именем поэта.
Хотя один из моих друзей уверял меня, что подробности этого эпизода уместны лишь в новелле, а в очерке недопустимы, я все же пренебрег советом их опустить, ибо мне кажется, что это было бы равносильно тому, чтобы вырезать ножницами беленький платочек из картины Крамского «Неутешное горе» на том основании, что это «маленькая деталь».
Каждое утро как секретарь Луначарского я приезжал к Анатолию Васильевичу домой. Жил он тогда на углу Бассейной улицы и Литейного проспекта с женой Анной Александровной и четырехлетним сыном Толиком.
Утром 18 февраля 1918 года я, как обычно, приехал к нему в 9 часов. Толик почти всегда вертелся у него в кабинете во время моего доклада. На этот раз он был настроен особенно шаловливо. Взобравшись на колени отца, он его тормошил и мешал подписывать бумаги, которые я ему подавал. Луначарскому приходилось отодвигаться то в одну, то в другую сторону, чтобы Толик не свалился на пол. Малышу, очевидно, эти «живые качели» нравились, и он норовил раскачать их еще сильнее. Не знаю, чем бы кончились эти шалости, если бы не вошла Анна Александровна и не увела его из кабинета.
Кончив заниматься, мы собрались ехать в Зимний дворец. Когда садились в машину, один из наших сотрудников, Артур Лурье, протянул газету и сказал: «Анатолий Васильевич, в газете “Знамя труда” опубликованы “Двенадцать” Блока».
О том, что Александром Блоком написана поэма «Двенадцать», знал уже весь литературный Петербург.
Я наблюдал, как Анатолий Васильевич углубился в чтение, время от времени поправляя пенсне.
Солнце то выглядывало из-за туч, то пряталось. Оно, попадая своим ослепляющим лучом в стекла пенсне Луначарского, заставляло его маневрировать, отодвигаясь то в одну, то в другую сторону, совсем как недавно он отодвигался от Толика, мешавшего ему подписывать бумаги.
По выражению лица я понял, что поэма ему нравится.
Закончив чтение, Анатолий Васильевич взглянул в окно, за которым вырисовывались колонны Зимнего дворца, и сказал:
– Так написать мог только большой поэт. Это не гимн революции, но ее глубокое и искреннее понимание. Рождено оно долгим раздумьем. Этой поэме суждено бессмертие.
Когда я думаю об Александре Блоке, мне кажется, что я стою на перроне огромного вокзала и провожаю глазами медленно отходящий поезд, в котором собраны все события жизни поэта – страстная любовь к матери, женитьба, разочарование, смятение, страдания, доводящие Блока до трактирной стойки, волшебные стихи, искания, заблуждения, просветление, взлеты духа, падение и ранняя смерть. Но вот поезд исчез, окутанный сплошным туманом, а поэт стоит на перроне. Он не умер, нет, он никуда не уезжал и не уезжает…
О Сергее Есенине
Самыми правдивыми мемуарами считают «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Но я никогда не забуду, что сказал однажды Вячеслав Иванов:
«Руссо думал, что он дал предельно правдивую исповедь, но она получилось у него самой лживой, так как он исказил в ней до неузнаваемости свой собственный образ, исказил сознательно, полагая, что смакование своих недостатков есть наивысшая правдивость.
А самое большое достоинство мемуаров – это то, когда автор дает правдивый образ человека, а не одни правдивые факты».
Вячеслав Иванов сказал мне это, когда я был еще молодым человеком, когда у меня не было знания жизни, и лишь теперь, на склоне лет, я понял, насколько он был прав.
Если автору мемуаров удалось дать правдивый образ того, о ком он пишет, – значит, он честно выполнил свой долг перед историей.
Приступая к воспоминаниям о Сергее Есенине, я прежде всего руководствовался целью дать глубоко правдивое повествование.
Поэзия Есенина дорога миллионам русских людей и миллионам людей других национальностей, читающих и пишущих на русском языке.
Вот об этих миллионах людей и надо думать, когда пишешь о Есенине, стараясь, чтобы образ их любимого поэта дошел до них таким, каким он был в жизни, чтобы в своих воспоминаниях не допускать ни одного неточного факта и ни одного неточного освещения факта.
…Глубокая ночь. За окном, задернутым синей шторой, бушует вьюга.
Поселок Голицыно погружен в сон. Я пишу свои воспоминания о Сергее Есенине.
Сейчас февраль, 1964 год.
Первая моя встреча с Есениным произошла почти полвека назад. Не хватает одного года и одного месяца до этой даты.
В эту минуту мне кажется, что я смотрю с отвесной скалы на раскинувшуюся передо мной равнину, подернутую легким туманом, сквозь завесу которого иногда прорываются яркие картины прошлого. По загадочным законам памяти эта первая встреча с Есениным, со всеми ее мельчайшими подробностями, вырисовывается передо мной так ярко и выпукло, будто произошла она не в марте 1915 года, а вчера.
Сейчас, в ночной тишине, которую нарушает только вьюга, образ Есенина встает передо мной, и мне кажется, что в картинной галерее нашей памяти портрет Есенина нарисован какими-то особенно яркими и теплыми красками, – не только потому, что он бесконечно дорог мне, но и потому, что он обладал редким свойством «врезаться» в память всех, кто его видел.
* * *
Март 1915 года. Петроград. Зал Дома Армии и Флота. Литературный вечер, один из тех, которые устраивались в ту пору очень часто. Война, начавшаяся в 1914 году, не только не мешала устройству таких вечеров, но скорее даже способствовала, так как давала повод не только частным импресарио, но и многочисленным общественным организациям приобщаться к делу обороны страны, объявляя, что доход с вечера идет в пользу раненых, на подарки солдатам и т. п.
В антракте подошел ко мне юноша, почти еще мальчик, скромно одетый. На нем был простенький пиджак, серая рубашка с серым галстучком.
– Вы Рюрик Ивнев? – спросил он.
– Да, – ответил я немного удивленно, так как в ту пору я только начинал печататься и меня мало кто знал.
– Я тоже пишу стихи.
Тогда много было пишущих «из народа». Подумалось: вот предстоит казнь – очередного графомана слушать! Но «проклятая» интеллигентность не позволила отмахнуться. Мы отошли в сторонку. И – Боже мой! – на меня повеяло от прочитанного свежим духом земли!
Всматриваюсь в подошедшего ко мне юношу: он тонкий, хрупкий, весь светящийся и как бы пронизанный голубизной.
Вот таким голубым он и запомнился мне на всю жизнь.
Мне захотелось определить, понимает ли он, каким огромным талантом обладает. Вид он имел скромный, тихий. Стихи читал своеобразно. Приблизительно так, как читал их и позже, но без того пафоса, который стал ему свойствен в последующие годы. Казалось, что он еще и сам не оценил самого себя. Но это только казалось, пока вы не видели его глаз. Стоило вам встретиться взглядом с его глазами, как «тайна» его обнаруживалась, выдавая себя: в глазах его прыгали искорки. Он был опьянен запахом славы и уже рвался вперед. Конечно, он знал себе цену. И скромность его была лишь тонкой оболочкой, под которой билось жадное, ненасытное желание победить всех своими стихами, покорить, смять.
Помню хорошо его манеру во время чтения перебирать руками концы пиджака, словно он хотел унять руки, которыми впоследствии потрясал свободно и смело.
Как выяснилось на этом же вечере, Есенин был прекрасно знаком с современной литературой, особенно со стихами. Не говоря уже о Бальмонте, Городецком, Брюсове, Гумилеве, Ахматовой, он хорошо знал произведения других писателей. Многие стихи молодых поэтов знал наизусть.
В этот вечер все познакомившиеся с Есениным поняли, каким талантом обладает этот на вид скромный юноша.
Один Федор Сологуб отнесся холодно к Есенину. На мой вопрос: «Почему?» – ответил:
– Я отношусь недоверчиво к талантам, которые не прошли сквозь строй «унижений и оскорблений» непризнания. Что-то уж больно подозрителен этот легкий успех!
Литературная летопись не отмечала более быстрого и легкого вхождения в литературу. Всеобщее признание свершилось буквально в какие-нибудь несколько недель. Я уже не говорю про литературную молодежь. Но даже такие «мэтры», как Вячеслав Иванов и Александр Блок, были очарованы и покорены есенинской музой.
Анализируя сейчас, почти полвека спустя, причины такого необыкновенно легкого и быстрого успеха Есенина, мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, оставляя в стороне огромный талант Есенина, что его появление и быстрое признание были как бы подготовлены той литературной атмосферой, которая царила в ту пору в Петрограде.
В 1915 году уже отошли на второй план первые боевые схватки футуристов, успевших добиться известности (в столице футуризм, разбившись на несколько групп, порой враждовавших друг с другом, перестал занимать публику). Многие футуристы, не переставая называть себя футуристами, начали печататься и в нефутуристических издательствах и журналах, их имена запестрели в газетах и других изданиях, прогрессивных по тому времени.
Появилась новая школа акмеистов с двумя лидерами: Николаем Гумилевым и Сергеем Городецким, в которую вошли уже тогда известные поэты Анна Ахматова, Осип Мандельштам и Георгий Иванов. У них был свой журнал «Гиперборей», отличавшийся от всех прочих тем, что имел только два отдела: «Стихи» и «Критика» (причем критике подвергались только стихи).
На смену вечерам «одних футуристов» или «одних акмеистов» стали все чаще и чаще устраиваться «смешанные вечера», без упоминания школ, к которым принадлежали выступавшие поэты.
Несмотря на обилие крупных талантов, общая атмосфера в столичной писательской среде была душной и нездоровой. Пусть просвещенный, но все же «голый эстетизм» – искусство для искусства, стихи для стихов – царил в ней.
«Животрепещущие вопросы» – о народе, о России, о войне – затрагивались как-то вскользь и тоже с позиций эстетизма. Здесь почти все литературные направления, несмотря на их внешнее несходство, как бы сливались в одном течении реки, катившей свои воды мимо народа с его чаяниями и надеждами. Многие поэты и писатели того времени все это сознавали, и некоторые из них (особенно Александр Блок) тяготились этим, но выйти из «заколдованного круга» или не могли, или не решались. И в этот момент появился Есенин.
Для литературного Петрограда «крестьянский парень из Рязани» явился как бы «представителем народа». В душной комнате запахло свежей травой. Кроме того, огромный природный талант Есенина нельзя было не заметить. К Есенину протянули свои щупальца и эстетствующие дамы (Зинаида Гиппиус), и «деловые люди» вплоть до придворных кругов, желая «приручить» «крестьянского парня».
Есенин, сам того не ожидая, оказался «козырем», который противодействующие элементы захотели заполучить для своей игры. Одними (как Зинаида Гиппиус) руководило мелкое тщеславие украсить свой салон «восходящей звездой», у других (придворные круги) был более дальний прицел.
Им хотелось сделать Есенина рупором своих взглядов, сделать из него если не придворного поэта, то, по крайней мере, нового, более певучего «соловья над кровью»[1].
Есенин пришел в Петроград минута в минуту, в момент, когда его как бы ожидали многие, хотя и по совершенно разным мотивам. А виновник неожиданного для него торжества всех вежливо выслушивал, хитро улыбаясь и ни с кем не соглашаясь, удивительно ловко обходил расставленные для него сети.
После литературного вечера в марте 1916 года небольшой компанией – я, Чернявский, Струве, Есенин, с которым я познакомился, – мы отправились к Косте Ландау, у которого была отдельная комната в полуподвальном помещении на Фонтанке, на углу Невского. Эту комнату он обставил столь причудливо, что я шутя назвал ей «Лампой Аладдина».
Здесь в течение нескольких дней Есенин читал нам свои стихи. А мы, как завороженные, без устали слушали их, казавшиеся нам откровением, уводившие нас в совершенно другой мир, вовсе не знакомый или знакомый только понаслышке. В эти дни мы жили и дышали только стихами Есенина. Все остальное отошло на дальний план.
Судя по тому, что я абсолютно не помню, у кого жил в то время Есенин, с кем, помимо нашей компании, он встречался, какие у него были планы на дальнейшее, я, поглощенный его стихами, никогда ни о чем его не расспрашивал и не касался никаких «бытовых вопросов».
Недели через две после первой встречи с Есениным я решил, что можно и нужно познакомить с его творчеством более широкий круг моих друзей и знакомых. Но для этого надо было найти помещение более обширное, чем подвал Ландау.
Я жил в ту пору на Большой Самсоньевской улице, около Литейного проспекта, снимал комнату на «полном пансионе» у родителей моего друга детства Павлика Павлова. Квартира Павловых занимала целый этаж. Я попросил их уступить на «вечер в честь Есенина» большой библиотечный зал. Они не только охотно согласились, но Анастасия Александровна Павлова взяла на себя обязанность «невидимой хозяйки» готовить чай и угощение, не показываясь гостям, чтобы «не мешать молодежи».
Я разослал по почте приглашения.
В назначенный час публика начала съезжаться.
Есенин, Чернявский, Ландау и Струве пришли ко мне задолго до этого и встречали гостей вместе со мной. Сначала мы расположились в моей комнате, а когда гости съехались, перешли в библиотечный зал. Здесь Есенин, взобравшись на складную библиотечную лестницу, начал читать стихи.
Выступление юного поэта в тот памятный вечер было только началом его триумфального пути. Все присутствовавшие не были связаны никакими «школами» и искренне восхищались стихами Есенина только потому, что любили поэзию, – ведь то, что они услышали, было так не похоже на все, что им приходилось до сих пор слышать. Неизменным спутником успеха в то время являлась зависть, которой были одержимы более других сами по себе далеко не заурядные поэты Георгий Иванов и Георгий Адамович. Я нарочно не пригласил их.
В тот вечер я сделал все, чтобы даже тень зависти и недоброжелательства не проскользнула в помещение, где Есенин читал свои стихи.
Но не обошлось и без маленького курьеза.
Когда я почувствовал, что Есенин начал уставать, я предложил сделать перерыв. Есенин и наиболее близкие мне друзья снова перешли в мою комнату. Я носился между библиотекой и столовой Павловых, помогая Анастасии Александровне по хозяйству, так как она, верная своему «обету», не показывалась гостям. Вдруг раздался звонок. Пришел запоздалый гость, которого я пригласил специально для Есенина, зная, что он очень любит стихи Баратынского. Это был правнук поэта – Евгений Георгиевич Геркен-Баратынский. Мы задержались на минуту в передней.
В это время я услышал громкий хохот, доносившийся из моей комнаты, и сейчас же открыл дверь. Меня встретило гробовое молчание. В комнате было темно, электричество выключено. Я включил свет. Есенин, лукаво улыбаясь, смотрел на меня невинными глазами. Струве засмеялся и тут же, взяв всю вину на себя, объяснил мне, что Есенин по его просьбе спел несколько деревенских частушек, которые неудобно было исполнять публично.
Стены моей комнаты, отделявшие ее от столовой, были фанерные. Я посмотрел на Есенина и глазами показал ему на стену. Он сразу все понял, виновато заулыбался своей необыкновенной улыбкой и прошептал:
– Ну не буду, не буду!
В это время вошел Геркен-Баратынский. Я познакомил его с Есениным и сказал:
– Вот правнук твоего любимого поэта.
Есенин тут же прочел несколько стихотворений Баратынского.
Потом мы снова перешли в библиотечный зал, и Есенин продолжил чтение своих стихов.
* * *
После вечера в «библиотеке Павлова» наши встречи с Есениным продолжались в подвале «Лампы Аладдина», где Есенин читал все свои новые произведения.
Никому из нас не приходила в голову мысль устраивать какой-либо «литературный кружок» и читать там свои стихи. Мы так были увлечены творчеством Есенина, что о своих стихах забыли. Я думал только о том, как бы скорее услышать еще одно из его новых стихотворений, которые ворвались в мою жизнь как свежий весенний ветер.
Под влиянием наших встреч я написал и посвятил ему стихотворение, которое «вручил» 27 марта 1915 года.
Два дня спустя, 29 марта, Есенин ответил мне стихотворением «Я одену тебя побирушкой».
С этих пор наша дружба была скреплена стихами.
Если я и продолжал выступать на литературных вечерах, когда получал приглашения, то делал это как бы механически. Сейчас меня удивляет, как я мог остаться самим собой и не попасть под его влияние, настолько я был заворожен его поэзией. Может быть, это произошло потому, что где-то в глубине души у меня тлело опасение, что если я сверну со своей собственной дороги, то он потеряет ко мне всякий интерес.
Слушая стихи, Есенин всегда высказывал свое откровенное мнение, не пытаясь его смягчить, если оно было отрицательным. Больше того, если он даже хотел это сделать, то не смог бы. Он не умел притворяться, когда речь шла о поэзии. Это хорошо знали мои друзья по «Лампе Аладдина» и потому не пытались представить на «суд Есенина» свои стихи. Что касается меня самого, то, хотя его просьба в первый день нашего знакомства прочесть ему свои стихи давала мне повод думать, что они ему нравились, я начал читать только тогда, когда убедился, что, несмотря на разные темы и разные «голоса», ему не чуждо мое творчество.
Когда Есенину что-либо нравилось, он высказывал свое одобрение не только словами. Первыми реагировали глаза, в которых загорались какие-то особенные, ему одному свойственные искорки, затем появлялась улыбка, в которой просвечивала радость, а потом уже с губ слетали слова.
Есенин очень любил шутить и балагурить. У него было удивительное умение перевести на «шутливые рельсы» самый серьезный разговор и, наоборот, шутливый разговор незаметно перевести в серьезный. Иногда, как бы тасуя карты партнера, он, хитро улыбаясь, нащупывал мнение собеседника быстрыми вопросами, причем сразу нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит. Как-то, беседуя с ним, я сказал, что у него хитрые глаза. Он засмеялся, зажмурился, а потом открыл свои повеселевшие очи и спросил, улыбаясь:
– Хитрые? Ты находишь, что они хитрые? Значит, считаешь, что я хитрый? Да?
Он очень огорчился, когда я ему ответил, что хитрые глаза совсем не означают, что он хитрый.
– Пойми меня, – объяснял я ему, – что хитрость в том и заключается, чтобы о ней никто не догадывался. А если хитрость сама вылезает наружу, сияет в глазах и как бы довольна, что ее замечают, то какая же это хитрость?
Но Есенин не сдавался, он не скрывал своего огорчения моим «разъяснением» и продолжал:
– Но как могут глаза быть хитрыми, если сам человек не хитер?
– Значит, я неправильно выразился. Не хитрые, а кажущиеся хитрыми.
– Нет, нет, – не унимался Есенин, – вот ты хитришь со мной. Назвал хитрым, а теперь бьешь отбой.
– Можно подумать, что ты цепляешься за хитрость как за высшую добродетель.
– Нет, нет, ты мне отвечай на вопрос: я хитрый? Да?
– Нет, ты совсем не хитрый. Но хочешь казаться хитрым.
– Значит, я все же хитрый, раз хочу быть хитрым.
– Самый хитрый человек – это тот, о хитрости которого никто не подозревает. Хитер тот, о хитрости которого узнают только после его смерти, а какая же это хитрость, если о ней все знают при жизни?
Есенин слушал меня внимательно. Над последней фразой он задумался. Потом, тряхнув головой, засмеялся:
– Ты думаешь одно, а говоришь о другом. Сам знаешь, что таких хитрецов не существует. Шила в мешке не утаишь.
* * *
Увы! Ямы и провалы существуют не только на лесных тропах и на целине, но и в памяти. Я совершенно не помню, как оборвалась пестрая лента встреч в подвале «Лампы Аладдина». Помню только, как мрачнела столица империи, сотрясаемая неудачами на фронте. Мережковский опубликовал в московской газете «Русское слово» мистическую статью «Петербургу быть пусту», вытащив из архива запыленную фразу какого-то старца времен Петра Первого; помню «министерскую чехарду» и отголоски дворцовых клоунад.
Струве отправился на фронт. Чернявский болел. Я получил телеграмму из Тифлиса о серьезной болезни матери и уехал на Кавказ.
После выздоровления матери я возвратился в Петроград. Есенин в это время был взят в армию и служил «нижним чином» в Царском Селе.
Шел 1916 год. Свершилось убийство «легендарного старца» Распутина.
Исчезает хлеб. Появляются очереди. Гудки заводов и фабрик начинают звучать по-иному. В них слышится уже мощный голос 1917 года. Георгий Иванов через 30 лет в своих воспоминаниях, изданных в Париже, жаловался, что «девизом» этого года для «литературного Петербурга» была песенка Михаила Кузмина, которую тот исполнял сам под свой же аккомпанемент на рояле:
Дважды два – четыре, Два плюс три – пять. Остальное в мире Нам не надо знать.Кадетам грезилась буржуазная республика. Милюков атаковал в Государственной Думе царского премьера Штюрмера. Речь Милюкова была запрещена военной цензурой, но армия машинисток молниеносно перепечатала и распространила ее по всему городу. Через каждые десять строчек в ней повторялись слова:
«Что это – глупость или измена?»
С Есениным в это время я не встречался, так как он жил в Царском Селе на положении солдата. Зато другого солдата «пулеметной роты», Владимира Маяковского, я встречал почти каждый день в квартире Лили Юрьевны Брик, где по вечерам в узком кругу друзей он читал свои замечательные стихи.
Вновь встретился я с Есениным уже после того, как он вышел из «царскосельского плена». Это было недели через две после Февральской революции. Был снежный и ветреный день. Вдали от центра города, на углу двух пересекающихся улиц, я неожиданно встретил Есенина с тремя, как они себя именовали, «крестьянскими поэтами»: Николаем Клюевым, Петром Орешиным и Сергеем Клычковым. Они шли вразвалку и, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то особенном возбуждении, размахивая руками, похожие на возвращающихся с гулянки деревенских парней.
Сначала я думал, что они пьяны, но после первых же слов убедился, что возбуждение это носит иной характер. Первым ко мне подошел Орешин. Лицо его было темным и злобным. Я его никогда таким не видел.
– Что, не нравится тебе, что ли?
Клюев, с которым у нас были дружеские отношения, добавил:
– Наше времечко пришло.
Не понимая, в чем дело, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне. Он подошел и стал около меня. Глаза его щурились и улыбались. Однако он не останавливал ни Клюева, ни Орешина, ни злобно одобрявшего их нападки Клычкова. Он только незаметно для них просунул свою руку в карман моей шубы и крепко сжал мои пальцы, продолжая хитро улыбаться.
Мы постояли несколько секунд, потоптавшись на месте, и молча разошлись в разные стороны.
* * *
Через несколько дней я встретил Есенина одного и спросил, что означает тот «маскарад», как я мысленно окрестил недавнюю встречу. Есенин махнул рукой и засмеялся.
– А ты испугался?
– Да, испугался, но только за тебя!
Есенин лукаво улыбнулся.
– Ишь как поворачиваешь дело.
– Тут нечего поворачивать, – ответил я. – Меня испугало то, что тебя как будто подменили.
– Не обращай внимания. Это все Клюев. Он внушил нам, что настало «крестьянское царство» и что с дворянчиками нам не по пути. Видишь ли, это он всех городских поэтов называет дворянчиками.
– Уж не мнит ли он себя новым Пугачевым?
– Кто его знает, у него все так перекручено, что сам черт ногу сломит. А Клычков и Орешин просто дурака валяли.
Прошло месяца три. Как-то мы шли с Есениным по Большому проспекту Петроградской стороны. Указывая глазами на огромные красивые афиши, возвещавшие о моей лекции в цирке «Модерн», он подмигнул мне и сказал:
– Сознайся, тебе ведь нравится, когда твое имя… раскатывается по городу?
Я грустно посмотрел на Есенина, как бы говоря: если друзья не понимают, тогда что уж скажут враги?
Он сжал мою руку:
– Не сердись, ведь я пошутил.
После небольшой паузы добавил, опять заулыбавшись:
– А знаешь, все-таки это приятно. Но ведь в этом нет ничего дурного. Каждый из нас утверждает себя, без этого нельзя. Афиша ведь – это то же самое, если бы ты размножился и из одного получилось двести или… сколько там афиш бывает? Триста или больше?
Спустя некоторое время я поделился с ним моими огорчениями, что мои друзья и знакомые отшатываются от меня за то, что я иду за большевиками. Вот, например, Владимир Гордин, редактор журнала «Вершины», любивший меня искренне и часто печатавший мои рассказы, подошел ко мне недавно и сказал: «Так вот вы какой оказались? Одумайтесь, иначе погибнете!»
– А ты плюнь на него. Что тебе, детей с ним крестить, что ли? Я сам бы читал лекции, если бы умел. Да вот не умею. Стихи могу, а лекции – нет.
– Да ты не пробовал, – сказал я.
– Нет, нет, – ответил Есенин с некоторой даже досадой, – у меня все равно ничего не получится, людей насмешу, да и только. А вот стихи буду читать перед народом.
Вдруг он громко рассмеялся.
– Вот Клюева вспомнил. Жаловался он мне, что народ его не понимает. Сам-де я из народа, а народ-то меня не понимает. А я ему на это: да ведь стихи-то твои ладаном пропахли. Больно часто ты таскал их по разным «церковным салонам».
– А он?
– Обозлился на меня страшно.
В другой раз Есенин рассказал мне о своей встрече с Георгием Ивановым.
– На улице. Подошел ко мне первый. «Здравствуйте, Есенин». Губы поджал и прокартавил: «Слышали, ваш друг Ивнев записался в большевики? Ну что же, смена вех. Вчера футурист, сегодня – коммунист. Даже рифма получается. Правда плохая, но все же рифма…» Язвит, бесится. Я ему отвечаю: «Знаете что, Георгий Иванов, упаковывайте чемоданы и катитесь к чертовой матери». И тут вспомнил слова Клюева и ляпнул: «Ваше времечко прошло, теперь наше времечко настало!» Он все принял за чистую монету и отскочил от меня, как ошпаренный кот.
* * *
Когда сейчас вспоминаешь о событиях и встречах того времени, некоторые из них кажутся бесконечно далекими, а некоторые такими близкими, будто они произошли вчера. Многие дружеские связи, давно забытые, тогда были крепкими, и рвать их было все-таки больно, и поддержка такого друга, каким был Есенин, в ту пору была гораздо значительнее и глубже, чем может показаться теперь.
Другая поддержка пришла от еще более «аполитичного» поэта, чем мы, Осипа Мандельштама. Меня это особенно радовало в то время. Он не отшатнулся от меня, подобно Владимиру Гордину, Георгию Иванову и многим другим, а всегда сочувственно улыбался при встречах, будучи на несколько голов выше обывательских мнений и предрассудков.
Есенин и Мандельштам, два противоположных по духу поэта той поры, сходились в сочувствии к зарождающейся Советской власти.
Вспоминая об этих незабываемых днях, ставших историческими, не могу умолчать и о моем друге Николае Бальмонте, который оказался дальновиднее и прогрессивнее своего знаменитого отца. Молодой пианист Бальмонт не только поддерживал меня духовно в это переломное время, но бывал со мной вместе на всех большевистских митингах и лекциях.
В самом начале марта 1918 года Москва была объявлена столицей нашего государства. Нарком по просвещению А. В. Луначарский назначил меня своим секретарем-корреспондентом в Москву, куда я и выехал 7 марта. Одновременно редакция газеты «Известия», в которой я сотрудничал, поручила мне быть ее корреспондентом в Москве.
Петербургский период моей жизни закончился, но встречи с Есениным возобновились, точно не вспомню, через сколько месяцев, но во всяком случае очень скоро: Есенин оказался тоже в Москве.
Еще в 1914–1915 годах я вел переписку с тремя московскими поэтами, с которыми лично не был знаком, – Сергеем Бобровым, Николаем Асеевым, пригласившими меня сотрудничать в издательство «Центрифуга», и с Вадимом Шершеневичем, издавшим книгу моих стихов «Пламя пышет» (1913) в своем издательстве «Мезонин поэзии».
Вадим Шершеневич, узнав, что я еду в Москву, просил меня остановиться у него. Я воспользовался этим приглашением и первые дни по приезде в Москву прожил у него на Крестовоздвиженском, до получения собственной комнаты в Трехпрудном переулке.
Здесь я познакомился с Анатолием Мариенгофом (он работал тогда в издательстве ВЦИК техническим секретарем К. С. Еремеева[2]).
Я часто бывал в издательстве, так как знал Еремеева еще по Петербургу: в 1912 году он был членом редколлегии газеты «Звезда», в которой печатались мои стихотворения[3].
Бывая у Еремеева, я познакомился ближе с Мариенгофом и узнал от него, что он «тоже пишет стихи». Не помню, как познакомились Есенин, Мариенгоф и Шершеневич, но к 1919 году уже наметилось наше общее сближение, приведшее к опубликованию «Манифеста имажинистов». Если бы в то время мы были знакомы с творчеством великого азербайджанского поэта Низами[4], то мы назвали бы себя не имажинистами, а «низамистами», ибо его красочные и яркие образы были гораздо сложнее и дерзновеннее наших.
Не буду останавливаться подробно на всем, что связано с возникновением школы имажинистов, так как об этом написано довольно много воспоминаний и литературоведческих исследований. Скажу только, что меня лично привлекла к сотрудничеству с имажинистами скорее дружба с Есениным, чем теория имажинизма, которой больше всего занимались Мариенгоф и Шершеневич. В 1971 году вышла в свет в издательстве «Наука» книга «Поэзия первых лет революции». В ней, в разделе об имажинизме, много неточностей, вызванных тем обстоятельством, что многие факты не могли быть известны авторам по той простой причине, что часть из них была в свое время опубликована, но стала достоянием различных архивов, а часть еще совсем не опубликована. В частности, авторы книги утверждают, что «имажинисты (подразумеваются все имажинисты. – Р. И.) составляли оппозицию к левому крылу футуризма во главе с Маяковским» (стр. 110).
Если бы они (авторы книги) были знакомы с моей полемикой с Вадимом Шершеневичем (его статьи печаталась в газете «Утро России», а мои статьи – в газете «Анархия»)[5], где я выступал в защиту Маяковского от нелепых нападок Шершеневича, что они, несомненно, упомянули бы об этом и, вероятно, добавили бы, что не все имажинисты были в оппозиции Маяковскому. Кроме того, авторы книги не потрудились просмотреть все советские газеты, выходившие в то время. Иначе они обратили бы внимание на то, что один из имажинистов печатал в советской прессе стихи и статьи: более близкие к революционному духу Маяковского, чем к теоретическим утверждениям своих коллег по имажинизму. Это навело бы их на мысль о более глубоком психологическом анализе тогдашних литературных школ и дало бы повод рассматривать тогдашние взаимоотношения имажинистов с более правильной точки зрения.
В тот период я встречался с Есениным почти ежедневно, и наша взаимная симпатия позволила нам игнорировать всякие «формальности» школы имажинистов, в которой, в сущности говоря, мы были скорее «постояльцами», чем хозяевами, хотя официально считались таковыми.
В январе 1919 года Есенину пришла в голову мысль образовать «писательскую коммуну» и выхлопотать для нее у Моссовета ордер на отдельную квартиру в Козицком переулке, почти на углу Тверской. В коммуну вошли, кроме Есенина и меня, писатель Гусев-Оренбургский, журналист Борис Тимофеев и еще кто-то, теперь уже не помню, кто именно.
Секрет заключался в том, что эта квартира находилась в доме, в котором каким-то чудом действовало паровое отопление, почти не работавшее ни в одном доме Москвы.
Я долго колебался, потому что предчувствовал, что работать будет очень трудно, если не совсем невозможно, но Есенин умел так уговаривать, что я сдался, тем более что он имел еще одного мощного союзника – невероятный холод моей комнаты в Трехпрудном переулке. Но я все же пошел на «компромисс»: я сказал бывшему попечителю Московского округа, который мной «уплотнился», что уезжаю на месяц в командировку, и, взяв с собой маленький чемоданчик и сверток белья, въехал в квартиру «писательской коммуны». Таким образом, «тыл» у меня был обеспечен.
Есенин не удивился, что у меня так мало вещей, потому что тогда больше теряли, чем приобретали. Жизнь в «коммуне» началась с первых же дней небывалым нашествием друзей, которые привели с собой друзей своих друзей. Конечно, не обошлось без вина. Один Гусев-Оренбургский оставался верен своему крепчайшему чаю – других напитков он не признавал.
Здесь надо упомянуть (и это очень важно для уяснения некоторых обстоятельств жизни Есенина после возвращения его из Америки), что в ту пору он был равнодушен к вину, у него совершенно не было болезненной потребности пить, как это было у большинства наших гостей и особенно у милейшего и добрейшего Ивана Сергеевича Рукавишникова. Есенина просто забавляла эта игра в богему. Ему нравилось наблюдать ералаш, который поднимали подвыпившие гости. Он смеялся, острил, притворялся пьяным, умышленно поддакивал чепухе, которую несли потерявшие душевное равновесие собутыльники. Он мало пил и много веселился, тогда как другие много пили и под конец впадали в уныние и засыпали.
Второй и третий день ничем не отличались от первого. Гости и разговоры, разговоры и гости и, конечно, опять вино. Четвертый день внес существенное «дополнение» к нашему времяпрепровождению: одна треть гостей осталась ночевать, так как на дворе стоял трескучий мороз, трамваи не ходили, а такси тогда не существовало. Все это меня мало устраивало, и я, несмотря на чудесную теплоту в квартире, пытался высмотреть сквозь заиндевевшие стекла то направление, по которому проведя прямую линию, я мог бы мысленно определить местонахождение моего покинутого «ледяного дома». Есенин заметил мое «упадническое» настроение и, как мог, утешал меня, что волна гостей скоро спадет и мы «засядем за работу». При этом он так хитро улыбался, что я понимал, насколько он сам не верит тому, о чем говорит. Я делал вид, что верю ему, и думал о моей покинутой комнате, но тут же вспоминал стакан со льдом вместо воды, который замечал прежде всего, как только просыпался утром, и на время успокаивался. Прошло еще несколько шумных дней. Как-то пришел Иван Рукавишников. И вот в 3 часа ночи, когда я уже спал, его приносят в мою комнату мертвецки пьяного и говорят, что единственное «свободное место» в пятикомнатной квартире – это моя кровать, на остальных же – застрявшие с вечера гости. Я завернулся в одеяло и эвакуировался в коридор. Есенин сжалился надо мной, повел в свою комнату, хохоча, спихнул кого-то со своей койки и уложил меня около себя.
На другой день, когда все гости разошлись и мы остались вдвоем, мы вдруг решили написать друг другу акростихи. В квартире было тихо, тепло, тишайший Гусев-Оренбургский пил в своей комнате свой излюбленный чай. Никто нам не мешал, и вскоре мы обменялись листками со стихами. Вот при каких обстоятельствах «родился» акростих Есенина, посвященный мне. Это было 21 января 1919 года. Вот почему Есенин к дате прибавил «утро» (этот акростих вошел в пятый том собрания сочинений Есенина).
Дней через десять я все же сбежал из этой квартиры в Козицком переулке, так как нашествие гостей не прекращалось. Я вернулся в свой «ледяной дом», проклиная его и одновременно радуясь, что не порвал с ним окончательно. Есенин понял меня сразу и не рассердился за это бегство, а когда узнал, что я, переезжая в «коммуну», оставил за собой свою прежнюю комнату, разразился одобрительным хохотом.
Мы продолжали встречаться с ним каждый день. Оба мы сотрудничали в газете «Советская страна», выходившей раз в неделю, по понедельникам. Есенин посвятил мне свое стихотворение «Пантократор», напечатанное впервые в этой газете, я тоже посвятил ему ряд стихов.
Удивительное было время. Холод на улицах, холод в учреждениях, холод почти во всех домах – и такая чудесная теплота дружеских бесед и полное взаимопонимание. Когда вспоминаем друзей, ушедших навсегда, мы обычно видим их лица по-разному – то веселыми, то печальными, то восторженными, то чем-то озабоченными, но Есенин с первой встречи до последнего дня передо мной всплывает из прошлого всегда улыбающийся, веселый, с искорками хитринки в глазах; оживленный, без единой морщинки грусти, простой, до предела искренний, доброжелательный.
Мы говорили с Есениным обо всем, что нас волновало тогда, но ни разу ни о «школе имажинистов», в которую входили, ни о теории имажинизма. Тогда в голову не приходила мысль анализировать все это. Но теперь я понимаю, что это было очень характерно для Есенина, ибо весь имажинизм был «кабинетной затеей», а Есенину было тесно в любом самом обширном кабинете. Мне кажется, что мы были похожи тогда на авгуров, которые понимали друг друга без слов. Но дружба с Есениным не помешала мне выйти из группы имажинистов, о чем я сообщил в письме в редакцию, которое было опубликовано 12 марта 1919 года в «Известиях ВЦИК» (№ 58). Это было вызвано тем, что я не соглашался со взглядами Мариенгофа и Шершеневича на творчество Маяковского, которое очень ценил.
Мой разрыв с имажинистами совершенно не повлиял на дружеские отношения с Есениным, мы продолжали встречаться не менее часто. С 1 сентября 1918 года я получил новое назначение – завбюро по организации поезда имени Луначарского. А 23 марта 1919 года выехал в командировку в Киев и Харьков. С Есениным я простился дружески. До этого я очень сблизился с Велимиром Хлебниковым, с которым был знаком еще в Петербурге. Свой «ледяной дом» в Трехпрудном переулке я оставил за собой, так как рассчитывал вернуться в Москву месяца через два. Второй ключ от комнаты я передал Хлебникову, и он, как я потом узнал, часто туда приходил и работал. Но вихрь Гражданской войны оторвал меня от Москвы на полтора года; я смог вернуться только в ноябре 1920-го. То, что происходило в это время, я опускаю, так как, во-первых, это не имеет прямого отношения к Есенину, а во-вторых, уже описано в моих воспоминаниях о политкоме Красной Армии Петре Лукомском (лето 1919 года) и в воспоминаниях о Всеволоде Мейерхольде, находившемся тогда в Новороссийске (1919).
Новая моя встреча с Есениным произошла в конце декабря 1920 года.
В первый же день приезда в Москву я помчался к нему в Козицкий переулок. Жил он уже не в той «писательской коммуне», о которой я рассказывал, но в том же переулке, рядом с театром Корша, вместе с Мариенгофом. В общей квартире на третьем этаже они занимали две комнаты.
Было семь часов вечера. Есенина и Мариенгофа не оказалось дома. Соседи сказали, что они на литературном вечере в Большом зале Консерватории. Я отправился на Большую Никитскую. Как только я вошел в Консерваторию, то первыми, кого я увидел, были Есенин и Мариенгоф. Они сбегали с лестницы, веселые, оживленные, держа друг друга за руки. В ту минуту они мне показались двумя гимназистами, резвящимися на большой перемене. Мое появление было для них совершенно неожиданным. Они бросились ко мне с бурной радостью, которая тронула меня и доказала лишний раз, что можно быть большими друзьями и любить друг друга независимо от литературной платформы.
Как всегда бывает при первой встрече после долгой разлуки, посыпались вопросы, ответы невпопад, веселая неразбериха.
После окончания вечера они повели меня к себе, и мы до рассвета пили чай и говорили, говорили без конца обо всем, что нас тогда интересовало. Я вкратце рассказал им свои странствия, похожие на страницы приключенческого романа, они – про свои литературные дела, про свое издательство и свой книжный магазин на Никитской улице, который обещали мне показать завтра же.
И вот на другой день я увидел своими глазами этот знаменитый в то время «книжный магазин имажинистов» на Большой Никитской улице во всем его великолепии. Он был почти всегда переполнен покупателями, торговля шла бойко. Продавались новые издания имажинистов, а в букинистическом отделе – старые книги дореволюционных изданий.
Есенин и Мариенгоф не всегда стояли за прилавками (было еще несколько служащих), но всегда находились в помещении. Во втором этаже была еще одна комната, обставленная, как салон, с большим круглым столом, диваном и мягкой мебелью. Называлась она «кабинетом дирекции».
Как-то раз, когда я зашел в магазин, Есенин встретил меня особенно радостно. Он подошел ко мне сияющий, возбужденный и, схватив за руку, повел по винтовой лестнице во второй этаж, в «кабинет дирекции». По дороге сказал:
– Новое стихотворение только что написал. Сейчас прочту.
Режет серп тяжелые колосья, Как под горло режут лебедей.Но я забежал вперед. Это было позже. А в первый день моего знакомства с магазином он с явным удовольствием показывал мне помещение с таким видом, как будто я был покупатель, но не книг, а всего магазина.
Мариенгоф в то время стоял за прилавком и издали посылал улыбки, как бы говоря: «Вот видишь, поэт за прилавком!»
Надо пояснить тем, кто не знаком с эпохой двадцатых годов, что все магазины в ту пору были государственными и Москва сделала исключение только для двух писательских магазинов, в которых шла так называемая частная торговля. Государственное издательство еще не успело наладить массовое издание художественной литературы, а издательство имажинистов выпускало одну книгу за другой. Распространением книг по всей стране ведало учреждение, называвшееся «Центропечать», во главе которого стоял один из самых обаятельных людей, с кем мне приходилось встречаться, Борис Федорович Малкин. «Секрет» успеха и процветания книжного магазина имажинистов состоял в том, что финансовый оборот по тогдашним правилам был весьма прост. Как только типография заканчивала брошюровку очередного издания имажинистов, Есенин или Мариенгоф (а иногда оба вместе), взяв несколько экземпляров напечатанной книги, направлялись в служебный кабинет Малкина, и тот покупал все издание «на корню», выдавая деньги вперед. Но порой, когда для оборота книжного магазина нужны были деньги, Есенин и Мариенгоф шли к Малкину не с готовыми экземплярами книги, а с «заявкой», что такая-то книга готовится к печати, и просили Малкина выдать им аванс в счет издания. Обычно Малкин удовлетворял их просьбу.
С именем Бориса Федоровича Малкина связан один очень забавный эпизод.
В числе издававшихся имажинистами в ту пору многочисленных книг был и сборник стихов Вадима Шершеневича, который в погоне за оригинальностью назвал его «Лошадь как лошадь». Когда эта книга поступила в «Центропечать», то какая-то неопытная сотрудница, в обязанность которой входило распределять книги по тематике, направила все издание книги, основываясь на заглавии, в книжный магазин, распространявший сельскохозяйственную литературу.
Бедный Малкин, узнав об этом, схватился за голову.
Потом он рассказывал Есенину о своей беседе с Лениным по этому поводу. Когда Ленин узнал, что произошло, он разразился смехом. Но при расставании сделал строгий выговор Малкину и потребовал от него наказания виновника этой путаницы. Малкин исполнил требование Ленина и перевел юную сотрудницу на другую работу, не зная, по его собственному признанию, в чем она больше виновата – в невежестве, рассеянности или в том и в другом вместе.
Долгое время после этого друзья и знакомые Малкина приставали к нему с просьбой рассказать подробно о своей беседе с Лениным по поводу книги «Лошадь как лошадь».
Конечно, больше всех был доволен этим происшествием главный виновник этой путаницы веселый и остроумный Вадим Шершеневич: его книга, хотя и своеобразным путем, но стала известна В. И. Ленину.
Есенин был очень увлечен издательской работой, и, мне кажется, его больше всего увлекал сам процесс этой деятельности.
Так как Есенина легче было застать в магазине, чем дома, я стал проводить в нем почти весь день, и он сделался для меня «вторым домом», тем более что был недалеко от места, где я нашел приют после возвращения в Москву, ибо моя комната в Трехпрудном переулке («ледяной дом») давно уже была потеряна. Уезжая в командировку весной 1919 года, я ее не забронировал, рассчитывая скоро вернуться. А приютил меня директор «Дома искусства» Иван Сергеевич Рукавишников, из-за которого в 1919 году я сбежал из «писательской коммуны» в Козицком переулке.
В этом дома на улице Воровского, 52 (в котором ныне помещается Союз писателей СССР) я и получил на втором этаже прекрасную комнату. Дом отапливался, внизу находилась столовая для сотрудников и живущих в доме немногих писателей. Я упоминаю об этом потому, что Москва в те годы была по-прежнему холодная и голодная.
Среди близких друзей Есенина и Мариенгофа были в те времена Гриша Колобов, занимавший ответственный пост в НКПС, и Ванечка Старцев – юноша, «еще не нашедший себя», а впоследствии крупный работник. Я познакомился с ним еще в 1919 году и был тоже в дружеских отношениях.
Колобов жил в одной квартире с Есениным и Мариенгофом.
В этот же период времени Есенин сблизился с Вячеславом Полонским, который очень ценил его творчество.
Кто из мемуаристов не испытывал момента, когда рука, быстро и гладко скользящая по бумаге, как бы прорезая волны воспоминаний, то бурных, то затихающих, вдруг начинает тяжелеть и наконец опускается, будто налитая свинцом.
Вот такое ощущение испытываю я сейчас, когда приступаю к описанию одного грустного и нелепого столкновения двух талантливейших, но совершенно разных поэтов – Сергея Есенина и Бориса Пастернака.
Если любишь и ценишь кого-либо из друзей, то всегда бывает больно за них, когда они теряют душевное равновесие.
Столкновение Есенина и Пастернака произошло в кафе поэтов «Домино», принадлежащем Всероссийскому Союзу поэтов (СОПО)[6]. Точно дату не помню, но, по моим вычислениям, это было в период с декабря 1920 по февраль 1921 года.
В двадцатых годах в этом кафе происходили почти ежедневно выступления поэтов, как по заранее составленной правлением Союза программе, так и экспромтом.
Причину столкновения, вернее, повод, из-за которого оно произошло, я не знаю, так как вошел в кафе в момент, когда ссора была в разгаре.
Оба поэта были возбуждены, но держались корректно, по видимости, не желая «раздувать пожара», но «пожар» все же разгорелся как бы помимо их воли.
Зрительно я очень хорошо помню и фигуру Есенина и его насупившееся лицо, гневно сверкающие глаза Пастернака и какую-то необычную для него растерянность, явно вызванную отвращением ко всяким столкновениям, да еще вдобавок публичным. Чувствовалось, что ему очень хочется махнуть рукой на все и уйти со «спортивной площадки», на которой он оказался случайно и не по своей воле.
Увидев эту сцену, я так растерялся, что не мог произнести ни слова.
Первую фразу, которую я услышал, сказал Есенин, хмуро глядя на Пастернака:
– Ваши стихи косноязычны. Их никто не понимает. Народ вас не признает никогда!
Пастернак с утрированной вежливостью, оттеняющей язвительность, ответил:
– Если бы вы были немного более образованны, то вы знали бы о том, как опасно играть со словом «народ». Был такой писатель Кукольник, о котором вы, может быть, и не слышали. Ему тоже казалось, что он – знаменитость, признанная народом. И что же оказалось?
– Не волнуйтесь, – ответил Есенин. – О Кукольнике я знаю не меньше, чем вы. Но я знаю также и то, что наши потомки будут говорить: «Пастернак? Поэт? Не знаем, а вот траву пастернак знаем и очень любим».
Вокруг Есенина и Пастернака стала собираться публика. Но тут подошел дежуривший в этот день в Союзе молодой поэт Матвей Ройзман и со свойственной ему дипломатичностью развел их в разные стороны.
Есть «любители поэзии», которые, находя у какого-нибудь поэта большое количество черновиков одного стихотворения, делают вывод: «Поэт много работал над стихом. Блеска и выразительности он достиг благодаря упорному труду».
Когда же они удостоверяются, что стихотворение написано сразу и без единой помарки (как, например, «Скажи мне, ветка Палестины»), то у них готова другая формула: «Все гениальное рождается без всякого труда».
Почти на моих глазах Есенин написал стихотворение «Песнь о хлебе» и прочел его мне наизусть, держа в руке лист бумаги с еще не высохшими чернилами.
В этом стихотворении не было ни одной помарки, и оно никогда не исправлялось.
Можно ли сделать из этого вывод, что Есенин всегда писал стихи «молниеносно», без единой помарки и, следовательно, никогда не работал над стихом?
Этот вывод не сделает никто. Разве только тот, кто считает непреложной истиной, что «все гениальное рождается без всякого труда».
Нет такого поэта, если он действительно поэт, который пишет по готовому рецепту, составленному им самим или кем-нибудь другим.
(Я говорю, разумеется, о настоящем творчестве, а не механическом, которое, увы, всегда существовало и, очевидно, долго будет существовать.)
У Есенина много стихов, которые он написал «на едином дыхании», как «Песнь о хлебе», и много таких, над которыми он работал до изнеможения. Но те и другие были рождены в порыве вдохновения, и все это потому, что он не мог их не написать. Они были в его душе и требовали выхода.
Означает ли это, что у Есенина не было ни одного стихотворения, созданного механически? Отнюдь нет, ибо не часто найдешь такого поэта, который никогда не прибегал бы к механическому способу писания стихов.
Я считаю, что стихи можно разделить на две категории. Первая – это стихи, которые поэт не мог не написать. Вторая – это стихи, которые поэт мог бы и не писать.
Говоря о творчестве Есенина, я отвечаю читателям, которые после его смерти просили меня рассказать, как он работал над своими стихами.
«Ключи» от тайны обаяния и успеха его поэзии находятся не в шкатулке формул, а в единстве дыхания поэта с дыханием своего народа.
* * *
После долгой разлуки при встрече с Есениным и Мариенгофом не было сказано ни одного слова о моем выходе из группы имажинистов. Радость встречи была так велика, что никому из нас не приходило в голову возвращаться к прошлому и обсуждать причины моего разрыва с имажинистами.
Разумеется, мы читали друг другу свои стихи. Мариенгоф любил только «острые блюда» в стихах. У Есенина был более широкий взгляд на искусство. Любовь к поэзии у Есенина была врожденной, если так можно выразиться. Он необычайно тонко чувствовал, когда стихотворение настоящее, идущее из глубины души, и когда оно «искусственное», надуманное.
Как талантливый композитор не может перенести не только фальшивой ноты, режущей ухо, но и «внутренней фальши», хорошо задрапированной высокой техникой, так и Есенин чувствовал, как никто, малейшее фальшивое звучание. С ним было очень легко и радостно не теоретизировать о стихах, а просто слушать его поэзию и читать ему свое.
Однажды Есенин заговорил об издании моих стихов. Мы сидели за кофе в одной из «тайных столовых» (их было немного, и они тоже составляли «исключение» вроде книжных магазинов, с той разницей, что магазины существовали с разрешения Моссовета, а «тайные столовые» без всякого разрешения, вопреки закону).
В двадцатых годах было еще много «барских квартир», или совсем не уплотненных, или формально уплотненных, а по существу единоличных. В них открывали столовые или «дамы общества», или просто «предприимчивые особы». Они покупали на частном рынке хорошие продукты и готовили дорогие обеды для знакомых и полузнакомых посетителей. Все шло до поры до времени гладко, но иногда спокойствие барской квартиры нарушалось «налетом» милиции, составлялся протокол. Записывались фамилии посетителей, иногда вылавливались «подозрительные лица», потом все утихомиривалось, и перепуганные «дамы» и «особы» снова приходили в себя и продолжали свою незаконную деятельность. Столовая, в которой мы сидели с Есениным, была его излюбленной, так как находилась на Никитской улице, наискосок от магазина. Есенин приступил к разговору сразу и неожиданно:
– А знаешь, хорошо бы издать твою книгу.
– Где?
– Как где? В нашем издательстве.
– Но я же… не имажинист. Я вышел из группы.
– Это ничего не значит. Издадим – и все.
Это предложение застало меня врасплох. Я совершенно не думал об издании книги в издательстве имажинистов, тем более что вел уже переговоры с Госиздатом. Я сказал об этом Есенину.
– Улита едет, когда-то будет.
– Ты думаешь?
– Уверен. Пока они раскачаются, мы двадцать книг успеем выпустить.
– Не знаю, право, удобно ли это будет. Тебя и Мариенгофа я люблю не только как поэтов, но и как хороших друзей, но раз я вышел из группы имажинистов…
Есенин перебил меня:
– Все это чепуха. Вот Хлебников дал согласие, и мы его издаем.
Нет поэта, который не хотел бы издать свои стихи, но у меня все же было какое-то чувство неловкости. Я поделился своими сомнениями с Есениным.
– Стихи – главное, – сказал Есенин, ласково и лукаво улыбаясь. – Хорошие стихи всегда запомнят, а как они изданы и при каких обстоятельствах – скоро забудут.
Через несколько дней Есенин снова вернулся к этому разговору уже в присутствии Мариенгофа, который поддержал его с большой охотой, но добавил:
– Рюрик должен снова войти в нашу группу.
Я запротестовал:
– Выйти, войти – это не серьезно. Да еще понадобится писать об этом какое-то письмо.
– Зачем официальщина? Напиши письмо, и не в газету, а нам: дорогие Сережа и Толя, я опять с вами. Вот и все.
Есенину это понравилось.
– Молодец, Толя! Просто и… неясно.
Оба рассмеялся, за ними и я.
Так совершилось мое «грехопадение». Я дал согласие.
Есенин рьяно взялся за подбор стихов. И «родилась» моя книга «Солнце во гробе» (название взято из древнерусской молитвы, о существовании которой знал Есенин). Фактически он был единственным редактором книги, причем, в отличие от многих редакторов, он только выбирал стихи, но ни разу не предлагал что-либо в них изменить – ни одной строчки, ни одного слова. Мариенгоф установил последовательность. Книга вышла в свет в издательстве имажинистов.
Вскоре в том же издательстве вышла вторая моя книга – «Четыре выстрела в четырех друзей» (опыт параллельной биографии). Идея этой книги зародилась у Есенина и была поддержана как Мариенгофом, так и Шершеневичем.
Книга «Солнце во гробе» еще печаталась, когда Есенину пришла в голову мысль устроить необыкновенный литературный вечер, на котором выступали бы поэты всех направлений. Мы долго обсуждали с ним этот вопрос, потому что Мариенгоф был против устройства такого вечера «всеобщей поэзии». Он считал, что лучше устроить один «грандиозный вечер имажинистов, только имажинистов», но Есенин был непреклонен. Мариенгоф махнул рукой и сказал:
– Я, во всяком, случае не буду выступать на таком вечере.
На этом его оппозиция и закончилась, а Есенин и я начали вести переговоры с теми поэтами, которых мы считали нужным привлечь независимо от школ и направлений. Я предложил назвать этот вечер «Россия в грозе и буре». Это название, на мой взгляд, оправдывало участие поэтов разных направлений.
Название Есенину очень понравилось. Поддержал он и мое намерение пригласить на вечер А. В. Луначарского. На другой день я пошел к Анатолию Васильевичу. Он одобрил нашу идею и охотно дал согласие произнести вступительную речь.
Через неделю-две состоялся этот интересный и своеобразный литературный вечер, афиша которого у меня сохранилась.
Вскоре после этого произошло любопытное событие, о котором я вспомнил лишь недавно, разбирая свои рукописи, переданные мною в филиал Государственного литературного архива Евдоксии Федоровне Никитиной.
Нашел письмо Луначарского к Карахану в Наркомат иностранных дел, датированное 10 февраля 1921 года:
«Уважаемый товарищ Карахан!
Прошу Вас оформить поездку за границу поэтов Сергея Есенина и Рюрика Ивнева».
Прочтя этот документ, как будто он был фонарем, осветившем забытый уголок моей памяти, я сразу вспомнил все.
Мы часто говорили с Есениным о далеких странах, в которых никогда не бывали. Кого из поэтов не влекло к путешествию!
Продолжая дружить с Мариенгофом, Есенин и я все более сближались, и постепенно у нас начал создаваться «свой мир» – близкий и дорогой только нам двоим, третьему здесь не было места. Это происходило стихийно, незаметно даже для нас самих. Это сближение и так уже близких друзей происходило без охлаждения к третьему другу, к Мариенгофу.
Подобно тому, как неожиданно для меня было предложение Есенина издать мою книгу стихов в 1920 году, так же неожиданно и вдобавок одновременно мы пришли с ним к мысли, что хорошо было бы поехать на два-три месяца за границу, «людей посмотреть и себя показать», увидеть новые страны, новые города. Оба мы были молоды, оба любили Россию, как нам казалось, какою-то особенной любовью, и нам хотелось заразить этой любовью чужие страны. И вот я снова у Анатолия Васильевича. Как он умел все понимать и чувствовать! А к Есенину и ко мне он относился с каким-то трогательным вниманием. Я вышел от А. В. Луначарского с письмом к Карахану в НКИД.
Итак, решено – мы едем за границу. Все было сделано, все готово. Но… вскоре после того как письмо А. В. Луначарского к Карахану оказалось у нас в руках, в Грузии была установлена советская власть. С Грузией у меня были давние связи.
Когда я узнал, что Грузия стала советской, мне страстно захотелось туда вернуться. Возможно, и у Есенина были какие-нибудь изменения в планах ехать за границу, ибо если б он сильно воспротивился моей поездке в Грузию, то я, может быть, и поборол бы свое желание туда поехать.
Так или иначе, наша поездка расстроилась. Письмо А. В. Луначарского к Карахану сохранилось у меня, мы с Есениным даже не успели передать его по назначению.
Итак, снова разлука с Есениным, теперь уже не на полтора, а на два года.
Если стать спиною к отелю «Люкс» на улице Горького (ныне Тверская), то на противоположной стороне нельзя было не заметить вывеску кафе «Стойло Пегаса». В то время улица эта была узкой. Вот в этом-то кафе я вновь встретил Есенина в начале августа 1923 года.
Встреча была настолько своеобразной и так ярко мне запомнилась, что я не могу не описать ее во всех подробностях. Но перед этим я должен сказать несколько слов, что было с нами в промежуток между 1921 и 1923 годами.
Есенин через несколько месяцев после нашей разлуки познакомился в студии художника Якулова с гостившей в Москве Айседорой Дункан, на которую он произвел такое сильное впечатление, что она не могла себе представить дальнейшей жизни без Есенина. Он искренне ответил ей на ее большое чувство, и они отправились вместе за границу, где у Дункан предстояли публичные выступления во многих городах многих стран.
Я вернулся из Грузии в Москву в середине 1922 года. В это время «Стойло Пегаса» еще существовало. В правлении «Ассоциации вольнодумцев» были в то время Мариенгоф, Иван Грузинов, Николай Эрдман и Матвей Ройзман. Я был введен в правление и стал принимать участие в заседаниях и выступлениях.
Мы знали по письмам Есенина, что гастроли Айседоры Дункан в скором времени заканчиваются и что приближается момент возвращения супругов в Москву, но точного дня приезда никто из нас не знал.
И вот однажды, в начале августа 1923 года, когда я находился в «Стойле Пегаса» и только собирался заказать себе обед, с шумом распахнулась дверь кафе и появился Есенин. В первую минуту я заметил только его. Он подбежал ко мне, мы кинулись в объятия друг к другу. Как бывает всегда, когда происходят неожиданные встречи друзей, хочется сказать много, но, в сущности, ничего не говоришь, а только улыбаешься, смотришь другу в глаза, потом начинаешь ронять первые попавшиеся слова, иногда не имеющие никакого отношения к данному моменту. Так было и на этот раз. Я не успел еще прийти в себя, как Есенин, показывая на стройную даму, одетую с необыкновенным изяществом, говорит мне:
– Познакомься. Это моя жена, Айседора Дункан.
А ей он сказал:
– Это Рюрик Ивнев. Ты знаешь его по моим рассказам.
Айседора ласково посмотрела на меня и, протягивая руку, сказала на ломаном русском языке:
– Я много слышал и очень рада… знакомить…
Вслед за Дункан Есенин познакомил меня с ее приемной дочерью Ирмой и ее мужем – Шнейдером.
Я всмотрелся в Есенина. Он как будто такой же, совсем не изменившийся, будто мы и не расставались с ним надолго. Те же глаза с одному ему свойственными искорками добродушного лукавства. Та же обаятельная улыбка, но проглядывает, пока еще неясно, что-то новое, какая-то небывалая у него прежде наигранность, какое-то еле уловимое любование своим «европейским блеском», безукоризненным костюмом, шляпой. Он незаметно для самого себя теребил свои тонкие лайковые перчатки, перекладывая трость с костяным набалдашником из одной руки в другую.
Публика, находившаяся к кафе, увидев Есенина, начала с любопытством наблюдать за ним. Это не могло не ускользнуть от него. Играя перчатками, как мячиком, он говорил мне:
– Ты еще не обедал? Поедем обедать? Где хорошо кормят? В какой ресторан надо ехать?
– Сережа, пообедаем здесь, в «Стойле». Зачем куда-то ехать?
Есенин морщится.
– Нет, здесь дадут какую-нибудь гадость. Куда же поедем? – обращается он к Шнейдеру.
Кто-то из присутствующих вмешивается в разговор:
– Говорят, что самый лучший ресторан – это «Эрмитаж».
– Да, да. «Эрмитаж», конечно, «Эрмитаж», – отвечает Есенин, как будто вспомнив что-то из далекого прошлого.
Айседора Дункан улыбается, ожидая решения.
Наконец все решили, что надо ехать в «Эрмитаж».
Теперь встает вопрос, как ехать.
– Ну конечно, на извозчиках.
Начинается подсчет, сколько надо извозчиков.
– Я еду с Рюриком, – объявляет Есенин. – Айседора, ты поедешь…
Тут он умолкает, предоставляя ей выбрать себе попутчика. В результате кто-то бежит за извозчиками, и через несколько минут у дверей кафе появляются три экипажа. В первый экипаж садятся Айседора с Ирмой, во второй Шнейдер с кем-то еще. В третий Есенин и я.
По дороге в «Эрмитаж» разговор у нас состоял из отрывочных фраз, но некоторые из них мне запомнились. Почему-то вдруг мы заговорили о воротничках.
Есенин:
– Воротнички? Ну кто же их отдает в стирку? Их выбрасывают и покупают новые.
Затем Есенин заговорил почему-то о том, что его кто-то упрекнул (очевидно, только что, по приезде в Москву) за то, что он, будучи за границей, забыл о своих родных и друзьях. Это очень расстроило его.
– Все это выдумки – я всех помнил, посылал всем письма, домой посылал доллары.
После паузы добавил:
– И тебе посылал, ты получил?
Я, хотя ничего не получил, ответил:
– Да, получил.
Есенин посмотрел на меня как-то растерянно, но через несколько секунд забыл об этом и перевел разговор на другую тему.
По приезде в «Эрмитаж» начались иные волнения.
Надо решить вопрос: в зале или на веранде? Есенин долго не мог решить, где лучше. Наконец выбрали веранду. Почти все столики были свободны. Нас окружили официанты. Они не знали, на какой столик падет наш выбор.
– Где лучше, где лучше? – поминутно спрашивал Есенин.
– Сережа, уже все равно, где-нибудь сядем, – говорил я.
– Ну, хорошо, вот здесь, – решает он, но, когда мы все усаживаемся и официант подходит к нам с меню в папке, похожей на альбом, Есенин вдруг морщится и заявляет:
– Здесь свет падает прямо в лицо.
Мы волей-неволей поднимаемся со своих мест и направляемся к очередному столику.
Так продолжалось несколько раз, потому что Есенин не мог выбрать столик, который бы его устраивал. То столик оказывался слишком близко к стеклам веранды, то слишком далеко. Наконец мы подняли бунт и не покинули своих мест, когда Есенин попытался снова забраковать столик.
Во время обеда произошло несколько курьезов, начиная с того, что Есенин принялся отвергать все закуски, которые были перечислены в меню. Ему хотелось чего-нибудь особенного, а «особенного» как раз и не было.
С официантом он говорил чуть-чуть ломаным языком, как будто разучился говорить по-русски.
Несмотря на все эти чудачества, на которые я смотрел как на обычное есенинское озорство, я чувствовал, что передо мной прежний «питерский» Есенин.
Во время обеда, длившегося довольно долго, я невольно заметил, что у Есенина иногда прорывались резкие ноты в голосе, когда он говорил с Айседорой Дункан. Я почувствовал, что в их отношениях зреет перелом.
Вскоре после обеда в «Эрмитаже» я посетил Есенина и Дункан в их особняке на Пречистенке, где помещалась студия Дункан (во время отсутствия танцовщицы студией руководила Ирма). Айседора и Есенин занимали две большие комнаты во втором этаже.
Образ Айседоры Дункан навсегда останется в моей памяти как бы раздвоенным. Один – образ танцовщицы, ослепительного видения, которое не может не поразить воображения, другой – образ обаятельной женщины, умной, внимательной, чуткой, от которой веет уютом домашнего очага.
Это было первое впечатление от разговоров простых, задушевных (мы обыкновенно говорили с ней по-французски, так как английским я не владел, а по-русски Айседора говорила плохо) в те времена, когда не было гостей и мы сидели за чашкой чая втроем – Есенин, Айседора и я. Чуткость Айседоры была изумительной. Она могла улавливать безошибочно все оттенки настроения собеседника, и не только мимолетные, но и все или почти все, что таилось в душе… Это хорошо понимал Есенин, он в ту пору не раз во время общего разговора хитро подмигивал мне и шептал, указывая глазами на Айседору:
– Она все понимает, все, ее не проведешь.
Дункан никогда не говорила мне в глаза, но Мариенгоф и некоторые другие передавали, что больше всех и глубже всех любит ее Есенина Риурик – так она произносила мое имя. Не знаю, чем я заслужил такое трогательное внимание ко мне. Первое время ни о каких литературных делах с Есениным мы не говорили, но «жизнь брала свое», и вот начали строиться разные планы.
Шли разговоры о необходимости устроить грандиозные вечер в тогдашней «цитадели поэзии» – Политехническом музее. Нашлись, конечно, и устроители, и импресарио, и администраторы. Мариенгоф настоял, чтобы вечер был устроен под «флагом имажинистов». Есенин в ту пору еще не успел окончательно охладеть к этой школе и согласился.
И вот вскоре по всему городу запестрели огромные афиши, извещающие о «вечере имажинистов», на котором приехавший из-за границы Сергей Есенин поделится с публикой своими впечатлениями о Берлине, Париже и Нью-Йорке и прочтет свои новые стихи.
…24 августа 1923 года задолго до назначенного часа народ устремился к Политехническому музею. Здание стало походить на осажденную крепость. Отряды конной милиции едва могли сдерживать напор толпы. Люди, имевшие билеты, с величайшим трудом пробирались сквозь толпу, чтобы попасть в подъезд, плотно забитый жаждущими попасть на вечер, но не успевшими приобрести билеты. Участники пробирались с неменьшим трудом.
И вот вечер наконец начался.
Председатель объявил, что сейчас выступит поэт Сергей Есенин со своим «докладом» и поделится впечатлениями о Берлине, Париже, Нью-Йорке. Есенин, давно успевший привыкнуть к публичным выступлениям, почему-то на этот раз волновался необычайно. Это чувствовалось сразу, несмотря на внешнее спокойствие. Публика встретила появление его на эстраде бурной овацией. Есенин долго не мог начать говорить. Я смотрел на него и удивлялся, что такой доброжелательный прием не только не успокоил, но даже усилил его волнение. Мною овладела какая-то неясная, но глубокая тревога.
Наконец наступила тишина, и раздался неуверенный голос Есенина. Он сбивался, делал большие паузы. Вместо более или менее плавного изложения своих впечатлений Есенин произносил какие-то отрывистые фразы, переходя от Берлина к Парижу, от Парижа к Берлину. Зал насторожился. Послышались смешки и пока еще негромкие выкрики. Есенин махнул рукой и, пытаясь овладеть вниманием публики, воскликнул:
– Нет, лучше я расскажу про Америку. Подплываем мы к Нью-Йорку. Навстречу нам бесчисленное количество лодок, переполненных фотокорреспондентами. Шумят моторы, щелкают фотоаппараты. Мы стоим на палубе. Около нас пятнадцать чемоданов – мои и Айседоры Дункан…
Тут в зале поднялся невообразимый шум, смех, раздался иронический голос:
– И это все ваши впечатления?
Есенин побледнел. Вероятно, ему показалось в эту минуту, что он проваливается в пропасть. Но вдруг он искренне и заразительно засмеялся:
– Не выходит что-то у меня в прозе, прочту лучше стихи!
Я вспомнил наш давнишний разговор с Есениным весной 1917 года в Петрограде и его слова: «Стихи могу, а вот лекции не умею».
Публику сразу как будто подменили, раздался добродушный смех, и словно душевной теплотой повеяло из зала на эстраду. Есенин начал, теперь уже без всякого волнения, читать стихи громко, уверенно, со своим всегдашним мастерством. Так бывало и прежде. Стоило слушателям услышать его проникновенный голос, увидеть неистово пляшущие в такт стихам руки и глаза, устремленные вдаль, ничего не видящие, ничего не замечающие, как становилось понятно, что в чтении у него нет соперника. После каждого прочитанного стихотворения раздавались оглушительные аплодисменты. Публика неистовствовала, но теперь уже от восторга и восхищения. Есенин весь преобразился. Публика была покорена, зачарована, и если бы кому-нибудь из присутствующих на вечере напомнили его беспомощные фразы о трех столицах, которые еще недавно раздавались в этом зале, тот не поверил бы, что это было в действительности. Все это казалось нелепым сном, а явью был триумф, небывалый триумф поэта, покорившего зал своими стихами. Все остальное, происходившее на вечере: выступления других поэтов, в том числе и мое, – отошло на третий план. После наших выступлений снова читал Есенин. Вечер закончился поздно. Публика долго не расходилась и требовала от Есенина все новых и новых стихов. И он читал, пока не охрип. Тогда он провел рукой по горлу, сопровождая этот жест улыбкой, которая заставила угомониться публику.
Так закончился этот памятный вечер.
Я никогда не рассказывал про его отношения с Дункан, хотя чувствовал, что у них зреет разрыв.
Мне казалось тогда, да и теперь я остаюсь при своем убеждении, что при самой большой духовной близости даже закадычные друзья не должны касаться некоторых сторон жизни, связанных с любовью. Есенин, несомненно, любил Айседору Дункан, и мне не только тогда не хотелось, но и сейчас не хочется строить догадки о причинах их разрыва. Это дело самого Есенина и самой Айседоры. Я любил Есенина и как поэта, и как друга и питал к Айседоре Дункан самые теплые дружеские чувства, и этот разрыв, независимо от причин, породивших его, произвел на меня тягостное впечатление.
Об этом разрыве я узнал только после того, когда, придя как-то к Мариенгофу, застал там Есенина, распаковывающего свои чемоданы. Он вернулся в ту квартиру, в Козицком переулке, в которой жил с Мариенгофом до своей поездки с Дункан за границу.
Я подумал, как складно складывается судьба людей. Вот если бы в феврале 1921 года не расстроилась наша поездка с Есениным за границу, то не было бы и поездки с Дункан, которая ворвалась в жизнь Есенина не «попутным ветром», а скорее самумом, перенесшим его в другой мир, давший ему много красочных и ярких впечатлений и переживаний, но в какой-то степени опустошивший его душу. Я уже не раз упоминал о моем восхищении Айседорой Дункан, о моих дружеских чувствах к ней и глубоком уважении, но это не мешает мне считать, что поездка Есенина была роковой. Здесь дело даже не в самой Дункан, а в той резкой перемене жизни Есенина, которая наступила для него с того дня, когда он уехал из России.
Сильное впечатление имеет не только свои плюсы, но и свои минусы. Закаленный жизнью пожилой человек, может быть, и перенес бы сравнительно благополучно такую встряску, но Есенин был молод, впечатлителен и уж никак не мог считаться в ту пору закаленным жизнью. Но это еще полбеды. Главное душевное потрясение заключалось в том, что как бы он искренне ни любил Айседору, но, во-первых, для его самолюбия не могло пройти бесследно, что не он, известный русский поэт, получивший признание еще до революции, привлекал внимание заграничной публики, а его спутница, артистка с мировым именем. Он был только «добавочной сенсацией», но никак не главным козырем гастрольной игры.
Я не был около Есенина и Дункан во время их заграничной поездки, но я много слышал от людей, заслуживающих полного доверия, что Есенин чувствовал себя не в своей тарелке, часто оказывался в двусмысленном положении. Все это не могло не действовать на него.
Несомненно, что и пристрастие к алкоголю зародилось в нем не в рязанской избе, не в Петрограде 1915–1917 годов, не в Москве 1918–1919 годов. Все это время, начиная с Петрограда (с небольшим перерывом), я часто встречался с ним и знаю хорошо и точно, что он был равнодушен к вину. Особенно это стало мне ясно, когда мы жили под одной крышей в писательской «коммуне». Миф № 1, созданный вокруг его имени далекими и от Есенина и от литературы безграмотными и беспринципными людьми, знавшими о существовании Есенина лишь от «окололитературных» пьяниц и забулдыг, не нуждается в опровержении, до того он нелеп и беспочвен.
Представьте себе, что отпетые игроки, одержимые картоманией и рулетоманией, пытались бы провозгласить своим «вожаком» Достоевского, о котором они узнали только то, что один раз в Дрездене он «проигрался до ниточки» в тамошнем казино, и вам станет ясно, какое кощунство со стороны людей, опустившихся до дна, стараться загрязнить святые имена, чтобы почувствовать себя в своем воображении чище, чем они были на самом деле.
Но, как известно, недаром существует иезуитское правило: «Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется». И вот мне часто приходилось слышать вопрос молодых людей, далеких от мысли чернить память Есенина: правда ли, что Есенин писал свои стихи только тогда, когда находился в состоянии опьянения?
Трижды развеянный по ветру миф о Есенине все же оставил, оказывается, свои следы.
Я пишу в надежде, что те, кто не разучился чувствовать правду, поверят мне, знавшему Есенина очень близко, что даже в самые трудные моменты его жизни, уже после возвращения из-за границы, с ним подобного никогда не случалось.
Ко всем обстоятельствам, ломавшим его жизнь и подтачивающим здоровье, нельзя не прибавить еще одного: при всем обаянии Айседоры столь большая разница в годах не могла психологически пройти для Есенина бесследно, особенно когда в некоторых кругах становилась притчей во языцех. Опять-таки большинство друзей не придавали этому особенного значения. Но жизнь есть жизнь.
Вспомните строчку из прекрасного стихотворения Анны Ахматовой:
Я дрожу от каждой соринки, от каждого слова глупца.С какой бы стороны мы ни подошли к поездке Есенина за границу, нельзя не признать, что такие перемены и потрясения, как внутренние, так и внешние, не могли не подготовить почвы будущей трагедии.
Журнал имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасное» начал свое существование до отъезда Есенина за границу. По его возвращении в Москву в нем были напечатаны новые стихи Есенина. Таким образом, сотрудничество продолжалось, но началось уже его охлаждение к журналу. В № 3 после больших колебаний он все же дал свою «Москву кабацкую», а в № 4 наотрез отказался печататься.
Были у нас и новые сотрудники, как называл их Мариенгоф – «молодое поколение» имажинистов, – Иван Грузинов, Николай Эрдман, Матвей Ройзман. Последний славился среди нас своей кипучей энергией, он принимал деятельное участие во всех делах, связанных с изданием журнала и будущего сборника под лаконичным заглавием «Имажинисты» с четырьмя участниками: Мариенгофом, Ивневым, Шершеневичем, Ройзманом (1925 г.).
У Есенина в ту пору назревал разрыв с Мариенгофом, и он не дал своих стихов для этого сборника.
С Есенина начала постепенно сползать искусственная позолота Запада, проявлявшаяся в какой-то странной манере держать себя, словно он так долго путешествовал по дальним странам, что отвык от родных мест и едва их узнавал (первое время он даже говорил с нарочитым акцентом). Он становился снова прежним Есениным времен 1915–1920 годов. Но все же в нем чувствовалась какая-то надломленность.
Встречи наши с Есениным продолжались, как будто в жизни его не произошло никаких перемен. А перемены все же были. Хотя он стал «прежним Есениным», но в нем не было прежней есенинской простоты и непосредственности. Он иногда задумывался, иногда смотрел рассеянно, потом как бы стряхивал с себя что-то ему чуждое и опять становился самим собой, улыбался и балагурил.
Однажды он неожиданно взял мою руку и, крепко сжав, тихо проговорил:
– А все-таки ты счастливый!
– Чем же это? – спросил я удивленно.
– Будто не знаешь?
– Не знаю…
– Ну вот тем и счастлив, что ничего не знаешь.
И быстро переменил тему разговора, так что я и до сих пор не знаю, что он имел в виду. Предполагаю, что это был порыв, когда он хотел поделиться со мной какой-то своей болью, но потом раздумал. Еще до этого странного разговора я стал замечать, что его что-то тяготит. Но пока все это было только как бы намеком на будущее признание.
Разрыв между Есениным и Мариенгофом прошел мимо меня. Или Есенин не захотел меня впутывать в свои «распри», или не хотел оказывать на меня давление, чтобы я последовал его примеру и отстранился от Мариенгофа. Есенин не был никогда ни мелочным, ни мстительным. Благородство души не позволяло ему искать союзников для борьбы с бывшими друзьями. Здесь я не могу не высказать своего мнения, что дружба с Мариенгофом была связана с романтикой и скреплена душевной привязанностью. Говоря об их отношениях, я должен коснуться мифа № 2, скорее комического, чем злостного (каковым я считаю миф № 1, о котором писал выше). Миф № 2 заключается в том, что в одно время некоторым людям понадобилось найти «козла отпущения», чтобы доказать, что Есенина кто-то «совращает», тянет в болото. А так как Мариенгоф кому-то был неугоден, то на него и посыпались «палочные удары».
Дошло до того, что хороший писатель, добрый и благородный товарищ – Борис Лавренев, живший в то время в Ленинграде, был кем-то из недоброжелателей Мариенгофа до того «нашпигован», что, не разобрав, в чем дело, разразился статьей, в которой обвинил огульно всех имажинистов в том, что они «спаивают Есенина». Между тем Мариенгоф не брал в рот вина, да и жизнь вел такую, которая также была далека от богемы.
Я написал письмо Лавреневу, он тотчас же отозвался, но амнистировал только меня, написав, что меня он «не имел в виду» в своей статье, но от своих обвинений не отказывался. Между прочим, и Вадим Шершеневич тоже не грешил пристрастием к алкоголю.
Этот случай еще раз доказал мне, как трудно бывает опровергнуть нелепые слухи, даже если они пущены без злого умысла. Я считаю, что дружба Есенина с Мариенгофом была настолько большой и настоящей, что она продолжает «посмертное существование», несмотря на происшедший разрыв.
Что касается дальнейших обвинений Мариенгофа, что он «затянул в сети имажинизма» Есенина, то и они совершенно беспочвенны, так как Есенин приехал в Москву в 1918 году далеко не ребенком, а молодым и признанным всей Россией поэтом, не склонным влезать в чьи-либо сети, что доказал петербургский период его жизни, когда за ним охотились более зрелые и опытные «ловцы человеческих душ». То, что Есенин оставался всю жизнь самим собой, дружил ли он с «крестьянскими писателями», подписывал ли «манифест» с имажинистами, доказывает, что Мариенгоф, если бы даже хотел, не мог бы в этом отношении «совратить» Есенина.
Я никогда не был ярым поклонником теории имажинистов (все знают, что и Есенин не был таковым), но ведь нельзя же вычеркнуть из истории тот факт, что «манифест» имажинистов был опубликован в газете «Советская страна», а не в каком-нибудь эмигрантском листке.
* * *
Еще до отъезда Есенина на Кавказ я навестил его в больнице на Полянке. Это было своеобразное лечебное учреждение, скорее похожее на пансионат. У Есенина была своя комната – большая, светлая, с четырьмя окнами. Опять встреча, поцелуи, расспросы. На вид Есенин был совершенно здоров.
Во время разговора мы сидели у окна. Вдруг Есенин перебил меня на полуслове и, перейдя на шепот, как-то странно оглядываясь по сторонам, сказал:
– Перейдем отсюда скорей. Здесь опасно, понимаешь? Мы здесь слишком на виду, у окна…
Я удивленно посмотрел на Есенина, ничего не понимая. Он, не замечая моего изумленного взгляда, отвел меня в другой угол комнаты, подальше от окна.
– Ну вот, – сказал он, сразу повеселев, – здесь мы в полной безопасности.
– Но какая же может быть опасность? – спросил я.
– О, ты еще всего не знаешь. У меня столько врагов. Увидели бы в окно и запустили бы камнем. Ну и в тебя могли бы попасть. А я не хочу, чтобы ты из-за меня пострадал.
Теперь я уже понял, что у него что-то вроде мании преследования, и перевел разговор на другую тему.
Есенин охотно перешел к разговору о толстом журнале, который он собирался издавать. О «Гостинице для путешествующих в прекрасное» он не хотел больше слышать.
– Пусть Мариенгоф там распоряжается, как хочет. Я ни одной строчки стихов туда не дам. А ты… ты как хочешь, я тебя не неволю. Все равно в моем журнале ты будешь и в том и в другом случае. Привлеку в сотрудники Ванечку Грузинова. Он хороший мужик. Это и то, что многие… да ну их… и вспоминать не хочу. Грузинов хорошо разбирается в стихах, из него бы критик вышел дельный и, главное, честный. Не юлил бы хвостом. И стихи у него неплохие, есть из чего выбрать для журнала. Правда, любит мудрить иногда, но это пройдет, да и кто в этом не грешен.
– Знаешь что, – сказал он мне вдруг, – давай образуем новую группу: я, ты, Ванечка Грузинов…
Есенин назвал еще несколько фамилий (насколько помнится, крестьянских поэтов). Я ответил ему, что группы и школы можно образовывать только до двадцати пяти лет, а после этого возраста можно оказаться в смешном положении. Ему это понравилось. Он засмеялся, но через минуту продолжал в том же духе:
– Я имажинизма не бросал, но я не хочу видеть этой «Гостиницы», пусть издает ее кто хочет, а я буду издавать «Вольнодумец».
Потом вдруг, без всякой видимой причины, опять впал в какое-то нервное состояние, опустив голову, задумался и проговорил сдавленным голосом:
– Все-таки сколько у меня врагов! И что им от меня надо? Откуда берется эта злоба? Ну, скажи, разве я такой человек, которого надо ненавидеть?
Я, как мог, успокаивал его и, чтобы отвлечь, напомнил ему один эпизод, когда он однажды в кафе «Стойло Пегаса» рассердился на завхоза Силина и до того рассвирепел, что от него все отскочили в сторону, а я подошел к нему, взял за руки, и он, к величайшему удивлению всех присутствующих, залился заразительным смехом. Есенин вспомнил это, и в глазах его зажглись те веселые искорки, которые так часто сверкали у него прежде. Он пододвинулся ко мне ближе и, будто это был очень важный вопрос для него, спросил:
– Скажи откровенно, только не дипломатничай, ведь ты все-таки боялся? В душе, конечно. Дрожал?
Я улыбнулся.
– Если бы боялся, то не подошел бы к тебе.
– Нет, – упрямился Есенин, – ты боялся, но думал: авось сойдет, и тогда все скажут: «Какой он храбрый».
– Ну пусть так, – согласился я, теперь уже действительно боясь, что если я буду противоречить, он опять потеряет душевное равновесие и заговорит о «врагах», которые его окружают.
Но Есенин неожиданно для меня сказал совершенно спокойно:
– Нет, я шучу. Ты просто хорошо меня знаешь. А ведь меня не все знают хорошо. Думают, что хорошо знают, а… совсем не знают и не понимают. Есть люди, на которых я не мог бы замахнуться, если бы они даже… ударили меня.
После небольшой паузы он добавил:
– Но, правда, таких людей очень мало. Наперечет.
В это время раздался стук в дверь. Есенин вздрогнул.
– Покоя не дают. Кто там? – окликнул он раздраженно.
Вошла сотрудница больницы.
– А, это вы, – сразу смягчился Есенин… – заходите, заходите. Познакомьтесь с моим другом, поэтом…
Я перебил его:
– Сережа, не надо никаких представлений.
Сотрудница взглянула на меня и улыбнулась. Я понял, что время посещения истекло, и сказал Есенину:
– Я заговорился с тобой и забыл, что ведь у меня важное дело. Боюсь опоздать.
Есенин пробовал меня отговорить, но мне удалось убедить его, что я действительно тороплюсь по делу.
Есенин любил всякие затеи и выдумки. Ему нравилось, когда какой-нибудь его поступок вызывал удивление. Например, хождение в цилиндре и лаковых ботинках по заснеженным улицам Москвы двадцать первого года, когда все ходили в ушанках и валенках.
Я уже не говорю про нашумевшие проказы с росписью стен Страстного монастыря цитатами из своих стихов. Для него было сущим наслаждением ошарашить всех чем-нибудь неожиданным и необычным. Кроме того, Есенин любил строить всякие планы, иногда замаскированно шутливые, а иногда просто неисполнимые.
В моих ранних воспоминаниях о Есенине в сборнике «С. А. Есенин» (Гослитиздат, 1926) я допустил ошибку, утверждая, что якобы Есенин никого по-настоящему не любил. Это казалось мне потому, что Есенин имел такой огромный успех у женщин, который как бы затмевал его собственные чувства.
Как-то раз при одной из встреч он с таинственным видом отвел меня в сторону (это было на Тверском бульваре), выбрал свободную скамеечку на боковой аллее и, усадив рядом с собой, сказал:
– Ты должен дать мне один совет, очень… очень важный для меня.
– Ты же никогда ничьих советов не слушаешь и не исполняешь!
– А твой послушаю. Понимаешь, все это так важно. А ты сможешь мне правильно ответить. Я тебе доверяю.
Я прекрасно понимал, что если Есенин на этот раз не шутит, то, во всяком случае, это полушутка… Есенин чувствовал, что я не принимаю всерьез его таинственность, но ему страшно хотелось, чтобы я отнесся серьезно к его просьбе – дать ему совет.
– Ну, хорошо, говори, – сказал я, – обещаю дать тебе совет.
– Видишь ли, – начал издалека Есенин. – В жизни каждого человека бывает момент, когда он решается на… как бы это сказать, ну, на один шаг, имеющий самое большое значение в жизни. И вот сейчас у меня… такой момент. Ты знаешь, что с Айседорой я разошелся. Знаю, что в душе осуждаешь меня, считаешь, что во всем я виноват, а не она.
– Я ничего не считаю и никогда не вмешиваюсь в семейные дела друзей.
– Ну хорошо, хорошо, не буду. Не в этом главное.
– А в чем?
– В том, что я решил жениться. И вот ты должен дать мне совет, на ком.
– Это похоже на анекдот.
– Нет, нет, ты подожди. Я же не досказал. Я же не дурачок, чтобы просить тебя найти мне невесту. Невест я уже нашел.
– Сразу несколько?
– Нет, двух. И вот из этих двух ты должен выбрать одну.
– Милый мой, это опять-таки похоже на анекдот.
– Совсем не похоже… – рассердился или сделал вид, что сердится, Есенин. – Скажи откровенно, что звучит лучше: Есенин и Толстая или Есенин и Шаляпина?
– Я тебя не понимаю.
– Сейчас поймешь. Я познакомился с внучкой Льва Толстого и с племянницей Шаляпина. Обе, мне кажется, согласятся, если я сделаю предложение, и я хочу от тебя услышать совет, на которой из них мне остановить выбор?
– А тебе разве все равно, на какой? – спросил я с деланым удивлением, понимая, что это шутка.
Но Есенину так хотелось, чтобы я сделал хотя бы вид, что верю в серьезность вопроса. Не знаю, разгадал ли мои мысли Есенин, но он продолжал разговор, стараясь быть вполне серьезным.
– Дело не в том, все равно или не все равно… Главное в том, что я хочу знать, какое имя звучит более громко.
– В таком случае я должен тебе сказать вполне откровенно, что оба имени звучат громко.
Есенин засмеялся.
– Не могу же я жениться на двух именах!
– Не можешь.
– Тогда как же мне быть?
– Не жениться совсем.
– Нет, я должен жениться.
– Тогда сам выбирай.
– А ты не хочешь?
– Не не хочу, а не могу. Я сказал свое мнение: оба имени звучат громко.
Есенин с досадой махнул рукой. А через несколько секунд он расхохотался и сказал:
– Тебя никак не проведешь! – И после паузы добавил: – Вот что, Рюрик. Я женюсь на Софье Андреевне Толстой.
Есенин так любил шутить и балагурить и делал это настолько тонко и умно, что ему часто удавалось ловить многих «на удочку». Мне рассказывали уже значительно позже некоторые из тех, с кем говорил Есенин о своем, тогда еще только предполагавшемся браке, что они до сих пор убеждены, что Есенин всерьез спрашивал их совета, на ком жениться, на Толстой или на Шаляпиной.
Запомнилась мне еще одна беседа с Есениным, относящаяся к тому же периоду, когда однажды я показал ему афишу большого концерта, в котором участвовал; он прежде всего обратил внимание не на известные имена, а на извещение в самом конце афиши, что «зал будет отоплен». Когда я выразил свое удивление, что он обращает внимание на такие мелочи, он ответил: «Эти мелочи для историков будут иметь более важное значение, чем имена людей, которые и без афиши не будут забыты».
И тут же он мне привел пример из моего документа 1918 года, который я ему незадолго до этого показывал.
Это была официальная бумага с тремя подписями: наркома просвещения А. В. Луначарского, управделами Наркомата Покровского (однофамильца историка М. Н. Покровского) и начальника канцелярии К. А. Федина, но не однофамильца известного писателя Константина Федина, а его самого. Эта любопытная бумага гласила:
«Прошу выдать моему секретарю тов. Ивневу Р. А. теплые перчатки, которые ему крайне нужны, так как ему часто приходится разъезжать по служебным делам в открытом экипаже».
Есенин, который до упаду хохотал, когда я первый раз показал ему бумагу, теперь, вспомнив о ней, сказал:
– Вот видишь, что значит мелкая подробность: сейчас, спустя четыре года после ее появления на свет, она стала сверхлюбопытна, а что же будет через десять лет? Ведь она скажет будущим историкам больше, чем свод постановлений об улучшении бытовых условий жизни, если такой бы существовал. Теперь ты понял, какое значение имеют так называемые «мелкие подробности»?!
Эти слова Есенина я вспоминаю всегда, когда мне приходится писать воспоминания.
Говорят, что время – лучший лекарь. И все же этот «лучший лекарь» никогда не сможет нас окончательно вылечить от боли, которую мы испытываем, теряя лучших друзей. Эта боль то затихает, то опять вспыхивает. И вот с этой вновь вспыхнувшей болью я и заканчиваю мои воспоминания о Есенине. Но эта горечь смягчается сознанием, что того, о ком я вспоминаю, помнит вся Россия, весь многонациональный союз родных и близких нашему сердцу народов.
О Михаиле Кузмине
Михаил Кузмин…
Широкой публике это имя мало что говорит.
Но боже мой! Оно не только говорит, но вопиет его современникам, от которых остались считаные лица. Однако сила познания, проявляемая, подобно археологам, нашими литературоведами и книголюбами, извлекла это имя из-под плит забвения.
Как Валерий Брюсов открыл в свое время Каролину Павлову и вернул ее из XIX века в век XX, так наши неугомонные искатели «старых жемчугов» (да будут благословенны литературные архивы) начинают проявлять большой интерес к этому, когда-то знаменитому, поэту старого Петербурга.
Да и не только поэту, но и беллетристу, критику, переводчику, глубоко образованному и оригинальному человеку. С ним я познакомился во вторую половину его жизни, когда имя его было окружено легендами. Про него говорили, что он был в юности послушником, потом бежал из монастыря и стал скитальцем не только по России, но и по Европе и Африке. Он никогда не рассказывал о своем прошлом, должно быть, потому, что считал это «дурным тоном». Он был в одно и то же время и общителен и замкнут, чаще изысканно вежлив, иногда весьма язвителен.
Одно в нем было ясно и прочно: несмотря на успех и похвалы корифеев того времени – Федора Сологуба и Валерия Брюсова, не считал себя «первым и единственным».
Я только что появился на литературном горизонте Петербурга, когда он был в зените славы. В первый раз за три года до нашего знакомства я увидел его в знаменитой «Башне» Вячеслава Иванова, когда робким студентом пришел к нему, чтобы показать мэтру тетрадь моих юношеских стихов.
Я видел Кузмина всего несколько минут, но тогда он произвел на меня неприятное впечатление, вероятно, потому, что я, как все юнцы, не любил лишних глаз и ушей в момент разговора с мэтром. Кроме этого было что-то еще, что меня отталкивало. Может быть, я ошибался, но мне казалось, что он «вмешивается не в свое дело», расспрашивая, почему я пришел со стихами именно к Вячеславу Иванову. Я не знал тогда, что Кузмин живет у Вячеслава Иванова и является как бы членом его семьи. Вскоре вошел и сам мэтр. Вот он произвел на меня сразу большое впечатление, похожее на то, которое произвел двадцать лет спустя известный искатель тунгусского метеорита профессор Кулик.
Секрет обаяния был в том, что Вячеслав Иванов с первой секунды заговорил со мной так просто и ласково, как будто мы были с ним старые знакомые. Он прочел внимательно мою тонкую тетрадь и сказал, мягко улыбаясь:
– Друг мой, прежде чем писать так, вам надо создать сто безукоризненных сонетов.
– Попробую, – покорно согласился я.
О следующей встрече с ним, когда года через полтора я пришел со ста сонетами, я расскажу в своих воспоминаниях о Вячеславе Иванове. А теперь возвращаюсь к Михаилу Алексеевичу Кузмину.
Через три года, в 1914 году, когда я уже опубликовал несколько тоненьких книжечек стихов, получаю пригласительное письмо от Евдокии Аполлоновны Нагродской, прославившейся своим романом «Гнев Диониса». Я не был с ней знаком и приглашение воспринял как начало своей известности. В очередной четверг в четыре часа дня, как было назначено, я пришел к ней на «файф-о-клок» и был несказанно удивлен, когда встретил в ее салоне Кузмина, и не в качестве гостя, а как… «члена семьи», ибо Кузмин нанимал комнату в ее обширной квартире на Мойке, у Синего моста.
Я был удивлен не столько тем, что встретил Кузмина, но тем, как мог он перекочевать из «Башни» Вячеслава Иванова в сомнительный салон Нагродской. Что он сомнительный, я слышал еще до моего прихода сюда. Себе, как начинающему, я позволил эту вольность, но как мог Кузмин, думал я тогда, поэт-эстет, ставший знаменитым, не только бывать, но жить в одной квартире с автором бульварных романов? Что может быть общего между этими двумя диаметрально противоположными именами?..
Однако показать изумление было бы невежливо. Я сделал вид, что соседство их воспринимаю как вполне естественное.
Кузмин, сочувствующий футуристической поэзии, вероятно, слышал обо мне, ибо едва Нагродская представила меня, он без всяких церемоний сказал:
– Пойдемте в мою комнату. Я хочу послушать ваши стихи.
Нагродская запротестовала:
– Михаил Алексеевич, пусть Рюрик Ивнев прочтет свои стихи всем, не только вам.
– Нет, – возразил Кузмин, – сначала мне.
Он повел меня в свою комнату. Там я познакомился с молодым литовским писателем Юрием Юркуном, гостившим у Кузмина. Я прочел несколько стихотворений. Два из них Кузмин просил прочесть еще раз в знак того, что они ему понравились. Юркун присоединился к мнению Кузмина, но счел своим долгом сделать замечание, смысл которого сводился к тому, что в одной строке лучше было бы переставить слова.
– Тем более, – добавил он, – размер останется тот же.
После этого Кузмин начал читать свои стихи. Некоторые из них я уже знал. Мне понравилось стихотворение, которое начиналось так:
Как радостна весна в апреле, Как нам пленительна она! В начале будущей недели Пойдем сниматься к Буасона…Я сказал ему: «Это мое любимое стихотворение…» Кузмин улыбнулся. У него было удивительное свойство радоваться, как радуется ребенок. Он был достаточно умен и чуток, чтобы понять, когда хвалят искренне, а не из вежливости.
– Ну, пойдемте в салон, а то Евдокия Аполлоновна обидится.
Я только сейчас обратил внимание, насколько разношерстная публика в этом салоне, который с большой натяжкой можно было бы назвать литературным, ибо, кроме Кузмина, в нем не присутствовал ни один стоящий писатель.
Теперь мои впечатления о Кузмине времен его жизни у Вячеслава Иванова рассеялись, как папиросный дым. Кузмин казался таким же простым и приветливым, как сам Вячеслав Иванов, но с той существенной разницей, что у того простота была врожденной, а у этого несколько наигранной.
С этого дня мои встречи с Кузминым участились, я приходил к нему не только по четвергам, но и в другие дни.
Обычно разговор начинался со стихов.
– Написали новые стихи?..
Если я отвечал утвердительно, следовала просьба их прочесть. Он не любил, когда молодые поэты мнутся и кривляются, перед тем как согласиться. Я знал это и не заставлял себя упрашивать.
У Кузмина была своеобразная манера критиковать. Он никогда не говорил, что прочитанные стихи ему не нравятся. Обычно он «выуживал» какую-нибудь самую терпимую строчку и говорил, что эта строчка ему понравилась. Если строчка действительно была хороша, добавлял: «Очень понравилась…»
Установился ритуал: молодой поэт не должен задавать дополнительных вопросов мэтру и пытаться выяснить, «а как другие строчки». Все было ясно и так. Тем более не было принято вступать в споры. Кузмин этого не любил. Спорить могут мастера, а подмастерья должны слушать и наматывать себе на ус, даже если усов не было.
Но зато когда стихотворение нравилось, что случалось не так часто, он приходил в необычайное оживление и заставлял автора прочитать его еще раз. Сам он читал охотно и без всяких просьб. Иной раз не успеешь поздороваться, как он говорит: «Вчера я написал стихотворение. Сейчас прочту…»
В ту пору большинство поэтов скандировало стихи, за исключением Александра Блока. Он читал их подчеркнуто просто.
Кузмин читал не так просто, как Блок, но и не скандировал. У него была своя манера чтения, не лишенная, пожалуй, некоторой манерности, но подкупавшая своеобразием. Стихи Кузмина нравились потому, что он возвращал поэзии «право обыденного слова». Это было свежо, ибо любители стихов начинали уставать как от напыщенности, так и от «заумности».
Кузмин стоял в стороне от «зданий школ». Он не примыкал ни к символистам, ни к акмеистам. Будучи по творчеству своему чуждым футуризму, он тем не менее прочел в литературном кабачке «Бродячая собака» доклад, в котором отдавал должное школе футуристов.
У меня случайно сохранился один лист «Синего журнала» за 1915 год, где описывается вечер, когда Михаил Алексеевич читал доклад о русской литературе. Так как он характерен для Кузмина, я приведу его почти полностью, а также отчет о вечере журналистки Т. Шенфельд.
«Недавно был прочитан мною доклад в помещении «Бродячей собаки» о современной русской прозе. Это была скорее интимная и откровенная беседа не столько о прозе исключительно, сколько вообще о положении современной русской литературы после победы модернизма 90-х годов и прекращения специального органа. После «Весов» не было оплота модернизма, и все писатели пошли не в народ, а в публику, участвуя в журналах больших и маленьких, причем произошла ассимиляция старых и новых. Необходимость освобождения художественной критики от пристрастия в пользу какой-нибудь школы. Результаты всяких школ должны быть техническими; неудобство, почти невозможность идеалистических оснований литературных школ.
Требования к личности писателя. Полная путаница в распределении на группы, причем Сологуб и З. Гиппиус оказываются в «эгофутуристах» как участники «Очарованного путника». Единственный критерий может быть только в техническом разборе языка и стиха. Три пути для прозы: путь простоты (Пушкин), русской цветистости и пышности (Гоголь через Лескова) и путь фильтрованного интеллигентного языка (Тургенев через Чехова). Всякое настоящее новшество просто… Преходящесть произведений, построенных на одной минутной новизне приемов, призыв к простоте формы, искренности и сложности содержания… Заслуги акмеизма и футуризма (освобождение слова). Новых сил можно ждать только со стороны футуристов и «диких»».
«В заключение были прочитаны отрывки из повести В. Модзалевского, «Смерть Паливоды» В. Хлебникова и главы из печатающегося романа Юрия Юркуна «Шведские перчатки».
Прения, как и доклад, происходили под председательством Т. А. Шенфельд, оппонировали Н. Кульбин, Б. Масалов, И. Зданевич, М. Моравская, Г. Деминский и Г. Балянсон. Н. Кульбин развивал теорию освобождения слова. И. Зданевич доказывал необходимость школ как средства для борьбы и полемики и придавал большое значение новизне технических приемов, подтверждая это выдержками из романа Юрия Юркуна. М. Моравская утверждала необходимость направления и находила современное направление в обращении к простейшему и народному. Напомнила Е. Гуро. Г. Деминский находит, что возвращение к простоте пройдено уже в эпоху деятельности Льва Толстого. И теперь оно едва ли возможно. После прений М. Кузмин, Рюрик Ивнев, М. Моравская и Дмитрий Цензор читали стихи».
Поэты старшего поколения – Бальмонт, Брюсов, Сологуб – относились к Кузмину по-разному, но отдавали должное его таланту.
Ценили его молодые тогда Ахматова, Мандельштам, Городецкий. Самые юные – Георгий Иванов, Георгий Адамович и я – любили Кузмина и считались с его мнением.
Как все люди, Кузмин бывал в разных настроениях, но основной чертой его характера, несмотря на раздражительность и острословие, была доброта к людям, хотя «благодушным добряком» его никак нельзя было назвать.
Сам он любил высказывать парадоксальные или оригинальные мысли, делать замечания о явлениях природы или даже о пустяках, но не терпел, когда молодые поэты начинали ему в этом подражать. Мне запомнилась одна сцена на даче в Павловске, где проводил лето Кузмин.
Мы с Георгием Ивановым навестили его. Погода стояла прекрасная, втроем мы долго гуляли в Павловском парке. Кузмин не хотел нас отпускать без традиционного чая. За столом он был особенно разговорчив и остроумен. Мы дорожили этими беседами, Георгий Иванов и я. (Позднее к нам присоединился начинающий поэт Георгий Адамович.) Все мы были разными и относились друг к другу хорошо, может быть, потому, что делить нам было нечего. У каждого из нас в поэзии был свой небольшой участок, обрабатываемый по своему собственному вкусу. Позже, когда мы стали больше печататься и больше выступать на литературных вечерах, единственным яблоком раздора для нас стал свет прожектора, освещавшего наши участки, так как свет этот не всегда падал на нас равномерно.
Возвращаюсь к эпизоду в Павловске. Мы сидели за чайным столом. Вдруг взгляд Кузмина устремился к широкому окну, выходившему в парк. Он быстро встал, чуть не опрокинув чашку, и подошел к окну. Не понимая, в чем дело, мы наблюдаем за ним. Кузмин молча постоял у окна несколько минут, потом, улыбаясь, обратился к нам:
– Рюрик, Жорж, подойдите поближе.
– Вероятно, новый гость, – шепнул мне Георгий Иванов. – Если это Гартевель, все настроение будет испорчено.
Но никакого гостя не было, и Кузмин показывал нам рукой не на калитку сада, а на небо. Мы подняли головы.
– Посмотрите, – сказал Кузмин, – какие изумительные полосы света.
– Наверху? – спросил Георгий Иванов
– Да нет, – раздраженно возразил Кузмин, – не наверху и не внизу, а в середине, видите? Как изумительно! Будто кто-то нарочно провел полосу свежим вишневым соком.
– Да-да, совсем как вишня, – поторопился загладить свою недогадливость Георгий Иванов, но Кузмин сказал – так же раздраженно:
– Не вишня, а вишневый сок.
Мы вернулись к прерванному чаю. Потом Кузмин пошел нас провожать до курзала.
Недели через две мы с Георгием Ивановым снова приехали в Павловск. Кузмин был в ударе. Он читал новые стихи, которые доставили нам большое удовольствие. Когда мы собирались уходить, Георгий Иванов сказал:
– Михаил Алексеевич! Не надо нас провожать. Я заметил, вы в прошлый раз устали.
– Какой вздор! – рассердился Кузмин, одеваясь. – Я никогда не устаю. По утрам я делаю еще более продолжительные прогулки. А до курзала рукой подать.
Мы вышли. Кузмин говорил о том, что писатели не умеют работать над фразой и потому у нас много рыхлых произведений. Брали бы пример с Флобера.
Несколько минут шли молча. Я обратил внимание на удивительное небо, все усыпанное, словно расплывшимися звездами, маленькими перистыми облаками. Заметив, что я смотрю на небо, Георгий Иванов поднял голову.
– Боже мой! Какая красота! Михаил Алексеевич, посмотрите, какие удивительные облака!..
Кузмин еле поднял голову и сухо отрезал:
– Облака как облака.
Пройдя несколько шагов, он вдруг остановился:
– Жорж, вы были правы… Утренние прогулки – совсем другое.
Я понял, что Кузмин решил вернуться домой. Так оно и вышло. Он простился с нами с удвоенной приветливостью, должно быть, чтобы скрыть свое неудовольствие.
Мы подходили к курзалу. Георгий Иванов сказал:
– А все же насколько римляне были умнее нас.
– То есть? – спросил я, не понимая, к чему он клонит.
– Помнишь их пословицу: «Что дозволено Юпитеру – не дозволено быку»?
Я засмеялся. Георгий Иванов попал в цель.
Все же мы продолжали ходить к Кузмину и прощали его причуды ради его стихов и милых бесед.
Однажды Кузмин сказал мне, показывая на издевательскую рецензию на мою книжечку стихов в какой-то бульварной газете:
– На рецензентов нельзя даже сердиться. Их надо жалеть. Они родились тупицами, тупицами и умрут. Но не только они, даже некоторые просвещенные критики не могут понять, что ваше самобичевание – далеко не кривлянье, а также и не настоящая исповедь, а тоска по той правде, которой нет на земле. Эта тоска наивна, но именно эта святая наивность, как ласка ребенка, не могла не тронуть тех, кто еще не махнул рукой на человечество.
Меня немного покоробило слово «наивность», и я решил нарушить ритуал «не спорить с мэтром» и спросил:
– Михаил Алексеевич, в каком смысле наивность?
– В самом прямом, – улыбнулся Кузмин, – когда вы бичуете себя и каетесь в грехах, которых не совершали, вы по молодости и, главное, по наивности искренне думаете, что все плохие мысли, которые возникли у вас, принадлежат только вам и никогда никому не приходили в голову. Веря в это, вы искренне приходите в отчаяние. На искренность и отчаяние в стихах ваших, которые по форме еще далеко не совершенны, обратила внимание публика. Вспомните, первая ваша книжечка «Самосожжение» вышла в 1913 году, а с 1914 года ваше имя уже известно. Забавнее всего, – продолжал Кузмин, – что редкая удача явилась результатом двух огромных ошибок. Ошиблись вы, воображая себя самым плохим человеком в мире. Образованные люди сразу поняли, что это святая наивность Ну, а невежды решили, что перед ними кривлянье, и стали улюлюкать, делая вид, что верят в ваши прегрешения…
За все время нашего знакомства Кузмин впервые вместо оценки отдельных стихотворений обнажил корни моего творчества того периода. Я ничего ему не ответил, считая, что писать надо не мудрствуя лукаво, предоставив другим читать стихи и анализировать их.
Кузмин был завсегдатаем нейтрального центра литературной жизни, знаменитого кабачка «Бродячая собака», в котором читал стихи, пел свои песенки, сидя у рояля и себе аккомпанируя.
В начале 1916 года главный организатор и директор «Бродячей собаки» Пронин[7], соблазненный субсидией банкира Рубинштейна, стяжавшего себе скандальную известность дружбой с Гришкой Распутиным, открыл новый, более шикарный кабак «Привал комедиантов», помещавшийся в особняке Рубинштейна на Марсовом поле. Кузмин стал выступать в «Привале». Однако предприятие вместо расцвета, как ожидал Пронин, стало быстро хиреть.
Этому способствовало тревожное время страшных неудач на фронте. Вот когда надо было быть личным свидетелем событий того времени, чтобы понять, какое настроение господствовало в столице на берегах Невы. В газете «Речь» был напечатан фельетон Мережковского под заглавием «Петербургу быть пусту», где он воспроизводил легенду, относящуюся ко времени постройки Петром города, когда некий юродивый бродил и «пророчествовал»: «Петербургу быть пусту… Петербургу быть пусту…» Империя висела на волоске. Это чувствовалось во всем. Одних это радовало, других – приводило в отчаяние.
Если в «Бродячей собаке» думали о стихах, то в «Привале комедиантов» стали задумываться о стихии.
И публика в нем была уже не та. По инерции продолжали бывать поэты, художники, композиторы, но тон задавали дельцы и спекулянты.
В «Бродячей собаке» посторонних в среде людей искусства, допускавшихся в зал за плату (пять рублей золотом), называли «фармацевтами». Слово прижилось. Если «фармацевты» в «Бродячей собаке» были гостями, то в «Привале комедиантов» они вели себя как хозяева. И золотой «Привал» с его роскошными залами и огромными зеркалами терял постоянную публику и пустовал все чаще.
Уехавший за границу Георгий Иванов опубликовал в Париже мемуары «Петербургские зимы», в которых обрушился на своего бывшего кумира Кузмина за то, что он, по мнению Иванова, усыплял бдительность интеллигенции песенкой:
Дважды два – четыре, Два плюс три – пять. Остального в мире Нам не надо знать…Кузмин, как известно, остался в советской России и продолжал литературную деятельность.
В марте 1918 года я переехал в Москву, и следующие встречи с Кузминым произошли через двенадцать лет, когда я вновь стал жителем Ленинграда. В ту пору Кузмин жил на Бассейной, недалеко от Литейного проспекта, вместе с Юркуном и его матерью они занимали две комнаты в обычной коммунальной квартире. За годы, что я не видел Кузмина, он мало изменился. Только остатки волос, зачесанных кверху, стали серебриться еще нагляднее. Он остался верен себе: ничего не рассказывал о своей жизни и неохотно слушал, когда ему рассказывали об интересном, но его не касавшемся.
Я не обиделся на Кузмина, оставшегося равнодушным к моим рассказам о пережитом, которые другие просили повторять по нескольку раз. Они не задевали его. Создавалось впечатление, что он стоял над всем и всеми. Быть может, потому, что прошлая его жизнь была переполнена еще более острыми приключениями.
Он не задумывался над тем, что вызвало те или иные нравящиеся ему стихи. Кузмин принимал их как «готовое изделие». Так восхищаются фарфором, старинными картинами, редкими тканями, не вспоминая тех, кто создавал это в труде и страданиях. Но то, что в другом казалось бы странным и даже отталкивающим, в Кузмине не вызывало ни горечи, ни раздражения. После нескольких лет нужды Кузмин благодаря знанию иностранных языков начал получать хорошие гонорары за переводы. Особенно улучшилось его материальное положение после перевода зарубежных пьес, которые шли в Москве, Ленинграде и других городах. Само собой разумеется, о черных днях его жизни я узнал не от него, который на этот счет молчал, как статуя. Кузмин держался прежних привычек: принимал гостей у себя дома, а сам в гости не ходил. И теперь, как и во времена своей жизни у Нагродской, у него были приемные дни, когда к нему заходили на чашку чая. Правда, время было уже не то, когда каждый устроитель литературных вечеров и концертов знал наизусть номер его телефона. Теперь его редко беспокоили. Впрочем, это его нисколько не огорчало. А то, что «четверги» как-то потускнели, Кузмин, похоже, даже не замечал. Злоязычный Георгий Иванов назвал бы их «третьестепенными». Не знаю почему, но, во всяком случае, не из-за недостатка средств установился весьма скромный процесс чаепития. Большой круглый стол покрыт был безукоризненно чистой цветной скатертью. Настоящий самовар на угольях. Полное отсутствие закусок и вин. На двух больших блюдах – много хлеба и килограмма два сливочного масла. Вот и все. Так что остряки (они не перевелись на берегах Невы) обычно говорили, встречаясь на улице:
– Вы будете в следующий четверг на масле у Кузмина?..
О политике мы с ним никогда не говорили. Но он не ныл, много работал, не жаловался, что забыт, что новые имена оттеснили его в прошлое. Кузмин, кажется, был в ровном настроении и мыслил объективно. В самые бурные дни Октября он не укорял меня, подобно некоторым, за сближение с большевиками.
Я продолжал относиться к Кузмину так же хорошо, но, увы, трепетного чувства юного поэта, приобщившегося к храму искусства, когда я слушал его в зените его славы, у меня уже не возникало. Порой делалось грустно на «четверге», как бывает грустно каждому, кто вспоминает о своей утерянной юности.
Вспоминая наши встречи, и первые, и последние, я должен сказать, что за Кузминым, которого я знал, стоял другой Кузмин, никем не разгаданный. Ведь не может быть, чтобы человек жил только внешней жизнью без глубоких раздумий, стремлений, противоречий?.. Если он молчал о них, то кто же может сказать, какими они были?.. Но нельзя также сказать с уверенностью, что Кузмин был совершенно другим, чем казался нам. Вероятно, у него проявилось свойство характера жить только искусством, не обращая внимание на все остальное. Поэтому жизнь Кузмина казалась мне какой-то театральной. Мы сидели у него дома, встречались в «Бродячей собаке» и на литературных вечерах в Тенишевском и в других местах, гуляли в Летнем саду и в Павловске… Он был прост и обычен. И все же иногда мне рисовало воображение или предчувствие, что мы находимся в партере, а Кузмин на сцене блестяще играет роль… Кузмина.
Что было за кулисами сцены, я не знал. Вполне естественно, что, когда мы не можем определить настоящей сути человека, у нас создается впечатление чего-то неразгаданного, таинственного.
Вот почему меня занимал Михаил Алексеевич Кузмин.
Мои впечатления о встречах с ним я описываю так подробно, чтобы будущие исследователи его жизни и творчества имели бы полное представление обо всем, что связано с этим оригинальным писателем.
Велимир Хлебников в Петербурге и Астрахани
Петербург 1913 года. Тишина перед грозой. Концерты Собинова перекатываются волной по городу. Музыка Скрябина еще не на столбовой дороге классики, но уже начинает привлекать пристальное внимание тонких ценителей. Молодой грузчик Шаляпин во фраке и лайковых перчатках спокойно принимает шумные овации взыскательной публики столицы. Вагнер входит в Императорский Мариинский театр, как в свой собственный дом, заставляя партер брататься с галеркой. Всеволод Мейерхольд приоткрывает дверцы своего блестящего таланта. Александринский театр впервые ставит пьесу Габриэля Д'Аннунцио. Вернисаж Шагала кружит головы молодым художникам. Афиши Ходотова и Вильбушевича пестрят на стенах и заборах. Входит в моду мелодекламация.
– Каменщик, каменщик в фартуке белом, Что же ты строишь? Кому? – Эй, не мешай нам, мы заняты делом, Строим мы, строим тюрьму…[8] —проносится по всем концертным залам, вызывая бурный восторг студенческой молодежи. И тут же вблизи, в другом концертном зале, другая публика восторженно слушает получтение-полупение «поэз» своего кумира Игоря Северянина:
Градоначальница зевает, Облокотясь на пианино.Андрей Белый вознесен до небес небывалым успехом своего романа, в котором он нарисовал гениальный портрет Санкт-Петербурга. Футуристы в золотых ризах и желтых кофтах с зелеными галстуками атакуют твердыни символизма и акмеизма, в пылу сражения разбившись на две враждующие друг с другом группы – эго и кубо. И вот на этом фоне появляется будущий «председатель Земного шара» – Велимир Хлебников, заранее уверенный в том, что мировой парламент единогласно ратифицирует его самоназначение.
Мне тогда не приходила в голову мысль, что и я вместе с Григорием Петниковым и другими поэтами и деятелями искусства буду также числиться одним из председателей (или, как теперь бы сказали, сопредседателей) Земного шара.
Как же состоялось мое знакомство с Хлебниковым?
Мой близкий друг Николай Бальмонт (сын поэта), с которым мы встречались ежедневно, пришел как-то таким взволнованным, что я сразу понял, что произошло нечто неожиданное.
– Ты знаешь, – начал он, едва переводя дыхание, – Хлебников хочет с тобой познакомиться. Он просил Левушку Бруни[9] устроить встречу с тобой. Левушка очень просит тебя прийти сегодня вечером. Посторонних не будет.
– Семейка чья? – спросил я, зная любовь Никса (так я называл моего друга) к вечерам в семейном кругу Исаковых (Исаков – отчим Левушки).
Никс засмеялся:
– Да, что-то в этом роде, но ты знаешь, как я ценю Хлебникова, и мне хочется…
– Но ведь я его тоже ценю, – перебил я Никса.
– Я знаю, но я хочу, чтобы ты его увидел воочию. Он какой-то такой особенный человек. Он напоминает мне йога. Его нельзя не полюбить.
И вот вечером мы с Никсом на Васильевском острове, в здании Академии художеств, в которой ее сотрудник Исаков занимал казенную квартиру.
Мы входим в комнату. В глубоком вольтеровском кресле сидит Хлебников. В первую секунду он показался мне каменным изваянием, до того был неподвижен и спокоен. Но вот он оживает, подымается с уже успевшей впитаться в него петербургской учтивостью. Я молниеносно вспомнил слова Никса: необыкновенный человек. Да, он был необыкновенным. Это бросалось в глаза с первого взгляда. Спокойствие, внутренняя сосредоточенность. Весь внутри себя – огромный внутренний мир, кипящий и клокочущий, но скрытый для подавляющего большинства людей, понятный немногим. А внешне – высоковатый, чуть сутулый, застенчивый.
Поздоровались молча. Общепринятые в таком случае слова не срывались с губ. Больше того, они показались бы жалкими побрякушками, скорее даже кощунством, чем смешными. Еще не видя Хлебникова, я таким и представлял его – загадочным, окутанным пеленой молчания. Встреча с ним не была похожа ни на одну из прочих. Обычно, когда впервые знакомятся, каждый невольно старается показать себя с лучшей стороны, то есть понравиться тому, кто ему самому нравится или чьи стихи близки по духу. Здесь не было ничего подобного. Никто из нас не пытался сказать что-нибудь, для собеседника приятное, не мобилизовал своего остроумия и не заводил общепринятые в таких случаях разговоры о стихах, музыке, картинах молодых художников. Я чувствовал радость, что наконец увидел того, кого заочно любил, но в то же время не мог избавиться от какой-то связанности и даже смущения. Сознаюсь, что в ту пору я любил шутливые и полушутливые разговоры, был до некоторой степени заражен манерой модного в ту пору острословия и не избавился еще от легкомыслия, свойственного молодости. Все серьезное и волнующее душу я тогда предпочитал отдавать стихам, а посторонним, как и многие другие молодые поэты, старался казаться еще легкомысленнее, чем был на самом деле. При встрече с Хлебниковым у меня было такое впечатление, как будто я студент, а он – профессор. И как всякий студент, которому льстит внимание профессора, был польщен, что Хлебников выразил желание со мной познакомиться.
Часто бывает, что встречи, при которых произносятся какие-нибудь обычные слова, запоминают гораздо легче, чем тогда, когда разговор происходит при помощи взглядов, скупых улыбок и невидимых антенн. Я хорошо помню первые слова, сказанные мне при встрече Вячеславом Ивановым, Александром Блоком, Сергеем Есениным. Но почему-то слов Хлебникова не помню; это, очевидно, потому, что, быть может, никаких слов и не было произнесено. Это лишний раз доказывает, что Хлебников являлся человеком необычным, иного склада, чем все другие. Он, не раскрывая себя сразу, напоминал неразряженную «лейденскую банку». Но я сразу уловил, что его молчание было благожелательным, да и настоящего молчания, в сущности, не было. Был разговор – но не салонный, а как бы полумистический, то плавно качающий свои волны, то отрывистый, то замедленный. Несколько слов о математике, будущем Востока и Запада. О книгах, вернисажах, музыке не было сказано ни слова. Таким образом, мы говорили ощущениями непроизнесенных, но горячо пульсирующих слов.
Никс Бальмонт настороженно наблюдал за нами. Он очень любил Хлебникова, и ему хотелось, чтобы я полюбил его так же горячо. Как чуткий музыкант, он почувствовал, что встретились мы с Хлебниковым не напрасно, что в темноте полумолчания зажжен яркий фонарь взаимопонимания. Лева Бруни тоже был доволен нами. Он все время улыбался своею мягкой улыбкой, от которой исходила какая-то особенная теплота. Потом мы пили чай. В столовой Хлебников держался не как гость, а как странник, спустившийся из далеких миров на нашу грешную планету. И было как-то странно наблюдать, как он сосредоточенно размешивал серебряной ложечкой давно уже растворившийся сахар.
Мы вышли вместе с Никсом Бальмонтом поздно ночью на заснеженную набережную Васильевского острова, молча перешли через Дворцовый мост. Хлебникова с нами не было, но казалось, что он шагает с нами, немного сутулый, молчаливый и загадочный.
После этого я продолжал встречаться с Хлебниковым и в присутствии Никса Бальмонта, и без него. Я жил как бы раздвоенной жизнью. Одна – выступления на шумных вечерах и диспутах, частые встречи за кулисами с Анной Ахматовой, Осипом Мандельштамом, Георгием Ивановым, Георгием Адамовичем; ночные вечера в литературном кабачке «Бродячая собака», в котором выступали, кроме упомянутых поэтов, Владимир Маяковский, Михаил Кузмин, Владимир Нарбут и многие другие. Часто заглядывал туда и знатнейший в то время художник Судейкин, причудливо и красочно разрисовавший стены кабачка. Вторая жизнь – у себя в маленькой комнатушке на Большой Архиерейской улице Петроградской стороны, со стенами, бурно протестующими против этой «позолоченной суеты сует». И встречи с Хлебниковым, которые еще более углубляли мое внутреннее возмущение самим собой, продолжающим вертеться, как белка в колесе, в заколдованном круге богемы и пьющим ее сладкий яд.
Хлебников иногда смотрел на меня своими грустными, все понимающими глазами, но я чувствовал, что нас крепко связывают нити его собственных стихов и моих тощих книжечек «Самосожжение». Иногда он мне излагал, но не плавно и внятно, а как-то отрывисто и полунамеками, свою теорию чисел, изложенную им впоследствии в брошюре: «Время – мера мира». Когда он говорил, его оригинальная теория звучала очень убедительно. Это было своего рода пророчество, предсказание будущих событий при помощи языка цифр.
Велимир Хлебников был горячо убежден в неуязвимости своей теории. В отличие от других «пророков», которые покоряют слушателей своей экзальтацией и ораторским талантом, Хлебников был спокоен и даже косноязычен, но силу своего убеждения он передавал иным способом, точно зафиксировать который невозможно. И здесь он был своеобразен, и здесь он был человеком иного плана, чем все остальные. Значительно позднее, после выхода в свет его брошюры «Время – мера мира», я показал его труд одному талантливому математику, который сказал мне, что теория Хлебникова, его попытки предсказать будущие события путем «жонглирования цифрами», так выразился он, с точки зрения математики не выдерживают критики. Я ничего не понимаю в этой науке, но все же уверен, что Хлебников не стал бы заниматься мистификацией. Возможно, в будущем будет найден ключ, при помощи которого можно будет расшифровать его теорию. Ведь часто бывает: то, что кажется нам сегодня непонятным, завтра или много лет спустя становится ясным.
Тишина Петербурга 1913 года длилась недолго. Ее сменила буря войны, а затем буря революции.
В марте 1918 года молодое советское правительство во главе с Лениным переехало в Москву, которая была объявлена столицей нашего государства. И Петроград вошел в организованную в это же время «северную коммуну». А. В. Луначарский по решению правительства оставался в Петрограде, а я был назначен его секретарем-корреспондентом.
В сентябре 1918 года А. В. Луначарский направил меня в Астрахань на открытие народного университета. В Астрахани поэт Сергей Буданцев, бывший офицер Красной армии, сказал мне, что в городе находится Велимир Хлебников. Я узнал его адрес и зашел к нему. Он только что приехал к своим родным, жившим постоянно здесь. Для Хлебникова мое появление было неожиданным. Он был изумлен и обрадован, но опять-таки по-своему. Не было ни всплескивания рук, ни обычных объятий. Он только крепко пожал мою руку и усадил за большой обеденный стол, на котором в беспорядке были разбросаны арбузные корки и крошки хлеба. Среди них сиротливо стоял стакан с недопитым чаем. Хлебников нисколько не был смущен, что я «застал его врасплох среди хаоса, царившего на столе». Он спокойно познакомил меня со своим отцом, также нимало не смущенным отсутствием порядка и обилием неубранных арбузных корок. Он совсем не был похож на провинциального чиновника. Большой лоб, умные вдумчивые глаза с явно выраженным благородством, соединенным с уверенностью в себе и в то же время, если можно так выразиться, с классической скромностью. Сестра Велимира метнулась с чисто женским смущением навести хотя бы приблизительный порядок, но Велимир посмотрел на нее, как бы говоря – не беспокойся, это свой человек, он не осудит тебя, – и она успокоилась. Все осталось на своих местах, и если бы арбузные корки могли что-нибудь чувствовать, то они, вероятно, были бы очень обрадованы, что их не будут тревожить. Столовая в квартире Хлебниковых стоит перед моими глазами и сейчас, спустя почти полвека, сверкая своими красками, как бы покрытыми слоем густой, но каким-то чудом прозрачной пыли.
Я рассказывал Хлебникову, по какому поводу приехал в Астрахань. Он оживился и начал меня расспрашивать о наших общих друзьях, петроградских и московских, сказал, что приехал сюда из Москвы почти случайно, не имея определенной цели… Что в Астрахани он познакомился с Буданцевым – сотрудником газеты «Красный воин», который привлек его к работе в этой газете. Мы решили навестить его сейчас же и пошли в редакцию.
Буданцев встретил нас приветливо и тут же пригласил на вечерний спектакль в театр, в котором шла пьеса, имеющая отношение к Красной армии…
После открытия народного университета я мог отправиться в Москву, но мой спутник Н. Н. Подъяпольский сказал: «Москва не убежит. Было бы преступлением не воспользоваться случаем и не осмотреть дельту Волги». И со свойственной ему энергией выхлопотал у местной администрации трехдневную поездку в дельту реки, причем нам отведен был в наше полное распоряжение маленький пароходик.
Буданцев не мог отлучиться из города, и мы поехали втроем – Хлебников, Подъяпольский и я. В моей памяти эта поездка в дельту Волги с Хлебниковым сохранилась как сказочное путешествие вне времени и пространства. По-настоящему меня сможет понять только тот, кому когда-нибудь довелось побывать в этих изумительных местах.
Мы бродили дни и ночи по палубе, всматриваясь в бесконечную гладь безмятежно покоившихся неподвижных вод и в «леса камышей», очарованные безмолвием и отрешенностью от всего мира. Не верилось, что где-то совсем рядом с нами кипят человеческие страсти и льется кровь. Мы чувствовали себя солдатами действующей армии, каким-то чудом получившими трехдневный отпуск без всякого ранения. Над нами плыли облака, ежеминутно меняя свои очертания, тая и возникая вновь, как бы воссоздавая тени каких-то неведомых материков, некогда бывших в действительности. Это медленное движение нашей палубы – самого пароходика мы не замечали – было как бы предтечей молниеносного движения самолета «Ту-104», которое воспринимается нашими органами чувств как стояние на одном месте. Нам казалось, что остановились не только мы, что весь мир остановился, как бы в раздумье над своей дальнейшей судьбой. Хлебников говорил, как всегда, отрывисто и полунамеками, о том, что его больше всего тогда волновало. О своих предчувствиях и о будущих отношениях Востока и Запада. В эту минуту он казался мне не «председателем Земного шара», а верховным судьей, призванным решить спор между двумя цивилизациями мира. В связи с этим он варьировал свою любимую теорию чисел, знакомую мне еще со времен встреч на берегах Невы, той Невы, которая казалась нам теперь призрачной и почти потусторонней. Мог ли я подумать тогда, что через полгода, то есть в марте 1919 года, уезжая в новую командировку из Москвы, я передам ему второй ключ от моей квартиры в Трехпрудном переулке, куда во время моего отсутствия он мог бы приходить как к себе домой, чтобы писать стихи и обдумывать новые теории мироздания? Мог ли я подумать тогда, что наше прощание в Москве будет прощанием навеки?
Но вот путешествие закончено. Мы снова в Астрахани. Нам стало грустно, как бывает грустно детям, когда кончается сказка, которую они слушали затаив дыхание. При прощании Хлебников сорвал один из бесчисленных лотосов, окружавших нас, и молча протянул мне, и опять-таки протянул не так, как это сделали бы другие, а по-своему, с какой-то трогательною неуклюжестью. «Это… это… от дельты Волги», – тихо-тихо, почти шепотом промолвил он.
Я долго хранил этот лотос, но в бесконечных моих странствиях по свету не сумел его уберечь. Где-то в глубине души я даже радуюсь, что если я не сумел сохранить этот лотос, то сохранил, по крайней мере, «кусочек детства», который многие теряют уже в отрочестве.
Велимир, Велимир, да будет память о тебе священна! Пусть белый парус, несущий по волнам времени твое имя, заменит мне подаренный тобою лотос.
О Владимире Маяковском
В 1913 году тихая патриархальная Москва была взволнована приездом находившегося в зените славы поэта Константина Бальмонта. В «Обществе свободной эстетики» готовилось торжественное чествование.
И вот на этот вечер, ставший как бы выставкой самых известных писателей и художников Москвы, явились два никому не ведомых студента, не знакомые друг с другом. Один из них был студент Училища живописи, ваяния и зодчества Владимир Маяковский, другой – автор этих воспоминаний, студент Московского университета.
Явились они на вечер с противоположными целями. Маяковский – чтобы произнести гневную речь против юбиляра, которого он считал отжившим и устаревшим, и против всех, кто собрался его чествовать, то есть против всей аудитории. Я, завороженный поэзией Бальмонта, пришел выразить поэту свое восхищение в стихах, напоминавших оду. Маяковский явился в сопровождении нескольких своих молодых единомышленников.
Из глубины зала время от времени слышались их иронические возгласы, особенно резкие, когда их выкрикивал сам Маяковский. Я с трепетом прочел свою оду и передал ее дрожащими руками Бальмонту. В этот момент Маяковский громко захохотал.
После чествования Маяковский произнес свою гневную речь, разумеется, с места, а не с трибуны. Он сам «дал себе слово» и, надо отдать ему справедливость, говорил ярко и страстно. Оба молодых поэта достигли своей цели. Маяковский получил большое удовольствие, что выразил свой протест и отчитал юбиляра, я же получил в награду за свою оду милостивую улыбку Бальмонта.
Писатели и художники слушали речь Маяковского, снисходительно улыбаясь и, вероятно, вспоминая свою юность. Но несколько снобов квалифицировали выступление Маяковского как «злостное нарушение порядка в приличном обществе». Однако до «скандала» дело не дошло: публика сочла выступление Маяковского вполне парламентарным, ибо в нем не было «недопустимых слов». И главное, сам Бальмонт, по-видимому, не обиделся. Он был на вершине славы и мог благодушествовать.
Маяковский произвел на меня большое впечатление. Его дерзость я воспринял как естественное бунтарство против чуждых ему эстетических взглядов. Его бурный протест был глубоко искренним, а искренность всегда подкупает, особенно молодежь. Если на этом вечере мы не были с ним союзниками, то в союзе была наша молодость. Да и сама наружность Маяковского не могла не вызывать симпатии. Мне, как и многим молодым поэтам того времени, казалось, что поэт должен быть именно таким, каким был Маяковский: высоким, красивым, смелым.
В 1913 году мы только увидели друг друга. Позже, в Петербурге, познакомились, так как вращались в одном кругу. Мы никогда не сходились с ним так близко, как это было у меня с Есениным и Мандельштамом, но стихи Маяковского я полюбил с того дня, когда их услышал впервые. Я всегда был против сопоставлений имен. Мне казалось, что бессмысленно сравнивать стихи разных поэтов, ибо каждый поэт – отдельная, особая планета и потому несравнимая. Но читателей интересуют не рассуждения о поэтах, а факты, то есть встречи, впечатления, беседы.
Первое наше общение началось с полушутливого столкновения. Это было зимой 1913 года в Петербурге, в литературном кабачке «Бродячая собака». Там обычно собирались поэты, артисты и художники. Из поэтов особенно часто бывали М. Кузмин, О. Мандельштам, Анна Ахматова, Георгий Адамович и Георгий Иванов. Так как артисты, занятые в театре, не имели возможности приезжать рано, то кабачок открывался в 11 часов вечера. Расходиться начинали в 5–6 часов утра. Стены «Бродячей собаки» были расписаны художником Судейкиным.
Как-то раз после моего выступления, когда я прочел строки:
На станциях выхожу из вагона И лорнирую неизвестную местность, И со мною всегдашняя бонна — Будущая известность, —Маяковский поднялся с места и прочел экспромт:
Кружева и остатки грима Будут смыты потоком ливней, А известность проходит мимо, Потому что я только Ивнев.Война с Германией разделила петербургских поэтов на две группы, занимавшие противоположные позиции. Одни стали ура-патриотами, славя войну до победного конца и тем самым поддерживая царский режим, другие резко критиковали империалистическую войну. Как известно, Маяковский стал революционером еще задолго до победы революции.
В 1915 году имя Маяковского стало широко популярно. Круг его почитателей увеличился. Помню, как одна из самых пламенных поклонниц его таланта, художница Любавина, устроила в своей студии большой вечер в честь Маяковского, на котором поэт должен был читать свои новые стихи. Любавина пригласила всех, кто любил и ценил творчество Маяковского. Стало известно, что на этом вечере будет присутствовать Алексей Максимович Горький. В ту пору Горький был единственным из знаменитых писателей, отнесшимся к Маяковскому с большим вниманием. И вот вечер состоялся. Я присутствовал на нем и был свидетелем необычайного происшествия, ошеломившего всех. Надо напомнить, что Маяковский уже с первых шагов своей литературной деятельности поразил знатоков поэзии не только своим мощным, своеобразным талантом, но и мастерским чтением. Кроме того, он обладал врожденным остроумием, а его умение молниеносно парировать наскоки противников на диспутах восхищало одинаково как его друзей, так и недругов. Поэтому то, что произошло с ним на вечере у Любавиной, вызвало всеобщее изумление. Сначала все шло гладко… Приглашенные оживленно беседовали в ожидании выступления поэта. Молодежь почтительно наблюдала за Маяковским, расхаживающим саженными шагами по студии. Когда все были в сборе, из передней послышалось покашливание Алексея Максимовича. Он вошел в затихшую комнату, высокий, немного сутулый, привыкший к любопытным взглядам и все же как будто чуть-чуть стесняющийся. Можно было начинать, и Любавина пригласила Маяковского к столу, на котором стоял графин с водой. Маяковский подошел к столу. Лицо его было бледнее обыкновенного. Наступила тишина. Маяковский приступил к чтению. Но более четырех строк ему не удалось прочесть. С ним что-то случилось. Он прервал чтение. Все это было так не похоже на Маяковского, что все как бы застыли от удивления. Маяковский тряхнул головой и попытался продолжить чтение. Еще несколько строк – и снова молчание.
– Володя, что с вами? – испуганно спросила Любавина.
Вместо ответа он залпом выпил стакан воды, а через несколько секунд резким движением отодвинул стакан, который, натолкнувшись на графин, жалобно зазвенел. Студия затаила дыхание, как бы прислушиваясь к звону стекла. Маяковский махнул рукой и произнес сдавленным голосом:
– Не могу читать, – и вышел в соседнюю комнату.
Никто ничего не понимал.
Вскоре уехал Алексей Максимович, и публика начала расходиться. Ушел и я, и только на другой день, зайдя к Любавиной, я узнал от нее, что произошло с Маяковским.
– Когда все разошлись, – рассказывала Любавина, – я вошла в комнату, в которую удалился Володя. Он сидел на маленьком диванчике, низко опустив голову. На мой вопрос, что с ним случилось, он мрачно ответил:
– Сам не знаю. Ну как это объяснить? Никогда со мной так не бывало. Короче говоря, у меня было такое ощущение, как будто меня обложили ватой, закутали в вату, запеленали в вату. Мне было слишком тепло и тесно. Когда знаешь наперед, что все будут слушать чуть ли не затаив дыхание, читать трудно. И я чуть не задохнулся. Очевидно, без острых углов я не могу обойтись. В Политехническом в Москве или у нас в Тенишевском я выхожу как на бой, а здесь вышел как на парад. А парадов я не терплю. Вот и провалился перед Горьким.
Этот эпизод очень характерен для Маяковского. Ему нужны были стадионы и площади, а не салоны.
…Многих читателей очень интересуют отношения между Маяковским и Есениным. Мне трудно полностью осветить этот вопрос, так как с Маяковским я очень мало говорил о Есенине, но с Есениным я не раз говорил о Маяковском и должен сказать, что Есенин прекрасно понимал силу таланта Маяковского. Вышло так, что в известный период Маяковский и Есенин стали наиболее популярными поэтами, и вполне естественно, что одним читателям был ближе по духу Маяковский, другим – Есенин. Но читатели бывают объективные и субъективные. А субъективные делятся еще на спокойных и неистовых. И вот эти неистовые сторонники Маяковского и Есенина создали миф о том, что Маяковский и Есенин чуть ли не ненавидели друг друга. Этот миф искажает истину. Моя дружба с Есениным и любовь к его стихам нисколько не мешали мне, например, ценить и любить замечательные стихи Маяковского. Тогда я еще смутно понимал, но позже понял ясно и отчетливо, что можно любить стихи совершенно разных поэтов.
Из всех поэтов, принявших безоговорочно Октябрь, Маяковский был наиболее активным. Поэты, стоявшие на противоположных позициях, бурно осуждали Маяковского. Один из них в газете «Раннее утро» резко напал на всех, кто поддерживал большевиков, в том числе на Маяковского и Каменского. В статье «Стальной корабль» я выступил в защиту Маяковского и Каменского, за что в свою очередь подвергся нападкам не только «Раннего утра», но и других, еще существовавших тогда буржуазных газет. Маяковский своим творчеством и устными выступлениями боролся за укрепление советской власти. Он был глубоко принципиален, но в его принципиальности не было ни малейшего оттенка педантичности, мелочности.
Когда я, высланный из Грузии меньшевистским правительством еще в июне 1920 года, в ноябре наконец добрался до Москвы, Маяковский при встрече просил рассказать, как мне удалось вырваться из «меньшевистского плена». Я ответил, что меня выслали.
– Хорошо еще, что не посадили в Метехи[10], – заметил он. – Ну а теперь для вас пришло время освободиться от пут имажинизма. Тогда все будет в порядке. Все имажинистские декларации – сплошное пустословие. Не понимаю, что вас потянуло к ним. Дружба с Есениным? Но ведь дружить можно и без платформ. Да, в сущности, ни вы, ни Есенин не имажинисты, а Шершеневич – эклектик. Так что весь имажинизм помещается в цилиндре Мариенгофа.
Я не стал с ним спорить, и на этом разговор наш закончился.
…В день смерти Маяковского я был в Москве, видел, как была потрясена столица его неожиданной кончиной.
Маяковского нет с нами, но живут и всегда будут жить созданные им произведения, пронизанные страстной любовью к Родине.
О Николае Клюеве
В конце 1915 года иеромонах Мардарий, приехавший за несколько лет до этого из Сербии, прочел в Колонном зале Дворянского собрания лекцию «Сфинкс России», в которой, не называя имени Распутина, обрушился на него с обвинениями в подрыве основ империи.
С не меньшим основанием словосочетание «сфинкс России» можно применить и к поэту Николаю Клюеву. Он был загадочен с головы до ног. Мне кажется, было бы непростительным не написать своих воспоминаний тем, кто с ним встречался и хотя бы до некоторой степени понял его характер и сокровенные мечты.
О Николае Клюеве я слышал задолго до нашего знакомства и, конечно, читал стихи, которые он публиковал.
В конце 1915 года я получил по почте конверт. К моему удивлению, это было письмо от Николая Алексеевича. Он выразил желание встретиться со мной. Удивлен же я был потому, что в то время поэты обычно знакомились или в салонах, или на литературных вечерах и концертах. А письма, как правило, писали начинающие мэтрам или более старшим. Я был моложе Клюева. Я ему ответил на другой день по указанному адресу.
Через два дня вечером раздался звонок. Жил я тогда на Моховой улице в семье Павловых. Вот и стук в мою дверь. Я догадываюсь, кто это. Действительно, это Клюев. Я поздоровался и попросил его сесть. Он стоял в дверях в зипуне, перекладывая шапку из руки в руку, и смущенно глядел на меня или делал вид, что смущен. Наконец он проговорил утрированно «народным говорком»:
– Я тут сяду, – он опустился на стоящую у самой двери маленькую табуретку, хотя я предложил ему кресло рядом со мной. Комната была продолговатая, и мы оказались на довольно далеком расстоянии друг от друга.
Мне приходилось уже слышать о комедиантстве Клюева, и поэтому я не придал особенного значения этой «увертюре» перед беседой. Однако… никакой беседы не состоялось. Я задал какой-то вопрос. Он что-то промямлил, и я больше ни о чем его не спрашивал, ожидая, что он сам начнет говорить, почему он написал мне письмо и захотел встретиться. Но он молчал и сидел тихо и скромно, как бедный родственник. После длительной паузы Клюев сказал:
– Ну, я пойду.
Я промолчал. Он поднялся с табуретки, продолжая мять в руках теплую шапку. Дело было зимой. Потом отвесил низкий поклон и вышел из комнаты вслед за горничной.
Такова была наша первая встреча.
До сих пор не могу понять, для чего он нанес мне этот странный визит! Позже, когда мы сблизились, я несколько раз хотел его спросить об этом, но не спрашивал, так как заранее знал, что правдивого ответа все равно не получу. Клюева я считал и считаю одним из самых самобытных поэтов и поэтому не придавал никакого значения его чудачествам. Они меня не отталкивали от него, ибо не это было главное в нем. Главным был его неоспоримый талант. Стихи его, особенно тех лет, глубоко западали в душу.
Память имеет свои нераспознанные законы. Некоторые встречи врезаются в нее как нож в тесто, а другие рассеиваются как папиросный дым. Ни о второй, ни о третьей встрече я ничего не помню. Смутно вспоминаются только некоторые литературные вечера, где мы разговаривали уже как знакомые. Ярко запомнилось несколько встреч в салоне Швартц на Знаменской улице.
В этот «религиозный салон» меня ввела жена поэта Николая Владимировича Недоброво, внучка одного из бывших членов Государственного совета (кажется, Татищева). Хозяйкой салона была дама лет тридцати, миловидная и приветливая. Елена Александровна Недоброво рассказывала мне о том, как возник этот салон. Подробности я забыл. Помню только, что Швартц постриглась в монахини, но родственники убедили ее вместо удаления от мира посвятить себя религиозной деятельности. Она согласилась и открыла салон, в котором церковные сановники читали проповеди. Я особенно запомнил известного в то время митрополита Владимира. Поглаживая холеной рукой золотой нагрудный крест, он говорил, что причины всех несчастий, постигших Россию (подразумевались неудачи на фронте), заключаются в том, что богатые люди перестали следовать учению Христа и вместо помощи бедным занимаются стяжательством. В этом салоне я и встретил Клюева, который, как выяснилось потом, был здесь частым гостем и не раз выступал с речитативным чтением олонецких былин.
Надо пояснить, что салон Швартц не имел ничего общего с «религиозно-философским обществом», где велись дебаты о религии, в которых участвовали Н. Бердяев, Д. Мережковский, В. Розанов, П. Флоренский и многие другие. У Швартц никаких дебатов не было, ибо они считались «дурным тоном». Там обычно выступал только один оратор на определенную религиозную тему, затем был длительный перерыв, во время которого разносился чай с бутербродами.
Как-то я пришел к Швартц с опозданием, когда Клюев уже закончил чтение своих олонецких былин. Они произвели, по-видимому, большое впечатление, так как он был окружен поклонницами, большею частью пожилого возраста. Одна из них говорила:
– Николай Алексеевич! Вы нам доставили такое удовольствие! Не знаю, как вас отблагодарить. Я вас очень прошу не лишать этого удовольствия и моих гостей. У нас собираются по четвергам. Я пришлю за вами машину, которая потом отвезет вас домой.
Клюев поморщился.
– Машину? Нет, на машине я не поеду.
– Почему? – удивилась дама.
– Машина – дьявольское изобретение. Нет, нет, на машине я не поеду.
– Ну, тогда я пришлю карету.
Клюев, делая большие глаза, спрашивает:
– Карету? Это, кажется, такой ящик черный, да?
– Да, да, вроде ящика.
– А он без машины?
– Ну конечно, без машины. Его везут лошади.
– Ах, лошади?.. Ну, тогда можно. На лошадях я к вам приеду.
Не знаю, верила ли дама всерьез, что Клюев не знает, что такое карета. Но она была довольна тем, что уговорила поэта приехать читать былины. Если бы она знала содержание всех былин, а не только религиозных, которые распевал Клюев в других домах, то, вероятно, отшатнулась бы от него, как от дьявола, если действительно была религиозна.
Помню, как-то вышли мы вместе от Швартц. Шли пешком. Дошли до набережной Фонтанки. Клюев остановился, смотря на черные воды канала.
– Пустые люди, – проговорил он неожиданно.
– Вы про кого это, Николай Алексеевич?
– Про всех, – ответил он.
И после паузы добавил:
– Про петербургскую нечисть. С жиру бесятся. Ни во что не верят. Всех бы их собрать, да и в эту черную воду.
– Ну а дальше что?
– Интеллигенция не лучше их, – проговорил он злобно, не отвечая на мой прямой вопрос.
– Тогда зачем вы водитесь с нами?
Он посмотрел на меня своими прозрачными глазами. При свете фонаря они показались мне до того страшными, что холодок прошел по коже. Он, наверное, заметил это, потому что взял мою руку и сжал ее.
– Вас я не трону. Вы не из ихней черной стаи.
Я улыбнулся:
– Можно подумать, что вы…
– Верховный правитель? – закончил он за меня.
– Вроде этого, – ответил я.
– Душно здесь, все пропитано сыростью, – произнес он загадочно. – Вот в Олонецкой у нас легко дышать.
Я хотел спросить, почему же он не живет в Олонецкой губернии, а крутится здесь, в «душной сырости», но он, как бы разгадав мои мысли, сказал:
– Если бы я остался там, то кто же был бы здесь?
Потом, передернув плечами, круто перевел разговор на другую тему:
– Серега-то погибает, окрутили его, окаянные. Уж очень слаб он духом. Спасать его надо. А кто спасители? Блок да Городецкий. Их похвалы тяжелее плит каменных.
После долгого молчания Клюев сказал:
– Все надо начинать сначала.
Я не понял, что надо начинать сначала, но не просил его разъяснить свою мысль, так как чувствовал, что он опять ответит иносказательно.
Мы остановились у ворот дома, в котором я жил.
– Выходит так, что я проводил вас.
– Да, – ответил я, – но не провели.
Он засмеялся и посмотрел на меня, как бы взвешивая мысленно какие-то фразы. Но больше ничего не сказал. Мы молча простились.
При всей сложности и запутанности своих взглядов на жизнь, где искренность переплеталась с фальшью, и при болезненной склонности к мистификации Клюев все же оказался в числе немногих поэтов, признавших без всяких колебаний советскую власть. Я анализировал его творчество первых послереволюционных лет в статье «Поэзия душевного конфликта» (Газета «Борьба» № 99 от 1 июня 1919 г., Симферополь).
Привожу ее полностью, так как газета, в которой была опубликована эта статья, стала библиографической редкостью:
«Поэзия изучается и не считается пока что «отжившим институтом», но если мы глубже всмотримся в то, как изучают поэзию хотя бы современных поэтов, то мы не можем не ужаснуться.
Ужаснуться хотя бы уже потому, что дурное и нелепое изучение современной поэзии, отражающей в себе «минуты роковые» небывалой доселе эпохи революционных бурь, доказывает то полное равнодушие к нашим великим, но прекрасным и ужасным в одно и то же время дням.
Если мы проследим за митингами искусства, устраиваемыми в различных концах России и Украины, за различными литературными вечерами большого масштаба и т. п., нам обманчиво будет казаться, что вопросы искусства захватывают широкие массы и находят в них живой отклик.
Но ведь «интересоваться искусством» – это одно, любить и понимать – это другое, и, наконец, уметь находить равнодействующую между искусством и жизнью – это третье.
Искусство буквально погибает в бюрократических спорах, в теоретических состязаниях «причастных к искусству» лиц, а о поэтах, о живых людях, отражающих нашу величавую и интересную эпоху, говорят и пишут только по поводу их выступлений, заявлений, опровержений.
А между тем какой громадный интерес представляет собой тот материал, который получают критики из мастерских поэтов.
В нем не только субъективные переживания ярких индивидуумов – в нем отражены мысли, чувства и то неуловимое, что нельзя назвать ни мыслями, ни чувствами и чем полны сердца всех живущих сейчас, а не прозябающих.
Взять хотя бы Николая Клюева, величайшего русского поэта, о котором так сравнительно мало думали и писали русские критики.
В каждой строке этого своеобразного поэта сквозит та ужасная действительность, двуликостью которой заражены многие и многие и которой нельзя избежать умному человеку, как ребенку нельзя избежать кори и дифтерита.
По мне Пролеткульт не заплачет, И Смольный не сварит кутью, —признается Клюев, а все же своей огромной поэтической душой он – в этом Пролеткульте, храме грядущей культуры, в этом Смольном.
Где нищий колодовый гроб С останками Руси великой.Клюев не скрывает, что многое из происходящего ему чуждо, многое даже враждебно – может быть, даже до невыносимости, и в этом его большая заслуга, что он об этом говорит, потому что, говоря так, он остается поэтом, он выносит свое страдание в свои стихи и сохраняет ту внутреннюю правдивость, которая является единственным мерилом подлинной художественности.
Николай Клюев переживает трагедию.
С одной стороны, он захлебывается от счастья, что произошла социальная революция, он здесь, с ней всей громадной душой, он далек от нытиков-интеллигентов, лицемерно вздыхающих о былой славе и блеске империалистической России, от которой в свое время даже Мережковский готов был прыгнуть «к черту в лапы», но, с другой стороны, он не официальный оптимист, трубящий без зазрения совести о радости великой революции в тот момент, когда в городах советской России и Украины почти на глазах у всех ползают тени нищих, калек, изможденных, измученных, вырванных из колеи рабочей жизни.
Клюев слишком поэт для того, чтобы смотреть на происходящее глазами официального трубадура революции.
Кроме того, помимо гнили и мерзости, которой была полна прежняя Россия, Клюев видит в ней кое-что и хорошее, светлое.
И это светлое облако воспоминания как бы все время незримо присутствовало в стихах Клюева.
И он раскрывается душой, не могущей, несмотря на свою огромность, вместить все противоречия наших дней.
И уже одно то, что Клюев прямо и честно и, главное, беспристрастно подошел к переживаемым событиям, показывает, что он великий и прекрасный поэт.
Он слишком глубоко и болезненно переживает события наших дней, чтобы с эпическим спокойствием описывать величие интернационала и трагедию, которую переживают старая Европа и старая буржуазная культура.
Есть в Ленине керженский дух. Игуменский окрик в декретах, —пишет Клюев, и ему чудится, что от Ленина, от Кремля, от Москвы пронесется по миру какой-то новый, суровый, как грубое крестьянское платье, дух, который покорит своим духовным «окриком» измученное человечество, привлечет к голодным и нищим полям России всех голодных и измученных всего мира.
Клюев не верещит о радостях рабочих, когда эти рабочие еще голодны, не заверяет мир в том, что настал великий и радостный день освобождения, он знает, что это освобождение придет, но придет не в пестрых, шутовских ура-патриотических навыворот одеждах, а придет в суровом крестьянском платье, пройдя через очищающий огонь физических и духовных страданий, противоречий, ошибок и, может быть, даже преступлений.
И если Клюев не потеряет всех своих сил в мучениях своей души, если бешеная скачка дней не вытянет из него всех жил, не выпьет той его густой и чудной крови, то русская поэзия, которой так не умеют интересоваться современные критики, получит драгоценное наследие».
Вскоре после революции на одном из бесчисленных митингов, которые стихийно возникали на улицах и площадях Петрограда, я случайно лицом к лицу столкнулся с Клюевым. Пока я раздумывал, здороваться с ним или нет, он обнял меня и поцеловал.
– Кто старое помянет, тому глаз вон, – сказал он миролюбиво. – Просто мы ошалели тогда. Точно после попойки. Шутка ли сказать!.. Владыки мира полетели вверх тормашками. Помните салон Швартцихи? Митрополиты, кареты, машины – все к чертовой матери сгинуло! Эти старые дуры, которые увивались около меня, чтобы послушать мои былины, думали купить меня своими ласковыми словами, а я в душе смеялся над ними. Мне они нужны были, чтобы проникнуть к той, которая все решала сама и заставляла муженька плясать под свою дудку. Я хотел ее руками задушить все дворянские шеи. Но дело обошлось и без меня. Как же было не опьянеть от радости, хотя я уже давно чувствовал, что придется начинать все сначала.
Я вспомнил наш ночной разговор у черных вод Фонтанки и сказал:
– Эту фразу вы мне сказали, когда еще не ожидали того, что случилось.
– Я ничего не знал, но все предчувствовал, – ответил Клюев.
Он замолчал. Потом вдруг неожиданно спросил:
– Вы, конечно, «Петербург» Андрея Белого читали? Никто не понял души Петербурга так, как понял он! Только в Петербурге могло произойти все это. Как подгнивший дуб, рухнула империя. Подсчитать невозможно с точностью, сколько тысяч станций у нас в России. И надо же было, чтобы царь отрекся на Дне и оказался на дне. Мне скажут, что это случайность. Но тогда и Ходынка – случайность? Бедные мы кроты. В темноте живем и света не видим.
В это время на площади раздались крики: «Да здравствует Государственная дума! Да здравствует Родзянко!»
– Пойдемте отсюда. Тошно слушать. Нашли кого прославлять. Этого сукина сына я бы задушил своими руками, дворянское отродье! Камергер! Царский лакей, возжелавший сесть на престол своего барина! Он так же будет душить крестьян… Ну, голубок, до свидания, – проговорил он тихо. – Тяжела шапка Мономаха, но еще тяжелее ее упустить.
И он скрылся в толпе.
На меня эта встреча произвела тяжкое впечатление. Я чувствовал, что Клюев сам запутался в своей собственной паутине. Трудно было поверить, что умный, талантливый и образованный человек мог всерьез вынашивать бредовые идеи о крестьянском царстве. А может быть, он просто любил мистифицировать всех, как не раз мне говорил об этом Есенин?
Частые встречи с Клюевым у меня возобновились в конце двадцатых и начале тридцатых годов, когда Клюев переехал на постоянное жительство в Москву и получил комнату в Гранатном переулке.
Начну с того, что мне наиболее запомнилось. Во время шумного судебного процесса Рамзина[11], о котором сообщалось не только во всей нашей прессе, но и за границей, я как-то утром пришел к Клюеву. Комнату свою он обставил на манер деревенской избы старого времени. Он приветливо со мной поздоровался, жалуясь на нездоровье. В разговоре я коснулся дела Рамзина. Клюев, по обыкновению, когда хотел выразить недоумение, сделал круглые глаза.
– Рамзин? – спросил он удивленно. – Никогда не слышал. А кто он такой, этот Рамзин?
– Ну, Николай Алексеевич, – сказал я, – что за вопрос. Все газеты пишут о процессе Рамзина, а вы не знаете.
– Но я же газет не читаю, – елейным голосом ответил Клюев. – Куда нам со свиным рылом да в калашный ряд. Что мы, деревенские, понимаем? Нам бы только сытыми быть.
– Все равно, – ответил я. – Даже те, кто не читает газет, не могут не знать о Рамзине. О нем говорит вся Москва.
– Как ты сказал? – перебил меня Клюев. – Рамзин?.. – Он сделал вид, что хочет вспомнить, но никак не может. – Рамзин… Рамзин… Что-то знакомое. Ах, да, вспомнил. У нас в Олонецкой губернии был купец Рамазинов, торговал он лампадным маслом. Крепкий мужик был, деловой. А этот, ты говоришь, Рамзин. Нет, нет, не знаю Рамзина. А вот Рамазинова хорошо помню.
В этот момент раздался стук в дверь и тоненький девичий голосок прожурчал:
– Николай Алексеевич, вас к телефону.
Клюев вышел в коридор. Разговор его затянулся. Я прошелся по комнате. Взял со стола какую-то книгу и сел на лавочку, постланную домотканым ковриком. Но едва я прочел страницу, как почувствовал, что под ковриком что-то шуршит. Я приподнял коврик и увидел пачку газет. Смотрю – все разные, и сегодняшние. Кроме того, сразу видно, что они не «свежие», а уже читанные. Я аккуратно положил их на место. В это время вернулся Клюев.
– Ты не гневайся на меня, что оставил тебя одного. Звонила мне одна стихолюбка. Надоели они мне. Ни шиша не понимают в стихах, а лезут. Умеют только ахать да охать. Как хорошо, как хорошо, а что хорошо, сами не знают.
– Николай Алексеевич, – сказал я, – так-то вы не читаете газет? – И я вытащил из-под коврика пачку.
Клюев опять пустил в ход свои круглые глаза и даже перекрестился. Потом вдруг лукаво улыбнулся.
– Это же ты принес с собой. Я же тебе сказал, что я газет не читаю.
Потом после небольшой паузы добавил:
– Не сердись, голубок. Если не ты, значит, кто-нибудь другой подшутил надо мной.
– Но вы же сами сказали, что я первый утренний гость.
– Ну, значит, вчера подкинули.
– Как же можно было вчера подкинуть сегодняшние газеты?
Но Клюев не смутился:
– Вчера ребята приходили из редакции. Вот кто-нибудь и подшутил надо мной. Ведь молодежи что надо? Посмеяться и побалагурить. Ну а придут еще раз, я их выгоню вон.
Я знал, что он все это придумал, но промолчал.
Как-то ехали с Клюевым в переполненном трамвае. Вдруг он засуетился и начал протискиваться к выходу. Как всегда бывает в таких случаях, некоторые пассажиры начинают ворчать, а иной раз грубо спрашивать: «Гражданин, куда вы прете?» Клюев не обращал на них внимания, продолжал протискиваться вперед и жалобно-испуганным голосом умолял пропустить его, так как он должен выходить на следующей остановке. Наконец он добирается до площадки, но вместо того чтобы выйти, пропускает входящую публику, а сам прижимается к стенке и не выходит. Раздаются голоса:
– Гражданин! Гражданин! Что же вы не сходите! Ваша остановка.
Клюев спокойно отвечает:
– Ну, теперь уже все равно. По-о-еду дальше.
И сходит, когда надо действительно: проехав остановок пять после той, на которой ему якобы надо было сходить. Когда трамвай тронулся, я спрашиваю:
– Николай Алексеевич! Для чего ты разыграл эту комедию?
Клюев смотрит на меня, не улыбаясь, но в глазах его сверкают искорки смеха.
– Это не комедь, – отвечает он серьезным тоном. – Я задумался, и мне показалось, что пора сходить.
– Что же ты тогда меня не поторопил?
– За всем не усмо-о-тришь.
В другой раз, тоже в трамвае, остановившемся случайно у какой-то церкви, он начал расспрашивать соседей:
– Уж вы простите меня, деревенского жителя. Я в Москве первый раз. Какая это церковь? Какого века? Я в этом деле ничего не понимаю, но хочется знать, а то скажут в деревне, что в Москве-то я был, а назвать церковь не могу.
Какой-то старичок сжалился над любопытным крестьянином в зипуне и начал ему подробно объяснять, какая это церковь, в честь какого святого и в каком веке построена. Клюев внимательно выслушал его, время от времени кивая головой, а когда старичок закончил свои объяснения, проговорил спокойно, как учитель, поправляющий ответ ученика:
– Вы ничего в этом не понимаете, а беретесь объяснять. Это церковь…
И прочел целую лекцию об ее истории, наслаждаясь впечатлением, которое произвела его лекция на публику. Сконфуженный «знаток древностей» растерялся и протиснулся к выходу, не дожидаясь конца клюевской лекции. На этот раз я уже не спрашивал, зачем ему понадобилась эта «комедь».
В эту пору Клюев написал изумительную поэму «Погорельщина», в которой описывается голод (не 1922 года, очевидно, более раннего времени). Он читал эту поэму во всех домах (у Морозовых, Сытиных, у искусствоведа Анисимова и других). Напечатана на машинке она была во многих экземплярах. Поэма производила огромное впечатление на всех, кто ее слышал. Я сравнил бы ее с плачем «Сырдома» в эпосе осетинского народа «Нарты». Все тончайшие оттенки мучительного страдания от голода переданы были виртуозно. Это было высокое и горестное искусство.
Однажды я зашел мимоходом к Анисимову, жившему в центре города с двумя незамужними сестрами. Обычно у них каждый день были гости, но не больше двух-трех человек. А на этот раз я увидел, что в столовой накрыт огромный стол, уставленный закусками и винами. Я хотел ретироваться, но Иван Алексеевич и его сестра настояли, чтобы я остался, сказав, что Клюев будет читать «Погорельщину». Я уже слышал эту поэму в чтении Клюева несколько раз, но соблазн услышать еще раз его изумительное чтение был так велик, что я остался. Через некоторое время пришел Клюев, а за ним один за другим начали собираться гости. Иных я знал, но было несколько человек, которых я у Анисимова не видел. Я сел около сестер, почти рядом с самоваром, у которого они хозяйничали. Когда входил первый незнакомец, я спросил тихо у одной из них:
– Кто это?
Она так же тихо ответила:
– Норвежский посланник.
Через несколько минут появился еще один незнакомый мне человек. Я опять полюбопытствовал:
– Кто этот гость?
Варвара Алексеевна так же тихо ответила:
– Германский поверенный в делах.
Третий незнакомец оказался… французским послом.
– Что это? Дипломатический раут? – спросил я шутя.
Варвара Алексеевна засмеялась.
– Они просто пришли послушать «Погорельщину».
После ужина Клюев с непревзойденным мастерством и вдохновением прочел поэму.
Я спросил Варвару Алексеевну, знают ли дипломаты русский язык. Она ответила, что двое из них знают очень хорошо, а один приблизительно.
У Клюева с собой было несколько экземпляров поэмы, перепечатанных на машинке. Всем трем дипломатам он вручил по экземпляру. Я жалею, что тогда не попросил у Клюева экземпляра, ибо не знаю, сохранилась ли она в наших литературных архивах. Мне кто-то сказал, что эта поэма не сохранилась. Если это так, то мы потеряли огромную ценность.
Об Анатолии Мариенгофе
Из всех моих приятелей и знакомых Анатолий Мариенгоф обладал самым сложным и противоречивым характером. Не знаю, унаследовал ли он от каких-нибудь предков это свойство, но оно приносило многим его друзьям большие огорчения. О таких народная мудрость гласит: ради красного словца не пожалеет и отца. Он в этом отношении необычайно похож на Григоровича, который прославился и тем, что даже близких друзей не мог не осмеивать, хотя очень любил их. Поэтому я назвал бы Мариенгофа Григоровичем нашего столетия.
Впервые я увидел Анатолия в 1918 году, когда зашел в издательство ВЦИК к директору, старому большевику Константину Степановичу Еремееву, бывшему редактору легального органа большевиков – газеты «Звезда» в Петербурге. В приемной увидел сидевшего за столиком молодого человека, совершенно не похожего на советского служащего. На фоне потертых френчей и галифе он выделялся своим видом и казался заблудившимся и попавшим в издательство ВЦИК петербургским лицеистом или гвардейским офицером. Черные лакированные ботинки, розовый лак на отточенных ухоженных ногтях, пробор – тоже гвардейский и улыбка светского молодого человека.
Он вежливо спросил, кого я хочу видеть. Я сказал: Еремеева.
– Хорошо. Я доложу. – Но тут же сказал: – Садитесь, пожалуйста. Вы поэт?
– Да. Я – Рюрик Ивнев.
– Ах, Рюрик Ивнев! Очень приятно. Кстати, я тут недавно видел Есенина. Он к нам тоже заходил. Состоялся разговор о новой школе поэтов. Он перебрал многих и все время говорил: тот не подходит и этот – тоже. Потом вдруг вспомнил: «Рюрик Ивнев… Я с ним знаком по Петербургу и уверен, что это будет хорошо».
Начался длительный разговор. В это время дверь открылась и показался Еремеев. Анатолий был удивлен, когда он обнял меня и сказал:
– Рюрик Ивнев, где же вы пропадали все это время?
Не помню, что ответил, дальше он не стал ни о чем расспрашивать, а попросил зайти к нему в кабинет, поинтересовался, что я делаю сейчас. Я сказал, что секретарствую у Луначарского.
Он ответил:
– Я это знаю. А теперь скажите, у вас есть какая-нибудь вещь для издательства?
Я сказал Еремееву:
– Есть пьеса «Большая медведица». И хотя она не понравилась Анатолию Васильевичу Луначарскому, вам я ее дам.
Константин Степанович ответил:
– С Анатолием Васильевичем я не всегда соглашаюсь.
Мы простились, и я вышел из кабинета.
Мариенгоф встретил меня с той же светской улыбкой:
– Ну как?
– Просил принести мою пьесу «Большая медведица».
Мариенгоф деловито спросил:
– Сколько в ней действий?
– Пять.
– Ну, это замечательно! Это целое состояние! Недавно Александра Михайловна Коллонтай получила за свои произведения целый чемодан керенок.
Мы условились, когда я принесу пьесу.
Так началось мое знакомство с Мариенгофом. Это было еще до рождения ордена имажинистов. В скором времени в издательстве ВЦИК вышел в свет альманах «Явь», который, как известно, подвергся уничтожающей критике. Больше всего досталось Мариенгофу. В газете «Советская страна» и я, и Есенин печатали свои стихи. Мариенгоф почему-то ее игнорировал. Манифест имажинистов за подписью всех нас был опубликован в этой газете. Позже я узнал, что он каким-то образом появился и в воронежском журнале «Подъем».
Через несколько дней я встретил Сергея Есенина. Речь зашла о Мариенгофе. Он похвалил стихи Анатолия и сказал:
– Нам надо будет собраться в Козицком переулке.
Вскоре наше знакомство с Анатолием перешло в большую дружбу. Я понял особенности его характера и не обращал внимания на его нелепые выдумки, как, например, эпизод из «Романа без вранья», в котором один человек, приехавший из Африки, рассказывал о каком-то племени, где мужчина в случае измены жены съедал ее. И я якобы на это воскликнул: «Как это мило!»
Мы часто встречались. Я был в квартире в Козицком переулке. Там жили Есенин, Мариенгоф, часто бывал Григорий Колобов, которого Анатолий потом в своем «Романе без вранья» кровно обидел. Дело в том, что Григорий Колобов был особо уполномоченным НКПС, имел отдельный вагон, который по его приказанию прицеплялся к любому поезду. В этом вагоне с ним ездили С. Есенин и А. Мариенгоф. В ту пору продуктов было очень мало, и когда вагон въезжал в места, где их было больше, покупали там продукты. Однажды на Украине находившийся в вагоне ординарец купил много кур. И вдруг оказалось, что нет ни грамма соли. Настроение путешественников было испорчено: без соли куры совершенно не вкусны. Чтобы исправить оплошность, ординарец начал интересоваться на следующих станциях, есть ли соль. Иногда и Гриша спрашивал его о соли. А так как соль стоила невероятно дорого, он как-то спросил: «Почем соль?» Для Мариенгофа это послужило находкой для будущих насмешек над Колобовым. Приехав в Москву, он начал всем рассказывать про свои поездки и говорил, что Гриша Колобов на всех станциях высовывался из окна и спрашивал: «Почем соль?» Он его так и прозвал: «Почем соль?» Это дошло до наркомата, и кто-то из высшего начальства понял это как спекуляцию. Колобов вынужден был уйти на другую работу. Все это случилось неожиданно для Мариенгофа. Он не мог себе и представить, что обычная шутка, даже не злая, может причинить человеку такую неприятность.
Как известно, «Роман без вранья» был принят в штыки и считался одиозным. Русская публика не привыкла к такого рода шаржам. Во Франции, например, все бы только посмеялись. Когда секретарь Анатоля Франса после его смерти опубликовал забавные и нелепые вещи про своего патрона, никто этому не удивился, но и не воспринял всерьез. Иное дело у нас.
Большинство литературоведов недооценили таланта Мариенгофа. Я не говорю о безоговорочном признании его как поэта. Стихи его своеобразны и, грубо выражаясь, высосаны из пальца, поэтому в дальнейшем стихов он не писал, а сочинял романы, а во время Отечественной войны – острейшую сатиру, которая была сильным оружием в борьбе с фашизмом.
В 1928 году он предложил мне инсценировать роман Н. Чернышевского «Что делать?». Я согласился. Работу мы выполнили, но ни один театр не принял ее. Позже А. Мариенгоф написал несколько пьес. Но ему поразительно не везло. Если даже какая-нибудь пьеса и была принята, то через некоторое время ее запрещал репертком. Так было и с его пьесой «Наследный принц».
Самым тяжелым в жизни А. Мариенгофа стала потеря сына. Это было в Ленинграде, куда он переселился в тридцатые годы. Мальчик, наслушавшийся о самоубийстве С. Есенина, не по летам развитой, умный и талантливый, вдруг неожиданно, без всяких к тому поводов, повесился. Это произвело очень тяжкое впечатление как на Анатолия, так и на его жену А. Никритину.
В начале тридцатых годов я жил в Ленинграде и часто бывал у него дома на Кировской. С актрисой Нюшей Никритиной, которую он ласково называл «Мартышкой», я также подружился. Несмотря на искреннее желание, чтобы мои литературные дела шли хорошо, он, когда я рассказывал о какой-либо особенной удаче, никогда не выражал своей радости, потому что где все идет гладко, там нет материала для острот. А неудача вызывала у А. Мариенгофа оживление. Например, однажды, придя к ним, я рассказал, что у меня отложилось подписание договора. Мариенгоф позвал жену:
– Мартышка, Мартышка, сделай крепкий чай, у Рюрика неудача, его надо утешить.
«Мартышка» вышла из соседней комнаты:
– Сейчас поставлю чай.
– А пока расскажи, как это было? – допытывался Анатолий.
– Мне обещали выдать две тысячи и сказали: «Придете прямо в кассу, договор будет там. Распишетесь и получите».
Вошла «Мартышка»:
– Чай будет через десять минут. – Услышав мои последние слова, спросила: – Две тысячи? Это много. Ты взял с собой чемоданчик?
Я ответил:
– Нет, у меня большой портфель.
Анатолий вставил:
– Я люблю подробности. Расскажи, что тебе ответил кассир?
– Сказал, что договор еще не подписан.
Мариенгоф продолжал:
– Представляю себе картину: ты стоишь с объемным портфелем, разинув пасть, и ждешь, что сейчас будешь класть туда пачки денег, а кассир говорит тебе: «Закройте пасть и портфель. Класть туда нечего». И ехидно эдак ухмыляется.
– Что ты, Толя, выдумываешь, кассир этого не говорил и не ухмылялся.
– Какая разница, я бы на его месте повел себя именно так.
«Мартышка» вмешалась в разговор:
– Как это ужасно! Ты пришел, думал, что сейчас получишь деньги, были какие-то планы, и вдруг все рухнуло. – Она произнесла это так трагически, что мне стало ее жаль.
Я решил ее успокоить и сказал довольно бодро:
– Не волнуйся, Мартышка, ничего не рухнуло, просто отложилось на неделю.
Мариенгоф спросил глухим голосом:
– Откуда ты знаешь, что на неделю?
– Кассир мне сказал.
«Мартышка» улыбнулась:
– Не будь таким доверчивым. Мало ли что говорят кассиры.
Анатолий крикнул:
– Ну, Мартышка, где же чай? Скорее неси. Надо утешить Рюрика. Я уверен, что никаких денег он не получит.
Жизнь раскидала нас по разным городам, но при встречах нам казалось, что расстались мы только вчера.
Однажды встретились в центре Москвы на Театральной площади у фонтана, между Большим и Малым театрами. Я приехал из Тбилиси на премьеру оперы Захария Палиашвили «Абессалом и Этери», либретто которой перевел с грузинского на русский. А Мариенгоф прибыл из Ленинграда для просмотра своей пьесы «Наследный принц», которую на гастроли привезла труппа одного из провинциальных театров.
Был ясный июльский день. Наша встреча была воистину театральной, ибо Анатолий после обычных объятий, поцелуев и бормотаний каких-то несвязных слов неожиданно сказал:
– Ты совсем не изменился. Что-нибудь принимаешь?
Я засмеялся:
– Если бы было что принимать – это принимали бы все.
Он ничего не ответил, а посмотрев внимательно на мои брови, сказал:
– Брови красишь?
Я воскликнул:
– Ты с ума сошел. Кто же их красит?
– Как ты отстал от жизни! – заметил Мариенгоф. – Красят теперь все – мужчины и женщины.
– Ну, есть же такие, которые не красят.
– Этого не может быть! – настаивал Анатолий.
Хорошо помня, что Мариенгоф в карманчике пиджака имеет всегда маленький флакончик духов и неизменный белый шелковый платочек, я сказал:
– Не пожалей нескольких капель своих парижских духов и проверь.
Мариенгоф, ни слова не говоря, проделал всю эту процедуру и через несколько секунд разочарованно произнес:
– Достал, значит, хорошую краску.
Вспоминается еще один забавный случай. В 1947 году в Грузии вышла моя книга «Избранные стихи. 1912–1945 годы». Анатолий увидел, что там было много стихов, написанных в период между 1920 – 1940-ми годами. Сказал:
– Я не могу понять, откуда ты набрал столько много новых стихов? Ты же не печатался, а занимался переводами.
Я говорю:
– Ну и что, что не печатался? Я писал стихи и клал их в ящик, а жил на переводы.
– Ну, знаешь! – сказал Мариенгоф. – Хоть убей меня, я не могу понять, как можно писать стихи, зная, что они не будут напечатаны сейчас же, немедленно.
Как-то в Ленинграде я пришел к нему и сообщил:
– Толя, прошла одна моя инсценировка оперетты. Теперь я могу быть спокойным и много получать.
Вместо того чтобы обрадоваться, он погрустнел и ответил:
– Чай я тебе не предлагаю. Мне надо срочно уходить. Пойдем вместе. Одного я тебя не оставлю с моей женой.
В 1960 году я приехал в Ленинград и в последний раз увидел А. Мариенгофа в его квартире. Он был болен, и я пришел его навестить. Настала моя очередь изумляться. Анатолий хотя и полулежал в постели, выглядел таким же молодым, как и раньше. В жизни я встречал много людей, с которыми расставался на долгие годы, но не помню случая, чтобы человек почти не старел. Что касается Никритиной, его любимой «Мартышки», то она оставалась абсолютно такой же, как в давние времена Таировского театра.
Болезнь А. Мариенгофа, о которой он говорил небрежно, как об ушибе ноги, была серьезной. Я видел это по выражению лица его жены. Это мешало разговору. Было впечатление, что мы находимся на каком-то полустанке и торопимся на разные поезда. «Мартышка» приготовила обед, пододвинула стол к кровати. А Анатолий все время порывался встать на ноги, но она заставляла его быть в полулежачем состоянии.
Разговор зашел о стихах. Я испытывал некоторую неловкость, потому что помнил Мариенгофа времени имажинизма, когда он оспаривал первенство у С. Есенина. Анатолий неожиданно сказал:
– Прочти свои стихи.
Этого мне не хотелось, и я перевел разговор на другую тему, но он вновь попросил. Никритина шепнула:
– Прочти что-нибудь.
Я понял, что надо что-то прочесть, и ответил:
– Прочту, но не новое…
А когда закончил последние строки:
Кому готовит старость длинный ряд Высоких комнат, абажур и крик из детской, А мне столбов дорожных ряд И розы мерзлые в мертвецкой… —Толя неожиданно воскликнул:
– Это самое оптимистичное из всех твоих стихотворений!
«Мартышка» ошеломлена:
– Толя, какой же это оптимизм? Что с тобой?
Он развел руками и сказал снисходительно:
– Как вы не понимаете! Это же оптимизм – розы. Пусть даже мерзлые. Никаких роз в жизни и после нее у нас не будет.
Анатолий и теперь завуалировал свою болезнь и не смог отказаться от язвительного остроумия.
И в этом был весь Мариенгоф.
Вместе с Луначарским
Для меня это не только страницы мемуаров, не просто повествование о бурных событиях, разгоревшихся в 1917 году на берегах воспетой Пушкиным Невы, а годы юности, часть моей жизни.
В знаменитом в ту пору цирке «Модерн» я познакомился с крупными деятелями Октября А. В. Луначарским и А. М. Коллонтай. Если хрупкая и изящная Александра Михайловна поражала аудиторию своим голосом, звучавшим, как набат, доходившим до самых отдаленных скамеек так называемой галерки, то А. В. Луначарский восхищал необыкновенной простотой изложения мыслей. Он был прирожденным оратором-пропагандистом, так ясно и просто излагал политику партии, что она становилась не только понятна, но и близка и дорога сердцу слушателей.
После одного из выступлений Луначарского в цирке «Модерн» я подошел к нему, хоть не был знаком, и пожал руку. Он улыбнулся и спросил, кто я и чем занимаюсь. Я назвал свою фамилию.
– Вы печатались в «Звезде»?
– Да, – ответил я, – в тысяча девятьсот двенадцатом году, но всего два раза, так как газета была закрыта правительством.
Я объяснил, что сочувствую большевикам, но в политическом отношении считаю себя младенцем, так как по-настоящему не занимался политической деятельностью, а в литературе меня увлекло футуристическое движение. Правда то, что я ненавидел царский режим. В 1905 году четырнадцатилетним кадетиком тщетно искал связи с революционерами, чтобы убить в Тифлисе черносотенного генерала Грязнова, но это я не мог даже в душе считать своей заслугой. Луначарский рассмеялся и пригласил меня зайти к нему домой.
Сначала я чувствовал себя в его присутствии так, как робкий племянник при встрече с добрым и умным дядей, но когда узнал его больше, я понял, что нахожусь в положении подмастерья у талантливого и опытного мастера, у которого есть чему поучиться.
Через несколько дней после падения Временного правительства я пришел к Анатолию Васильевичу утром. Он только что кончил пить чай. На столе еще стояли стаканы, среди которых высилась вазочка с остатками карамели. Сахар в ту пору был не у всех. Анна Александровна – жена Луначарского – была занята своим четырехлетним сыном Толей, который забавно лепетал то по-французски, то по-русски, причем французский он знал гораздо лучше русского, так как Луначарские привезли его в Россию только после Февральской революции. В комнате находилось еще несколько человек, которых я раньше здесь не встречал. Сам Луначарский одновременно и давал указания, и отвечал на вопросы, и разбирал бумаги и письма. Его старый знакомый по эмиграции Дмитрий Ильич Лещенко, примостившийся около чайного стола, тоже был занят разбором бумаг. Вскоре он вышел, а Луначарского вызвали не то в Смольный, не то в Зимний, точно не помню. Уезжая, Анатолий Васильевич обратился ко мне:
– Товарищ Ивнев, выручайте. Займитесь пока этими письмами. Ведь на них надо ответить сегодня же.
После его отъезда я принялся за разбор довольно обильной корреспонденции, прихватив и кучку писем, которую не успел разобрать Д. И. Лещенко. К приезду Луначарского у меня все было готово.
– Большое вам спасибо, – сказал Луначарский. – Знаете что, товарищ Ивнев, приходите ко мне и завтра, ведь вы живете почти рядом со мной.
На другой день я пришел с утра, и с этих пор началась моя совместная, возникшая совершенно неожиданно, работа с Анатолием Васильевичем в качестве его секретаря. Работа эта не имела ничего общего со службой в теперешнем значении этого слова. Не было ни строго очерченных обязанностей, ни определенных часов. Эту работу можно было сравнить скорее с наведением хотя бы относительного порядка в здании, где все перевернуто вверх дном.
Нельзя забывать, что и после установления советской власти сопротивление буржуазных деятелей продолжалось. Оно выражалось в массовом саботаже, парализовавшем работу учреждений. Дело дошло до того, что здание Наркомпроса (бывшего Министерства народного просвещения) оставалось фактически в руках прежнего руководства. Швейцары и сторожа, подкупленные прежним начальством, закрыли его на ключи и засовы в расчете на то, что советская власть не пойдет на взлом дверей и будет терпеливо ждать, пока конфликт сам собой уладится. И действительно, главе наркомата Луначарскому потребовалось написать специальное воззвание, начинавшееся словами: «Товарищи швейцары и сторожа, вы, сыны трудового народа, должны приветствовать советскую власть, а не сопротивляться ей».
Работали мы с Луначарским то в его квартире, то в Зимнем дворце, и только после того, когда швейцары и сторожа сдали нам «ключи от крепости», – в здании Наркомпроса.
Чем глубже я узнавал Анатолия Васильевича, тем больше изумлялся его работоспособности, эрудиции, остроумию и необыкновенной доброжелательности при строгой принципиальности. Кроме того, он обладал двумя качествами, которые присущи многим выдающимся людям, – это прирожденная доброта и простота в общении.
Анатолий Васильевич обладал не только даром красноречия, но и умением слушать собеседника. В нем не было и тени самодовольства и самолюбования, которыми отличались многие ораторы того времени. Когда я давал ему на подпись заготовленные мною бумаги, будь то обращение к военному ведомству с просьбой освободить помещение школы, занятое воинской частью, или рекомендация наркома тому или иному лицу, Анатолий Васильевич подписывал их, бегло просматривая текст.
Однажды я спросил:
– Анатолий Васильевич, вы хорошо ознакомились с текстом?
Луначарский посмотрел на меня, как смотрят на человека, сказавшего глупость. В его глазах я прочел укор, который легко было понять: неужели вы могли подумать, что я недостаточно внимателен?
Такое безграничное доверие не могло не вызывать во мне обостренную осторожность при составлении бумаг. Особенно трудно приходилось, когда Анатолий Васильевич просил составлять бумаги в адрес Госбанка с просьбой выдать тому или иному лицу что-либо из конфискованных драгоценностей. Те, кто не был свидетелем тогдашних событий, читая эти строки, удивятся. Спешу объяснить, в чем дело. Декретом советского правительства были национализированы все крупные вклады в банк и содержимое сейфов. Имелось в виду, конечно, имущество, приобретенное нетрудовым путем. Что касается сумм, составившихся из трудового заработка, то для них делалось исключение. Чтобы получить их обратно, требовалась подпись Луначарского, так как это касалось лишь людей «свободных профессий» (артистов, писателей, художников). Этой лазейкой начали пользоваться ловкие люди, никакого отношения к искусству не имеющие. К Луначарскому стали обращаться не только артисты, размеры заработков которых не вызывали сомнений, но и авантюристы. От них легко было отделываться, значительно труднее отказывать какой-нибудь знаменитой актрисе, которая хлопотала не за себя, а за других лиц, трудовой заработок которых она подтверждала «честным словом». Не мог же Анатолий Васильевич ответить: «Вашему честному слову я не верю». Поэтому под тем или иным предлогом я «замораживал» эти просьбы тем, что не давал их на подпись Анатолию Васильевичу даже в том случае, если он напоминал мне о них. Он понимал меня и не корил за «неисполнение указаний».
Дни летели, работы становилось больше – интересной, волнующей. Обычно в Зимнем дворце Анатолий Васильевич принимал посетителей по делам, имеющим отношение к искусству, а в Наркомпросе – по делам народного просвещения. Впрочем, и вопросы искусства в ту пору входили в ведение Наркомпроса. Все, что я наблюдал в период, предшествовавший падению империи и во время последующих событий, начиная с Февральской революции и кончая Октябрем, навело меня на мысль отразить это бурное время в пьесе, хотя ни одной пьесы до этого я не написал, за исключением инсценировки романа Тургенева «Рудин» в 1910 году, когда был еще студентом. Узнав об этом, Анатолий Васильевич захотел ознакомиться с моей пьесой, которую я назвал «Большая Медведица».
И вот как-то после вечернего чая у Луначарского тут же, за чайным столом, я прочел ему мою пьесу. Анатолий Васильевич прослушал ее внимательно, но не задал ни одного вопроса. Мне это показалось странным: обычно оживленный и разговорчивый, он не сказал ни слова. Закончил я чтение еще неувереннее, чем начал. Луначарский молчал. Я нерешительно пояснил: «Конец пятого акта». И добавил совсем уже растерянно: «И пьесы». Анатолий Васильевич продолжал хранить молчание. Все стало ясно. Я понял, что это провал. Наконец Луначарский заговорил, но… не о моей пьесе, а о чем-то другом. В ту минуту я ни о чем не думал, кроме своей пьесы, но впоследствии оценил деликатность Анатолия Васильевича. Он органически не мог ни лгать, ни фальшивить.
Во время подавления восстания московских юнкеров, в конце октября 1917 года (по старому стилю), в Петрограде распространились слухи, что от перестрелки пострадали многие архитектурные шедевры Москвы. Луначарский, как знаток и ценитель древнего русского искусства, был так возмущен этим, что сгоряча, не проверив их, подал на имя председателя Совнаркома В. И. Ленина официальное заявление о своей отставке. Ленин, хорошо знавший Луначарского, конечно, ее не принял. Но во всех газетах об этом в тот день было напечатано крупным шрифтом. Буржуазные газеты перепечатали это сообщение с соответствующими комментариями, вроде таких – «Луначарский протестует против варварского разрушения храма Василия Блаженного и колокольни Ивана Великого». К вечеру все выяснилось. Никаких разрушений памятников старины не было. Утку пустили буржуазные газеты, но так как заявление Луначарского об отставке было опубликовано и в советских газетах, то слухам поверили.
На другой день стало известно, что Луначарский взял свое заявление обратно.
В Анатолии Васильевиче была какая-то особенная душевная теплота. Мне кажется, что он, как никто, понимал все человеческие достоинства и слабости. Схематизм был чужд ему. Этим объясняется его огромный успех на всех выступлениях – и перед народом, и перед «избранной публикой». Безграничная любовь к человеку и уверенность в победе были так ярко выражены в его речах, что всегда встречали самые шумные и искренние одобрения.
Нельзя не упомянуть и о его тонком остроумии, и умении парировать даже самые неожиданные возражения оппонентов.
Сейчас, вспоминая первые дни и месяцы работы с Луначарским, отказываешься понимать, как он успевал решать одновременно столько срочных дел, возникавших иной раз совершенно неожиданно. Я часто беседовал с Анатолием Васильевичем о мерах, которые надо предпринять, чтобы отколоть от огромной массы интеллигенции наибольшее количество людей для сотрудничества с новой властью. В то время у меня никакого политического опыта не было, и я руководствовался эмоциональными порывами. Меня искренне удивляло, как мог Мережковский, который в своих статьях призывал бури и молнии на царскую власть, вдруг теперь, когда народ взял власть в свои руки, бешено нападать на советский строй и вместе с Зинаидой Гиппиус и Философовым обливать его грязью. Луначарский улыбался, не коря меня за наивность, и терпеливо поучал, что от этой части интеллигенции, революционной на словах, большевики никогда не ожидали ничего, кроме враждебных действий. Но когда я предложил организовать митинг под лозунгом «Интеллигенция и советская власть», он меня горячо поддержал. Желание скорей осуществить свою идею было настолько сильным, что я воспользовался предложением какого-то администратора, который и взялся устроить этот вечер-митинг в Доме армии и флота на Литейном проспекте. Луначарский сказал, что этот митинг может принести большую пользу, если наряду с ораторами-большевиками будут выступать и представители лучшей части интеллигенции. Я принял это к сведению и тут же начал подготовку.
Согласие выступить на митинге дали: Коллонтай, Спиридонова, художник Петров-Водкин, поэты Александр Блок и Сергей Есенин и режиссер Всеволод Мейерхольд. Вскоре огромные афиши появились на заборах и стенах домов Петрограда. Это было в конце декабря 1917 года.
В день митинга поднялась невероятная вьюга. Кроме того, по каким-то причинам как раз в этот день не работали трамваи. Администратор позаботился только о помещении и афишах, а свое обещание прислать машины не выполнил.
Я тщетно прождал транспорта до девяти часов вечера и решил идти пешком от Лахтинской улицы, где я жил, до Литейного проспекта. Расстояние немалое, да еще вьюга. Пришел в Дом армии и флота в половине одиннадцатого, как раз в тот момент, когда Луначарский закончил свое выступление. После его доклада слово было предоставлено мне. Я напомнил аудитории, что совсем недавно было семилетие со дня смерти Льва Толстого. И когда поделился мыслью, что если бы Толстой дожил до великих дней Октября, то остался бы с нами, а не с врагами революции, – зал загремел. Большая часть аудитории начала бурно аплодировать, меньшая – бешено свистеть. Председателем был рабочий. Он долго не мог успокоить людей, пока снова не выступил Луначарский. В короткой речи он высказал взгляд на расслоение интеллигенции, лучшая часть которой по логике вещей не может не стать на сторону советской власти.
Чем больше интеллигенции переходило на сторону новой власти, тем больше бесновалась буржуазная пресса. Не было дня, чтобы она не пускала каких-нибудь диких слухов о «большевистском варварстве», «большевистской жестокости» и т. п. Нас эти нападки только смешили. Однажды Анатолий Васильевич показал мне со смехом журнал «Сатирикон», в котором были изображены две дамы в модных платьях. Под рисунком стихи:
Как не тужить, все изменилось ныне, Попробуй-ка, читатель, угадай, Которая из них великая княгиня, Которая – товарищ Коллонтай.– Далось же им изящество Александры Михайловны! Они думают, что если она большевичка, то должна непременно быть в потрепанном костюме и в очках.
После падения правительства Керенского многие молодые офицеры и юнкера были арестованы и находились в заключении в Кронштадте до разбора их дела. И вот в буржуазных газетах появились статьи и заметки о том, что большевики плохо обращаются с «пленными», приводились всякие страшные подробности. Анатолий Васильевич был крайне возмущен, он не мог выносить, когда газеты извращали факты и чернили советскую власть. Прочтя какой-то особенно возмутивший его фельетон, он сказал мне:
– Товарищ Ивнев, как вы отнесетесь к тому, чтобы поехать в Кронштадт?
Я согласился. У меня хранится до сих пор любопытный документ, по которому я мог ознакомиться лично с положением заключенных. На другой день, узнав, что я собираюсь ехать в Кронштадт, ко мне обратился представитель партии христианских социалистов Миронов. Я подумал, что это будет даже лучше, чем ехать одному, и, согласовав вопрос с Луначарским, предложил Миронову ехать со мной. Мы получили общий пропуск и выехали на катере в Кронштадт, где и ознакомились с положением заключенных, большей частью молодых офицеров и юнкеров – из тех, в которых Временное правительство пыталось найти для себя опору. Оказалось, что никто их не мучил, не терзал, как об этом вопила буржуазная печать.
Утром следующего дня, вернувшись в Петроград, я проинформировал Луначарского о результатах поездки.
– Я так и знал, – сказал Анатолий Васильевич, – что все эти обвинения окажутся гнусной клеветой. Теперь вам надо вовсю использовать эту поездку, выступать на митингах, писать, чтобы рассеять отвратительный туман, который напускают кадеты и меньшевики.
Начало нового, 1918 года было таким же напряженным, как и предыдущий год. Хотя враги Советов не успокаивались и не ослабляли своей пропаганды, а наоборот, все больше и больше ее развивали, они уже чувствовали, что советскую власть не сокрушить газетными воплями, популярность советского правительства росла все больше и больше. Луначарский внимательно следил за прессой. Он хорошо понимал, какое громадное значение для советской власти имеет сближение ее с интеллигенцией.
Я с восхищением наблюдал, как он живо и страстно реагировал на любое проявление прямого и искреннего сочувствия советской власти со стороны видных деятелей науки и искусства. Его по-настоящему радовала позиция Блока, не побоявшегося порвать со своими еще недавними соратниками – Федором Сологубом, Зинаидой Гиппиус, Дмитрием Мережковским и многими другими; Анатолий Васильевич бывал доволен пополнением армии сочувствующих хотя бы одним новым «солдатом». Вскоре после митинга «Интеллигенция и советская власть» в печати появилось (6 февраля 1918 года) письмо известного ученого профессора К. Тимирязева студентам рабфака имени Карла Маркса.
Первый вопрос, который мне задал Луначарский, когда я приехал к нему утром, был:
– Вы читали письмо профессора Тимирязева?
Я ответил, что письмо видел, но не успел его прочесть.
– А мне еще недавно говорили некоторые меньшевики-интернационалисты, что к нам примыкает безусая молодежь, не разбирающаяся в политике. А вот что говорит восьмидесятилетний ученый. – И он прочел подчеркнутые им строки из письма: – «Наука получит прочную, верную опору, когда ее судьба будет в руках самых просвещенных народов, а не царей и пресмыкающихся перед ними холопов, хотя бы они величали себя министрами просвещения, академиками, профессорами».
– Воображаю, какой вой поднимет «День»[12] или «Воля народа»[13], – сказал я.
Анатолий Васильевич улыбнулся:
– А помните, у Некрасова:
Мы слышим звуки одобренья Не в сладком ропоте хвалы, А в диких криках озлобленья…Вскоре после этого Луначарский обратил мое внимание на заметку в газете «Правда» от 21 (8) февраля 1918 года и сказал:
– Я бы назвал это ушатом холодной воды на головы наших клеветников и недоброжелателей.
Привожу выдержку из этой заметки. В заметке шла речь о том, что, «согласно декрету о государственном издательстве, принятому ЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 29 декабря 1917 года, государственная комиссия по народному просвещению постановила монополизировать на 5 лет и издать сочинения следующих русских беллетристов…» Среди них были – А. И. Герцен, Д. В. Григорович, А. С. Грибоедов, И. А. Гончаров, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев и многие другие.
Не найдя в этом списке Лескова, я спросил Луначарского:
– Это случайный пропуск или умышленный?
Луначарский ответил:
– Конечно, Лесков – первоклассный писатель, но в данный момент мы хотим дать народу в первую очередь классиков, которые созвучны нам в том или ином отношении. А с Лесковым русская передовая мысль все время была «на ножах».
– Но ведь и «Бесы» Достоевского тоже многие считали антиреволюционным произведением!
Анатолий Васильевич улыбнулся и сказал:
– Все это сложнее, чем кажется вам. Однако вернемся к этому разговору позже. А сейчас займемся нашими делами.
20 (7) февраля 1918 года, почти через три месяца после того как Луначарский молча выслушал мою пьесу «Большая Медведица», не сказав о ней ни единого слова, я узнал наконец его мнение.
Едва я успел с ним поздороваться, как он радостно воскликнул:
– Прочел вашу статью. Вот это настоящее, не то что ваша пьеса. Она безжизненна, несмотря на то что в ней описаны бурные дни нашей жизни, а в статье жизнь кипит и клокочет.
Я понял, что Анатолий Васильевич говорил о моей статье «Великий грех, или Великое кощунство», опубликованной в этот день в «Известиях» в ответ на «анафему», которой предал тогдашний патриарх Тихон советскую власть. Я был смущен неожиданной для меня похвалой и, как всегда в таких случаях, не знал, что ответить, но все же в конце концов произнес какие-то неуклюжие слова. Он почувствовал мое смущение и сказал, улыбаясь:
– Вы нашли настоящие горячие слова, а не сухие доводы. Сейчас это более чем необходимо. Продолжайте писать в этом же духе, с таким же накалом.
…Так сменялись дни за днями, и в каждом дне было и большое и малое, крупное и мелкое, трагически-волнующее и смешное. С каждым днем я все более и более привязывался к Анатолию Васильевичу и не уставал им восхищаться. Я видел его в самых различных обстоятельствах, видел озабоченным, видел спокойным, видел вдохновенно говорящим с трибуны, видел остроумным, смеющимся, улыбающимся, видел чуть-чуть грустным, но никогда не видел раздраженным или сердитым. Он был гневным, но только тогда, когда обрушивался во время митингов на врагов революции.
…23 января Мариинский оперный театр был переполнен, как говорится, до отказа. В этот день бывший Императорский театр был официально объявлен народным. Многочисленные афиши, красовавшиеся на традиционных местах – на заборах и стенах домов, возвещали о первом народном «музыкальном зрелище» – «Руслан и Людмила». Во время премьеры в партере сидели уже не гвардейские офицеры и не джентльмены во фраках, как два-три года назад, а рабочие в косоворотках и солдаты в потертых гимнастерках. В ложах вместо надменных матрон и кокетливых аристократок, увешанных бриллиантами, – работницы в красных платочках. Конечно, попадались отдельные представители старого мира, еще не успевшие на финских вейках пересечь границу ставшего для них неузнаваемым государства. Но все эти чуждые лица тонули в море молодой советской публики.
Перед началом представления вступительное слово произнес Анатолий Васильевич. Упомянув о том, что в прежнее время плодами искусства пользовались только богатые, он – привожу дословно – воскликнул:
– Да, Пушкин и Глинка были представителями помещичьих кругов, но все, что в них было помещичье, пусть берут себе помещики, а то, что в них было народное, мы возьмем себе.
Далее он сказал, что подлинное искусство живет лишь тогда, когда оно соприкасается с живыми сердцами, и что все гении мира будут в плену, пока их плодами будут пользоваться только привилегированные классы. И потому теперь, когда театр стал достоянием народа, «души Пушкина и Глинки, прилетевшие к нам сквозь узорный потолок этого театра, будут радоваться вместе с нами». Луначарский закончил свою речь под горячие аплодисменты зала.
Февраль 1918 года был тяжелым месяцем для молодой Советской республики. Положение на фронтах катастрофическое. Город лихорадило. Контрреволюция подняла голову. На улицах уже без всякого стеснения и опасения штатские молодчики, в которых чувствовалась военная выправка, злорадно предсказывали, что скоро придут немцы и повесят большевиков и их подголосков. Мои соседи по дому смотрели на меня с насмешливым сожалением. Обычно я делился с Анатолием Васильевичем впечатлениями о всяких встречах, вызывавших у меня смех или негодование, но в эти тревожные дни я сознательно обходил молчанием скрытые и явные угрозы тех, чьи надежды на падение советской власти возродились благодаря наступлению немцев. 5 декабря 1917 года было подписано соглашение о временном прекращении военных действий, переговоры продолжались, но 10 февраля (28 января) 1918 года они были прерваны по вине Троцкого, заявившего, что советская Россия войну прекращает, но договора о мире не подпишет. Я высказал свое мнение о Брестском мире в статье «Победители и побежденные», опубликованной в газете «Известия». «Тяжелый мир приняла Россия, ибо другого выхода не было; но это далеко не означает, что она отказалась от своих принципов – справедливого и демократического мира для всех народов». Анатолий Васильевич обычно так или иначе откликался на мои статьи. На этот раз, когда я пришел к нему утром, он встретил меня по-прежнему приветливо, но об этом не сказал ни слова. Сначала я подумал, что он еще не успел прочесть газету, но вскоре убедился, что это не так. Позже я узнал, что Луначарский некоторое время колебался и только при поименном голосовании присоединился к резолюции ЦК, одобрившей заключение Брестского мира. Отличительной чертой его характера было то, что он никому и никогда не навязывал своих мнений. Его глубокая принципиальность была живой, деятельной, но никогда не переходила в область сухой догмы.
В марте 1918 года Совет народных комиссаров вынес решение о переезде правительства в Москву, которая была объявлена столицей советского государства. Петроград и Петроградская область были выделены в особую административную единицу под названием Северная Коммуна. А. В. Луначарский по-прежнему оставался наркомом просвещения, но не покидал Петрограда. Для связи с наркоматом Анатолий Васильевич назначил меня своим секретарем-корреспондентом в Москве. Заместителем Луначарского в то время была Надежда Константиновна Крупская. Луначарский выдал мне особый мандат на право пользования кремлевским телефоном. Мы договорились, что я буду информировать его о всех наиболее важных вопросах. У него было очень сложное положение – руководить из Петрограда наркоматом, переехавшим в Москву. Но в те дни мы об этом не задумывались.
Я так привык к ежедневным встречам с Анатолием Васильевичем, что, уезжая в очередном пассажирском поезде в Москву, сжатый чужими спинами и чемоданами, чувствовал себя одиноким и в душе жалел, что согласился принять новую должность. Но утешал себя тем, что получил от «Известий» ответственное поручение – быть корреспондентом, а это прежде всего позволяло присутствовать на историческом заседании IV Чрезвычайного съезда Советов, где в повестке дня стоял доклад Ленина о Брестском мире.
В Москве начался второй период моей работы с Луначарским. Анатолий Васильевич, к моей радости, довольно часто приезжал из Ленинграда. В его отсутствие я бывал ежедневно в Наркомпросе, помещавшемся тогда в бывшем лицее Каткова, на углу Садовой улицы, близ старого Крымского моста. Больше всего мне приходилось иметь дело с Надеждой Константиновной Крупской, заместителем наркома Луначарского, и с секретарем парторганизации Штернбергом, который одновременно занимал должность секретаря коллегии наркомата. Начальником канцелярии в ту пору был К. А. Федин. Когда возникали вопросы, которые необходимо было согласовать с Луначарским, я сносился с ним по прямому проводу из Кремля.
Во время приездов Анатолия Васильевича в Москву я продолжал работать в качестве его секретаря, заведуя приемом посетителей. Количество добивавшихся личного свидания с Луначарским значительно возросло. О большом такте и душевной доброте наркома, конечно, в скором времени разузнали все, и поэтому к нему начали обращаться по всем вопросам. Я старался оберегать Анатолия Васильевича от посетителей, не имевших отношения к народному образованию, к искусству. Некоторые из наиболее назойливых, пользуясь доступностью Луначарского, ловили его у входа в наркомат, поднимались с ним по лестнице и без всякого приглашения входили вместе с ним в его кабинет. Однажды я заметил, как Луначарский, сопровождаемый посетителем, тяжело вздохнул, и решил помочь ему. Войдя почти тут же в кабинет наркома, я сказал:
– Анатолий Васильевич, вас вызывают из Кремля.
Он поднял трубку.
– Нет, не по этому телефону, – сказал я и увел его в другую комнату. Там я объяснил ему мою хитрость и добавил: – Этот назойливый посетитель сломал весь мой список.
Анатолий Васильевич рассмеялся:
– Ну что делать? Не мог же я сказать: «Уходите из кабинета».
– Ну так я буду за вас говорить «уходите».
Луначарский поежился:
– Это неудобно.
– Еще неудобнее, когда вашим временем не дорожат.
Помню, как-то утром ко мне подошел секретарь партбюро Штернберг и сказал: «Товарищ Ивнев, мы наметили вас на пост замнаркома». Я призадумался. Мне казалось, что одного сочувствия большевикам мало, надо прежде всего быть готовым к тому, чтобы достойно нести эту честь. А я в то время был еще, по сути, «политическим младенцем». И потом, мне казалось, если я всецело отдам себя партийной работе, то мне придется расстаться с поэзией, а отойти от нее я никак не мог.
Удивленный моим долгим молчанием, Штернберг спросил:
– Ну, вы согласны?
– Разрешите мне подумать. Завтра я дам вам ответ.
– Как хотите, – сухо проговорил он и отошел.
На другой день, взвесив все «за» и «против», я сказал ему, что не чувствую себя подготовленным к столь высокому посту.
Многие из друзей были крайне удивлены моим отказом. Вадим Шершеневич заметил:
– Раз ты сочувствуешь большевикам, должен стать большевиком. Половинчатость всегда нетерпима.
А Сергей Есенин засмеялся:
– Правильно сделал. Какой ты замнарком? Чепуха получилась бы страшная. И ты сбежал бы с этого поста, если бы тебя не выгнали раньше.
Анатолий Васильевич был иного мнения:
– Очень жаль, что вы отказались. Нам нужны такие люди, как вы. Но… – добавил он после паузы, – я вас понимаю.
…6 июля 1918 года я проходил по Денежному переулку, торопясь на заседание коллегии, на котором должен был председательствовать Луначарский. Огромная толпа народа преградила мне путь. Из расспросов прохожих я узнал, что час тому назад левый эсер Блюмкин бросил бомбу в германского посла графа Мирбаха. Читателям, которым это известно из учебников истории, трудно даже представить, какое потрясающее впечатление произвело это событие.
Вырвавшись из толпы, продолжавшей тесниться у особняка, в котором был убит дипломат, я помчался в Наркомпрос, чтобы сообщить об этом Луначарскому. Заседание коллегии уже началось. Я написал записку: «Левый эсер Блюмкин час назад убил графа Мирбаха», – и положил ее перед ним. Со своего места я наблюдал, как Анатолий Васильевич читает мою записку. Вот он сложил ее и положил в карманчик жилета. Никто из членов коллегии ничего не заметил, но от меня все же не укрылось, что Анатолий Васильевич побледнел. Мне казалось, что он прервет заседание, но он довел его до конца, сейчас же подошел ко мне и пригласил в свой кабинет. В первый раз за все время нашей работы закрыл дверь на ключ, поднял трубку телефона и соединился с Кремлем.
– Да, – сказал он. – К сожалению, это правда. Эсеры еще на съезде, ратифицировавшем Брестский мир, говорили, что не признают этого решения и будут действовать по-своему. Страшно подумать, что может произойти. – Нарком положил трубку на рычаг и повернулся ко мне: – Товарищ Ивнев, я сейчас поеду в Кремль. Прием, конечно, отменяется. Вы извинитесь за меня перед посетителями.
Провожая Анатолия Васильевича, я спросил, можно ли объяснить истинную причину отмены.
– Ну конечно, можно. Об этом знают все. – И добавил: – А вы правильно сделали, что на коллегии никому, кроме меня, не сообщили. Какие только слухи сейчас не распространяются!
На другой день газеты были полны описанием убийства, совершенного среди белого дня.
Несколько месяцев спустя Луначарский командировал меня в Астрахань, назначив своим представителем на открытии в этом городе первого народного университета. После возвращения я получил новое назначение – заведующий бюро по организации агитпоезда имени А. В. Луначарского. Нам было выделено особое помещение – особняк на Пречистенке. В марте 1919 года Анатолий Васильевич в связи с делами бюро командировал меня на Украину – в Харьков и Киев. Красная армия заняла Крым, была образована Крымская республика, и он продлил мою командировку, направив в ее столицу – Симферополь. Там разыгрались события, из-за которых Крым оказался отрезанным от советской России. Всеволод Эмильевич Мейерхольд, находившийся тогда в Новороссийске, помог мне эвакуироваться в Грузию, где в ту пору у власти стояли меньшевики. Вступив в контакт с находившимся в подполье Кавказским краевым комитетом партии большевиков, я прочитал ряд лекций, за что был выслан из Грузии и смог вернуться в Москву через Владикавказ только в конце ноября 1920 года. Вернемся, однако, к воспоминаниям об Анатолии Васильевиче Луначарском.
Кто был в Москве зимой 1920/21 года, не может забыть сугробы, в которых утопал город, гололедицу, безлюдные по вечерам улицы, забитые досками витрины пустовавших магазинов, трубы «буржуек», торчавшие почти изо всех окон, как ржавые флаги, неустройство, голод и холод.
На другой день после моего приезда в Москву я зашел к Луначарскому. Он уже жил в Кремле, окончательно переселясь из Петрограда. Анатолий Васильевич встретил меня приветливо и рассказал, что обо мне ходили разные слухи: одни говорили, я расстрелян белыми, другие – что нахожусь в заточении в Метехском замке, в который меньшевики бросали своих противников. Потом он спросил, где я хочу сейчас работать. Я ответил иносказательно, что если педагог окажется в доме, в котором погасло электричество, а он случайно умеет с ним обращаться, то, исправив повреждение, он продолжит педагогическую работу, а не станет электромонтером. Анатолий Васильевич внимательно выслушал меня и сказал, улыбаясь:
– Насколько я вас понял, вы хотите вернуться к литературе?
Я ответил, что он сделал правильный вывод.
В декабре 1919 года мы с Есениным решили устроить большой литературный вечер под девизом «Россия в грозе и буре», и я пришел к Анатолию Васильевичу с готовой программой. Ему понравилась наша идея, и он дал свое согласие произнести на вечере вступительное слово.
Вскоре я и молодой поэт Матвей Ройзман решили издать «Автографы» живших тогда в Москве писателей. Я попросил Анатолия Васильевича дать свой автограф. Он, не откладывая дела в долгий ящик, сейчас же написал четверостишие.
Память у Анатолия Васильевича была хорошая. Как-то я зашел к нему в Кремль без всякого дела. После беседы, касавшейся тогдашней литературы, он вынул из шкафа только что вышедшую его драму «Оливер Кромвель» и подарил мне с такой характерной для него надписью: «Тов. Ивневу, сотруднику в тяжелые дни и поэту». Четыре года прошло после тех тяжелых дней, но он не забыл этого.
В начале февраля 1921 года мы с Есениным решили совершить небольшую поездку в Европу. Я рассказал о нашем плане Анатолию Васильевичу, причем я его ни о чем не просил. Он тут же написал записку в Наркоминдел Карахану, прося оформить нашу поездку за границу. Но 25 февраля в Грузии было свергнуто меньшевистское правительство и установлена советская власть. Мне захотелось поехать в Тифлис, и наша поездка не состоялась. В Грузии я пробыл около года и в августе 1922-го вернулся в Москву. Снова возобновились мои встречи с Луначарским. К тому времени столица резко изменилась. Магазины открылись, улицы стали нарядными. Появилось много ресторанов и кафе. То, что грезилось голодным москвичам – хлеб, молоко, масло, ветчина, – выставлено было на витринах.
Чуть ли не в первый день моего возвращения в столицу, еще не успев побывать у Луначарского, я встретил его в бывшем Елисеевском магазине на Тверской улице. В фетровой шляпе, модном пальто нараспашку, из-под которого виднелся коричневый пиджак, он показался в первую минуту каким-то иным. Прежними оставались умные добрые глаза и блестевшее при электрическом свете пенсне. Его, конечно, узнали. Публика деликатно наблюдала за ним, веселые румяные продавцы суетились за прилавком. Я испытывал какое-то странное ощущение радости и грусти. Радости, что «тяжелые дни» далеко позади, а грусти, что я уже не увижу на нем привычной старенькой тужурки с карманами, набитыми памятными заметками. Я понимал, что нелепо с моей стороны придавать этому значение, но разве мы можем руководить своими чувствами и впечатлениями! Я его не видел целый год, и мне страшно хотелось подойти и поздороваться, но я сдержал порыв – будет что-то смешное в этой встрече перед прилавком, ломившимся от изобилия. И не подошел. На другой день, встав пораньше, чтобы застать его дома, пошел к нему в Кремль. Он встретил меня неизменно приветливо, расспрашивал о жизни в Грузии, о моих планах на будущее. Мягко улыбаясь, поинтересовался:
– По линии службы вы на прежних позициях?
Я ответил, что на прежних. (О том, что видел его вчера, конечно, не сказал.)
А теперь, когда пишу эти строки, испытываю боль, что не был с ним всегда. Мне кажется, что если бы я только мог знать, что он уйдет от нас так рано, я бы его никогда не оставил.
В 1925 году я поехал в Германию, а после возвращения отправился в большое путешествие по Дальнему Востоку, Камчатке и Японии. Потом поехал на Кавказ. И в 1933 году до меня дошла грустная весть, что Анатолий Васильевич скончался во Франции.
Передо мной снова и снова встает образ незабываемого Анатолия Васильевича, веселого, жизнерадостного, живущего в сердцах людей, знавших его близко…
Воспоминания о Всеволоде Мейерхольде
…На моих глазах умирал царь, самый жестокий из всех русских царей, а я умирал от восторга. Это было в 1903 году, в Тифлисе. Мне едва исполнилось двенадцать лет. Затаив дыхание, я следил за последними минутами жизни Ивана Грозного, который восстал из гроба как бы только для того, чтобы умереть еще раз на сцене переполненного театра «Артистического общества». Это был настоящий Иван Грозный, это была настоящая смерть, это было настоящее чудо.
Так казалось мне тогда. А на самом деле я впервые увидел изумительного актера Всеволода Эмильевича Мейерхольда, перевоплотившегося в Ивана Грозного. Я, конечно, не мог запомнить все детали игры Мейерхольда и оценить их «по-взрослому», не говоря уже о том, что не смог бы не только тогда, но даже и теперь проанализировать его игру, как это делают опытные театральные критики, но, судя по тому, как ярко и выпукло запомнилась мне сцена смерти Ивана Грозного, становится очевидно, что игра Мейерхольда была потрясающей. Мне и сейчас кажется, что я видел его игру сегодня или вчера, а не семьдесят лет тому назад.
Мейерхольд в тот памятный для многих тифлисцев день максимально, если можно так выразиться, перевоплотился в царя Ивана со всеми его противоречивыми чувствами, горькой скорбью последних минут жизни, глубоким разочарованием в верности и преданности своего любимого царедворца Бориса, отчаянием от политических неудач, уязвленной гордыней и сознанием своего бессилия восстановить былое величие. Сколько было злобного ехидства в его словах, обращенных к Борису Годунову:
Ты видел чародеев? Каков их был ответ? Зачем молчишь ты? Что ж ты не говоришь? ……………………………… Что ты так смотришь на меня? Как смеешь Ты так смотреть!И когда на эти дышащие угрозой слова последовал ответ Годунова, своим ледяным спокойствием оттенявший неслыханную дерзость: «Кириллин день еще не миновал», подтекстом которых была твердая уверенность в неминуемой смерти царя именно в этот день, до 12 часов ночи или, в крайнем случае, ровно в 12, Иван Грозный, потрясенный дерзким вызовом своего «верноподданного», не мог вымолвить ни одного слова. Разгневанный, задыхающийся от возмущения царь роняет свой скипетр. Глаза его делаются страшными от бессилия, более страшными, чем в минуты неудержимого гнева. Еще несколько секунд невероятного напряжения, еще несколько конвульсий – и в мертвой тишине затаившего дыхание театра раздается последний вздох владыки, убитого не пулей, а словами. Царь Иван Грозный умирает.
Этой ролью Мейерхольд как бы перевернул страницу истории русского театра. Трудно себе представить, что творилось в театре после окончания спектакля. Театральный Тифлис, который не так легко поддавался воодушевлению, так как был издавна избалован частыми гастролями блестящих актеров, стоя аплодировал Мейерхольду. Я тогда не делал никаких выводов из этих оваций, так как сам был в полузабытьи от восторга, но теперь я делаю вывод, что изумительная игра Мейерхольда потрясла не только еще не оперившегося юнца, но и маститых критиков и искушенных в театральном искусстве зрителей.
Вот при каких обстоятельствах я в первый раз с ним «познакомился».
Второе, уже настоящее, знакомство с ним состоялось в декабре 1917 года в Петрограде, в незабываемые дни становления советской власти. Не так уж много осталось живых свидетелей этих дней и событий, связанных с ними, поэтому, описывая это время, стараюсь, чтобы ни одна деталь не была упущена. Если бы моя встреча с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом произошла в обыкновенное, ничем не примечательное время, тогда не требовалось бы некоторых пояснений, без которых невозможно обойтись в настоящем случае.
Раскол среди интеллигенции, вызванный Октябрьской революцией, наметился еще задолго до ее наступления, точнее – после опубликования «Апрельских тезисов» В. И. Ленина. Уже тогда можно было приблизительно определить, кто из выдающихся представителей интеллигенции скорее эмигрирует, чем будет пытаться найти общий язык с большевиками, точно так же, как можно было предугадать, кому совесть подскажет идти с большевиками, несмотря даже на некоторые расхождения с ними во взглядах. И вот я почувствовал, что все мои небольшие силы и скромные способности я должен отдать делу, по моему мнению, в тот момент наиболее важному: привлечь на сторону советской власти ту часть интеллигенции, которая занимала колеблющуюся позицию. Я решил организовать митинг.
Прежде всего я обратился к А. В. Луначарскому, с которым встречался ежедневно, будучи в то время его секретарем. (В ту пору эта «должность» имела очень мало общего с «секретарством» в узком смысле этого слова.) Анатолий Васильевич горячо одобрил эту идею и согласился выступить с основным докладом на тему «Интеллигенция и советская власть». Он же посоветовал так и озаглавить предстоящий митинг.
Не буду описывать моих встреч и бесед, связанных с этим митингом, с А. М. Коллонтай, Александром Блоком, художником Петровым-Водкиным, Сергеем Есениным и др. Опишу только встречу и беседу с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом. Помню, что к нему я пришел сразу от Александра Блока с еще не остывшими впечатлениями от глубоко меня взволновавшей беседы об Октябрьской революции, о судьбах России и о странном непонимании исторического значения происходивших событий писателями, считавшимися еще недавно передовыми. Александр Блок тоже одобрил цель митинга и согласился на нем выступить. Находясь под впечатлением от длительной беседы с А. А. Блоком, я, конечно, не мог удержаться, чтобы не рассказать об этом Всеволоду Эмильевичу. Надо добавить, что с А. А. Блоком я познакомился в 1911 году, едва только начав свою литературную деятельность, а с Всеволодом Эмильевичем лично знаком еще не был.
Как только я поздоровался с ним, сразу вспомнил Ивана Грозного, 1903 год, Тифлис и тут же сказал, что, увидев его игру в двенадцать лет, запомнил ее на всю жизнь. Всеволод Эмильевич улыбнулся той улыбкой, которую два года спустя я изучил во всех ее замечательных деталях и которая в ту минуту была для меня загадкой, потому что за этой своеобразной улыбкой было слишком много неизвестного. Другими словами, я сразу не мог научиться «читать по улыбке» его истинные мысли. Всеволод Эмильевич, несмотря на свою искренность и прямоту, всегда казался мне несколько замкнутым.
Всеволод Эмильевич произвел на меня приятное впечатление с первой минуты знакомства. И у меня совершенно не было ощущения, что я только что с ним познакомился. Наоборот, мне казалось, я встречался с ним и раньше. Он не только очень внимательно выслушал мой рассказ о посещении Блока, но начал подробно расспрашивать о мельчайших деталях этой беседы. Чувствовалось, что он очень любит его и ценит. «Высоких фраз» тогда не умели говорить или, может быть, тогдашние «высокие фразы» вовсе не казались «высокими» потому, что они отражали рожденное только что. Горячие чувства, кипевшие в наших сердцах, едва-едва успевали оформляться в слова и фразы.
– Все мыслящие люди нашего времени, если они не отбросили компас своей совести, не могут не сочувствовать большевикам, – сказал мне Всеволод Эмильевич, резюмируя все, что я говорил, как бы невзначай о моей беседе с А. А. Блоком.
– Сейчас такой момент истории, – сказал он далее, – когда нельзя ссылаться на свои убеждения, что они мешают принять большевизм. Это глупость, это отговорка тех, которые понимают, что правда не на их стороне, но даже самим себе не хотят в этом признаться. Это не парадокс. Я знаю таких людей. – Потом, вдруг как бы «устав быть серьезным», он лукаво улыбнулся и спросил меня, понизив голос: – Скажите откровенно, кому пришла в голову эта мысль… насчет митинга… вам или Анатолию Васильевичу?
Я засмеялся:
– И Анатолию Васильевичу, и мне.
– Одновременно? – продолжал допытываться Всеволод Эмильевич, сощурив глаза.
– Если бы я был секретарем министра времен империи, я должен был бы ответить: «Конечно, министру», но так как я секретарь революционного наркома, то я вам сознаюсь: эта мысль зародилась у меня, но Анатолий Васильевич так горячо ее одобрил и так ее развил, что мне показалось, что она зародилась у нас одновременно.
– Вот этот ответ мне нравится, – засмеялся Всеволод Эмильевич.
Потом, как бы забыв о минутном балагурстве, он сказал серьезно и вдумчиво:
– Конечно, я приму участие в митинге, и мое имя вы можете поставить на афише, но только я советую вам, раз вы взялись за это дело, не ограничиваться одним митингом. Не обижайтесь, я гораздо старше, а следовательно, и опытнее вас. Одним ударом горы не сдвинешь. Надо организовать ряд больших и серьезных выступлений на тему «Интеллигенция и советская власть». И привлечь не только писателей, артистов и художников, но и ученых, и общественных деятелей, которые чувствуют и мыслят так же, как мы, а одним митингом вы не добьетесь желанной цели.
Я был немного сконфужен, так как, откровенно говоря, не заглядывал так далеко. Мне казалось, что организация даже одного митинга сдвинет ту «гору», о которой упомянул он. Но по молодости я не хотел сдавать свои позиции даже такому обаятельному собеседнику, каким был Мейерхольд, и ограничился обещанием «принять во внимание его совет».
Всеволод Эмильевич оказался пророком. Ряд митингов не состоялся по многим причинам, главной из которых был переезд советского правительства в начале марта 1918 года в Москву. Что касается первого митинга, то хотя и были развешены по всему городу афиши и он фактически состоялся в Доме армии и флота на Литейном проспекте во второй половине декабря 1917 года, но из-за страшной метели, бушевавшей в этот день в городе, и неопытности товарища, которому мы поручили функции администратора, большинство участников вечера не смогли приехать. Лично я с большим трудом добрался до Дома армии и флота к концу доклада А. В. Луначарского, после которого и выступал. То обстоятельство, что многие участники митинга не смогли добраться до здания Дома армии и флота, было использовано буржуазной печатью. Во многих газетах появились статьи, смысл которых сводился к тому, что фамилии участников митинга были поставлены на афишах «без их разрешения». Разумеется, если бы даже была прекрасная погода и опытный администратор позаботился бы о том, чтобы доставить на машинах всех участников митинга, буржуазная печать нашла бы другой способ опорочить это начинание.
После переезда советского правительства в Москву Всеволод Эмильевич остался в Петрограде в качестве зам. зав. ТЕО Наркомпроса. По делам службы он, как и А. В. Луначарский, часто приезжал в столицу. Во время его приездов я всегда с ним встречался. Из всех этих кратковременных встреч особенно ярко запомнилась одна, она состоялась в одном из литературных кафе, которых было в Москве в ту пору очень много. Мы сидели с Всеволодом Эмильевичем, рядом были писатели и артисты. И вот кто-то из них начал жаловаться на почти полное отсутствие транспорта.
– Невозможно посещать знакомых, живущих в других районах, – говорил один из собеседников. – Подумайте, ведь у некоторых все друзья и знакомые живут далеко. Как же быть? Это прямо ужас.
– Ужасного тут ничего нет, – сказал Мейерхольд, стараясь быть серьезным, хотя я чувствовал, что он начинает шутить.
– Как это нет ничего ужасного? Разве невозможность навестить своих друзей и близких нельзя назвать ужасным неудобством?
– А что же вам мешает их посещать? – спросил спокойно он.
– Как что мешает? Разве вы, Всеволод Эмильевич, не слышали моих слов? Я и мои друзья живем в разных районах города, а трамваи не ходят, извозчиков почти нет.
– Ну и что? – вполне серьезно продолжает Мейерхольд. – Если вы не можете посетить ваших друзей, то зайдите в любую квартиру, находящуюся поблизости. Ведь разговоры всюду одни и те же, разницы никакой. И вы можете легко представить, что говорите со своими знакомыми.
Чувствую, что все это гораздо слабее того, что говорил Всеволод Эмильевич, но помню ясно, что его шутливый разговор был приблизительно таким. Те, кто хорошо знали Мейерхольда и могут ясно представить его серьезное лицо и смеющиеся глаза, поймут лучше других, как звучали его слова и какая тонкая улыбка играла на губах. Те же, кто его никогда не видел, да простят мне, что я не сумел как следует передать его точных слов, и, зная о Мейерхольде по другим воспоминаниям, мысленно дополнят то, что я упустил.
Дальше мои воспоминания о Всеволоде Эмильевиче Мейерхольде становятся похожими на страницы, будто вырванные из приключенческого романа времен Гражданской войны.
Следующая встреча с Всеволодом Эмильевичем произошла при необычайных и для меня тяжелых обстоятельствах в одном из приморских городов России. В конце марта 1919 года я уехал из Москвы в Киев по командировке, получив назначение начальника оргбюро агитпоезда имени наркома Луначарского. В мае 1919 года нашими войсками был занят Крым, и моя командировка была продолжена и распространена на Крым. Недели через две после моего приезда в Симферополь банды Деникина оккупировали Крымский полуостров, и я оказался отрезанным от советской России. Благодаря паспорту, в котором было указано, что я уроженец Тифлиса, хотя и с большие трудом, но все же мне удалось добиться у коменданта Ялты разрешения «выехать на родину», и я выехал пароходом из Ялты в Батум. Все как будто шло благополучно: мне удалось вырваться из только что занятых Деникиным мест и избежать риска быть опознанным как сотрудник Луначарского. Но я попал из огня да в полымя: когда пароход приближался к Новороссийску, капитан оповестил пассажиров, едущих в Батум, что пропуска надо регистрировать. Сначала я думал, что это простая формальность, и в Новороссийске спокойно отправился в отдел пропусков, где и предъявил мой ялтинский пропуск. Взглянув на паспорт и обнаружив, что я призывного возраста, дежурный объяснил мне, что без визы воинского присутствия мой ялтинский пропуск теряет свою силу. Как это ни кажется теперь странным, но я хорошо помню, что виза воинского присутствия мне тоже показалась пустой формальностью. И я спокойно отправился по указанному адресу. В воинском присутствии обратился к первому попавшемуся на глаза писарю, сидевшему у окна. Он равнодушно взглянул на мой паспорт и пропуск и, позевывая, указал на самый дальний столик в углу.
– Приемом новобранцев ведает писарь Петров, ему и сдадите паспорт.
Тут я уже понял, что это далеко не простая формальность. И все же осторожно, опасаясь, как бы он сам не взял моего паспорта и не передал его по назначению, спросил:
– Простите, но вы упустили из виду, что я здесь проездом.
– А это все равно, проездом или заездом. Вы призывного возраста, и вам надо пройти комиссию. Вот если вас признают негодным, тогда и визу получите.
Я поблагодарил его, но советом не воспользовался. Пользуясь тем, что к нему кто-то подошел, быстро покинул воинское присутствие.
Положение было безвыходное. Пароход вечером отшвартовывался. Ехать в Батуми без визы я не могу. Но для меня так же ясно, что я не могу покорно сдать паспорт и превратиться в солдата белой армии. Около воинского присутствия я заметил довольно глубокую канаву. Как это ни нелепо, у меня явилась дикая мысль лечь в эту канаву, закрыть глаза и предоставить себя воле случая.
И вот в этот момент, как в хорошо рассчитанном на эффект романе, появилось избавление от всех бед и напастей. Я смотрю и не верю своим глазам.
Преодолевая небольшой подъем, по улице медленно идет Всеволод Эмильевич.
Мы увидели друг друга одновременно.
– Рюрик Ивнев? Что вы здесь делаете?
– Я не знаю, что мне делать! – воскликнул я радостно, поняв в эту секунду, что теперь можно и смеяться, и острить, что самое страшное уже позади.
Я ему объяснил, в чем дело. И даже не спросил, каким образом он сам очутился тут.
Уже потом я узнал, что Всеволод Эмильевич по предписанию врачей должен был выехать на лечение в Ялту. У него обострился туберкулез. Во время его пребывания в Ялте Крым был оккупирован белыми (это было в июне или в июле 1919 года), и Мейерхольд бежал на фелюге в Новороссийск, где находилась его старшая дочь Мария, жившая там со своим мужем. Но это бегство не спасло Всеволода Эмильевича от ареста, так как его тесная связь с большевиками была известна белогвардейцам. Всеволод Эмильевич был арестован и заключен в тюрьму 6 сентября 1919 года. Ему грозил расстрел, но, узнав об этом, композитор Михаил Фабианович Гнесин, находившийся в то время в Ростове, нашел какого-то «либерального» генерала, которого и уговорил «спасти Мейерхольда». Благодаря вмешательству этого генерала Мейерхольд был выпущен из тюрьмы «под наблюдение» разведывательных органов деникинского правительства. Об общественной деятельности и публичных выступлениях не могло быть и речи. Ему оставалось только одно: сидеть в Новороссийске и «ждать у моря погоды».
Наша встреча произошла в середине августа, примерно за месяц до его ареста. Всеволод Эмильевич, как будет видно из дальнейшего, буквально спас меня от участи, которая в это время грозила и ему (мое секретарство у А. В. Луначарского в период 1917–1919 годов и мои публицистические статьи в «Известиях» в 1918 году также не могли не привлечь ко мне внимания белогвардейцев). Я со страхом подумал, что, выйдя на крыльцо воинского присутствия двумя минутами позже, я так бы и не узнал, что здесь, почти рядом, живет Всеволод Эмильевич со своей семьей.
Мы продолжали путь по слегка подымавшейся вверх улице. Мейерхольд привел меня к себе, познакомил со своей женой Ольгой Михайловной и двумя дочками-подростками Татьяной и Ириной и сразу, на «семейном совете», поставил вопрос о том, как меня устроить. Среди бесконечных шуток и острот Всеволода Эмильевича, необычайной душевной теплоты Ольги Михайловны и юных улыбок Тани и Ирины я почувствовал себя, как странник, вернувшийся домой после долгих и опасных путешествий. Несмотря на своего рода опьянение от столь неожиданной и спасительной для меня встречи, мы все же пришли к трезвому решению: избежать призывной комиссии невозможно, но моя природная близорукость послужит гарантией, что в конце концов я получу желанную визу.
– Это первое, – сказал Всеволод Эмильевич. – Второе: вас надо немедленно устроить более комфортабельно. – Он, улыбаясь, окинул взглядом единственную комнату, в которой ютился с семьей. – Пойдем к моим друзьям Алперсам. Они вас, я уверен, приютят на это время. Квартира у них большая. Третье – вам надо взять свои вещи. Ведь пароход отходит через несколько часов. Надеюсь, подводы вам не потребуется? – В его умных глазах мелькнули лукавые огоньки.
– Да, – ответил я, – у меня всего один чемодан.
Ольга Михайловна не согласилась отпустить нас, пока не накормила обедом, Таня и Ирина пересмеивались, очень довольные, что на их глазах развертываются такие неожиданные события. В ту пору было любопытно наблюдать такое явление, как «выпадение из своей орбиты» лиц, знаменитых во времена империи. Застряв на некоторое время в Новороссийске, как и Всеволод Эмильевич, я не мог себе даже представить то, о чем узнал лишь впоследствии. Оказывается, когда мы были заняты вопросом моего отъезда в Батум, здесь же, буквально в двух шагах от нас, умирал от сыпного тифа знаменитый Пуришкевич, стяжавший черную славу своими погромными речами в Государственной думе и участием в убийстве другой «знаменитости» царского времени – старца Григория Распутина.
Не могли мы представить себе и того, что здесь, в Новороссийске, может быть, где-то неподалеку от нас, знаменитый черносотенец, бывший петроградский градоначальник генерал Климович кончал жизнь тем, с чего начинал знаменитый русский миллионер, – уличной продажей спичек, потому что его прошлое показалось одиозным даже оголтелому вождю белых – генералу Деникину, который «не посмел» принять его на службу, боясь «скомпрометировать» в глазах населения «свое движение».
В это же время на Серебровской улице, в единственной гостинице, мимо которой мы часто проходили, находился еще один знаменитый «осколок империи» – балерина Кшесинская, застрявшая в Новороссийске из-за болезни по дороге в Константинополь.
Но одного сановника империи, «выпавшего из своей орбиты», я увидел за несколько часов до моего отъезда в Батум. Это был тот самый сановник, про которого в мемуарах гр. Витте сказано: «Министр народного просвещения Петр Михайлович Кауфман-Туркестанский не мог примириться с полицейским режимом Столыпина и подал в отставку». Он шел по бульвару, ничего не замечая, кроме синей полоски моря, за которой угадывались очертания чужеземных берегов.
Мы с Всеволодом Эмильевичем отправились в город. Проходя мимо воинского присутствия, он ухмыльнулся:
– А вы знаете, Рюрик Ивнев, ваша мысль о том, чтобы лечь в канаву, была не столь уж безрассудной. Ведь это почти около моего дома. Все равно бы я вас увидел.
– И подобрали бы?
– Разумеется. Это доказывает, – продолжал он балагурить, – что всякая безрассудная мысль таит в себе зерно здравого смысла.
Но вот мы подходим к двухэтажному дому, в верхнем этаже которого жила семья Алперс. Как и ожидал Всеволод Эмильевич, меня приняли как родного, хотя только что познакомились. Семья Алперс состояла из Владимира Михайловича Алперса (он служил в каком-то кредитном обществе), его жены Людмилы Васильевны и двух сыновей – Бориса и Сергея – очень талантливых и славных юношей. Один из братьев сопровождал меня в порт и помог мне принести мой чемодан, оставшийся на пароходе.
Началась вторая глава моего «приключенческого романа». Беглец из белой Ялты застревает в белом Новороссийске, в семье, принявшей его, как родного сына. Семья Алперс не только приютила меня, но и приняла во мне самое живое участие. На другой день к нам пришел Всеволод Эмильевич и устроил второй, «расширенный», семейный совет, на котором обсуждалось, как приступить к исполнению намеченного вчера плана.
– Друзья, – полушутя-полусерьезно заговорил Всеволод Эмильевич, – сегодня утром, когда я проснулся, меня осенила мысль. Наш поэт говорит, что он близорук. Мы-то ему верим, но ведь призывная комиссия для того и существует, чтобы никому не верить, если нет бумажки с печатью. И потом, близорукость бывает разных степеней. По-моему, прежде чем сдавать свой паспорт писарю Петрову, – кажется, я верно назвал его фамилию, – подмигнул мне Всеволод Эмильевич, – надо пойти к окулисту и проверить зрение.
– Это легко сделать, – сказал Владимир Михайлович, – потому что я хорошо знаком с врачом-окулистом, который состоит членом врачебной комиссии.
– Ну вот и хорошо! – воскликнул Мейерхольд. – Сегодня же и отправимся к нему. То есть отправится к нему Ивнев…
– Я ему напишу записку, – сказал Владимир Михайлович, – чтобы он точно определил, подходит ли степень близорукости Рюрика Александровича к соответствующей статье о непригодности к военной службе.
– А если не подходит? – спросил я.
– Тогда выработаем другой план, – решительно произнес он. – Говорят, кто не рискует, тот не выигрывает. Нам нужно выиграть, не рискуя. Ну, впрочем, что там гадать! Владимир Михайлович, пишите записку.
Пока Алперс писал, Мейерхольд потирал руки и улыбался. Чувствовалось, что все это его по-настоящему волнует и забавляет.
Он довел меня до самых дверей докторского дома и, лукаво улыбаясь, удалился.
– Не забудьте – после врача сразу к нам.
Врач принял меня довольно холодно. Прочтя записку Алперса, отбросил ее в сторону и пробурчал что-то вроде: «Чудак! Будто я сам не знаю, что и как». Я почувствовал себя так, словно из пуховой постели попал прямо на льдину. Окулист делал все, что полагается: заставлял меня называть буквы таблицы, менял стекла, потом пустил в глаза по капле атропина. После этого еще раз проверил зрение и неожиданно изрек:
– Если они будут брать в солдаты таких, как вы, то полетят вверх тормашками. – И после небольшой паузы добавил: – Намного раньше положенного им срока.
Замороженный холодным приемом, я сидел перед ним, не раскрывая рта. Вдруг он улыбнулся, и на моих глазах произошло чудо: передо мной стоял совершенно другой человек.
– Сумасшедшее время, но не все же сошли с ума. Конечно, они вас не возьмут потому, что слушают меня, а я не имею права, у кого бы ни служил – у красных, у белых или зеленых, – нарушать своего врачебного долга. А если бы у вас было хорошее зрение, то никакие записки не помогли бы. Тэк-с… Впрочем, Владимир Михайлович – милейший человек, я его очень уважаю и ценю.
После паузы он добавил:
– Знаете что, не говорите ему об этом, а то он еще обидится. Вы, молодой человек, можете спокойно проходить комиссию. Я свое мнение вам уже сказал и то же самое скажу там. До свидания, не сердитесь на старика ворчуна.
Я простился с ним как со старым приятелем и помчался к Всеволоду Эмильевичу. Он меня встретил у своего дома.
– Я увидел из окна, что вы несетесь, как птица. Вижу, что все великолепно. Да и нетрудно угадать.
Я подробно рассказал ему и Ольге Михайловне про чудака доктора, который сам назвал себя «старым ворчуном».
Всеволод Эмильевич хохотал и потирал руки от удовольствия. Ему страшно понравился этот оригинальный старик.
– Обязательно надо с ним познакомиться. А как он сказал про деникинцев? Полетят вверх тормашками… до положенного им срока? Ай да старик! Молодец!
Выпытав все подробности моего визита к доктору, он вдруг обратился ко мне, принимая совершенно серьезный вид:
– Но, может быть, этот окулист хотел проверить вас? Может быть, он деникинец? Когда он сказал вам «полетят вверх тормашками», вы, надеюсь, не сказали что-нибудь вроде того, что туда им и дорога?
Но я уже научился «читать улыбки» Всеволода Эмильевича даже тогда, когда он «принимал серьезный вид». Поэтому ответил совершенно серьезно: «Нет, что вы, Всеволод Эмильевич, я, конечно, промолчал». Но Всеволод Эмильевич сразу разгадал, что на этот раз я все понял, и засмеялся своим заразительным смехом.
После обеда он проводил меня до воинского присутствия. Теперь я уже чувствовал себя хозяином положения и с легкостью игрока, уверенного в выигрыше, сдал свой паспорт столь страшному для меня еще вчера писарю Петрову и оформил все бумаги призывника.
Через неделю я должен был проходить комиссию. Накануне ее я провел почти целый день у Мейерхольда. Перед самым моим уходом домой к Алперсу он озабоченно спрашивает:
– А вы не подумали о том, что комиссия, забраковав вас по зрению, может признать годным к нестроевой, то есть сделать таким же писарем, как знакомый вам Петров?
Видя мою растерянность, рассмеялся:
– Не беспокойтесь, я узнал, как это все у них происходит, Борис Алперс помог. Вам мы ничего не говорили, пока не узнали наверняка. Вот что вам надлежит делать. После решения комиссии о вашей непригодности к строевой службе, до оформления так называемого «белого билета», один из писарей спросит вас о вашем образовании. Если вы чистосердечно ответите «университетское», то вас так же чистосердечно возьмут в писари. Если же вы им скажете, что окончили два или три класса гимназии, то вас пошлют ко всем чертям, то есть выдадут «белый билет».
– Дорогой Всеволод Эмильевич! Хорошо, что вы предупредили меня! Как это я сам не подумал об этом?!
– На то вы и поэт, – засмеялся Мейерхольд, – чтобы не думать о житейской прозе!
– Нет, я думаю о прозе. Посмотрите, на кого я похож! Мне надо прежде всего побриться и потом зайти к прачке за белым костюмом. Нельзя же появляться на комиссии в таком потрепанном виде.
– Да вы с ума сошли! – воскликнул Всеволод Эмильевич. Тон у него был совершенно серьезный, и я почувствовал, что он и не думает шутить. – Нет, Рюрик Ивнев, вы не только поэт, но вы еще и ребенок! О чем вы думаете? Зачем вам бриться?
– Как зачем? Это принято – бриться, я и бреюсь, а эти дни как-то не успел.
– Ну и благодарите небо, что не успели. Сейчас вы, к счастью, так обросли бородой, что не похожи на типичного интеллигента. Вы что, хотите предстать перед комиссией «во всей красе»? Они вас прямо в ОСВАГ[14] и зачислят: там тоже требуются интеллигенты.
– Хорошо, – улыбнулся я, – теперь все понятно. Я не буду бриться. Значит, и белый костюм отставить?
– Конечно, – засмеялся Всеволод Эмильевич. – Вот в этом и идите. Он не настолько грязен, чтобы оскорбить «высокое собрание», и не настолько чист, чтобы они заключили вас в свои объятия. Поймите раз и навсегда, что с завтрашнего дня и до окончания комиссии вы – деревенский парень, близорукий, косолапый, бестолковый, обуза для всякой воинской части. И вдобавок малограмотный, негодный в писари. Все. Иначе – прощай, Батум!
Признаюсь, что хотя я и послушался Всеволода Эмильевича и сделал, как он советовал, в душе считал, что он сгущает краски и – может быть, даже не сознавая этого, – продолжает балагурить. Но на другой день убедился, что если бы не послушался Всеволода Эмильевича, то провалил бы свой отъезд.
Я в призывную комиссию явился обросшим, в помятых белых брюках, в старой косоворотке и в сандалиях на босу ногу. Было такое ощущение, будто я должен сыграть роль, данную мне Мейерхольдом. Я волновался как настоящий актер перед выходом на сцену, но свою роль не провалил. Все прошло благополучно. Не обошлось без курьеза, который рассмешил Всеволода Эмильевича так, что все оставшиеся дни до моего отъезда в Батум он не мог без хохота вспоминать о нем. После решения комиссии, в которой заседал «мой окулист», о моем освобождении от воинской повинности я перешел «в ведение» очередного писаря. Передо мной сидел здоровенный детина, упитанный, с лоснящимися щеками и самоуверенными движениями.
– Якое образование? – спросил он небрежно, рассматривая мои бумаги.
– Два класса, – ответил я, опуская глаза, чтобы не встретиться с его взглядом.
– Маловато, – проговорил он надменно и крикнул другому писарю, через два стола от него: – Егоров! Принимай деревню! – И тут же, опасаясь моей бестолковости, снова обратился ко мне: – Ну, ступай, куда указано, первый и второй стол пропусти и подойди к третьему, не спутай.
Я пошел к Егорову. Маленький, изящный, подчеркнуто вежливый юноша с какой-то своеобразной почтительностью вручил мне оформленный им «белый билет» со словами: «Будьте здоровы-с». Виза на выезд была получена немедленно, пароход отходил через три дня. Эти дни я провел в семье Всеволода Эмильевича на даче в Мысхако, под Новороссийском. Они были сплошным праздником от сознания, что скоро я покину пределы Добрармии, и наслаждением от постоянного общения с обаятельным, умнейшим, остроумным и веселым, ставшим мне бесконечно милым и дорогим Всеволодом Эмильевичем.
Вот особенно запомнившиеся эпизоды этих трех дней в Мысхако.
К саду дачи, занимаемой Мейерхольдом и его семьей, примыкал сад, в котором было невероятное количество слив. Ветви одного из деревьев от тяжести плодов свешивались в сад Мейерхольда, очень бедный – в нем не было, кажется, ни одного фруктового дерева. Гуляя по нашему саду, мы невольно срывали эти чужие, но такие соблазнительные сливы. Наши рассуждения по поводу совершаемого отравляли всякое удовольствие, но удовольствие, хотя и отравленное, все же оставалось.
– Несколько слив, – говорил Всеволод Эмильевич, – конечно, можно сорвать без разрешения хозяина. Другое дело, если бы мы собрали два ведра да еще начали бы варить варенье, но так, проходя мимо, как бы случайно и немного, это, можно сказать, общепринято, в этом нет ничего предосудительного.
На другой день Всеволод Эмильевич во время прогулки по саду сказал:
– Я не знаю, может быть, это мне только показалось, но хозяин той дачи сегодня утром что-то сухо поздоровался со мной. Неужели он так жаден, что жалеет три-четыре сливы? А может быть, он против нарушения принципа частной собственности?
– Как грустно, что эти сливы все же чужие, а не наши, – сказал я.
– Но они тоже поступают неправильно. Они свешиваются в наш сад. Это все равно, как если бы сосед свесил свои ноги в нашу беседку.
– Конечно, сливы тоже виноваты, – говорю я.
Всеволод Эмильевич хитро улыбается.
– Нет, виноваты, конечно, не сливы, а хозяин.
– Эту золотистую сливу, – говорю я, – мне очень хочется сорвать, но мне кажется, что это будет не совсем удобно.
– Конечно, неудобно, – подтверждает Всеволод Эмильевич, – но, с другой стороны, это прямо смешно: такое изобилие и такая жадность, – это даже не смешно, а противно.
– Всеволод Эмильевич! А может быть, это вам только показалось, что хозяин сухо поклонился?
– Ну конечно, вероятно, показалось. Трудно допустить мысль, чтобы были люди, которые…
Я не могу удержаться от соблазна и срываю золотистую сливу. Всеволод Эмильевич хохочет и тоже срывает одну. Мы съедаем их с особенным удовольствием и потом, точно по молчаливому согласию, отходим в другую сторону, «от греха подальше».
Наконец наступает день моего отъезда. Так как в Мысхако я взял с собой всего несколько мелких туалетных вещиц, а основные вещи оставались у Алперсов, то с утра я начал собираться, чтобы идти в город. У меня не было ни маленького чемоданчика, ни несессера, их заменяла какая-то красная наволочка, в которую я и уложил мелкие вещи. Вдруг Всеволод Эмильевич делает испуганные глаза и говорит мне совершенно серьезно:
– Вы что, хотите себя погубить в последний день пребывания в лапах Деникина? Да ведь это открытый вызов – идти через весь город с красным флагом!
– Всеволод Эмильевич, дорогой, но ведь это же наволочка, а не флаг.
– Да, но издали она кажется флагом, и какой-нибудь ретивый часовой подстрелит вас.
Это была, конечно, шутка, взятая из неисчерпаемого запаса его выдумок, но свои шутки он любил доводить до конца. И вот через несколько минут при помощи Ольги Михайловны все мои вещи были переложены в белую наволочку, а красная конфискована Всеволодом Эмильевичем.
Я знал, что Мейерхольд переехал в Мысхако не столько для отдыха, сколько для того, чтобы «не мозолить глаза» белым, так как незадолго до этого о нем была напечатана «погромная» статья петроградского адвоката Бобрищева-Пушкина в каком-то белогвардейском листке. Эта статья-донос и привела вскоре к аресту Всеволода Эмильевича. В эти дни он в городе не показывался, поэтому мы простились в Мысхако. Помню, как он говорил с обычной шутливостью: «Ну, вот теперь – с белой наволочкой – у вас вид самый благонравный, теперь вы застрахованы, никто вас не тронет». Это было в сентябре 1919-го. А в ноябре 1920-го, когда я наконец смог вернуться из Грузии в Москву и зашел к Мейерхольду, то после оживленных воспоминаний о «новороссийских делах» и «вилле Мысхако», в которых принимала участие и Ольга Михайловна, Всеволод Эмильевич перед моим уходом попросил меня подождать минуту, вышел из комнаты и вернулся, держа в руке мою красную наволочку. Да, Всеволод Эмильевич любил доводить свои шутки до конца.
Когда я писал воспоминания о нем, я часто думал, как грустно, что моя скитальческая жизнь помешала мне продолжить наше знакомство, и жалел, что не был если не участником, то хотя бы свидетелем работы Мейерхольда над оригинальными и интересными постановками, которые прославили его как великого новатора и гениального художника. Мне становилось неловко, что я пытаюсь выступить со своими воспоминаниями наряду с моими современниками, которые рассказали о нем так много интересного и, главное, относящегося к сущности его творчества. Но когда я подумал, что благодаря необычайному стечению обстоятельств Всеволод Эмильевич, лишенный возможности на территории белых заниматься «своим делом», в течение целого месяца был занят только мной, я понял: на мою долю выпало большое счастье. Я читал, что когда Гете было 80 лет, на чей-то вопрос, сколько времени за всю свою жизнь он был счастлив, он ответил: «Два часа».
Я оказался счастливее Гете, потому что был счастлив целый месяц, ибо как бы по-разному мы ни расценивали понятие «счастье», но месяц, проведенный с Всеволодом Эмильевичем, когда его никто не «разрывал на части», когда его время не было лимитировано, а принадлежало всецело мне, я не могу не назвать настоящим счастьем. В сущности говоря, весь этот месяц Всеволод Эмильевич был режиссером моей жизни. Я, как послушный актер, следовал его советам и указаниям и впитывал в себя его тончайший юмор, его «постановочные замыслы» и даже его «костюмерные наброски». И окончательно понял: пусть мне не повезло, что я встречался с ним так мало, но мне невероятно повезло, что я провел с ним целый месяц не в разгар его работы в окружении бесчисленного количества людей, а где-то в оторванном от мира Новороссийске, как бы в изгнании, где он томился от бездействия и где я мог встречаться с ним ежедневно и наслаждаться общением, ибо гений остается гением и в часы отдыха, и в часы вынужденного бездействия.
И если я сумел дать хотя бы бледное изображение подлинного Мейерхольда вне его обычных занятий, Мейерхольда, томящегося в плену у белых, но не теряющего бодрости духа, то я достиг своей цели.
Осип Мандельштам
Мандельштам неотделим от старого Петербурга. Там он родился, вырос, там стал поэтом. Многие не рождаются поэтами, а ими становятся. А Мандельштам родился поэтом. Никем другим он не мог стать.
Когда я познакомился с ним в 1913 году на одном из литературных вечеров, он сразу привлек мое внимание. Не все поэты, даже большие, нас привлекают. Но стихи, которые он тогда читал, производили впечатление. Как поэта я полюбил его сразу, но к общению с ним как с человеком меня не влекло. Первое время отпугивала его замкнутость. Мне казалось тогда, что он рисуется недоступностью. Не обладая привлекательной наружностью и хорошо сознавая это, он входил в салоны с высоко поднятой головой, как бы желая показать, что ему безразлично, какое впечатление он производит на публику. Он нес в аудиторию не свою красоту, а стихи, затмевая все внешние красоты и красивости, выделялся своеобразной манерой читать даже среди таких поэтов, как Николай Гумилев и Анна Ахматова.
Но публика никогда не состоит из одних ценителей прекрасного в поэзии, и чем ниже культура отдельных слушателей, тем больше внимания они обращали на его оттопыренные уши и карикатурно вздернутую голову.
Он не был салонным поэтом, очаровывающим публику прежде всего обаятельной улыбкой, а уже потом стихами, но пользовался успехом. Его стихи как бы отстраняли на второй план автора, говорили сами за себя.
Как поэт Мандельштам мне понятен и ясен с первых встреч в Петербурге. Как человека я узнал его ближе в 1919 году в Харькове, Киеве и в Москве – в тридцатые годы, когда бывал у него дома. Осип Эмильевич был простым, веселым, доброжелательным и удивительно обаятельным. Он любил острить, балагурить. А когда бывал в особо хорошем настроении – напоминал расшалившегося ребенка. В нем не было и тени надменности, высокомерия и той глупой напыщенности, которая свойственна бездарностям и дуракам, случайно занявшим высокое положение. К людям этого рода он был беспощаден. Даже небольшой штрих пошлости или ходульности вызывал в нем брезгливую усмешку. Все фальшивое, неестественное, претенциозное отталкивало его и отвращало. Он был очень скуп на улыбки и ласковые слова, но тем сильнее и теплее воспринимались они, ибо становилось ясно, что это не призывная манера общения, как это часто бывает у хорошо воспитанных людей, а нечто более весомое, идущее из глубины души.
Жизнь Мандельштама складывалась так, что редко он мог спокойно работать и не думать о куске хлеба, но даже в самые черные дни не опускался до брюзжания. Когда судьба хватала его за горло, он волновался и негодовал. И гнев его всегда был великолепен.
Один раз я попытался ему объяснить, что бывают времена, когда поэты не могут существовать на одни гонорары и должны находить себе параллельные работы – чтение лекций, ведение литературных кружков или сотрудничество в журналах и газетах в качестве корреспондентов и рецензентов. Мандельштам воскликнул: «О работе не может быть и речи!» Я привожу дословно эту фразу Осипа Эмильевича, заранее уверенный, что читатель не поймет ее превратно, ибо Мандельштам работал как вол. Над своими стихами он трудился без устали, хотя у него была не менее интересная проза, оригинальные исследования. Он был полон замыслов. Но когда высокому творческому напряжению мешала нужда, им овладевал неистовый гнев. Осудить его за это могут только невежды.
О том, что происходило с поэтом в те периоды времени, когда мы находились в разных городах, я знаю по рассказам друзей и знакомых. Не буду всего пересказывать: во-первых, не видел своими глазами, а во-вторых, об этом написано и частично опубликовано в разных мемуарах. Эти отрезки времени можно назвать скитаниями Мандельштама в Харькове (1919) и Киеве. Пути наши пересеклись еще раз в Батуме (1922).
Известный по «Роману без вранья» Анатолия Мариенгофа Григорий Колобов, ездивший в двадцатые годы по всей нашей стране в служебном вагоне НКПС, оказался в Тифлисе в бытность мою там. Он предложил мне совершить поездку в его вагоне в Кутаиси, Батуме и Боржоме. Я согласился. И вот на вокзале в Батуме неожиданно встречаю Мандельштама, которого судьба забросила на время в этот чудесный город на берегу моря. Из моих расспросов выяснилось, что он страшно бедствует, так как по своему обыкновению приехал туда случайно и, само собой разумеется, никакой определенной работы не имеет. Узнав, что я приехал в служебном вагоне Колобова, он достал золотую цепочку и спросил, не купит ли ее Колобов. Я ответил, что сомневаюсь, так как он еще недавно жаловался на свое безденежье.
– Жаль, – ответил Мандельштам, – я ведь занялся здесь комиссионерством, другого выхода нет, иначе я бы умер от голода.
Я не удивлялся – было бы нелепо измерять поступки Мандельштама общими мерками. Я был тоже стеснен в средствах, но немного помог ему и посоветовал все же найти какую-нибудь временную работу.
– Здесь нет и не может быть ничего подходящего, – ответил он довольно спокойно.
Примирившись с этой участью, он на все махнул рукой. Что я мог ответить? Мне стало невыносимо грустно от сознания, что такой поэт оказался в столь тяжелом положении. А вскоре я встретил его в Тифлисе. К счастью, положение его на сей раз не было столь катастрофическим.
«Нужно ли обо всем этом вспоминать?» – подумал я сейчас и ответил самому себе: утаивать какой-нибудь нелепый и глупый случай из жизни поэта – значит не верить в него. Это во-первых. Во-вторых, «батумская эпопея» Мандельштама может скорее унизить всех нас, знавших и не знавших поэта, чем его самого, ибо мы допустили его до такой большой нужды. А ведь надо было кричать на всех углах, что Мандельштама нужно спасать от бедности любой ценой, чтобы не приходилось потом краснеть и проклинать свое равнодушие.
Позволю себе один раз на протяжении всех моих воспоминаний изменить своему правилу описывать только то, что я видел своими глазами, и рассказать о случае, поведанном мне одним из его друзей. Как-то (не помню, в какой точно из приездов Мандельштама в Тифлис) он поссорился с руководством Союза писателей Грузии и покинул город, демонстративно пройдя пешком к вокзалу по всему проспекту Руставели с котомкой на плечах, еще выше, чем обыкновенно, подняв голову, в сопровождении своей Наденьки, державшей в руках нехитрый багаж. Публика удивленно провожала глазами их скорбное шествие, напоминающее уход пророка из нечестивого города. Со стороны это было смешно, а по-настоящему – бесконечно грустно и страшно. Но жизнь есть жизнь. И Мандельштаму никто не мог помочь, даже друзья, которые его искренне ценили и верили в огромный поэтический талант.
Не помню точно, в какое время, очевидно, в период, когда жил в наемных комнатах, он ожидал от горжилуправления обещанной ему квартиры. Утомленный вечными скитаниями, он был похож на ребенка, который ждет обещанного подарка. Бюрократический механизм работал медленно, и это приводило его в страшное возбуждение. Когда в ответ на посещение управления или на телефонный звонок ему пообещали что-то реальное и даже назвали определенный срок, он встретил меня радостно взволнованным.
– Ну вот, наконец я могу вас обрадовать. Через две недели мы вздохнем с Наденькой свободнее. У нас будет своя квартира. А сейчас она приготовит чудесный плов, у нас много риса. Все идет хорошо. И вообще мы многого недооцениваем: так привыкли, что государство предоставляет нам совершенно бесплатно жилище, за которое за границей платят большие деньги, что не замечаем этого и требуем все больше и больше благ. Теперь я прочту вам мои стихи:
От легкой жизни мы сошли с ума: С утра вино, а вечером похмелье. Как удержать напрасное веселье, Румянец твой, о нежная чума! В пожатье рук мучительный обряд, На улицах ночные поцелуи, Когда речные тяжелеют струи И фонари, как факелы, горят. Мы смерти ждем, как сказочного волка, Но я боюсь, что раньше всех умрет Тот, у кого тревожно-красный рот И на глаза спадающая челка.Осипу Мандельштаму я посвятил свой сонет «Белая ночь»:
Боюсь смотреть в окно. Дрожу как в лихорадке. Сквозь ткань тяжелую мне виден блеск лучей, Такой пронзительный, как хмарь больных ночей… И я лежу, томлюсь, прижавшися к кроватке. Минуты яростны, мучительны, некратки. А бледно-желтый свет, как отблеск от свечей, Плывет и давит мозг… Сомкнуть не даст очей. Беру из ящика бесцветные облатки. И, будто сквозь туман, далекий, прошлый сон… Луга зеленые напевных колоколен. И чей-то милый зов, и чей-то тихий стон. И взгляд очей моих молитвенно безволен… Но ночь прошла уже. Я снова пробужден. А может быть, все сон, а я тоскою болен?В тот вечер я прочитал его Осипу Эмильевичу. И долго еще звучали наши стихи, единственным слушателем которых была его Наденька. Это был один из лучших наших вечеров.
Через две недели прихожу к Мандельштаму и нахожу его расстроенным.
– Вы понимаете, что они творят с нами! Я только что вернулся оттуда. Вместо реальных ключей от квартиры получил тысячу словесных обещаний. Теперь они не называют даже срока. Это не только безобразие, это – издевательство! Я не могу так жить! Я напишу в Моссовет. Я не могу довольствоваться только небом, мне надо, чтобы над моей головой была крыша.
Я не знал, что ответить и как утешить его. Слов не было, но если бы они даже и нашлись, это вряд ли могло смягчить его гнев. Одна Наденька умела его успокаивать, и она это сделала. Судьба играла им, как кошка играет мышью, редко доставляя дни полного покоя и удовлетворенности, когда он мог не думать о куске хлеба. Нужда, по выражению Бориса Пастернака, протягивала пять пальцев костлявых рук к самым глазам, и когда ему удавалось хоть немного отодвинуть эти пальцы, он бывал доволен, не мечтая о том, чтобы отодвинуть их окончательно. Это сравнение я применил к Мандельштаму, но образность его принадлежит Борису Пастернаку, когда он объяснял мне свое собственное материальное положение, осложненное тем, что, несмотря на большие гонорары, получаемые от театров за шедшие в тот период пьесы Шекспира, которые он переводил, ему приходилось содержать большую часть многочисленной родни.
Рассказывают, будто Мандельштам, находясь в бедственном положении, пришел однажды в Литфонд и начал выспрашивать у директора этого учреждения, какую сумму обычно ассигнуют на похороны писателя. Директор, чуя неладное, начал отшучиваться и наконец спросил Осипа Эмильевича, почему его это так интересует.
– Это же не секрет, – настаивал поэт, – назовите мне только сумму.
– Ну, раз вы так просите, – сдался наконец директор, – извольте… – И назвал сумму.
Тогда Мандельштам якобы сказал:
– Тогда я вам пишу расписку, что в случае моей смерти не буду требовать денег, а эту сумму вы выдайте мне сейчас.
Может быть, Осип Эмильевич этого и не говорил, но это так похоже на него, что можно верить.
У него не было ни мелких радостей, ни мелких бед. Ему предназначено было иное: высокое блаженство творчества и бездонная трагедия жизни. В нем была какая-то сверхъестественная чистота души и подсознательное стремление принести себя в жертву. Это неумолимо толкало его к трагическому концу.
Внешне Мандельштам мог казаться иногда неопрятным. Его жена и верный спутник жизни Наденька, как вслед за ним называли ее друзья Осипа Эмильевича, тщательно осматривала его костюм перед выходом из дома, вытряхивала пылинки табака из карманов, поправляла сползавший набок галстук; иногда обнаруживала крошки хлеба, прилипшие к жилету. Но несмотря на это, он производил впечатление большей чистоплотности, чем все эти разутюженные и вылощенные крахмальные молодые люди и поэты, наводнявшие петербургские салоны.
В годы Гражданской войны в Киеве, в вестибюле гостиницы «Континенталь», ко мне подошел Осип Мандельштам. В руках у него газета. Он жует бутерброд и радостно сообщает последнюю новость:
– Наши войска отвоевывают Крым. Дорога на курорты открыта. Идемте в кафе, обсудим поездку.
Зал переполнен. Кое-как устраиваемся на краю стола. Молодой человек, узнавший Мандельштама, шепчет что-то девушке, и они торопятся закончить свой завтрак, чтобы уступить нам место.
– В Крыму теперь хорошо, – улыбается Мандельштам. – В Киеве больше делать нечего.
Молодой человек обращается к поэту:
– Простите, Осип Эмильевич, но для въезда в Крым нужен пропуск военного коменданта Скрыпника. И только его.
Мандельштам, откидывая голову, восклицает:
– Боже мой! Но ведь мы же не военные.
Молодой человек улыбается, вероятно представив Мандельштама в военной форме.
– И тем не менее пропуск выдается только Скрыпником.
– Что же нам делать? – упавшим голосом спрашивает поэт.
– Обратиться к Скрыпнику. Говорят, он любит литературу.
Мандельштам смотрит на него удивленно.
– Вы – поэт?
– Нет, но я не пропускал ни одного литературного вечера в Петрограде и видел всех поэтов.
Осип Эмильевич так занят мыслью о поездке на курорт, что не задерживает дальнейшими расспросами случайного собеседника.
– Тогда продумаем визит к Скрыпнику.
– Надо поговорить с Георгием Шенгели, – посоветовал я, – он имеет очень солидный вид и красноречиво говорит.
– Да, да, Шенгели, – обрадовался Мандельштам. – Прекрасная идея – привлечь к поездке Георгия.
– Тем более что он мечтает поселиться в Крыму.
В тот же день мы повидались с Шенгели, и он обещал к завтрашнему дню подготовить докладную записку «План культработы в освобожденном Крыму». В ней говорилось, что мы наладим эту работу. Мы и сами начали верить, что без нас красный Крым не сможет сделаться по-настоящему красным.
Через два дня мы были у военного коменданта.
Скрыпник принял нас учтиво, но холодно. Шенгели изложил ему план будущей культработы в Крыму, подчеркивая важность этого мероприятия ввиду того, что Крым долгое время был оторван от советской России. Там, особенно теперь, как воздух необходимы лекции и доклады по теории искусства, теории прозы и поэзии, а также театра и современной драматургии. Необходимо ознакомить рабочих и крестьян Крыма с классиками и современными поэтами России и Запада, с живописью, скульптурой, музыкой нашей родины и других стран.
Скрыпник слушал внимательно, и это настраивало меня и Мандельштама, как прелюдия, на вежливый отказ. Я на всякий случай взял с собой телеграмму А. В. Луначарского, пролонгирующую мою командировку в Крым. Наконец Шенгели умолкает. Наступает мертвая тишина. Я чувствую, как трещат швы нашей поездки. Вдруг лицо Скрыпника преображается. От холодной вежливости не остается и следа. Он смеется. Перед нами не комендант, а простой веселый парень. Шенгели ежится, чувствуя что-то неладное.
– Поэты захотели моря и загорелых баб, – говорит Скрыпник, – ну что же, поезжайте. – Он нажимает кнопку звонка. Входит адъютант.
Приказ коменданта лаконичен:
– Три пропуска в Крым. – Он приподнимается и жмет нам руки. В глазах его все еще не гаснут веселые искорки.
По дороге в «Континенталь» Мандельштам говорит Георгию Шенгели:
– Ваш доклад великолепен. Возьмите его с собой в Крым. Там он пригодится. Ведь не все же такие ценители литературы, как Скрыпник.
При встречах с Мандельштамом мне всегда казалось, что его путеводная звезда находится не в небе, а в его сердце, и оттуда испускает свои лучи, не всеми видимые, но ощущаемые.
Летом 1930 года режиссер Пудовкин уезжал за границу и уступил мне на несколько месяцев свою квартиру в доме на углу Тверской улицы и площади Маяковского. Сюда ко мне часто наведывался Осип Мандельштам, иногда один, иногда со своей Наденькой. В то лето он был каким-то особенно домашним и уютным. Помню, как его забавлял невероятно большой шкаф, похожий на будку. Он был сделан по заказу Пудовкина. Когда Мандельштам пришел на эту квартиру в первый раз, он сразу обратил внимание на странное сооружение и, подойдя к дверкам, обитым, как и весь шкаф, какой-то причудливой материей, спросил:
– У вас там кто-нибудь спрятан?
Говорил он совершенно серьезно. Но я сразу понял, что он шутит. Я засмеялся и ответил в тон:
– Но кого же я должен прятать?
– Не знаю, – ответил Мандельштам, – но такой шкаф, очевидно, более всего приспособлен для прятания людей, но никак не вещей.
– Может, там кого-нибудь и прятали, но мне прятать некого.
– Но ведь это надо придумать! – не унимался поэт. – Это, собственно, комната в комнате.
– Но там нет дверей и окон.
– Вот это и удивительно. Комната без дверей и окон. – Он дотронулся до створок. – Да они и не заперты. Можно заглянуть?
Я знал, что он пуст. Об этом меня предупредил Пудовкин.
– Пожалуйста, – отвечаю.
Мандельштам заглянул в шкаф.
– Ну вот видите, – продолжал он, улыбаясь, – я вам говорил, что это не шкаф, а комната. Туда действительно можно прятать людей. Об этом шкафе можно написать повесть.
Публичные выступления Мандельштама всегда пользовались успехом. Он покорял аудиторию какой-то особенной наэлектризованностью. Читал он, сильно скандируя, с пафосом, который чрезвычайно шел ему. Как у Блока, Ахматовой, Есенина, Маяковского, у него была своя особенная манера чтения. Если бы он прочел свои стихи измененным голосом из другой комнаты, то и тогда можно было бы безошибочно определить, что это читает Мандельштам. В салонах он менее охотно, но все же иногда соглашался прочесть одно или два стихотворения. Но при случайной встрече среди малознакомых людей просьба кого-нибудь из присутствующих прочесть стихи вызывала у него гнев.
Однажды он так вскипел, что закричал:
– Поэзия – это профессия. Почему, если приходит в гости часовщик, его не просят исправлять часы, если приходит сапожник – ему не суют туфли, а портному не заказывают костюм? А когда в гости приходит поэт – обязательно просят читать!
При встречах с поэтами, которых он любил или находил заслуживающими внимания, и если он знал, что они сами любят и ценят его, не дожидаясь их просьбы, с большим удовольствием читал свои стихи. Так же охотно он читал их и не поэтам, а людям, любящим поэзию. Что касается чужих стихов, то у него была особенная манера. Если ему по-настоящему нравились чьи-нибудь стихи или хотя бы несколько строф или даже строк, – он приходил в такой восторг, что видавшие его в первый раз могли даже усомниться в искренности этого восхищения, ибо такое восторженное отношение к чужим стихам не было частым у поэтов. Но те, кто знал Мандельштама хорошо, прекрасно понимали, что восторг этот искренний. В таких случаях он радовался так, будто сам написал эти стихи и очень ими доволен.
Единственным поэтом, у которого с Мандельштамом было что-то общее, был Велимир Хлебников: та же максимальная отдаленность от общепризнанности, те же внезапные порывы и решения, та же святая беспомощность. Оба они не были прилажены к любой «общественной машине». Напрасно некоторые западные журналисты пытаются направить острие трагедии Мандельштама против советского общества. Я глубоко убежден, что это трагедия индивидуальности, а не общественности. В его натуре было слишком много взрывчатых веществ, и они взорвались бы в любой обстановке, при любых обстоятельствах, при любом общественном порядке. То же самое можно сказать и о Хлебникове, но Велимир для западных журналистов не подходит – он умер от сыпного тифа в 1922 году.
Мандельштам неоспоримо является великим поэтом нашей эпохи. Его стихи нужны были не петербургским салонам, они дороги и необходимы нашему поколению и будут так же дороги будущим поколениям читателей.
В Мандельштаме кроме стихов больше всего ценна кристальная чистота его души. Духовная чистота как бы выпирала из всех пор его организма. Казалось, что там, в глубине ее, вечно журчал прозрачный ручеек и что он так защищен природой, что в него не может просочиться ни одна мутная струя из посторонних источников. Он всегда был особенным человеком, к которому нельзя применять обычных мерок. Есть поэты, которые остаются людьми, ничуть не отличимыми от других. Таких – большинство. Осип Мандельштам был только поэтом. Все другое, кроме поэзии, было вытравлено из него. Он был поэтом, в котором каждая буква этого слова была большой. Весь мир он воспринимал сквозь призму своего поэтического «я».
Его нельзя было не любить, как нельзя не любить ребенка, смотрящего на нас своими еще не замутненными жизнью глазами. И он действительно был большим ребенком и большим, ни с кем не сравнимым поэтом, даже среди несравнимых. Про некоторых людей говорят – «комок нервов». Про Мандельштама можно сказать – «комок стихов». Большинство глубоко эмоциональных людей, при всей их привлекательности, вскоре нас утомляют. Мандельштам не утомлял, а успокаивал. Он всегда был самим собой и никого не напоминал, даже отдаленно. Он был уникальной личностью. И это несмотря на то, что внешне он ничем не отличался от других, когда разговаривал, спорил или читал стихи. Мне иногда кажется, что во всем мире не было и не могло быть похожего на него человека. И не было такого поэта, с которым его можно было бы сравнить.
Осип Мандельштам не мог войти безболезненно ни в какую эпоху и ни из какой эпохи не мог выйти безболезненно, потому что сам был эпохой, той эпохой, которая грезится нам в редкие минуты, когда мы бываем самими собой, когда мы возвышаемся над всеми условностями и как бы выходим из своего собственного тела. Какое счастье знать, что такой человек мог появиться, вернее, пролететь над нами метеором. Опускаются руки. Делается больно и за себя, и за всех, кто не мог отстранить железного меча судьбы, разрубившего нашу кровную связь с большим неповторимым поэтом и большим святым ребенком, оставленным нами на улице в сутолоке скрежещущих трамваев…
Александр Вертинский
Как ни странно, но в начале «карьеры» Александра Вертинского, когда все мои сверстники и знакомые им восхищались, я был совершенно равнодушен, воспринимая его манеру петь и подавать себя на эстраде как кривляние. А в 1918 году в Москве он выступал в кафе «Музыкальная табакерка» и произвел на меня тягостное впечатление. Вскоре, как я узнал из газет, он эмигрировал.
От соотечественников, приезжавших из-за границы, мне стало известно, что он разъезжает по всему свету и имеет большой успех.
Шли годы. Одни имена сменялись другими, и Вертинского почти забыли. Вдруг, в самом конце Отечественной войны, когда разгром гитлеровской Германии был уже очевиден, столицу Грузии, где я находился, потрясла настоящая сенсация: Сталин разрешил Вертинскому вернуться на Родину. Стало известно, что он приехал в Тбилиси.
Люди, слышавшие певца в молодости и знавшие, как отрицательно наша пресса относилась к его репертуару, были уверены, что концерты его пройдут не по главным сценам, а где-нибудь на окраинах. И вдруг – новая сенсация! Многие не верили своим глазам. Первый же концерт, судя по афишам, должен был состояться в самом центре города в клубе Комитета госбезопасности.
Мне было интересно увидеть Вертинского на эстраде спустя три десятилетия. Я купил билет на концерт, так как продажа была свободной. Меня поразило, что, несмотря на годы, Вертинский сохранил молодость. Это чувствовалось по его голосу, движениям, жестам. Руки актера «душевно» разговаривали с людьми. Время от времени я бросал пристальные взгляды на разношерстную публику, видя, с какой растерянностью некоторые слушают певца, имя которого совсем еще недавно было одиозным. Но успех концерта был потрясающим. Бурные аплодисменты напомнили мне знаменательный вечер в Политехническом музее после возвращения Есенина из-за границы.
Вскоре по своим литературным делам я поехал в Баку и остановился в гостинице «Интурист». Мой номер на втором этаже оказался соседним с номером Вертинского. Об этом я узнал от официанта, который сообщил, что товарищ Вертинский просит меня поужинать с ним. Мы не были знакомы лично, но, конечно, до революции знали друг о друге. Поэтому меня его приглашение не удивило, смутило то обстоятельство, что на подносе официанта помимо двух приборов я увидел две бутылки коньяка.
Сказал официанту:
– Я сейчас приду, но передайте Александру Ивановичу, что я не пью.
Он улыбнулся и произнес:
– Это ваше дело.
Было бы приятнее встретиться с певцом во внеконьячной зоне. Делать, однако, было нечего, и я пошел. Мы поздоровались и даже поцеловались. Я предупредил, что с удовольствием разделю компанию, но заменю коньяк боржоми. Александр Иванович засмеялся и ответил:
– Ну, это мы посмотрим.
Мы разговорились.
Я был удивлен, что он в курсе литературных событий, происходивших в России в годы его отсутствия.
В этот вечер наша встреча была непродолжительной, так как к утру я должен был закончить просмотр корректуры, о чем сразу предупредил певца. Александр Иванович был огорчен, но вдруг обрадовался:
– В таком случае завтра вы мой пленник! День проведем вместе, а вечером я позову вас на свой концерт в авиационный клуб.
День с Вертинским я провести не смог, так как был все время в издательстве, но зато вечером мы поехали в Мардакяны.
В клубе не оказалось ни одного офицера, были только солдаты. Но я поразился, как внимательно и любовно слушали они его задушевные песни, а когда он спел про гимназисток, которых в 1917 году родители увезли за границу и там не смогли обеспечить, и девочки оказались в публичном доме, у многих солдат я увидел слезы. А через некоторое время услышал, как один воин, сидевший рядом, говорил соседу:
– Посмотри на его руки!
В это время Вертинский исполнял свою замечательную песню «Маленькая балерина». Когда я услышал эти слова, понял, как несправедливо считают многие из нас, что понимать тонкости искусства – удел избранных. Я оглянулся и увидел, что не один мой сосед, а буквально все были взволнованы.
После концерта мы вернулись в гостиницу, и Вертинский уговорил меня зайти к нему в номер хотя бы на 15 минут. Я не знаю, когда он успел заказать коньяк, но едва мы вошли, как появился официант с двумя приборами и двумя бутылками. Я вздохнул и подумал, что за такой чудесный вечер можно заплатить усталостью, но шепнул официанту:
– Мне боржом.
Конечно, одну рюмочку коньяка я должен был выпить, чтобы не обидеть певца. В это время пришел официант с боржоми.
Вертинский, не обращая внимания на воду, сказал:
– Голубчик, вы вовремя пришли. Сегодня я уже не смогу заснуть.
Он вынул из кармана массивные золотые часы, посмотрел и сказал официанту:
– Вы скоро пойдете спать, поэтому принесите мне еще две бутылки коньяка.
Я подумал: «Ах, попалась птичка в сети»!
Вертинский выпил сразу несколько рюмок.
– Дорогой Рюрик! Выпьем «на ты». Это мы должны были сделать еще в шестнадцатом году. Я тебя прошу об этом, потому что твои стихи я давно люблю. Ты знаешь, – сказал он, продолжая время от времени наливать себе коньяк, – в Париже я выступал перед тремя королями. – Он взял гитару и негромко запел:
Мы – осенние листья, нас бурей сорвало, Нас все гонят и гонят ветров табуны. Кто же нас успокоит, бесконечно усталых, Кто укажет нам путь в это царство Весны?..– Меня приглашали банкиры, осыпали золотом, но я не всегда соглашался к ним приезжать. В Сан-Франциско после концерта ко мне подошла пожилая женщина, преподнесла огромный букет и сказала:
– Это от меня и моих девочек. Они все со мной здесь и восхищены вашими песнями. Вы можете приезжать к нам и брать любую из них бесплатно.
– Я к ним, конечно, не пошел. Но было бы неблагодарно не оценить их восхищения, а потом, скажу откровенно, я им обязан многим, ибо моя песенка о гимназистках, которых увезли в семнадцатом году, принесла мне большую популярность, к тому же две из них были этими гимназистками. – Он устало откинулся в кресле, посмотрел вдаль, а потом тихо сказал: – Прочти что-нибудь.
И я начал читать стихи:
Слова твои, как горячие плети, Жгут меня на позорном столбе, А я, позабыв обо всем на свете, Христову любовь несу тебе. О, я знаю, что во Христе мы – братья, Как голубь трепещет рука в руке, Но тогда откуда эти проклятья И смертельный знак на моем виске? Эти чувства, что люди глухонемые, Их душ никогда никому не понять. Ты бичуешь меня за грехи чужие, А я и твои готов принять.В это время раздался стук и вошел официант:
– Товарища Ивнева просят.
Я спросил удивленно:
– Кто?
Он посмотрел на меня и, так как в этот момент Вертинский заснул, сказал:
– Я думал, что он не уснет, и пришел вас выручить.
На другой день ко мне подошел этот же официант:
– Товарищ Вертинский, узнав, что вы сегодня утром получили телеграмму из Москвы и в 12 часов ночи улетаете, просил меня попросить у вас разрешения отвезти одну маленькую посылочку в столицу своей жене, а сам уехал на дневной концерт.
Я ответил, что, конечно, просьбу его выполню, но только пусть он мне эту посылочку подготовит к вечеру, так как я сейчас ухожу на целый день.
Вечером, за час до отъезда в аэропорт, официант принес в номер корзинку с помидорами, которая была в три раза больше моего чемодана. Делать было нечего, пришлось ее взять. Спасло меня то, что в автобусе рядом со мной оказался услужливый молодой человек, который помог доставить эту корзинку в самолет. Но это было только началом приключений.
На другой день, к нашему удивлению, вместо Махачкалы мы оказались в Сталинграде, причем нам никто не мог твердо сказать, когда мы вылетим в Москву. Так прошел почти целый день. Потом объявили, что, заботясь об удобствах пассажиров, на всякий случай просят пройти с вещами в аэрофлотскую гостиницу и там временно поселиться. Гостиница была расположена довольно далеко, и опять меня спас тот же молодой человек, который помог перенести вещи.
Утром, после завтрака, радио известило, что время отлета будет известно через два часа. Так как Вертинский просил эту посылку доставить жене обязательно в тот же вечер, я послал ему телеграмму в гостиницу «Интурист»: «Сидим второй день в Сталинграде. Не знаю, когда вылетим в Москву, поэтому посылку доставить не могу».
Но вот наконец я в столице. Посчастливилось быстро взять такси, водитель оказался радушным и сговорчивым, и я повез эту корзину в квартиру над Елисеевским магазином на улицу Горького. Оказалось, что квартира на последнем этаже, а лифт испорчен. Я сказал шоферу:
– Я вернусь не так скоро: надо подниматься на последний этаж.
Водитель вызвался донести корзину до лифта. Узнав, что он не работает, спокойно сказал:
– Тогда я поднимусь, а вы подождите.
– Я обещал хозяину вручить ее и письмо лично жене.
Мы поднялись вместе. Нажимаю кнопку звонка. Дверь открывает молодая девушка. Я говорю:
– От Вертинского посылка жене. Попросите ее.
Она улыбается и отвечает:
– Это я и есть. Как вы дошли с такой ношей?
Она удивленно посмотрела на незнакомого человека у дверей.
Я сказал:
– Не смущайтесь: со мной таксист. Свет не без добрых людей.
Первая встреча с Валерием Брюсовым
В 1909 году, возвращаясь из Тифлиса в Петербург, я остановился на несколько дней в Москве у сестры моего отца Марии Амбардановой специально для того, чтобы повидать Валерия Брюсова, стихи которого произвели на меня огромное впечатление. Чаще всего молодые поэты начинают увлекаться каким-нибудь поэтом из плеяды знаменитых и первое время ему подражают.
У меня было по-другому. Я одновременно находился под влиянием нескольких поэтов, прославившихся в дни моей юности, – Иннокентия Анненского, Константина Бальмонта, Александра Блока, Игоря Северянина и Валерия Брюсова. Стихи я начал писать в кадетском корпусе, когда еще не читал ни одного из названных поэтов. К счастью, я сам понимал, что это только «пробы пера», и не мечтал об их публикации, но в 1909 году, когда я усиленно начал читать все журналы, печатавшие стихи совершенно неизвестных мне поэтов, я вообразил, что мои стихи если не лучше, то, во всяком случае, не хуже их. Отрицательные ответы редакций мне казались настолько несправедливыми, что захотелось обратиться к одному из тех больших поэтов, чье творчество я считал безупречным.
Не помню, почему я остановился на Валерии Брюсове, а не на одном из моих петербургских кумиров. Я к нему шел не как к поэту, которому хотел высказать свое восхищение, а скорее, как к арбитру.
Поэтому без всяких колебаний, узнав адрес, отправился на Мещанскую улицу в его особняк.
Моя тетушка жила в Скатертном переулке, и чтобы попасть на Мещанскую, надо было выйти к трамвайной остановке на Арбатской площади. С Москвой я почти не был знаком, но она, по сравнению с монументальным Петербургом, казалась мне очень уютным и симпатичным провинциальным городом. Одним из самых уютных уголков Москвы была в то время Арбатская площадь, по которой проходила конка. Я решил, что самыми подходящими для посещения знаменитого поэта будут утренние часы.
Мое волнение началось уже на Арбате, ибо у меня не было полной уверенности, что никому не ведомый студент будет принят.
Не помню точно, кто мне открыл дверь. В памяти сохранился силуэт женщины без полотняной наколки на голове, почти обязательной в ту пору для прислуги. Меня удивило и то, что она, узнав, что я хочу повидать Валерия Яковлевича, молча провела в его кабинет без доклада.
Не знаю, было ли это случайно или по установившемуся обычаю в его доме, но я очутился в огромном кабинете Брюсова.
Такого густого табачного дыма я не видел за все восемнадцать лет моей жизни. Я задыхался, ожидая появления хозяина огромного кабинета. Голова кружилась. Желание выбежать из комнаты на воздух начинало вытеснять из моего сознания образ Валерия Яковлевича, знакомого мне только по фотографиям. Зачем я к нему пришел? Какая титаническая сила втолкнула меня в царство дыма и книг? Брюсов – знаменитый поэт. Мои юношеские стихи покажутся ему смешными. Но я вспомнил, что его слава не помешала потешаться над ним всем газетам России, когда он опубликовал свое однострочное стихотворение:
О, закрой свои бледные ноги!Это воспоминание меня немного ободрило, и я мгновенно решил, что в самом крайнем случае, если Брюсов начнет издеваться над моими опусами, напомню ему эту строчку. В это время вошел Валерий Яковлевич. Головокружение от табачного дыма усилилось душевным волнением.
Он улыбнулся, вероятно, поняв мое состояние. Робко протягиваю тетрадь с ученическими стихами. Брюсов, продолжая улыбаться, перелистывает страницы. Мне начинает казаться, что я сижу на иголках.
«Конечно, я совершил большую глупость, что пришел к нему», – подумал я.
Но вот слышу его ласковый голос, произносящий далеко не ласковую фразу:
– Да ведь это Надсон, переведенный на язык детства.
Я воспринял его слова как злую насмешку. Он это заметил.
– Не огорчайтесь! Никто не начинает с конца. Если бы вы писали гладкие стихи, это было бы еще хуже. В ваших плохих стихах есть все же соломинка, за которую можно ухватиться. Лучше писать плохо по-своему, чем хорошо по-чужому.
Когда я заикнулся о том, что в журналах печатают стихи более слабые (я хотел сказать: «чем мои», но спохватился и произнес: «которые я считаю более слабыми»), Брюсов воскликнул:
– Редакции считают, что журнал без стихов – это все равно что костюм без пуговиц, вот они и нашивают любые пуговки, чтобы в костюме можно было показаться в обществе. А ваши стихи даже не пуговицы, а только нитки.
– Что же мне делать? – пролепетал я, как провинившийся школьник, получивший строгий выговор.
Брюсову, вероятно, стало жаль растерявшегося юнца.
– Зачем вам цепляться за журналы? – сказал он если не ласково, то, во всяком случае, без иронии. – Ведь не они делают поэтов. Они скорее их портят. Забудьте о них. Энциклопедия – вот о чем надо думать вам. Вот что вам надо читать – историю народов и государств. И тогда обнаружится – поэт вы или нет. Если великие события вас увлекут и вы сумеете определить свое собственное отношение к ним, то путь к поэзии вам будет открыт. Незачем тратить время на чтение вздорных стихов.
Брюсов еще раз начал просматривать мою тетрадь, словно желая выудить из нее хоть соломинку, хоть бы строчку, которую можно похвалить, но я, задыхаясь от табачного дыма, поднялся. Валерий Яковлевич протянул мне тетрадь и сказал:
– Конечно, некоторые ваши стихи нисколько не хуже тех, которые печатаются, но это не должно вас радовать.
Меня же обрадовало то, что все же я оказался прав и редакции, отвергая мои стихи, печатают не хорошие, а плохие.
При прощании с Брюсовым мне показалось: он остался доволен, что юный поэт, стихи которого он забраковал, ушел не удрученным, а скорее обнадеженным.
Борис Пастернак
С Борисом Пастернаком у нас была дружба долгая и глубокая, но она не переходила грань бытовых и семейных отношений. Это был редкий случай, ибо в отношениях с Есениным и Маяковским переплеталось одно с другим. С Борисом Пастернаком было глубокое понимание друг друга. Мы как бы разными красками, вернее, разными оттенками красок «рисовали» одни и те же предметы и ощущения.
Не знаю, почему так получилось, но мы никогда не говорили о делах. Мы читали друг другу стихи при встречах, при самых разных обстоятельствах, иногда в каком-нибудь коридоре Наркомпроса, иногда на улице или в кафе. Он умел не только слушать, но как-то особенно вслушиваться. Его замечания были всегда предельно точны и искренни.
По складу характера мы были совершенно разными, но нас крепче канонов связывало какое-то сверхглубинное понимание каждой строчки прочитанного.
В 1918 году мы обменялись стихотворениями, посвященными друг другу. Мое стихотворение опубликовано в нескольких сборниках 20-х годов:
Горечь судьбы лови, Мастер, на-ка, Смейся над своим мастерством, рука. Вот и оно пришло ко мне, облако От снежных вершин Пастернака. Вижу золотые бедра Востока. Галереей картинной идут века. И тут же гнойный след человека, А там ветер. Тишина стебелька. Будешь бессмертным и себя нарекать… От облака до облака География наших зеркал.С его же стихотворением получилось так: найдя его в своем архиве в 1960 году (архив мой до этого времени находился в Тбилиси), передал в филиал Литературного музея Е. Ф. Никитиной. Печатались мы с Борисом Пастернаком в альманахах самых разных направлений, и это тогда никого не удивляло.
В отличие от старинных монет, «старинные монеты» взаимоотношений поэтов и их окружающих ходят сейчас наравне с теперешними денежными знаками. То же происходит с понятиями «группы» и «школы». Мы как бы забыли, что все они возникали стихийно, под напором разноголосия бурных 20-х годов. Например, в группы и школы тех лет никто не «входил» в теперешнем понимании этой ситуации. Их создавало мироощущение тех или иных поэтов, которых как бы бросало друг к другу, иногда даже помимо их желания. Этим и объясняется возникновение большого количества сборников, участниками которых оказывались поэты, «официально» входящие в разные группы. Издатели, среди которых встречались и умные, любящие литературу люди, подбирали по своему вкусу стихи наиболее оригинальных и талантливых поэтов, не считаясь, к какой группе они принадлежали.
Мое вхождение в группу «эгофутуристов» выражалось в двух письмах, которые я получил тогда. Одно от Сергея Боброва и другое – от Николая Aceeвa. Оба письма были как бы предложением сотрудничать в издательстве «Центрифуга» без всяких предварительных условий. Считалось само собой разумеющимся, что раз нам пишут основатели издательства, то, значит, мои стихи, ставшие им известными по моему сборнику «Самосожжение», изданному в Москве в 1913 году издательством «Звено», подходят для футуристического издательства.
Время диктует многое, что современные литературоведы считают или случайным, или вытекающим из тех или иных внешних причин. Вот где кроется корень неполного понимания литературных явлений двадцатых годов. И потому часто получается, что читатели принуждены знакомиться с той эпохой по «кривому зеркалу». Для того чтобы по-настоящему понять, что происходило тогда в литературном мире, надо быть живым свидетелем происходивших событий, и не только литературных, но и исторических, или же тщательнее и скрупулезнее изучать архивы того времени.
Я жил долгое время в Тбилиси, но ежегодно, а иногда по два раза приезжал в Москву, и вот однажды летом встретил Пастернака на Тверском бульваре. Мы бросились друг другу в объятия, так как крепко подружились в 1918 году. То, что мы жили в разных городах и редко встречались, ничуть не охладило нашей дружбы. О материальных делах мы никогда с ним не говорили. Поэтому я был удивлен, когда на мой вопрос: «Ну, как у тебя, все хорошо?» – он ответил: «Очень плохо».
Я заметил, что мы стоим у афишной витрины, на которой были перечислены чуть ли не все трагедии Шекспира и имя переводчика Бориса Пастернака набрано крупным шрифтом. Я взял его за руку и повернул к витрине. Он улыбнулся:
– Ты имеешь в виду авторские…
– Я имел о них понятие по переводу либретто «Абессалом и Этери».
Он подошел еще ближе и сказал:
– Если бы ты только знал, какие это пустяки по сравнению с тем, что мне сейчас необходимо, – и он правую руку с растопыренными пальцами приблизил к своим глазам, – кому я обязан помочь, это только чуть-чуть отодвинуть от глаз пальцы. – И все это было сказано настолько убедительно и искренне, что всякая мысль о рисовке моментально исчезла. Вообще у Бориса Пастернака экспансивность была врожденной, и только тот, кто его никогда не знал и видел впервые, мог подумать, что это актерство.
Позднее стало известно, что в тот период времени у него действительно были такие семейные обстоятельства, которые требовали больших расходов. Но если бы я об этом никогда не узнал, то все равно один его жест и отодвигание пальцев от глаз были красноречивее всех его рассказов.
В заключение хочу привести стихотворение, которое он посвятил мне:
В расчете на благородство Итога Валютничай и юродствуй — И только. Мы сдержанны, мы одержимы: Вкусили Тягот неземного зажима По силе. Пришли и уйдем с переклички Столетий: «Такое-то сердце» – «В налимье» «Отметим».И подписал:
Дорогому Рюрику Ивневу по-братски.
Борис Пастернак.
Леонид Соболев
Как ни истаскано слово «обаятельный», но бывают случаи, когда без него нельзя обойтись. Только оно может дать полное представление об образе Леонида Соболева, талантливого писателя и неутомимого общественного деятеля. Он был один из немногих офицеров царской армии, который еще до залпа легендарной «Авроры» перешел на сторону большевиков.
В первые дни Октября мы были с ним на разных плацдармах: он – на военном, а я – на гражданском. Наше личное знакомство состоялось гораздо позднее того времени, когда он стал автором знаменитого романа «Капитальный ремонт», а именно в начале шестидесятых годов, когда он возглавил Союз писателей РСФСР.
С ним связан любопытный эпизод: в 1935 году после выхода его знаменитого романа И. В. Сталин прислал В. П. Ставскому (в то время секретарю Союза писателей СССР) письмо:
«10 декабря 1935 года.
Тов. Ставский!
Обратите внимание на т. Соболева. Он бесспорно крупный талант (судя по его книге «Капитальный ремонт»). Он, как видно из его письма, капризен и неровен (не признает «оглобли»). Но эти свойства, по-моему, присущи всем крупным литературным талантам (может быть, за немногими исключениями).
Не надо обязывать его написать вторую книгу «Капитального ремонта». Такая обязанность ниоткуда не вытекает. Не надо обязывать его написать о колхозах или Магнитогорске. Нельзя писать о таких вещах по обязанности.
Пусть пишет, что хочет и когда хочет.
Словом, дайте ему перебеситься. И поберегите его.
Привет!
И. Сталин».
Познакомились мы чрезвычайно оригинально. Часто приезжая в здание Союза на набережной Мориса Тореза, я поднимался на второй этаж к знакомой машинистке Татьяне Александровне Афанасьевой, любившей мои стихи и охотно их перепечатывавшей. И однажды столкнулся с Леонидом Соболевым, но по близорукости не узнал его. Очевидно, раньше он меня где-то видел, потому что спросил:
– Простите, вы случайно не сын Рюрика Ивнева?
Я засмеялся и ответил:
– Я был бы рад быть его сыном, но, увы, я и есть тот самый Рюрик Ивнев.
– Но это же невероятно, – воскликнул Леонид Соболев, – годы идут словно мимо вас. Откройте секрет вашей молодости?
– Охотно.
– Так идемте ко мне, что же мы стоим на площадке?!
Взяв меня под руку, он повел в свой кабинет.
– Ну, а теперь давайте рецепты. Мне они тоже скоро пригодятся.
Я рассказал ему эпизод из поэмы Низами «Семь красавиц», которую мне пришлось переводить. Смысл его в том, что один мудрец объясняет шаху, какие пороки человека действуют особенно разрушительно на его организм и что больше всего старит человека. «Зависть, – говорит мудрец, – этот порок разрушает печень, являющуюся одним из главных и чувствительных органов человека.
– Тогда мне обеспечена бодрая старость, так как хуже этого мерзкого порока я не могу назвать.
Мы поговорили о чем-то, не имеющем никакого отношения к служебным делам, и расстались если не друзьями, то, по крайней мере, готовыми ими стать.
Надо сказать, что Соболев по своему характеру – открытому и доброжелательному – был сам виновником того, что его «разрывали на части». Если бы не дипломатические способности Татьяны Александровны, которая совмещала должность машинистки с должностью секретаря и умело отводила в сторону людские потоки, они бы его утопили.
После нашего знакомства всякий раз, когда я приносил материал для напечатания Татьяне Александровне, Леонид Сергеевич, завидя меня, увлекал в свой кабинет хотя бы на несколько минут, интересовался моей работой и условиями, в которых я живу. Однажды он спросил:
– Скажите откровенно, вам что-нибудь надо?
– В каком смысле?
– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?
Мне тогда ничего не было нужно, и я ответил:
– Даю вам слово: я ни в чем не нуждаюсь.
– О господи! – воскликнул он. – Если бы все посетители так отвечали. Вы не поверите, но иногда они просят такое, что не только я, никто в мире не сможет выполнить их просьбы. Например, напечатать бездарную повесть или глупые стихи.
Мне было очень приятно, что мне действительно от него ничего не надо, ибо это давало возможность вести с ним непринужденные беседы, которые всегда доставляли, благодаря его остроумию, большое удовольствие. Это было не острословие Мариенгофа, а скорее мягкая ирония Облонского.
Вспоминаю еще один забавный случай, когда, приехав к Татьяне Александровне, я застал огромное количество народа в здании Союза. Собираюсь ретироваться, но Татьяна Александровна говорит, что только что закончилось собрание и сейчас все разойдутся. Усадив меня около своей машинки, она взяла мою папку со стихами. В это время дверь открылась и вышел Леонид Сергеевич. Увидев меня, он подошел и громко сказал:
– Вот Рюрик Ивнев, хороший поэт и работяга. С него надо брать пример.
Потом кто-то позвонил, и он скрылся в кабинете. Как только дверь закрылась, ко мне подошел один редактор, с которым у нас было шапочное знакомство, и любезно произнес:
– Михаил Александрович, как я счастлив, что встретил вас. Я давно собирался написать вам письмо и просить у вас материалы, но все как-то… вы понимаете, я не мог найти свободной минуты… Пришлите мне все, что хотите: стихи, прозу, воспоминания… Мы все напечатаем.
Я улыбнулся и сказал:
– Спасибо за приглашение. Я им воспользуюсь.
Прошло несколько лет. По состоянию здоровья Леонид Сергеевич перешел на более легкую работу в Правление Союза писателей СССР, оставив пост председателя Союза писателей России. Он курировал журнал «Дружба народов». Как всегда оживленный, веселый, обращаясь к приехавшим в Москву грузинским писателям, с которыми меня связывала многолетняя дружба, и потому я присутствовал на этой встрече, он подошел к Григолу Абашидзе и, указывая на меня, произнес:
– Посмотрите на вашего Рюрика Ивнева. Вот что значит родиться и жить в Грузии – это значит не стареть.
Григол улыбнулся и сказал мне:
– Что же вы нас забыли?
Я ответил, что забыть Грузию невозможно. И в это время почувствовал, что Леонид Сергеевич взял меня за пуговицу пиджака, которая едва держалась на одной нитке, и заметил:
– Вот лишнее доказательство, что поэты думают только о стихах и не обращают внимания на пуговицы.
Я ответил, что живу один и сам пришивать пуговицы не умею, хотя бы потому, что близорук.
Леонид Сергеевич заметил с улыбкой:
– Вас-то я понимаю. Вы живете один, и о вас некому позаботиться, а я женат, и, казалось бы, жена должна пришивать мне пуговицы, а она не хочет, говорит: сам пришивай, а мне некогда. И я тоже бываю иногда в подобном положении.
У Леонида Соболева был большой талант писателя, и он сочетался с нежным и благородным сердцем, отданным людям. Он был рожден, по выражению Максима Горького, Человеком с большой буквы.
Воспоминания о Сергее Судейкине
После грузинской архитектуры древнего Тбилиси и старинной турецкой крепости Карс, отошедшей в результате Русско-турецкой войны 1877–1878 годов к России, чопорный Петербург показался мне необыкновенным. Контраст между горным пейзажем, кривыми улицами Майдана и европейской столицей был разителен. Но, впрочем, в какой бы части света ни находился Петербург и какие бы города мира мы ни видели до него, все равно он не мог не поражать и не восхищать необыкновенной красотою.
Вот в этом городе-красавце я познакомился с одним из самых талантливых художников России. В ту пору я дружил с узким кругом людей и поэтому был необычайно польщен, получив приглашение прийти «на чашку чая» к тогда уже получившему известность художнику. Примечательно, что до получения его письма мы лично знакомы не были и знали друг о друге лишь понаслышке.
Испытывая большое волнение, нажимаю кнопку звонка его квартиры. Дверь открыл сам художник. Он произвел на меня хорошее впечатление особенной манерой себя держать, свойственной воспитанным людям, имеющим вдобавок прекрасные душевные качества, ибо без них, по моему убеждению, никакое, даже изысканное воспитание, не может производить сильное впечатление, особенно на молодых людей, более тонко воспринимающих суть человека при первом знакомстве. Когда же он познакомил меня со своей женой, симпатичной и искренне приветливой, я почувствовал себя как дома. Но несмотря на это, первое время был настороже. Я страшно боялся каким-нибудь неудачным словом или не слишком естественным поведением показаться им не тем, за кого они меня принимали, приглашая в гости, зная меня только как молодого поэта Рюрика Ивнева. Приглашение это я принимал как вексель, который обязан был оплатить.
Обстановка их квартиры, оказавшейся тесной от обилия картин и фарфора, мне понравилась своей оригинальностью, ибо, прожив в Петербурге пять лет (годы учебы в университете), я привык видеть лишь скромные и большей частью безвкусно обставленные жилища, в которых сдавались внаем комнаты для студентов, или же роскошные, но безвкусно обставленные квартиры буржуазных или чиновничьих семейств. Фарфор не был для меня новостью, но я до сих пор помню, как любовался чайным сервизом, украшавшим овальный стол Судейкиных. Художник очень тонко выспрашивал меня о вкусах, привычках, склонностях. Ему хотелось знать, какие художники и поэты были мне близки по духу, и, очевидно, он был весьма доволен ответами, почувствовав во мне единомышленника. Правда, я говорил больше о поэтах, которыми он тоже интересовался. Он любил и ценил Федора Сологуба, Михаила Кузмина, Осипа Мандельштама, Анну Ахматову. Что касается футуристов, то делил их на две категории: приемлемых для него и неприемлемых. К числу приемлемых относились Игорь Северянин, Елена Гуро, Велимир Хлебников. Желая доставить мне удовольствие, он процитировал четыре строчки из моего стихотворения «Архангельск»:
По дороге узкоколейной Я всегда до тебя доберусь. Хорошо, что я не семейный. Хорошо, что люблю я Русь.Это было зимой 1913 года.
Когда я прощался с ним и его женой, мне казалось, что мы познакомились не несколько часов тому назад, а уже давно. После этого встречались если не как друзья, то, во всяком случае, как хорошо знакомые, симпатизирующие друг другу. А вскоре открылся на Итальянской улице, примыкавшей к Михайловской площади, ставший знаменитым литературный кабачок «Бродячая собака», стены которого были красиво и весьма оригинально расписаны Судейкиным. Здесь мы часто встречались и беседовали не только об искусстве, но и о жизни и ее превратностях. У него было редкое умение слушать собеседника, и если он в чем-нибудь не соглашался, мягко и деликатно возражал. Я не помню его раздраженным или сердитым.
Однажды, через несколько месяцев после начала войны с Германией, мы вышли из «Бродячей собаки». Была оттепель, и город был погружен в какой-то странный туман, сквозь который тускло мерцали уличные фонари. Несколько минут Судейкин шел молча, о чем-то думая, потом вдруг, сделав резкое движение, взял меня за руку и сказал: «Мне часто приходила в голову эта мысль, но я ее всегда отгонял, а сегодня… сегодня не могу, я должен вместе со словами выкинуть ее из своей головы, хотя это и опасно, ведь она может пойти гулять по свету и набедокурить». Он внезапно замолчал. Я не хотел мешать ему решать вопрос самому, надо ли «выкинуть эту мысль из головы» или нет, и шел молча. После большой паузы он начал говорить тихо, словно боясь своего собственного голоса: «Петербург слишком фантастичен. Такая фантастика бывает лишь в снах. А сны не бывают бесконечными, кроме одного, вечного. Обычные сны сменяются явью. У меня такое ощущение не только сейчас, в этом полуреальном тумане, но даже при ярком солнце, когда Нева становится голубой, как море, а Петербург уплывает из-под наших ног и тает, словно восковая свеча. Он слишком красив, этот город. А всякая красота недолговечна. Город должен быть городом. Он не может быть сном. А Петербург – это сон, который снится всем одновременно». Я его не перебивал. Но он замолчал сам. Потом, после небольшой паузы, спросил, грустно улыбаясь: «Вы, вероятно, думаете – начитался Гоголя, Мережковского и Андрея Белого и сейчас выпалит: Петербургу быть пусту?» Все это казалось странным, не похожим на Судейкина.
Не успел я подумать, как бы деликатнее ему возразить, как он засмеялся: «Нет, все это, конечно, не то… Просто я не сумел выразить свои мысли и запутался. Я хотел сказать о другом. Я чувствую, что империя трещит по швам».
– Разве это плохо? – спросил я.
– Для кого плохо, а для кого хорошо.
– А для вас?
– Вы – неисправимый идеалист. Вы мало знаете людей.
– Я спросил вас о другом.
– Хорошо ли мне лично будет от крушения?
– Да, именно это.
– Мне слишком сейчас хорошо, и всякой перемены я боюсь.
– Если даже эти перемены принесут пользу большинству?
– Большинство, меньшинство – все это для меня понятия ирреальные.
– Что же тогда реально? Сны?
Он посмотрел на меня такими грустными глазами, что мне стало жаль его. Я понял, что мы с ним как два парохода, которые идут рядом, но в разные стороны.
Следующие наши встречи произошли при совершенно других обстоятельствах, осенью 1919 года в Тифлисе. В то время Грузию возглавляло меньшевистское правительство Ноя Жордания. Я приехал сюда после долгих злоключений, спасаясь от Деникина, и вступил в контакт с находившимся в подполье Кавказским краевым комитетом партии большевиков в лице его секретаря Саши Назаретяна (Амояка).
Встретил я С. Судейкина в кафе «Дарбози». Он обрадовался и подошел ко мне, хотя знал, что я на днях прочел лекцию о советской России, не скрывая своего сочувствия большевикам.
– Я не против большевиков, – сказал он, – уехал я потому, что не вынес голода и разрухи. Пеняйте мне за это или нет, но я не рожден для политики. Вас я не осуждаю, как и многих других русских, приехавших из России. У каждого своя дорога, и выбирается она по желанию и вкусу.
Во время моего пребывания в меньшевистской Грузии он, в отличие от многих других эмигрантов, не строил никаких козней против большевиков и выразил искреннее сочувствие, когда я ушел в подполье. Один раз я спросил его:
– Вы не забыли нашего разговора после выхода из «Бродячей собаки»? Это было…
– Помню, конечно, – перебил меня Судейкин. – Тогда еще немногие догадывались, что война кончится бесславно. – После небольшой паузы он добавил: – Это была интуиция, а впрочем, верней всего, случайность. Вы помните тот чудовищный туман? Под его влиянием я и начал бредить. И случайно набрел на истину.
Если зимним утром в Петербурге мы шли рядом, то вскоре разошлись совсем. Я вернулся в Москву, а С. Судейкин уехал за границу. Но, насколько мне известно, он, как и Ф. Шаляпин, никогда не выступал против советской России и, вероятно, продолжал любить страну, в которой обрел свое имя знаменитого художника.
Рыцарь без панциря (Ю. Олеша)
Впервые об Олеше я узнал в 1927 году во Владивостоке из восторженного письма о нем Сергея Буданцева. К сожалению, писем Буданцева в своем архиве я пока не обнаружил, но помню хорошо, что Буданцев отзывался об Олеше как о необычайно ярком таланте, которому пророчил великое будущее. Юрий Олеша меня настолько заинтересовал, что я просил Сергея написать о нем более подробно и, если его роман вышел в свет, немедленно его прислать.
Хорошо помню яркие незабываемые часы чтения романа «Зависть». На меня повеяло словно эхом нашей классики, на которой я воспитывался. Однако никакого подражания не было. Только свое, собственное, неотделимое от автора. Причем это свое глубокое и оригинальное, в котором нет ни одной чужой крупинки. Каждому читателю знакомо это ощущение, когда книга, поразившая его, кажется «кладом словесных драгоценностей». Вот такое ощущение испытывал я, читая и перечитывая многие страницы романа «Зависть» по нескольку раз.
Но вот наступил день, когда я увидел своими глазами автора романа, и он произвел на меня потрясающее впечатление. При каких обстоятельствах это произошло, я не помню. В память врезалась такая деталь. Ю. Олеша был в этот день чем-то расстроен и, очевидно, не расположен к беседе. Поэтому я ни слова не сказал ему о том, с каким наслаждением читал роман «Зависть». Потом мы встречались довольно часто в доме Герцена. На том месте, где сейчас находится садик, был ресторан, в котором обедали многие писатели: Павел Васильев, Владимир Луговской, Сергей Клычков и другие. Заходили сюда и артисты, особенно много – из находившегося почти рядом Камерного театра.
Олеша всегда был окружен друзьями. Юрий Карлович резко отличался от всех. Если такие разные поэты, как Луговской и Клычков, были похожи как две капли воды в манере держать себя в обществе, то Олеша своей экстравагантностью и неожиданными выходками напоминал скорее Хлебникова. Он был сходен с Хлебниковым, потому что ходил по земле, как по палубе, не думая о завтрашнем дне. Обычные, самые невинные расчеты или заботы были ему, как и Хлебникову, чужды. Иной раз казалось, что он, как и Велимир, сознательно разрывает нити своего относительного благополучия. Я бы сравнил Ю. Олешу с рыцарем без панциря. Но надо сказать, что огромный успех не вскружил ему голову. Он нес свою славу с достоинством философа, прекрасно понимая не только положительные, но и отрицательные ее стороны.
На ходу, в ресторане или на скамейке Тверского бульвара, случайно встретившись, мы разговаривали обычно о разных разностях, но в общем беседы наши не клеились. Во-первых, потому, что, восхищаясь его экстравагантностью, сам я был настолько чужд ей, что чувствовал себя несколько связанным ею, и во-вторых, я уже не мог по-настоящему выразить восхищение его романом, о котором не удалось сказать при первой встрече.
Может быть, я и ошибался, но мне казалось, что если бы я вернулся к этой теме, то показался бы ему смешным, ибо то, что я бы сказал ему теперь, было бы для него прописной истиной. Он уже устал от похвал.
Он любил задавать неожиданные вопросы не столько для того, чтобы получить ответ, сколько для того, чтобы поставить своего собеседника в неловкое положение, причем это делалось отнюдь не с целью огорчить и расстроить человека, а просто так, по привычке говорить и поступать не как все, но это не было пустым оригинальничанием, такова была врожденная особенность его характера.
Вскользь и поверхностно мы говорили обо всем: о поэзии, живописи, о разных бытовых мелочах. Когда поэты каждый день обедают в одном ресторане, в котором и публика большей частью бывает одна и та же, то невольно запоминаешь какие-нибудь смешные стороны знакомых или полузнакомых людей, соседей по столику.
У Юрия Олеши был острый взгляд, позволявший ему видеть то, чего другие не замечали. Особенно смеялся он над напыщенностью, ходульностью, чванством, высокомерием, в какой бы дозе, как говорится, они ни проявлялись.
Когда он делился со мной своими наблюдениями, я восхищался его зоркостью и психологическим анализом разных людей. Вышло как-то так, что о себе мы никогда не говорили, как будто нас и вообще не существовало. За все время нашего знакомства он ни разу не спросил меня, как я отношусь к его роману «Зависть». А я, который им упивался, как в свое время «Петербургом» Андрея Белого, не мог заставить себя говорить о нем первым. И я понял тогда, что если ты хочешь сказать кому-то очень большое и хорошее и упускаешь момент, знай, что ты уже никогда не скажешь этого, потому что потом это будет сделать еще труднее…
Исповедь учителя рисования (А. Крученых)
Если на глазах нашего века фантастика, соприкасаясь с наукой, входит в быт и становится заурядным явлением, то можно смело сказать, что жизнь провинциального учителя рисования Алексея Крученых превратилась в фантастику. На склоне лет, года за полтора до его смерти, в центре самой Москвы, Камергерском переулке, приютилось «Артистическое кафе». А совсем рядом, на углу Петровки, в двадцатые годы помещалось знаменитое кафе «Музыкальная табакерка». И когда осенью 1964 года ко мне неожиданно подошел моложавый старик, я в первую секунду его не узнал, а потом как бы перенесся в двадцатые годы, но и они были полустанками и привели меня к 1912 и 1913 годам. Я вспомнил переполненные залы Тенишевского училища и Городской думы, вечера футуристов, диспуты, переходящие в ожесточенные споры, возмущенные статьи буржуазных газет, называвших футуристов шарлатанами, и вот полвека спустя я случайно встречаю в кафе одного из наиболее гремевших футуристов. Подобно тому, как в свое время стало известно всей России однострочное стихотворение Валерия Брюсова «О, закрой свои бледные ноги», так прогремела строчка А. Крученых «Дыр бул щил». То, что произошло, меня очень удивило, ибо наше знакомство в прошлые годы было чисто литературное. Не только дружбы, но и приятельских отношений у нас никогда не было.
Первый раз в жизни мы обедали вместе. Было еще не поздно, но почему-то безлюдно. На одну секунду я подумал: как капризно время – то переполненные залы, то полупустое кафе. И вот в этой странной, я бы даже сказал, неестественной, тишине, под далекие звуки городского шума, Алексей Крученых внезапно сказал:
– Теперь, когда вся моя жизнь отошла в прошлое, я понял, что если бы не было войны 1914 года, я жил бы в Астрахани и, вероятно, гораздо счастливее. Я был скромным учителем рисования. Ты ведь помнишь, тогда во всех средних учебных заведениях был такой предмет.
Я засмеялся, а он спросил:
– Что тут смешного?
Я ответил:
– Вспомнил уроки рисования в кадетском корпусе, где я учился. У нас был чудесный преподаватель. Кому не удавалось срисовать вазы, он подходил, садился рядом и со словами: «Я помогу вам нарисовать» – воспроизводил предмет так хорошо, что потом ставил ученику высший балл.
Алексей Крученых грустно улыбнулся:
– Нет, я был строгим. Но дело не в этом. Хочу тебе сказать откровенно – писателем меня сделала война.
– ???
– Я никому никогда этого не рассказывал, а теперь, когда я уже один-одинешенек и до меня никому нет никакого дела, хочу рассказать все… Я уверен, что люди могли бы сделать так, чтобы никакой войны не было…
Я улыбнулся:
– У тебя есть рецепт?
– Да.
– Почему ты не покажешь его миру?
– Потому, что он годен для меня и некоторых других, но их мало. А было бы больше – не было бы войны. Через несколько дней после начала Первой мировой, узнав, что мне выслали официальную повестку явиться на призывной пункт, я взял билет и поехал в Петербург. Почему именно туда? Я интересовался литературой и знал о существовании В. Хлебникова, Кульбина, братьев Бурлюков, В. Маяковского… Я думал: если в Астрахани заберут меня в армию, я уже не выкручусь, а в Петербурге я не прописан и как-нибудь просуществую.
– Все же это рискованно – ехать в город, где у тебя нет никого, а знание фамилий – это еще не пригласительные письма.
– У меня было такое состояние, что я ничего не знал и не думал, а просто действовал, бежал, как зверь от ружья, и представь себе: случилось чудо. Приезжаю в Петербург. Денег в обрез. Чемодан сдаю на хранение и еду в адресный стол. Узнаю адрес Кульбина. Маяковский среди петербуржцев не значится. Бурлюки – тоже. И Хлебникова нет. Адрес Кульбина дали. Я – к нему. Знал его только как футуриста, а кто он и чем занимается – не имел никакого понятия. Представляешь мое изумление, когда меня встречает пожилой генерал, но не боевой, а медицинский. Поговорили. Он сказал: «Да, вы настоящий футурист. Надолго приехали?» Я ответил: «Если можно – насовсем». И тут ему все выложил. Он покачал головой. Я сидел ни жив ни мертв. Молчу. Он улыбнулся, но я еще боялся ответить на его улыбку и чувствовал себя, как пойманная мышь, которая не знает, что с ней сделают. Наконец узнал. Это и было чудо. Одна записка насчет комнаты – у кого-то из его знакомых, вторая записка – пропуск на поэтический вечер, который должен состояться через неделю. Выступают футуристы. Третья – к военному врачу. Предложил денег, я отказался. Там, куда он устроил меня на квартиру, был телефон. Обещал сам позвонить, узнать, как дела. Остальное ты знаешь. И пошло-поехало, покатилось… А теперь самому не верится, что все это было в действительности… Словно сон…
Мы простились, и на этот раз навсегда. Конечно, его исповедь была ненастоящей, хотя и искренней. Ненастоящей была его мнимая убежденность, что война сделала из него писателя. Он был образован, умен, талантлив. «Дыр бул щил» – была своего рода реклама, чтобы привлечь внимание публики. Он первый заметил сдвиги в стихах некоторых поэтов. Даже у Пушкина нашел и опубликовал в своей брошюре, а многие обвинили его в кощунстве. Вот один из его примеров: «Со сна садится в ванну со льдом» (строка из «Евгения Онегина»).
Много есть в сочинениях Алексея Крученых парадоксального, много нелепого, но были у него и некоторые достоинства. Его любили В. Маяковский, В. Хлебников, братья Бурлюки.
Алексей Крученых был ревностным собирателем личной библиотеки, рукописей писателей, автографов. Очень грустно, что после его смерти многое пропало. По словам исследователя А. Е. Парниса, в ЦГАЛИ, куда поступил архив А. Крученых, не оказалось номера астраханской газеты «Красный воин» 1918 года, в котором была опубликована статья В. Хлебникова. А. Е. Парнис утверждал, что это огромная потеря, так как в течение многих лет он искал этот номер газеты, но так и не нашел.
Имя Алексея Крученых, как бы ни относились к нему литературоведы, без сомнения, вошло в литературу XX века.
Почему Вересаев прятал орден
Такого яростного дождя я не помню. Или мне это только кажется сейчас. Главное не в дожде, а в писателе В. В. Вересаеве, который, стоя в очереди за керосином, то и дело запахивал разлетавшееся пальто… Был сильнейший ветер. Я невольно остановился поблизости, скрывшись в ближайшем парадном подъезде. Стоял и думал. Что это? Начало или конец мира? Но думать было некогда. Меня ждет Иван Алексеевич Новиков, которого приютил в Тбилиси писатель Коркиа. Это было осенью 1943 года. Опоздать я не мог, т. е. не имел права, потому что писатель Иван Алексеевич Новиков и его жена Ольга Максимилиановна Принц, моя троюродная сестра, завтра должны были уехать в Сибирь…
Дождь неожиданно кончился, как это часто бывает в Тбилиси, и выглянуло солнышко. И я начал кое-что понимать. В. В. Вересаев тщательно прятал свой орден, то и дело выглядывавший из-под борта пальто. Я подошел к нему в тот момент, когда подходила его очередь брать керосин. Мы поздоровались.
– Викентий Викентьевич! Давайте я вам помогу.
Он улыбнулся.
– Теперь уже все.
– Нет, не все, – раздался вдруг чей-то басистый голос.
Мы с Вересаевым на него удивленно посмотрели. Кое-кто из публики стал прислушиваться к разговору. Басистый голос продолжал:
– Я не знаю вашу профессию, товарищ, но, судя по вашим годам, ваш призывной возраст давно миновал. Я вижу орден на вашей груди. Я заметил также, что вы его прячете. – После небольшой паузы он добавил: – А многие выпячивают свои ордена, чтобы получить вне очереди керосин.
Я тихо спросил его:
– Викентий Викентьевич, почему вы прятали орден?
– Смею вас уверить, вам это показалось.
Я улыбнулся.
Сыновья Есенина
Чего только не бывает в жизни, но как часто мы проходим мимо внешне ничем не примечательных явлений, переполненных золотыми россыпями внутренних ощущений, сопоставлений и ассоциаций. Если сказать об этом человеку, не склонному к мечтательности и фантазированию (а таких, может быть, даже и к счастью, очень много людей), то он, если даже и не скажет вам в глаза, но в душе сочтет вас чудаком. Но все же я не могу промолчать о странном состоянии, которое испытывал всякий раз, когда оставался один после ухода Василия Есенина.
Надо пояснить, что за несколько месяцев перед этим, может быть, год тому назад, точно не помню, как-то вечером ко мне ворвался, как вихрь, всегда оживленный и веселый Датико Арсенишвили и сказал, явно желая меня заинтриговать: «Отгадай, кого я к тебе привел?»
Я взглянул на него с удивлением и только тогда заметил, что рядом с ним стоит молодой человек, как говорится, «приятной наружности», хорошо одетый. Держался он скромно, но с достоинством.
Я не мог его узнать, так как никогда не видел. Тогда выдержав соответствующую паузу, Датико торжественно произнес: «Сын Есенина Алик».
Мы познакомились.
Не помню теперь, как он попал в Тбилиси и как его «раздобыл» Датико.
Алик не был похож на отца, но все же чуть-чуть его напоминал. А может быть, это показалось мне, когда я узнал, что он сын Сергея Есенина.
Датико сказал мне, что Алик пишет стихи, и попросил его прочесть свои произведения. Когда он их читал, у меня было такое ощущение, как будто машина времени перенесла меня в Петербург 1913 года.
Назвать их совершенно беспомощными, как у его «непризнанного брата» Василия, я не мог, но что они были никчемными, я могу сказать уверенно.
В более вежливой и «обтекаемой» форме я сказал ему свое мнение, и конечно, повторил и то, что я говорил Василию, то есть то, что выступать ему со своими стихами в печати не следует, если даже их согласятся печатать. Так как читая стихи сына Есенина, все будут невольно вспоминать замечательные стихи отца и это еще более усугубит плохое впечатление о них.
Алик был у меня еще несколько раз до своего отъезда из Тбилиси.
Прошло некоторое время, и вот я знакомлюсь с Василием.
Возвращаюсь к тому моменту, когда я говорил о том, что всякий раз после его ухода я испытывал странное ощущение.
Сергея Есенина мы потеряли 29 декабря 1925 года. И вот почти через два десятилетия в моей тбилисской комнате появляются, как тени на экране, один за другим его сыновья. И оба неожиданно. И оба со стихами. Один – признан, но не похож на отца. Другой – не признан и похож не только на своего отца, но и на деда Есенина (по материнский линии) Титова.
Меня спросят: что здесь особенного? И я отвечу: внешне здесь нет ничего особенного, но что нам делать со своим внутренним миром, который имеет свои особенности.
Что делать с памятью, которая иногда бывает скупа, но иной раз так милостиво щедра и благосклонна, что не только воскрешает образы людей, которых мы любили, но возвращает нам из далекого прошлого все краски и оттенки, все звуки и шорохи и тысячи штрихов и мельчайших складок лиц, которые, казалось, было немыслимо запомнить даже в тот момент, когда мы их наблюдали. Все это происходило, но мы сами не подозревали, до какой степени глубины это остается в нас.
И вот эти встречи с двумя сыновьями Есенина всколыхнули в моей душе столько воспоминаний о нем, доставили мне столько радости, что они показались мне не только простыми встречами, а скорее упавшими с неба метеоритами.
Таинственная история Василия Есенина
Это было весной 1944 года в Тбилиси, где я тогда жил, на улице Энгельса в доме № 6 …Однажды утром ко мне прибегает запыхавшаяся курьерша Союза и говорит: «Товарищ Ивнев, Симон Чиковани очень просит вас скорее прийти. Приехал какой-то Есенин, хочет вас видеть».
– Какой Есенин? – изумился я.
Любопытству моему не было предела. По дороге я начал расспрашивать спутницу, какой это может быть Есенин… Но я ничего не мог добиться от нее, кроме того, что приезжий – молодой, приятный на вид, но сильно хромает на одну ногу, ходит, однако, без палки.
Наконец мы входим в огромный вестибюль старинного особняка, принадлежавшего когда-то тбилисскому миллионеру, со времен которого остались великолепная мебель и знаменитое чучело большого медведя, которому я однажды по близорукости поклонился, приняв его за писателя Шалву Дадиани…
Симон Чиковани был взволнован и несколько растерян. Не успел я прийти в себя, как вдруг на шею ко мне бросается молодой человек, слегка похожий на Есенина, и обнимает. Если бы при этой сцене присутствовал какой-нибудь бойкий корреспондент, он, вероятно, озаглавил бы свою заметку так: «Встреча сына Есенина со старым другом его отца».
Когда кончились поцелуи и объятия и Василий заговорил, я был изумлен тембром его голоса, удивительно напоминавшим есенинский. И тут же узнал подробности его приезда в Тбилиси. Он прибыл из одной среднеазиатской республики (какой точно, не помню), где окончил педагогический институт. Было ему 22 года. В первые часы встречи все разговоры были только о том, как бы получше его устроить в гостеприимной Грузии. А когда Василий начал наизусть читать с большим мастерством и тактом не только лирические стихи отца, но и его поэмы, не запнувшись ни разу, все поняли, что в Тбилиси приехал не просто сын поэта, но и прекрасный чтец его стихов.
Возник план устройства большого вечера поэзии Сергея Есенина в исполнении его сына Василия. В Тбилиси в то время жил мой большой друг Давид Арсенишвили (будущий директор Музея имени Андрея Рублева в Москве), брат известного грузинского критика Алико Арсенишвили, скончавшегося в тридцатые годы. Необычайно талантливый, всесторонне образованный, энергичный, остроумный, на редкость отзывчивый и доброжелательный Датико, как все его называли, сразу, не дожидаясь «казенной помощи», взял судьбу приезжего в свои руки. Датико приютил гостя, взял его на свое иждивение, одел с ног до головы и решил, что, прежде чем устраивать большой вечер Есенина, необходимо провести его генеральную репетицию не в столице Грузии, а где-нибудь поблизости. Я тоже принимал участие в его подготовке. Программа была такая:
1. Д. Арсенишвили читает доклад о творчестве С. Есенина.
2. Сын поэта Василий читает стихи и поэмы отца.
3. Рюрик Ивнев делится воспоминаниями о Сергее Есенине.
Афиша гласила: «Вечер сына Сергея Есенина Василия Есенина». Хотя Василий приехал в Тбилиси уже вполне готовым чтецом, Датико настоял, чтобы он несколько раз прорепетировал свое чтение в нашем присутствии. Василий читал стихи отца охотно, совершенно не уставая, с каким-то особенным воодушевлением, доходящим до самозабвения.
Наконец все было готово к выступлению. Мы выбрали следующий маршрут: Сталинири, Гори, Батуми. Успех превзошел все наши ожидания. Василий Есенин, не учившийся декламаторскому мастерству, читал стихи как настоящий заправский чтец. Он без устали выступал по два раза в день, а в Батуме побил рекорд, выступив три раза. Публика принимала его восторженно. Эти горячие встречи показали, что Есенина любят и ценят не только в России, но и в Грузии… Триумфальная поездка закончилась. Мы вернулись в Тбилиси. Провинциальные города были покорены. Теперь, казалось, наступила очередь столицы… Однако большой вечер Есенина, к которому так тщательно готовились, не состоялся. Не помню, что помешало нам устроить его: отношение к Василию тбилисской общественности было более чем благожелательное. Могу догадываться, что отчасти этому помешало его поведение.
Я забыл упомянуть, что сначала он хотел на афише вместо Василия называться придуманным им самим именем Людмил. Не знаю, чем он руководствовался при выборе этого нелепого псевдонима, помню только, что Датико Арсенишвили и мне стоило больших трудов отговорить его от этого и поставить на афишу настоящее имя. Поведение Василия начало вызывать опасение, что он не сможет серьезно заняться совершенствованием своего врожденного таланта чтеца. Огромный успех вскружил ему голову. Записки влюбленных девиц, приглашения, легкомысленное отношение к своему таланту, отсутствие элементарной воли – все это начинало ярко проявляться. Датико и я с грустью наблюдали за этими признаками богемных наслоений. Это было досадно, потому что Василий был хорошим и добрым человеком. Вскоре после приезда в Тбилиси он сознался, что тоже пишет стихи. И прочел несколько своих опусов.
Мы сказали ему откровенно, что если никому не подобает опубликовывать слабые стихи, то сыну Есенина делать это тем более не следует. Он не обиделся и согласился.
Василий продолжал бывать у меня на улице Энгельса. Мы много беседовали. У него были приличное образование, начитанность, чувство юмора, такт. Потом он неожиданно уехал в Краснодар к какому-то другу. У меня сохранились две его открытки, присланные оттуда. Так Василий навсегда исчез. Меня изумило его письмо, до смешного напоминавшее бисерный почерк Сергея Есенина. А наружностью он походил больше на своего деда Титова. Когда я думаю об этом молодом человеке, которого я не имею права называть сыном Есенина, так как у меня нет на это юридических доказательств, хотя я уверен, что он действительно сын Сергея, вспоминаю эпизод, рассказанный мне Евдоксией Федоровной Никитиной. Как-то в разговоре я упомянул о встрече с Василием Есениным в Тбилиси. Евдоксия Федоровна заинтересовалась точными датами. Я спросил, почему ее это так интересует. Она ответила:
– Потому что артистка Раневская рассказывала мне о встрече с сыном Есенина в вагоне поезда на одной из станций Закавказской железной дороги.
Я заинтересовался этим и попросил рассказать подробно, что говорила актриса. И услышал следующее.
– В наш вагон во время стоянки поезда, – рассказывала Раневская, – вошел молодой человек. Как только я на него взглянула, то почувствовала, что глаза мои застилаются туманом: что это – сон наяву или действительность? Ведь это живой Сергей Есенин. Очевидно, молодой человек обратил внимание на мое изумление, он остановился передо мной и, улыбаясь, спросил:
– Что вы на меня так смотрите?
Я пришла в себя и ответила:
– Да ведь вы вылитый портрет Сергея Есенина.
– А я Есенин и есть, – ответил молодой человек. – я его сын.
Состоялся импровизированный вечер поэзии Сергея Есенина.
К сожалению, дальнейшие подробности Евдоксия Федоровна не помнила.
Мы условились, что она пригласит Раневскую и попросит ее при мне рассказать об этой встрече. Имя его Евдоксия Федоровна не помнила, но для меня было ясно, что речь идет о Василии. Но, как это часто бывает в жизни, что-то помешало встрече состояться, не то болезнь Раневской, не то моя очередная поездка. И у меня теперь тлеет надежда, что когда-нибудь все это прояснится.
В 1962 году я после долгого перерыва посетил Южную Осетию. В ее столице, городе Цхинвали, увидел заслуженного деятеля искусств ГрССР Хетагурова, с которым был знаком давно. Он большой поклонник стихов Сергея Есенина и встречался с ним лично в Тбилиси. В разговоре выяснилось, что он знал и Василия Есенина, очевидно, познакомился с ним во время наших гастролей в Сталинири в 1944 году. Хетагуров выразил глубокое убеждение, что Василий безусловно сын Сергея Есенина. Я попросил его написать свои воспоминания об этом. Он исполнил мою просьбу, и ныне они хранятся в филиале Литературного музея у Е. Ф. Никитиной.
Вспоминая свои встречи с Василием, я думаю о том, как же случилось, что я не узнал подробностей его жизни. Возможно, когда он приехал в Тбилиси, я счел неудобным расспрашивать его, ибо это могло показаться признаком недоверия. Очевидно, ему приходилось сталкиваться и с этим.
Я не сомневался, что он сын Сергея. К тому же я видел его паспорт, во время нашей гастрольной поездки мне часто приходилось держать его в руках и сдавать в гостиницах администрации.
Датико Арсенишвили мне рассказывал, что Василий не мог видеть ни отца, ни матери, так как помнит себя с момента нахождения в детских яслях, где его записали Василием Есениным, очевидно, имея на это какие-то основания. Допытываться у сироты, как это произошло и почему он там оказался, было, по-моему, бестактно. С другой стороны, естественно и то, что раз появляется сын Сергея Есенина, то многие заинтересуются, кто же его мать. На этот вопрос ответить может только администрация яслей, в которых был младенец. А то, что он был кем-то сдан, а не найден где-нибудь в подъезде дома, ясно из того, что он записан как сын Сергея Есенина.
Повторяю: никаких других доказательств, кроме паспорта на имя Василия Сергеевича Есенина, нет. Когда-нибудь все выяснится окончательно, но ждать этого момента я не могу, принимая во внимание свой преклонный возраст, и потому факты, связанные с появлением Василия Есенина, считаю своим долгом изложить так подробно.
Михаил Чаурели
Не успел я начать работу с музыкантом Аслонишвили над переводом на русский язык оперы Захария Палиашвили «Абессалом и Этери», как получаю предложение от кинорежиссера Михаила Чаурели сыграть эпизодическую роль А. Ф. Керенского в фильме «Великое зарево».
Мне не хотелось отрываться от работы над переводом текста оперы, и я отказался. Разговор происходил не в кабинете Чаурели, а на проспекте Руставели. Потом я узнал, что это был шахматный ход со стороны режиссера: сделать мне деловое предложение при случайной встрече. Ему очень хотелось, чтобы роль А. Ф. Керенского сыграл именно я, ибо действительно был похож в те годы на бывшего премьера. Режиссер был убежден, что для небольшой роли важно внешнее сходство. Мой рассказ смутил его, и он растерянно спросил:
– Ну почему же? «Великое зарево» будет показано не только в России, но и во всем мире. Артист театра Грибоедова Мюфке поразительно подходит для роли В. И. Ленина. Геловани – вылитый И. В. Сталин. Неужели откажешься от возможности участвовать в историческом фильме?
Я ответил, что не хочу сорвать возможность показа в Москве грузинской оперы «Абессолом и Этери». М. Чаурели ответил:
– Мое предложение не помешает тебе работать над оперой. Я прошу всего три дня, вернее, три ночи, потому что Мюфке кончает играть в русском театре в 11 часов, а Геловани в грузинском – поздно вечером. Съемка будет с 12 ночи до 6 утра.
Я не знал, как отговориться, и, вспомнив, с каким трудом оплачивал переводы песен всех авторов с грузинского на русский «Грузфильм», ответил:
– У вас слишком маленькая оплата, и вдобавок за ней надо неделями охотиться!
Чаурели преобразился, стал похож на купца, который хочет получить желаемое любой ценой. Он посмотрел на меня пристально и медленно произнес:
– За три ночи – пять тысяч!
Я ответил:
– А сколько тысяч часов я буду за ними бегать?
Чаурели мягко улыбнулся:
– Ты моему слову веришь?
– Твоему – да, а госкинпромскому – нет.
Он взял меня за пуговицу пиджака и, притягивая к себе, сказал:
– Деньги вручу сам на четвертый день.
Так состоялось «грехопадение». На следующий день без четверти двенадцать меня в студии встретил М. Чаурели и повел знакомиться с Мюфке и Геловани. Они были уже в гриме. Я спросил режиссера:
– Когда же я успею загримироваться?
Чаурели улыбнулся:
– Тебе и Геловани этого не требуется.
И тут же позвал гримера.
Через несколько минут я был А. Ф. Керенским. Грим оказался не нужен, лишь определенные светотени на лице. Через несколько минут меня возвели на трибуну, с которой я приветствовал народ, держа в руке фуражку.
На второй день я должен был бросить на заседании, где выступал Ленин, фразу: «Нет такой партии, которая могла бы взять власть в свои руки!» На это присутствующий на заседании Ленин крикнул с места: «Есть такая партия! Это партия большевиков!»
По сценарию Керенский должен произнести, указывая на Ленина:
– Арестовать!
Я сказал Чаурели:
– Миша, это абсурд! Керенский был юрист, он никогда не мог этого крикнуть. Он мог возбудить дело об аресте Ленина, но не отдавать приказания прямо на заседании.
Режиссер улыбнулся.
– Дорогой мой, тебя это не касается. Ты должен говорить то, что написано в сценарии.
Я покорился и крикнул. Это вышло так вяло, что Чаурели объявил маленький перерыв, взял меня под руку и начал ходить по студии. Сначала говорил о посторонних вещах, а потом произнес:
– Я понимаю, крикнуть «арестовать Ленина!» тебе трудно, ты не артист, который молниеносно перевоплощается, но чтобы это вышло естественно и хорошо, забудь о Ленине, представь мысленно, что это не Владимир Ильич, а человек, мешающий тебе быть вместе с любимой. Если этот человек не будет арестован, возлюбленная уйдет от тебя.
Начался повторный дубль. Я крикнул «арестовать!» не вяло, но все же недостаточно хорошо, понял это по словам Чаурели:
– Вот теперь лучше, но только еще раз попробуем.
Тут я окончательно понял, что от меня хотят, и действительно, закрыв на миг глаза, ясно представил картину… меня покинут, если… этот человек не будет арестован…
Чаурели добился, чтобы я смотрел на Ленина, его не видя: передо мной было лицо, которое хотело разрушить мое счастье… Часть ночи ушла на сидение за огромным столом какого-то скучного заседания. Кадры эти были при монтаже фильма изъяты, зато вторую часть ночи я любовался Геловани, который от счастья, что он так похож на Сталина, гуляя со мной во время перерыва, говорил вполне серьезно:
– Посмотрите: Ленин, Керенский и я – Сталин – прохаживаемся и мирно беседуем.
На четвертый день в десять часов утра Чаурели приехал ко мне на госкинпромской машине и сказал:
– Я оказался менее могущественным, чем считал себя.
Я грешным делом подумал, что сейчас начнутся разговоры, что касса Госкинпрома пуста или что-нибудь в этом роде, но он, точно подслушав, перебил мои мысли:
– Не беспокойся, я свое слово сдержу, но только не сам вручу тебе деньги, а через кассиршу «Грузфильма».
Каприз памяти
Иногда самые обыкновенные воспоминания переходят в область фантастики. Корни этого странного явления бывают разными – от простого до необъяснимых.
Марсель Пруст глубже всего окунулся в этот загадочный океан памяти, но загадка так и осталась загадкой. Проще всего не разгадывать, а просто рассказать какой-нибудь случай, когда твои собственные воспоминания тебе самому кажутся полуфантастическими. Отсюда вытекает, что стиль твоего изложения одних читателей удовлетворяет, а других разочаровывает, в зависимости от вкуса и характера, ибо некоторые, и я сам в свое время, писали иначе, а сейчас предпочитают такое, например, начало:
«В этом году я впервые увидел Леонида Мартынова. Он еще не был тогда так широко известен публике» и т. д.
Откровенно скажу, что я сам бы предпочел начать именно так этот эпизод из моих воспоминаний, но я чувствую, что в данном случае это – невозможно.
Сам дом, в котором это произошло, не просит, а требует от меня, чтобы я описал его хотя бы потому, что его, вероятно, уже нет, да и не будет никогда в наш век, да и в будущем веке.
Читатель, если случайно знает мой возраст, подумает, что я буду говорить о здании конца XIX века, но он ошибется. Я имею в виду 1928 год. Именно тогда в январе месяце я возвращался из Японии в Москву и остановился в Новосибирске. Тогда только центр можно было назвать городом, ибо вокруг него были бесконечные заборы и одноэтажные дома с подслеповатыми окнами. Но все же нашелся и двухэтажный дом. Он-то меня и пленил своей красочностью и как бы демонстративным пренебрежением к европейскому. В нем была самая обыкновенная гостиница, и далеко не обыкновенная. Короче говоря, я был ошеломлен, я не верил своим глазам, когда дежурный вел меня в отведенный мне номер по широкому коридору второго этажа. Что же меня могло удивить?
Картина, которая и сейчас, более полстолетия спустя, стоит перед моими глазами, не потускнела, скорее, даже стала более яркой. Что же было в этой картине особенного? Давность. Она как бы перекинула меня в далекое детство.
Мой номер был в конце коридора. И я залюбовался высокими печами, которые, как гренадеры, показывались то слева, то справа. Их дверцы были открыты. Из них, как веселые змейки, капризно извивался огонь, и я явственно слышал треск дров, от звука которого я успел отвыкнуть.
Когда мы вошли в мой номер, мне, прежде всего, бросился в глаза огромный самовар, стоявший на круглом столе, и рядом на подносе фарфоровый чайник и два стакана на разрисованных розами блюдцах. Я невольно спросил у дежурного:
– Это для красоты?
– Какая там красота? Позвоните, и я приду за ним, и через четверть часа принесу кипящим. А уж заваривать будете сами. Если нет чая, я сбегаю в магазин и принесу.
Я спросил:
– А сейчас можно?
– Какая мне разница, когда?
– И это во всех номерах или же…
Он меня перебил:
– А как же, конечно, во всех…
У меня случайно нашлась пачка чая. И ровно через пять минут он принес кипящий самовар. Пар от него подымался к потолку, а красные угольки весело перемигивались, как бы говоря: «Вспоминай детство!» Ну, и вспоминать иногда бывает полезно.
Теперь я немного успокоился. Картина если и не нарисована, то, по крайней мере, плохо или хорошо, но описана. Но как перейти к главному? Оно будет так не похоже, но все это реально.
Кто-то когда-то мне сказал, что память – это самая капризная женщина в мире. Должно быть, это так, если я мог забыть, при каких обстоятельствах ко мне в номер вошел молодой человек, который назвал себя Леонидом.
– А как ваша фамилия?
– Мартынов.
Теперь это звучит громко. Я люблю его стихи, пожалуй, больше всех живущих в наше время поэтов. Поэты – не шеренга солдат. У них нет: первого, второго, третьего… У них есть любимые или нелюбимые. Сказать «талантливый» – это значит ничего не сказать. Не будучи талантливым, прослыть таковым – тоже талант.
Леонид Мартынов в моих глазах – это что-то огромное, ясное, чистое и волшебное. Это не значит, что я отвергаю других. Было бы нелепо отвергать русскую поэзию. Но больше всего я люблю Леонида. За что? – могут спросить меня. За то, что он говорит с читателем с предельной искренностью. Он протягивает ему руку, горячую, как рука друга, а не холодную, как рука полузнакомого человека.
Фантастика или полуфантастика… Капризна память и забывчива. Не помню, был ли разговор о стихах… Вряд ли. Просто мелькнула тень юного поэта, которому я не предсказывал, как Есенину и Павлу Васильеву, великого будущего. И я присутствовал не при его рождении, но при его зарождении.
18 ноября 1973 года,
Москва
Жена волшебника
Его никто не называл волшебником. Нашему государству было полтора года. Он был скромным советским служащим, но благодаря энергии и страстной любви к кино возглавил первое учреждение кинематографистов.
Что же здесь волшебного?
Читатель, не торопитесь. Я пойду не вперед, а назад, ибо прежде надо узнать его биографию.
Он был сыном скромного священнослужителя в синагоге и, когда отец послал его по делу в Бердичев к главному раввину города, влюбился в его дочь Мальвину. Это была красавица, схожая со всемирно известной Джокондой Леонардо да Винчи. Прекрасно понимая, что отец ее не согласится на этот брак, тайно объяснился ей в любви и сказал, что ее похитит. Меня не было при этой сцене, но через 50 лет после знакомства нашего я могу точно нарисовать картину, как она опустила глаза и ничего не сказала. О своей любви к Мальвине Давид Иоаннович Марьянов сказал отцу и просил его содействия. Скромный священнослужитель, трепеща перед главным раввином, сказал ему о просьбе сына при личном свидании:
– Рабби, умоляю вас, если мой сынок осмелится просить руки дочери вашей – откажите ему. С ним ваша дочь не будет счастлива.
Раввин был тронут этой откровенностью и ответил:
– Бог возблагодарит вас за хороший поступок. Я не выдал бы дочь и за более подходящего жениха: ей всего 16 лет.
Похищение, однако, состоялось, к великому горю бедного раввина. Юная пара появляется в 1916 году в Петербурге. Марьянчик снимает прекрасную квартиру, обставляет ее, заводит связи и знакомства.
– На какие деньги? – спросит читатель.
Не знаю. Но по дальнейшей его карьере догадываюсь: остроумная изобретательность, умение кому-то что-то устроить.
Мальвина, поражавшая сходством с Джокондой, писала стихи, о которых говорили: наивны… милы… Но мог ли Давид Иоаннович пропустить славу Есенина? И вот Сергей Есенин читает свои стихи у Марьянчика и пишет в альбом Мальвины:
В глазах пески зеленые и облака, По кружеву крапленому скользит рука, То близкая, то дальняя – и так всегда. Звезда ее печальная – моя судьба!Я с ним познакомился в Москве в 1918 году, когда был организован Всероссийский Союз поэтов и Мальвина Мироновна стала одной из участниц его первого заседания. До революции молодая чета совершила свадебное путешествие в Италию, и Давид Иоаннович познакомился с Максимом Горьким, находившимся тогда на Капри. По рассказам Мальвины, Давид Иоаннович повез ее к Горькому как молодую начинающую поэтессу. Алексей Максимович принял их любезно, просил что-нибудь прочесть. Сначала она стеснялась, но у Горького была такая ласковая улыбка, что Мальвина, не сбиваясь, прочитала несколько стихотворений. Алексей Максимович погладил ее по голове и сказал:
– Какая молодая, а уже пишет стихи.
Давид Иоаннович спросил:
– Как вы их находите?
– Очень милы, – улыбаясь, ответил Горький.
Но вернемся в 1918 год. Жили Марьяновы тогда на Большой Дмитровке в доме № 8, в квартире 3, выходившей окнами на улицу.
На мой вопрос, почему она такая грустная, Мальвина как-то ответила:
– Мой До уезжает в командировку.
– Надолго?
– Трудно понять.
Однако он скоро вернулся. Я месяца полтора не заходил к ним, а когда пришел – Мальвина была еще более грустной.
– В чем дело? – спрашиваю.
– Он сказал: я тебя люблю и всегда буду любить, но жизнь жестока, я должен тебя покинуть.
И покинул.
Эмигрантом он не был. Сначала его задерживали за границей дела кинематографии, потом загорелся идеей строительства дворца мира. Умудрился съездить в Америку по этому вопросу. Строительство дворца предполагалось в Швейцарии. Потом его увлекла знаменитая скрипачка… И он женился на ней. Этот брак длился недолго. На каком-то съезде или конгрессе в Америке познакомился с Рабиндранатом Тагором и стал его личным секретарем, сопровождая писателя в Москву. Во время своего пребывания в Москве несколько раз заходил к Мальвине и говорил, что по-прежнему ее любит. После отъезда с Тагором в Индию Мальвина не имела от него никаких вестей. Через несколько лет выяснилось, что он познакомился с племянницей знаменитого физика Альберта Эйнштейна и заключил с ней брак. Вскоре стал личным секретарем Эйнштейна, а после его смерти опубликовал о нем мемуары.
Мальвина никогда не жаловалась на него. С допотопной покорностью все принимала. Один раз сказала: «Он родился таким. Без путешествий не представляет себе жизни. И ты знаешь по своим частым поездкам, чем это кончается». Жаловалась, что ее почти не печатают. Кроме справочника Тарасенкова «Русские поэты ХХ века» она нигде не упоминается. Я шутя ответил: «Зато тебя обессмертил Есенин».
Памятник князю Юрию Долгорукому – основателю Москвы вызывает восхищение москвичей и приезжих со всех концов нашей родины и из-за рубежа. Имя автора монументальной скульптуры – Д. И. Орлова – известно. Тем интереснее узнать о двух эпизодах того времени, когда Дмитрий Иванович заканчивал работу над памятником в 1946 году, был поглощен своим творчеством. Рассказывал всем, какие поправки к проекту делал. Если бы была магнитофонная запись его вдохновенных рассказов, это было бы приоткрытие тайны творчества.
Осенью 1946 года я часто бывал в доме поэтессы Мальвины Марьяновой. Однажды она сказала, что наш общий знакомый Дмитрий Иванович Орлов позвонил ей по телефону и сказал, что хочет оторваться от работы и поехать с нами куда-нибудь за город. На другой день мы собрались у Мальвины. Приехал Д. И. Орлов, литератор Шепеленко, подруга Мальвины из Киева и я. Когда узнали, что Мальвина решила везти нас к своей знакомой Ольге Ивановне, отнеслись к ее предложению иронически, так как понимали, что знание искусства у нее поверхностное, вкус весьма зыбкий, но желание отдохнуть на природе перевесило колебания. Перед самым отъездом я все же спросил:
– Стоит ехать к ней, заранее зная, что она будет болтать глупости?
Дмитрий Иванович засмеялся:
– Дорогие друзья, вы забыли слова одного писателя, который, когда его упрекнули, ответил: «У нее я отдыхаю от умных разговоров». Мы согласились ради отдыха пожертвовать «умными разговорами».
Но природа была другого мнения: едва мы вышли из вагона, нас встретил яростный ливень. Минут двадцать мы укрывались под каким-то навесом, похожим, как сказал Дмитрий Иванович, «на огромное дырявое ведро». К счастью, ливень скоро прекратился, но идти на дачу по размытой дороге было трудно. Мы чертыхались, несмотря на присутствие женщин. Наконец доплелись до дачи, хозяйка которой встретила нас с распростертыми объятиями. От радости она не заметила, что все вымокли до нитки.
– Я так беспокоилась, – тараторила она, – боялась крушения поезда. Вы читали, что где-то под Омском состав сошел с рельс? Было столько жертв, просто ужас!
– Ольга Ивановна, – сказал Шепеленко, – ужас в том, что вы, вероятно, не заметили, что мы промокли.
– Что вы, я никогда не была близорукой.
– Тем хуже, – вставил свое слово Дмитрий Иванович.
Мальвина опустила воспетые Есениным глаза. Ее подруга, приехавшая из Киева, сказала:
– У нас гостей встречают по-другому.
Ольга Ивановна ничуть не смутилась. Было впечатление, что она не близорука, а глуха.
– Дорогие гости, решим большинством голосов, где будем пить чай, на балконе или здесь?
– На балконе, – прошептала Мальвина.
– Раз Мальвина хочет, то голосование излишне, – сказала хозяйка и начала болтать о вещах, которые никого не интересовали. Минут десять все из вежливости терпели. Наконец Шепеленко не выдержал.
– Мне пора домой, – сказал он тихо, без всякого раздражения.
– И мне тоже, – поддержал его Дмитрий Иванович.
Я посмотрел на часы и прошептал:
– Я опаздываю.
– Как жаль, – сказала Ольга Ивановна. – Тогда приезжайте в другой раз, будем пить чай на балконе.
В вагоне поезда Шепеленко расхохотался:
– Ну и дача! Ну и поездка! Просто анекдот!
– Ну, если это анекдот, я расскажу интересный эпизод о Долгоруком.
– О Юрии Долгоруком? – уточнила Мальвина.
– Мальвиночка, да вы сошли с ума. Как я могу рассказывать анекдот о Юрии Долгоруком, образ которого для меня свят?! Я расскажу про другого Долгорукова. Когда началась подготовка к празднованию 800-летия Москвы, один сотрудник Моссовета услышал, что в столице живет прямой потомок князя. Узнал адрес и поехал к нему. Это был человек пенсионного возраста, встретил его очень любезно и заявил, что никакого отношения к родословной основателя Москвы он не имеет. Самое курьезное было то, что, отвергая прямое родство с Юрием Долгоруким, он утверждал, что ветвь его предков начинается гораздо раньше.
На другой день, встретившись у Мальвины, мы хохотали до упаду, вспоминая поездку за город, и с тех пор фразу: «Где будем пить чай? На балконе?» – часто повторяли по разным поводам. Она стала для нас символической.
Примечания
1
Так называл Мережковский поэтов, воспевавших войну до победного конца.
(обратно)2
Константин Степанович Еремеев (1874–1931) – журналист, большевик. В 1918–1920 годах был директором издательства ВЦИК.
(обратно)3
Поэзия в большевистских изданиях 1901–1917. Л., «Советский писатель», 1967, с. 192, 195.
(обратно)4
Низами Гянджеви, перевод на русский язык его произведений был осуществлен мной частично в 1941 году и полностью в 1956 году.
(обратно)5
Хранится в Музее Маяковского. Помечено: «Статья Р. Ивнева «Стальной корабль». – Газ. «Анархия», 1918, № 31.
(обратно)6
Помещалось оно на Тверской улице, наискосок от здания Центрального телеграфа, в ту пору существовал только его фундамент.
(обратно)7
Борис Константинович Пронин – создатель литературно-художественных кабаре «Бродячая собака», «Привал комедиантов», «Странствующий энтузиаст», «Мансарда», режисер и театральный деятель.
(обратно)8
Валерий Брюсов «Каменщик».
(обратно)9
Лев Александрович Бруни – художник-авангардист, иллюстратор, автор контррельефов в жанре конструктивизма.
(обратно)10
Метехский замок в Тифлисе в 1816 году был превращен в тюрьму, место содержания политических заключенных.
(обратно)11
Дело Промпартии – крупный судебный процесс по делу о вредительстве в промышленности. Главой Промпартии был объявлен Леонид Константинович Рамзин, профессор и директор Всесоюзного теплотехнического института.
(обратно)12
«День» – ежедневная леволиберальная газета, с 1917 г. – печатный орган меньшевиков.
(обратно)13
«Воля народа» – популярная эсеровская газета.
(обратно)14
Осведомительное агентство – информационно-пропагандистский орган Добровольческой армии, а позднее – Вооруженных Сил Юга России.
(обратно)

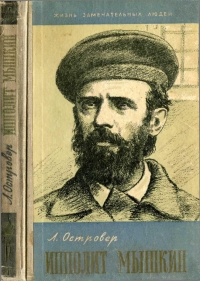


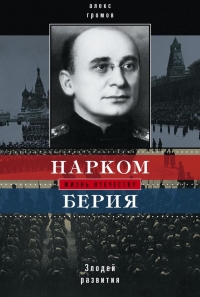


Комментарии к книге «Серебряный век: невыдуманные истории», Рюрик Ивнев
Всего 0 комментариев