Ранние сумерки. Чехов
Как я буду лежать
в могиле один,
так, в сущности,
я и живу один.
А. П. ЧеховЧЕХОВ Антон Павлович — один из самых выдающихся писателей конца XIX — начала XX века. Отец его был крепостным, но выбился из рядового крестьянства, служил в управляющих, вёл собственные дела. Семья Чеховых — вообще талантливая, давшая России нескольких писателей, художников, актёров. Чехов родился 17 января 1860 г. в Таганроге, там же окончил курс гимназии, затем поступил на медицинский факультет Московского университета и в 1884 г. получил степень врача, но практикой почти не занимался. Уже студентом начал (с 1879 г.) помещать, под псевдонимом Чехонте, мелкие рассказы в юмористических изданиях: «Стрекозе», «Будильнике», «Осколках» и других; затем перешёл в «Петербургскую газету» и «Новое время». В 1886 г. вышел первый сборник его рассказов, в 1887 г. появился второй сборник — «В сумерках», который показал, что в лице Чехова русская литература приобрела новое, вдумчивое и тонко-художественное дарование. Под влиянием крупного успеха у читателей и критиков Чехов совершенно бросил свой прежний жанр небольших газетных очерков и стал по преимуществу сотрудником ежемесячных журналов («Северный вестник», «Русская мысль», позднее «Жизнь»), Успех Чехова всё возрастал: особенное внимание обратили на себя «Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Мужики» (1897), «Человек в футляре», «В овраге»; из пьес — «Иванов», не имевший успеха на сцене, «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры». Огромная популярность Чехова выразилась в том, что все сборники его произведений выдержали помногу изданий: «В сумерках» — 13 изданий, «Пёстрые рассказы» — 14, «Хмурые люди» — 10, «Палата № 6» — 7, «Каштанка» — 7, «Рассказы» — 13 и т. п. В 1901 — 1902 гг. А. Ф. Маркс издал полное собрание сочинений Чехова в 10 томах.
В 1890 г. Чехов совершил поездку на Сахалин. Вынесенные из этой поездки мрачные впечатления составили предмет целой книги: «Остров Сахалин» (1895). Позднее Чехов много путешествовал по Европе. Последние годы он для поправления здоровья постоянно живёт в своей усадьбе под Ялтой, лишь изредка наезжая в Москву, где жена его, даровитая артистка Книппер, занимает одно из выдающихся мест в известной труппе московского «Литературно-художественного кружка» (Станиславского). В 1900 г., при первых же выборах в Пушкинское отделение Академии наук, Чехов был избран в число почётных академиков.
Литературную деятельность Чехова принято обыкновенно делить на две совсем ничего общего между собой не имеющие половины: период Чехова-Чехонте и позднейшую деятельность, в которой писатель освобождается от приспособления к вкусам и потребностям читателя мелкой прессы. Для этого деления есть известные основания. Несомненно, что Чехов-Чехонте в «юмористических» рассказах не стоит на высоте своей репутации первостепенного писателя. Если, однако, глубже и внимательнее присмотреться к рассказам Чехонте, то нетрудно и в этих наскоро набросанных эскизах усмотреть печать крупного мастерства Чехова и всех особенностей его меланхолического дарования. Непосредственной «юмористики», физиологического, так называемого «нутряного» смеха тут не очень-то много. Есть, правда, немало анекдотичности и даже прямого шаржа, вроде, например, «Романа с контрабасом», «Винта», «Смерти чиновника», «Драмы», «Капитанского мундира» и др. Но, за исключением разве только «Романа с контрабасом», едва ли есть у Чехонте хотя бы один рассказ, сквозь шарж которого ярко не пробивалась бы психологическая и жизненная правда.
Перед нами развёртывается ежедневная жизнь во всём трагизме своей мелочности, пустоты и бездушия. Отцы семейства, срывающие на близких всякого рода неприятности по службе и карточным проигрышам, взяточничество провинциальной администрации, интриги представителей интеллигентных профессий, грубейшее пресмыкательство пред деньгами и власть имущими, скука семейной жизни, грубейший эгоизм «честных» людей в обращении с «продажными тварями» («Анюта», «Хористка»), безграничная тупость мужика («Злоумышленник»), полное вообще отсутствие нравственного чувства и стремления к идеалу — вот та картина, которая развёртывается перед читателем «весёлых» рассказов Чехонте.
Художественные приёмы Чехонте столь же замечательны, как в позднейших произведениях Чехова. Больше всего поражает необыкновенная сжатость формы, которая до конца остаётся основной чертой художественной манеры Чехова. Относительно «большие» вещи Чехова — например, «Степь» — часто представляют собой не что иное, как собрание отдельных сцен, объединённых только внешним образом. Чеховская сжатость органически связана с особенностями его способа изображения. Дело в том, что Чехов никогда не исчерпывает свой сюжет всецело и всесторонне. Будучи реалистом по стремлению давать неприкрашенную правду и имея всегда в запасе огромнейшее количество беллетристических подробностей, Чехов, однако, рисует всегда только контурами и схематично, то есть давая не всего человека, не всё положение, а только существенные их очертания, выдвигает только то, что ему кажется в данном человеке характерным и преобладающим. Чехов почти никогда не даёт целой биографии своих героев; он берёт их в определённый момент их жизни и отделывается двумя-тремя словами от прошлого их, концентрируя всё внимание на настоящем. Он рисует, таким образом, не столько портреты, сколько силуэты. Оттого-то его изображения так отчётливы; он всегда бьёт в одну точку, никогда не увлекаясь второстепенными подробностями. Отсюда сила и рельефность его живописи, при всей неопределённости тех типов, которые он по преимуществу подвергает своему психологическому анализу. Если к этому прибавить замечательную колоритность чеховского языка, обилие метких и ярких слов и определений, то станет очевидным, что ему много места и не нужно.
По художественной манере особое место занимает театр Чехова. Как и повествовательные его произведения, драматическая деятельность Чехова распадается на два периода. Сначала он написал несколько истинно весёлых вещей, из которых не сходят со сцены «Медведь» и «Предложение». Серьёзные пьесы второго периода — это пьесы «настроения» по преимуществу, в которых соответствующая игра актёров имеет почти решающее значение. «Три сестры», например, в чтении совершенно не понравились и местами даже возбуждали смех. Но в постановке московской труппы Станиславского «Три сестры» произвели огромнейшее впечатление, потому что те самые мелочи, часто даже простые ремарки, которые в чтении не замечаются и пропадают, были ярко подчёркнуты замечательно вдумавшейся в намерения автора труппой, и зрителю сообщалось авторское настроение. «Дядя Ваня» производит при чтении сильное впечатление, но сценическое исполнение значительно усиливает общий эффект пьесы и в особенности впечатление беспросветной тоски, в которую погружается «дядя Ваня» по отъезде гостей.
Существенным отличием Чехова-Чехонте от Чехова второго периода является сфера наблюдения и воспроизведения. Чехонте не шёл дальше мелочей обыденного, заурядного существования тех кругов общества, которые живут элементарной, почти зоологической жизнью. Но когда критика подняла самосознание молодого писателя и внушила ему высокое представление о благородных сторонах его тонкого и чуткого таланта, он решил подняться в своём художественном анализе, стал захватывать высшие стороны жизни и отражать общественные течения. На общем характере этого позднейшего творчества, начало которого можно отнести к появлению «Скучной истории» (1888), ярко сказалась та мрачная полоса отчаяния и безнадёжной тоски, которая в 80-х гг. охватила наиболее чуткие элементы русского общества. Восьмидесятые годы характеризуются сознанием русской интеллигенции, что она совершенно бессильна побороть косность окружающей среды, что безмерно расстояние между её идеалами и мрачно-серым, беспросветным фоном живой русской действительности. В этой живой действительности народ ещё пребывал в каменном периоде, средние классы ещё не вышли из мрака «тёмного царства», а в сферах направляющих резко обрывались традиции и настроения «эпохи великих реформ». Всё это, конечно, не было чем-нибудь особенно новым для чутких элементов русского общества, которые и в предшествующий период 70-х гг. сознавали всю неприглядность тогдашней «действительности». Но тогда русскую интеллигенцию окрылял особенный нервный подъём, который вселял бодрость и уверенность. В 80-х гг. эта бодрость совершенно исчезла и заменилась сознанием банкротства перед реальным ходом истории. Отсюда нарождение целого поколения, часть которого утратила самое стремление к идеалу и слилась с окружающей пошлостью, а часть дала ряд неврастеников, «нытиков», безвольных, бесцветных, проникнутых сознанием, что силу косности не сломишь, и способных только всем надоедать жалобами на свою беспомощность и ненужность. Этот-то период неврастенической расслабленности русского общества и нашёл в лице Чехова своего художественного историка. Именно историка: это очень важно для понимания Чехова. Он отнёсся к своей задаче не как человек, который хочет поведать о глубоко его волнующем горе, а как посторонний, который наблюдает известное, явление и только заботится о том, чтобы возможно вернее изобразить его. То, что принято у нас называть «идейным творчеством», то есть желание в художественной форме выразить своё общественное миросозерцание, чуждо Чехову и по натуре его, слишком аналитической и меланхолической, и по тем условиям, при которых сложились его литературные представления и вкусы. Не нужно знать интимную биографию Чехова, чтобы видеть, что пору так называемого «идейного брожения» он никогда не переживал. На всём пространстве его сочинений, где, кажется, нет ни одной подробности русской жизни, так или иначе не затронутой, вы не найдёте ни одного описания студенческой сходки или тех принципиальных споров до бела дня, которые так характерны для русской молодёжи.
Идейной стороной русской жизни Чехов заинтересовался уже в ту пору, когда восприимчивость слабеет и «опыт жизни» делает и самые пылкие натуры несколько апатичными в поисках миросозерцания. Став летописцем и бытописателем духовного вырождения и измельчания нашей интеллигенции, Чехов сам не примкнул ни к одному определённому направлению. Он одновременно близок и к «Новому времени», и к «Русской мысли», а в последние годы примыкал даже всего теснее к органу крайне левой нашей журналистики, недобровольно прекратившему своё существование («Жизнь»). Он относится безусловно насмешливо к «людям шестидесятых годов», к увлечению земством и т. д., но у него нет и ни одной «консервативной» строчки. В «Рассказе неизвестного человека» он сводит к какому-то пустому месту революционное движение, но ещё злее выставлена в этом же рассказе среда противоположная. Это-то общественно-политическое безразличие и даёт ему ту объективную жестокость, с которой он обрисовал российских нытиков. Но если он не болеет за них душой, если он не мечет громов против засасывающей «среды», то он относится вместе с тем и без всякой враждебности к тому кругу идей, из которых исходят наши Гамлеты, пара на грош. Этим он существеннейшим образом отличается от воинствующих обличителей консервативного лагеря.
Ту же неумолимую жёсткость, но лишённую всякой тенденциозной враждебности, Чехов проявил и в своём отношении к народу. В русской литературе нет более мрачного изображения крестьянства, чем картина, которую Чехов набросал в «Мужиках». Ужасно полное отсутствие нравственного чувства и в тех вышедших из народа людях, которые изображены в другом рассказе Чехова — «В овраге». Но рядом с ужасным Чехов умеет улавливать и поэтические движения народной жизни — и так как одновременно Чехов в самых тёмных красках рисует «правящие классы», то и самый пламенный демократизм может видеть в беспощадной правде Чехова только частное проявление его пессимистического взгляда на людей. Художественный анализ Чехова как-то весь сосредоточился на изображении бездарности, пошлости, глупости российского обывателя и беспросветного погрязания его в тине ежедневной жизни. Чехову ничего не стоит уверять нас в «Трёх сёстрах», что в стотысячном городе не с кем сказать человеческого слова и что уход из него офицеров кавалерийского полка оставляет в нём какую-то зияющую пустоту. Бестрепетно заявляет Чехов в «Моей жизни» устами своего героя: «Во всём городе я не знал ни одного честного человека».
Двойной ужас испытываешь при чтении превосходного психологически-психиатрического этюда «Палата № 6»: сначала — при виде тех чудовищных беспорядков, которые в земской больнице допускает герой рассказа, бесспорно лучший человек во всём городе, весь погруженный в чтение доктор Андрей Ефимович; затем, когда оказывается, что единственный человек с ясноосознанными общественными идеалами — это содержащийся в палате № 6 сумасшедший Иван Дмитриевич. Есть, однако, пессимизм и пессимизм. Нужно разобраться и в чеховском пессимизме, нужно отделить его от того расхожего пессимизма, который, насмешливо относясь к «идеальничанью», граничит с апофеозом буржуазного «благоразумия», — у Чехова всё же чувствуется какая-то глубокая тоска по чему-то хорошему и светлому.
Было время, когда Чехова обвиняли в глубоком равнодушии. Н. К. Михайловский ярче всех формулировал этот упрёк, сказав, что Чехов с одинаковым хладнокровием «направляет свой превосходный художественный аппарат на ласточку и самоубийцу, на муху и слона, на слёзы и на воду». Но пора этих упрёков теперь более или менее миновала. Тот Н. К. Михайловский усмотрел в «Скучной истории» некоторую «авторскую боль». Теперь едва ли многие станут спорить против того, что если у Чехова и нет определённого общественного миросозерцания, то у него всё-таки есть несомненная тоска по идеалу. Он, несомненно, потому всё критикует, что у него очень большие нравственные требования. Он не создаёт положительных типов, потому что не может довольствоваться малым. Если, читая Чехова, и приходишь в отчаяние, то это всё-таки отчаяние облагораживающее: оно поселяет глубокое отвращение к мелкому и пошлому, срывает покровы с буржуазного благополучия и заставляет презирать отсутствие нравственной и общественной выдержки.
А. П. Чехов умер в ночь с 1 на 2 июля 1904 года.
С. Венгеров
ПОПРЫГУНЬЯ 1889-1891
I
н жил в старом барском доме, в зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, заменяющего кровать, да ещё стола, на котором раскладывался пасьянс; для работы он пользовался тоже широкими, чуть ли не в метр, подоконниками и, поднимая взгляд, видел тихое поле и еловую аллею вдали. Три дня в неделю здесь громоздились папки сахалинских материалов, ещё три дня шла работа над романом, который никак не вырастал из повести, и лишь по воскресеньям он отдыхал, сочиняя маленькие рассказы.
Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах[1], а в середине августа ночью разразилась гроза, весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, когда все пять больших окон вдруг освещались молнией. Если бы она была рядом, они оба проснулись бы от грозы, она испугалась бы грома, а он держал бы её в своих объятиях и шептал: «Не бойся, я здесь».
Утром, когда он сидел над рукописью «Дуэли», так и не ставшей романом, пришла Маша и сообщила новость, из которой следовало, что она никогда не проснётся рядом с ним.
Рассказывая, Маша бросала осторожные, внимательные взгляды — пыталась понять, как отнёсся брат к случившемуся, и он чувствовал исходящее от неё тепло любви и тревоги. Иногда его смешили эти тщетные попытки проникнуть в его тайную сущность, но теперь было не смешно, и он с безжалостной силой сжимал в тугой комок сердце, трепещущее от боли и обиды, укрываясь в то же время от беспокойных глаз сестры обычной обезоруживающе мягкой улыбкой.
— Но... Ты... Ты хорошо себя чувствуешь?
— Я себя чувствую как автор повести, которую давно ждут в редакции. Сашечка писал, что Суворин вернулся от нас с зубной болью и странным равнодушием к любимой газете. Ты разве не читала письмо?..
Говорили о последнем письме Чехова-старшего, сидевшего в редакции «Нового времени», о ночной грозе, о том, что лето проходит и сегодня пастухи уже в тулупах гнали стадо, о том, что третий Спас подвёл и будет неурожай, а возможно, и голод, а об его отношении к её жестокому рассказу Маша не услышала ни слова. Сняв пенсне, он смотрел в окно на поле, съёжившееся под угрюмой предосенней хмарью, и пытался разглядеть крыши села Даньково и белый дом с террасой и мезонином.
— Ну-с, «Дуэль» я всё-таки заканчиваю и посылаю. Фамилия героя что-то не очень мне нравится. Ладзиевский. Не будут говорить, что Чехов в «Новом времени» хорошо отделал полячишку? Как ты думаешь?
— Кто-нибудь, может, и скажет.
— Пошлю так, а Алексей Сергеевич свежим взглядом посмотрит и подскажет. Ты согласна?
Маша согласилась — она почти всегда соглашалась с его литературными решениями, но говорила о его работе да и о своей живописи как о чём-то не очень важном. Наверное, для женщины искусство не может быть главным в жизни. Для женщины главное в жизни — жизнь.
Уже взявшись за ручку двери, Маша остановилась и повернулась к брату. Он посмотрел на неё строго: неужели всё-таки спросит о ней?
— Да. Что-то я ещё хотела...
Неужели осмелится?
— Киселёвы собираются уезжать. Пакуют вещи.
Не осмелилась.
— Жаль. Не с кем будет играть в пикет. Третьего дня я получил великолепный карт-бланш.
— Да. Вот что. Приехал какой-то моряк. Хочет тебя видеть.
— Может быть, к хозяину? Ведь наш Ге-ге потомственный флотоводец.
— Говорит — к тебе. Я сказала, что по утрам ты работаешь. Будет ждать.
— Наверное, какой-нибудь сахалинец. Пусть ждёт, а я займусь «Дуэлью», пока меня самого Суворин не пристрелил, как Ленского.
Справа за окном недоумённо раскачивалась берёза. Наверное, удивлялась, зачем он придумал этих людей и их нелепые судьбы, казавшиеся теперь такими мелкими и не интересными по сравнению с бушевавшей в его груди бурей. Листая рукопись, остановился на странице с эпизодом купания. «Ольга быстро сбросила с себя платье и сорочку и стала раздевать свою барыню...» Ялтинские наблюдения в бинокль из павильона Верне в то счастливое лето, когда он ещё не знал её. Не знал, но уже придумал. Именно тем летом в Ялте и придумал. Даже ещё раньше — во времена «Осколков». Или ещё гимназистом в Таганроге после первой встречи с театром.
Давали «Прекрасную Елену», и перед тринадцатилетним подростком явилась светящаяся женщина. Он видел не актрису в свете софитов, а женщину, излучающую свет, розовые язвочки сосков на её солнечной коже под прозрачно! опереточной одеждой, голый, бесстыдно трогательный ну почек, ритуальные движения бёдер, повязанных лёгкою едва держащеюся тканью...
У язвительного Щедрина в «Головлевых» «племяннушка» играет Елену; «Когда в третьем акте, в сцене ночном пробуждения, она встала с кушетки почти обнажённая, то в зале поднялся в полном смысле стон». Таганрогский театр бурлящий перебродившей украинско-греческой кровью тоже вскипал в соответствующие моменты, и у гимназиста горели щёки, но он не желал светящуюся женщину, а жалел. От природы он получил право на безошибочный и безжалостный приговор и, оправившись от начального зрелищного шока, определил несомненную прелесть музыки, немудрёность сюжета и бездарность главной актрисы. Она чересчур много бросала в зал неистовых куплетов-выкриков, вызывающих улыбок, нелепых телодвижений, а он видел не игру, а неумелое притворство. Талантливым было лишь её тело, которое она предлагала публике в обмен на малую толику аплодисментов.
Гимназисту представлялась печальная история о её тяжёлой судьбе, о жестоком тиране, заставляющем её кривляться на людях за деньги, а потом отнимающем заработанное. Жирный Менелай, наверное, и был этим тираном и мучил её за кулисами после спектакля.
Женская красота почему-то всегда вызывает у него не желание, не восторг и не наслаждение, а тяжёлую, хотя и приятную грусть, неопределённую, смутную, как сон. И всегда хочется написать рассказ о красивой, но неудачливой актрисе, о её драматической судьбе. В «осколочные» времена в «Трагике» он придумал дочь исправника Машу, влюбившуюся в актёра и бежавшую с ним. Она пыталась играть на сцене и переносила побои и издевательства своего любимого. Лейкин тогда не дал ему расписаться в повесть, и хорошо: превратившись из Чехонте в известного всей России Чехова, он напишет больше и лучше. Первую пробу он сделал в то лето в Ялте. Тогда он и придумал её.
II
Ялтинское солнце высветило на первой странице местного листка сообщение о скором прибытии в город писателя Чехова. Телеграммы о празднестве в Париже отошли в тень — какое может быть столетие взятия Бастилии, когда пятнадцатилетняя девушка услышала онегинский колокольчик. Она сказала: это он. Тот, кто сделает её великой писательницей.
Лена Шаврова, старшая из трёх сестёр, приехавших с гувернанткой на морские купания, начала с того, что свой рассказ, который принесёт ей славу, переписала на верже[2] правильным гимназическим почерком. Потом долго крутилась перед зеркалом, выбирая причёску и платье. К несчастью, она не красавица, которой всё к лицу, но если вот так распустить волосы и приоткрыть грудь... Мужчины любят гимназисток.
Утром прибежал поручик, снимавший соседнюю дачу, и от калитки закричал, размахивая белой фуражкой:
— Он на «Ольге»! Весь город уже на пристани! Идёмте, Лена, а то опоздаем.
Сёстры знали писателя Чехова: Ольга читала «Степь», а младшая Аня, Ашенька, — «Ваньку» и «Каштанку». Готовые в любой момент радоваться всему на свете, они шумно выразили свой восторг. Оля исполнила мазурку в паре с крокетным молотком, напевая: «Он приехал, он приехал», Ашенька тискала Miss Brown, а потом набросилась на Лену, возмущаясь её медлительностью.
Учитывая предполагаемое развитие событий, следовало действовать расчётливо и осторожно, и Лена, мысленно уже мчавшаяся к пристани, сказала удивлённо:
— Ну и приехал. Что же здесь особенного?
— Что вы, Лена! — возмутился поручик. — Весь город встречает. Вечером пикник в Массандре. Мадам Яхненко приглашает всех.
— Не пойдёшь встречать — тебя на пикник не пустят, — пригрозила Аня.
На пристань успели вовремя — первые шлюпки с пассажирами только-только отчалили от парохода и закачались насильной волне. Беспокойный прибой, терзающий камни недостроенных причалов, и тихая толпа встречающих разорвали утро солнечных надежд — уверенность осталась там, где сверкают зайчиками окна дач и в голубом мареве млеют виноградники, здесь же трагический грохот волн и безмолвные зрители, наблюдающие чью-то гибель. Наверное, гибель надежд Лены на встречу с Чеховым. Разве сможет она пробиться сквозь толпу местных знаменитостей? Высокая крикливая мадам Яхненко в чём-то вызывающе жёлто-красном, окружённая свитой человек из десяти, конечно, первая подойдёт к писателю. Здесь же поэт Владимир Шуф в неизменной красной рубашке, писатель Гурлянд, совсем молодой, а уже будто бы на равных с Чеховым. Говорили, что он организовал встречу. Художник Чернявский в обязательной синей блузе и бархатном берете — наверное, считает, что художник должен не писать картины, а одеваться определённым образом. Инородными возбудителями сновали среди терпеливо ожидающих существа особой породы — их роднили безумная сосредоточенность лиц, нервные движения, прячущиеся взгляды и, главное, рулончики, перевязанные ленточками, преимущественно голубыми. Лена свой рассказ не взяла. Эти бледные невыспавшиеся юноши для неё не соперники.
Не надо напрасно волноваться, не надо носить свои гениальные произведения литературным мэтрам, не надо исписывать ночами толстые тетради. Чтобы стать писателем, надо быть пятнадцатилетней девушкой, пусть даже не очень красивой, но готовой на всё, и подстеречь живого классика в удобный момент в удобном месте и остаться с ним наедине. Здесь же, в толпе встречающих, можно только узнать, где остановится Чехов, и, исходя из этого, планировать удобное время и удобное место.
Первыми возле Чехова, вышедшего из шлюпки, оказались мадам Яхненко и доктор Фарберштейн, усатый незаметный брюнет в очках. Яхненко громко приветствовала гостя, а доктор, поговорив с Чеховым, стал распоряжаться носильщиками, тащившими саквояж писателя и ещё какие-то вещи к набережной, где стояли коляски.
— Да. Он будет жить у доктора, — сказал поручик. — В Черноморском переулке.
Ближе к писателю протиснулись, когда он разговаривал с Гурляндом. Сначала Лена увидела его в профиль: высокий лоб, желтизна усталости на осунувшейся щеке.
— Пропала, должно быть, и моя новая пьеса, и мой новый рассказ, — говорил Чехов. — Чувствую, что они сболтались в голове от этой подлой качки. Так что скажите этим юношам, — он кивнул в сторону молодого человека, прижимавшего к груди рукопись, — что я и своё-то всё позабыл.
— Я был у Корша на «Иванове», — сказал Гурлянд. — Пьеса того же направления?
— Без выстрелов и без закусок. Чёрт их знает как они у меня много едят на сцене.
Он повернулся, пенсне болталось на шнурке на груди, и Лена увидела его глубокие голубые глаза, исполненные решимости и веры во что-то известное лишь ему. Мужчине с такими глазами женщина отдаст всё и пойдёт за ним на край света.
Местом встречи был намечен Черноморский переулок, но и на пикник Лена отпросилась у miss Brown. Её отпустили с поручиком Юрочкой, которого она не считала за мужчину, — с девушкой он умел только играть в крокет. В Массандровскую долину двинулось чуть ли не всё русское население города. Ехали верхом, на ялтинских колясках-корзинах; группы молодёжи добирались и пешком. На поляне под шелковицами были расстелены ковры, разложены подушки, и на скатертях теснились бутылки, окружённые пирогами, рыбой, горами черешни всех цветов.
Чехов, отдохнувший, переодевшийся в светлый костюм, сидел в кругу ялтинских знаменитостей и чиновников, далеко от молодёжи, и, конечно, не мог заметить Лену среди местных красавиц. После первых речей и тостов запели «Быстры, как волны, дни нашей жизни, что день, то короче к могиле наш путь...» — сказали, что это его любимая песня. В общем хоре тоже невозможно было выделиться. Потом ставили живую картину. Лена не могла пробиться вперёд и не поняла сюжет, но видела Чехова, изображавшего монаха-отшельника, молящегося в гроте. Поразило мрачно посерьезневшее его лицо и непреклонность веры во взгляде — он действительно молился, действительно верил!
Начались игры. Чехов подошёл к молодёжи, выстраивавшейся парами для горелок, и здесь Лена бегала, не чувствуя сердца, кричала «горю-у» и знала, как живописно развеваются её распущенные волосы и пикантно поднимается юбка, высоко обнажая ноги. Смотрела на писателя, уже уставшего, ссутулившегося, сдвинувшего на затылок серую фетровую шляпу, и убеждала себя, что он её заметил.
Стемнело, возник открыточный ялтинский пейзаж с оранжевой луной над кипарисами; собирали хворост, жгли костры и вновь пели любимые чеховские: «Нелюдимо наше море», «Gaudeamus igitur».
Когда разъезжались, Лена сумела оказаться возле коляски, в которую вместе с мадам Яхненко и доктором Фарберштейном садился Чехов. Она стояла совсем рядом и даже коснулась его тёплой руки. Восторженно вбирала взглядом его усталое лицо доброго учителя, вслушивалась в музыку его чудесного баритона.
— Такой приём устраивали в Крыму только Потёмкину, — говорил писатель. — Так что теперь прошу именовать меня Чехов Таврический.
— А Ялту — чеховской деревней, — сказал кто-то рядом.
— Какая же Ялта деревня? — возразил Чехов. — Ялта — жемчужина юга. Вы согласны, девушка?
Он обратился к ней! К Лене Шавровой, будущей великой писательнице! Млея от радости, она что-то бормотала в ответ, а он смотрел на неё, конечно же с любовью.
Глядя вслед коляске, Лена представляла счастье сидеть сейчас рядом с ним, слушать его чудный голос и как бы случайно, из-за толчков, прижиматься к его телу. Из ущелья Уч-Кош всегда тянет холодом, и он побеспокоился бы о ней и укрыл бы её ноги пледом.
Почти всю ночь она не могла заснуть, пытаясь вообразить, как это всё произойдёт у неё с ним. Поднималась, бродила по комнате, снимала ночную сорочку, рассматривала своё тело, радовалась чистоте кожи, налившимся грудям, соблазнительным бёдрам. Всё это для него.
Когда утром сёстры и miss Brown расспрашивали о пикнике, Лена изображала равнодушие: ничего, мол, интересного, только устала, а после купания сказала, что пойдёт в магазин Майкапара за шёлком для подушки, и помчалась в Черноморский переулок.
С непросохшими распущенными волосами, прикрываясь от солнца бело-розовым зонтиком, в лёгком белом платьице, Лена долго дежурила на углу короткого солнечно-песчаного переулочка, круто сбегавшего к набережной, пока наконец не хлопнула калитка дворика, затенённого сафорами...
Чехов спускался к набережной с резной крымской тростью в руке, в пиджаке нараспашку, в кремовой чесучовой рубашке, завязанной у ворота красными шнурками с шариками на концах, в шляпе, модно продавленной посередине и сдвинутой на затылок. Голубые глаза не переносят яркого света, и, прищуриваясь, он не обратил внимания на девушку, кого-то ожидавшую на углу.
III
В Ялту он попал так же случайно, как и в литературные знаменитости. В том суматошном году неслучайным было только несчастье — смерть брата Николая. От чахотки, то есть от водки и беспорядочной жизни, в тридцать один год ушёл талантливейший несостоявшийся художник — был бы не слабее своего друга Левитана. Когда его везли на лето в Сумы, в имение Линтваревых, чувствовалось, что в Москву ему не вернуться. Однако ещё можно было шутить: «Коля совсем не пьёт... воду». За две недели до конца грунтовал циферблат часов — хотел писать женскую головку...
В человеке многое, если не всё, заложено с детства, с рождения. Рассматривая семейную таганрогскую фотографию, замечаешь удлинённое, словно заспанное лицо самого старшего — Александра. Сонность, отсутствующий взгляд, вяло отвисшая нижняя губа — признаки бесхарактерности и склонности к запоям. Несчастный Николай был тоже старше его — на два года, а на вид казался младше из-за небольшого роста и маленькой, сужающейся к подбородку головки. Его взгляд неспокоен, словно уже завладели им губительные страсти. Угрюмо-серьёзен Иван — быть ему учителем. Строга и сосредоточенна маленькая Маша, и уже заметна в ней излишняя прямолинейность. Миша — ещё не человек, а о себе незачем судить по старой фотографии: себя он сделал сам, если и была дурная наследственность, он её преодолел.
Александр своих слабостей не поборол, даже и не пытался. Проводит время, по его выражению, отчётливо, что означает пить до потери сознания. А Коля так и ушёл.
Сознание говорило, что произошло неизбежное, что в семье теперь наступит облегчение, но организм не внимал доводам разума, и он не мог спать, не мог есть, забросил удочку и, разумеется, даже не пытался садиться за новую редакцию «Лешего» и за рассказ о старом профессоре, подводившем итоги заканчивающейся жизни.
Если в литературные знаменитости он попал благодаря тому, что известному нововременцу Буренину почему-то понравились его «осколочные» рассказы, то в Одессу, а затем и в Ялту — из-за того, что друг семьи таганрожец Петя Сергеенко, пописывающий водевильчики в стихах, случайно отправился пароходом из Мариуполя в Одессу и в буфетно-палубных разговорах сошёлся с компанией артистов Малого театра, ехавших на гастроли туда же. Узнав о смерти Николая, Сергеенко предложил пригласить Чехова — друзья-актёры на спектаклях и особенно после спектаклей помогут писателю оттаять. Старый приятель Чехова знаменитый Гамлет Александр Ленский[3] горячо поддержал, другие, разумеется, тоже, в их числе и юная черноглазка Глафира Панова, только что бросившая балет и превратившаяся в Офелию. Из Севастополя дали телеграмму в Сумы. Получили ответ: «Если Ленского зовут Александром Павловичем, то выеду вторник».
Сначала ходили на «Гамлета» и «Горе от ума» с братом Иваном, но вскоре он поставил всем ноль по поведению и уехал. Стало ещё веселее. Актёры вообще милые люди, если не принимать их всерьёз, не вникать в интриги вокруг ролей и бенефисов и не разговаривать о взглядах Льва Толстого на семью и брак.
Клеопатра Каратыгина до сорока лет сохранила способность высказываться без обиняков, а потом по-девичьи смущаться до потери дара речи, что и продемонстрировала, когда увидела его впервые. Он по таганрогской привычке грыз семечки, доставая их из бумажного фунтика. Ленский раскатисто провозгласил о появлении «звезды литературы», а Клеопатра воскликнула удивлённо:
— Звезда? Грызёт семечки! Нарядный литератор с фунтиком!
Нарядный — потому что на нём была серая пара, шапочка-«колибрийка» пирожком и сорочка с брыжами на груди и рукавах.
— Я самый и есть, — подтвердил он. — Выписан сюда на гастроли.
Актриса покраснела, остолбенела, и пришлось долго приводить её в чувство.
После обеда, в жару, он спал в номере, когда его вдруг разбудил лакей Михаил, прозванный Михаилом Архангелом за чопорность. «Я им говорил, что они сплять, — оправдывался он, — а они требовають». Заспанный, поплёлся он в номер Каратыгиной и здесь был почти смертельно ранен в сердце. Двадцатилетняя Панова бросила на него взгляд любопытствующей девочки, затем в чёрных черешенках её глаз заиграли тайные женские сигналы, а прочитав на его лице ожидаемый ответ, она одарила его улыбкой актрисы, удовлетворённой успехом. Клеопатра грустно вздохнула и сказала:
— Наша Глаша в первый раз уехала от папы с мамой — не обижайте её. А позвали мы вас, потому что хотим чаю. Вот вам шестнадцать копеек — принесите полфунта мармелада.
Оказалось, что у них больше не было денег. Он принёс и мармелад, и карамели, и английское печенье, и начались чаепития, и ежедневные, и ежевечерние, скорее еженощные — после спектакля до двух часов. После ночных чаепитий он шёл к Пановой, по-ренегатски презирающей балет с шекспировских высот, но так и не отделавшейся от некоторых особенных телодвижений: босиком по ковру к постели шла короткими танцевальными шагами, а останавливаясь, чтобы сбросить халатик, располагала ступни под прямым углом одна к другой. Вскоре это стало казаться безобразным.
Каратыгина представляла опасность, как отвергнутая претендентка, и он придумал для неё роль верной подруги мужчины, прощающей временное увлечение другой. Пришёл, когда она была одна, принёс «В сумерках» с надписью: «Великой артистке земли русской». Едва ли не самым большим её актёрским достижением была роль Призрака в «Дон Жуане», и надпись насторожила.
— Но вы же объездили всю Россию, — успокаивал он. — Если я нарядный литератор с фунтиком, то вы, конечно, великая.
— Ах, вы опять о той моей неудачной шутке?
— Шутка была замечательная. Я сразу почувствовал, какая вы добрая, искренняя женщина. Мне кажется, что я знаю вас очень давно. Сейчас, после смерти Коли, я потерял душевное равновесие...
— Я знаю, — перебила она его резко.
— В Москве мы обязательно будем встречаться. Я должен многое рассказать вам.
— А здесь?
— Здесь меня тоже мучают мысли, многие планы, и не с кем поделиться и посоветоваться. Я знаю, что вам можно доверить самое сокровенное, нисколько нс опасаясь за сохранность тайны.
Клеопатра заинтересовалась, и вместо непроходящей обиды в её глазах и лице вновь появилось обычное выражение сочувственной внимательности.
— Какие уж такие у вас страшные тайны, Антон Павлович?
— Я хочу посоветоваться с вами по поводу одного моего плана, о котором ещё не знает ни один человек на свете. Вы — первая, кому я скажу о своём решении, уже почти окончательном. Следующей весной я поеду на Сахалин, на каторжный остров...
Он знал, что Клеопатра польщена такой откровенностью и никому ничего не расскажет, потому что будет ждать встречи с ним в Москве.
Сергеенке было сказано, что невозможно жить без настоящего малороссийского борща с бараниной и помидорами, и тот однажды повёз его за город на дачу к некоему местному литератору. Борщом действительно накормили, в садике цвели розы, море солнечным лезвием резало горизонт, и литератор оказался не без таланта, но весьма неприятно, когда на тебя смотрят как на оракула и задают робкие вопросы типа: «Над чем вы сейчас работаете?»
Хозяин дачи Игнатий Потапенко вообще был чем-то неприятен, возможно, тем, что слишком походил на него самого: примерно тех же лет, вырос на Украине, даже внешне похож — рост, усы, бородка. Даже театр любит, пожалуй, больше, чем литературу: лучший рассказ в книжке, изданной в Одессе, именно о театре. Конечно, «Иллюзия и правда» задумана примитивно прямолинейно, однако сделана точно, редактировать не требуется.
— Над чем вы сейчас работаете, Антон Павлович? Может быть, напишете о нашем городе?
— Я не могу описывать то, что переживаю. Я должен отойти от впечатления, чтобы изобразить его.
К Потапенке больше не ездили, а борща ради нашли в городе трактирщицу, угощавшую ещё и домашним пшеничным хлебом, и красными стручками перца. Как-то за обедом Сергеенко, несколько заминаясь, сказал, что Лика Ленская надоедает разговорами о Пановой: Глафиру не хотели отпускать на гастроли, она так молода и неопытна, но будет прекрасной женой писателя...
Он ответил раздражённо:
— Почему-то всех Лидий стали звать Ликами. И что эта Лика сует свой нос куда не следует? Никогда артисты, художники не должны соединяться в браке. Каждый художник, писатель, артист любит лишь своё искусство, весь поглощён им. Какая же тут может быть взаимная супружеская любовь?
После такого отдыха требовался отдых. Суворин приглашал в Италию, Плещеев — в Грецию[4], а он поехал в Ялту, где его ждали и даже сняли дачу у некоего доктора, который обещал не вести дискуссий о долге интеллигенции перед народом.
IV
Стеклянный павильон француза Верне стоял на набережной, почти напротив Черноморского переулка, терраса с полосатыми зонтами над столиками обрывалась в море. По набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка в берете; за нею бежал белый шпиц. Усевшись в тени у парапета, Чехов поставил трость, заказал кофе и достал из кармана пиджака бинокль. Как всякого нормального мужчину, его интересовали не только неустанные волны морские, но и берега с многочисленными купальнями. Изгибы пляжа разворачивали в его сторону открытые двери, и он видел, как появлялась голая дама и с неслышным визгом бухалась в воду. Рядом горничная снимала платье и сорочку и принималась раздевать барыню. Та нетерпеливо дёргалась, ожидая, когда наконец её освободят от одежд, затем умело нырнула, выплыла и, увидев проплывающую неподалёку парусную лодку с мужчиной, сидевшим у руля, легла на спину и подплыла поближе. Ей приятно, что мужчина глядит на её тело...
Тем временем за столиком у входа появилась новая посетительница — девушка с зонтиком, в светлом платье. Тщетно пытаясь привлечь внимание писателя, она два раза нарочно роняла зонт. Положив бинокль, он узнал девицу, горячо резвившуюся на вчерашнем пикнике.
— A-а... Здравствуйте, барышня. Вы тоже кофе пить? Что же это вы на самом солнце? Пожалуйте сюда, в тень, к морю. Здесь прохладнее. Что вам к кофе? Песочные пирожные? Чудесно.
План-мечта Лены Шавровой начал осуществляться. Она сидела рядом с Чеховым и рассказывала о том, что у неё две сестры, что живут они в Москве, а сюда приехали из Харьковской губернии купаться, что мама осталась там в деревне хозяйничать, поскольку идёт уборка хлеба, что братьев нет, а папа недавно умер...
Девушка была проста и понятна, как этот столик, и если бы действие развивалось по сюжету такому же простому, минут через десять он бы уже вёл её куда-нибудь в прохладу и жар уединения. Однако простые сюжеты в жизни встречаются реже, чем в литературе. Объяснил, что наблюдает в бинокль за погрузкой угля на пароход, и отметил трудолюбие грузчиков-татар. Направил бинокль на лодку, пытавшуюся выйти в море, лавирующую на волнах под ветром.
— Ветер слабый, а они хотят идти под парусом... Отчего вы не пьёте свой кофе?
— Антон Павлович, вот что я хочу сказать вам, — как в воду бросилась Лена, — я тоже написала маленький рассказ там, в степи, у нас на хуторе. И вот я подумала, что, может, вы будете добры прочитать его и скажете мне ваше мнение... А я сама не знаю... Впрочем, это, вероятно, очень плохо...
А глазки умоляли, обещали, предлагали. Этого не следовало замечать, и, надев пенсне, Чехов ответил отстранённо-доброжелательно:
— Вот как! Вы написали рассказ? Это очень хорошо, и я непременно прочту его. Хотя теперь и очень жарко и я здесь отдыхаю, даю вам слово, что прочту и скажу, годится ли он и стоит ли вам писать. Мы сделаем так. Вы положите ваш рассказ в конверт и отнесёте его в магазин Синани. Это здесь, на набережной. Он называется «Русская избушка». Я буду там смотреть книги.
Отделаться ответом через книжный магазин не удалось. Рассказ, конечно, вполне беспомощный, но что-то в нём показалось. Или в авторе, в его наивно-откровенных взглядах. Всё же и в рассказе. Название «Софка» приятно раздражает. Никакой прозы, разумеется, нет: что увидела, то и записала. Пикник в степи, главные действующие лица — мать рассказчицы и молодой грузинский князь. После пикника рассказчица Софка и князь едут верхами рядом и князь рассказывает Софке о своей любви к её матери. Софка плачет. Наверное, всё так и было, но кому это интересно, кроме действующих лиц? Пришлось взять карандаш и, изменив падежи и переправив гимназический стиль на художественный, сделать гладкий рассказик на неувядающую тему. После пикника на прогулке верхами князь признается в любви к Софке.
Сам пришёл на дачу Шавровых, вызвал радостный переполох и познакомился со всеми сёстрами и с miss Brown. Милые ухоженные девочки в лёгких светлых платьицах с розовыми и голубыми бантами когда-то являлись таганрогскому гимназисту в мечтах о красивой чистой жизни без побоев, пьянства, брани, керосиновой копоти и постельной похоти. Пробившись в эту жизнь, оказавшуюся не очень красивой и не очень чистой, он так и не преодолел мужицкую робость перед созданиями с кукольными глазками, воспитанно поджатыми губками, с неестественно белой гладкой кожей, слегка лоснящейся на округлостях обнажённых рук. Не девочки, а фигурки из севрского фарфора, требующие осторожного обращения. Он так и прозвал их: фарфоры. Каждой дал и отдельное имя: Лена — синичка, Оля — конфетка, Аша — дудочка, из-за привычки однотонно говорить, сложив губы.
Надел пенсне, привычно изобразил учителя — у него этот образ хорошо получался — и сказал старшей:
— Ну-с, госпожа Синичка, а вас я назначаю писательницей. Пишите и растите большая.
Вёл себя, как подобает взрослому с ребёнком, — негоже знаменитому Чехову, получившему хоть и половинную, но Пушкинскую премию, покушаться на юные прелести гимназистки. Но Лена не унималась:
— Антон Павлович, прошу вас, посоветуйте мне, как дальше писать. У меня есть наброски ещё к двум рассказам. Можно, я приду к вам? Ведь вы разрешите, miss Brown?
Конечно, разрешила.
— Приходите после одиннадцати к Синани, — холодно ответил учитель. — Там и поговорим.
— Там вы всегда с вашими апостолами.
— Но у меня же нет никакого учения. Какие же у меня могут быть апостолы?
— О-о! — возразила эрудированная гувернантка. — Писатель всегда есть большой учитель. Шекспир! Диккенс!
— Писатель не учитель, а художник. Как всякий свободный человек, он имеет собственное независимое мировоззрение, никогда не присоединяется к толпе, увлекаемой каким-нибудь новоявленным мессией, и сам не стремится вести кого-то за собой, навязывать кому-то свои взгляды.
Лучше всех поняла его пассаж Лена. Она сказала:
— Я завтра приду к вам, Антон Павлович.
Конечно, она хотела стать писательницей и артисткой, но для артистки не хватает внешности. Другие две сестры, пожалуй, могут попасть на сцену. Однако в своих желаниях Лена не поднялась выше мелкого тщеславия — похвастать перед подругами. Почему же он помог ей с рассказом? Обязательный мужской отклик? Конечно, не без этого, но, главное, нечто обнаружилось в рассказе. Здесь диагноз доктора Чехова безошибочен: стиля нет, сюжет вряд ли научится строить. Но есть глаз. Она видит то, о чём пишет, а значит, увидит и читатель. Увидит грузинского князя.
Ни в героини романа с Чеховым, ни в героини рассказа Чехова она не годится. У той роковая страсть к сцене, к искусству; в глазах не зайчики интриганки, а молитва. В Ялте он думал о ней, а рассказ писал о старом профессоре, задумывающемся о жизни вообще, об обязательном печальном конце, о роковой разобщённости людей, о невозможности указать человеку, как он должен жить, о видимой бессмысленности жизни. Работалось тяжело, и даже название не нравилось: «Моё имя и я».
V
Жаркое южное утро — всегда обещание праздника, так никогда и не наступающего. На скамейке в тени книжного магазина просматривалось родное «Новое время». «Парад в Париже по случаю 100-летия взятия Бастилии, несмотря на дождь, прошёл в блестящем порядке. Президента встречали криками «Да здравствует республика! Да здравствует Карно![5]»... На Парижской выставке можно только сделать вывод о бедности нашего виноделия... Бюллетень о здоровье Его Императорского Высочества Константина Николаевича[6]. Его Императорское Высочество день провёл хорошо... Иван Щенников за обман покупателя вследствие обвеса на полфунта мяса приговорён к двум месяцам тюрьмы... Алеуты нашей публицистики, восстающие против проведения Сибирской железной дороги во имя ограждения сибирской самобытности, оказываются в самом трогательном согласии с тем именно вороватым жидом и интеллигентом-хищником, от которого будто бы можно спастись, только сохранив по ту сторону Урала тысячи вёрст непроходимых тундр и дебрей...»
Лена приходила сюда аккуратно, как в гимназии, без опозданий, в сопровождении поручика, неожиданно оказавшегося отчаянным либералом. Он возмущался антикультурностью «Нового времени» и удивлялся дружбе Чехова с Сувориным.
— Мы ходили с ним на собачью выставку, — рассказал ему Чехов в ответ на один из горячих монологов, — и Алексей Сергеевич потом посоветовал: «Напишите своим, что ходили на собачью выставку с известной собакой Сувориным».
Собирались «апостолы», жара достигала градусов коньяка; солнце издевалось над тщетными попытками спрятаться от него и со всех сторон било по голове; всё отчётливее приближался неизвестный праздник. Шли навстречу ему живописной группой, привлекавшей любопытных. В центре — Чехов, сердито помахивающий тростью, рядом — жизнерадостный глухонемой донжуан Петров и поэт Шуф в обязательной шёлковой красной рубашке. Сзади Чехова — его тень: бледный чиновник Шапошников с рыжими, по-китайски висящими усами, прозванный писателем Усы. За ними — Гурлянд, конечно, Лена с поручиком и некий Франк, которого Чехов называл Зильбергрош, поскольку «на целый франк его не станет».
Каждый день искали праздник то в Алупке, то в Гурзуфе, то в татарской деревне у Нури, имевшего две жены, то в Ливадии у винодела Букколини, бывшего баритона итальянской оперы. Он угощал арией из «Любовного напитка» и напитками из своих погребов. Стеклянным сосудом-пробой вино извлекалось из бочки и разливалось по маленьким стаканчикам. Чехову нравился белый мускат, не очень сладкий. Лена демонстрировала свои многочисленные таланты, в том числе голос, довольно слабый и бесцветный, осмеливаясь на дуэт с седовласым маэстро. Пели из «Мефистофеля» Бойто[7]. Поручик уныло смотрел в окно на далёкий парус.
— О чём задумались, мой генерал? — спросил Чехов. — О Лермонтове, который не печатался в «Новом времени»?
Поручик, очнувшись, разразился потоком слов о том, что он никогда не будет генералом, потому что подаст в отставку и станет работать по-настоящему, что ему уже предлагали место управляющего на кирпичном заводе, что «Новое время» — реакционная газета, отравляющая народное сознание...
Оправдываться перед ним было бы нелепо, но молодой человек, стремящийся к настоящему труду на кирпичном заводе, вызывал симпатию, и захотелось мягко объяснить ему, как ещё мало он понимает в литературе и тем более в жизни. Захотелось рассказать о диалоге в письмах с известным либералом Михайловским[8], который тоже возмущался сотрудничеством писателя в суворинской газете.
— Я написал ему, что пусть лучше прочтут в «Новом времени» мой рассказ, чем какой-нибудь ругательный недостойный фельетон.
— И он согласился с вами?
— Нет. По его мнению, моё сотрудничество в газете только даёт ей лишних подписчиков, то есть новых читателей грязных фельетонов.
— Он же прав!
— Да, он прав, как прав импотент, обвиняющий здорового мужчину в том, что тот живёт с дурной женщиной.
Поручик не нашёлся с ответом, смутился и даже мило покраснел.
Вино играло в головах «апостолов», закладывало им уши, заглушало и дуэт, и речи собеседников. Каждый, кроме глухонемого Петрова, хотел и высказаться перед писателем, и услышать какие-то мудрые поучения. Как и вся Россия, компания раскололась на ретроградов и либералов. Поручик восклицал об идеалах Великой французской революции, столетие которой отмечалось прогрессивным человечеством, осторожный Гурлянд напоминал, что Венера Милосская несомненнее принципов восемьдесят девятого года, главный реакционер Шуф начинал с чтения своей огромной поэмы «Баклан»: «Опять смятенье и тревога... душа взволнована, и вновь встаёт забытая любовь, напоминая много, много...» Дослушать до конца жуткую историю в стихах о том, как один грек утопил другого — любовника своей жены, терпения ни у кого не хватало. Поэта останавливали, и он переходил к политике: с презрительной гримасой поносил Маркса, Лассаля, вообще всё мировое еврейство и вкупе с ним анархическое учение Льва Толстого, влекущее Россию к государственной катастрофе. Чаще всего он употреблял слово «патриотизм» и раздражал не меньше, чем поручик, мечтающий о кирпичном заводе. Пришлось возразить:
— Мы с вами дурно понимаем патриотизм, любезнейший Шуф. Пьяный, истасканный забулдыга муж любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Вы говорите, что мы любим нашу великую родину, но в чём выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идёт дальше так называемой «чести мундира», но почему-то мундиры то и дело попадают на скамью подсудимых. Работать надо, а всё остальное к чертям! И вообще, Володя, я за прогресс, потому что время, когда меня драли, очень уж отличалось от времени, когда перестали драть.
И праздник вновь окончился, не начавшись.
VI
Все случайности в его жизни исходили из одной главной случайности: ещё в таганрогской гимназии, расколотой на красногалстучных зингеристов — поклонников актрисы Зингери, к коим он принадлежал, на голубых беллатистов — поклонников Беллати, в дискуссиях между партиями, обострявшихся при появлении театрального афишера Жоржа, он случайно выяснил, что никто в мире не понимает театр лучше его. Когда-то Шекспир, конечно, понимал, но тот начинал в конце XVI века, а в конце XIX только он, Антон Чехов, может написать пьесу, какую написал бы теперь Шекспир.
Катастрофа с первой гимназической пьесой ударила сильно, но не убила. Он по-прежнему был уверен, что понимает театр лучше других. В Одессе это подтверждалось и в «диалогах Антония с Клеопатрой», как прозвали артисты чаепития у Каратыгиной, и в шумных чайных спорах, где, конечно, всех забивал растолстевший Гамлет — Сашечка Ленский, доказывавший, что у Шекспира всё просто и играть его надо просто. Однако писать приходилось для непонимающих, и «Иванова» он писал по их правилам. В Александринке Анну играла Стрепетова[9], и уже в первом действии, из-за одной её реплики, когда она слышит доносящуюся с кухни мелодию «Чижика» и начинает напевать, возникло подозрение, что кроме него существует ещё один человек, понимающий театр.
Разумеется, он никому не говорил о своей природной способности, никому не сказал и об истинной причине поездки в Ялту: узнал, что там Стрепетова.
Актриса жила за городом, в Аутке, и пригласила его на уху на берегу моря. Угощением распоряжался дьякон местной церкви отец Василий: сам и ловил, и разделывал, и разжигал костёр, и варил. Синяя тень гор легла между берегом и дразнящей золотистой игрой морских далей, кричали чайки, выплёскивались редкие волны, постреливали сучья в костре, и в этом предвечернем райском покое даже поставленный голос любимицы петербургской публики, тёти Поли, представлялся инородным ненужным звуком. В сорок лет уже стиралась удивительная особенность её сумрачно-некрасивого лица — в определённые моменты игры оно вдруг становилось одухотворённо-прекрасным, например, в спектакле «Без вины виноватые», когда она узнает сына. Зная это своё свойство, артистка и в разговоре то и дело начинала играть.
— Александр Николаевич был для меня всем, — говорила она с драматическим подъёмом, и на лице её проступали черты стареющей красавицы. — И не только для меня. Островский — это русский театр! Умер он — умирает и театр. Я чувствую, что с его смертью и во мне что-то умерло. Я уже не могу играть так, как прежде.
— Я вас понимаю.
Как не понять, что в сорок лет не сыграешь, как играла в двадцать пять?
— Вы видели мою Кручинину? А «Около денег» Крылова? Ему, конечно, далеко до Александра Николаевича, но он понимает сцену.
— В «Без вины виноватых» вы сыграли блестяще. Я не представляю, как можно сыграть Кручинину лучше.
— Можно, — улыбнулась актриса. — Я могу сыграть лучше. Я держу себя в струне. — Она быстро и ловко поднялась с плетёного кресла и сделала несколько шагов по звонко рассыпающимся пляжным камушкам. — Вот вам — цыпочка. Не то что Кручинину — пятнадцатилетнюю девочку сыграю.
— Вашей игре, вашему таланту трудно найти достойные слова, а вот драматургия должна развиваться. Вы не находите, что нужны новые формы? Согласитесь, не каждый день матери находят взрослых сыновей, брошенных в младенчестве. И мгновенно седеют молодые женщины, как крыловская Степанида, тоже нечасто. Я, например, в своей жизни такого ещё не встречал.
— Вы многого не видели и, простите, многого ещё не понимаете.
— Ушица в полном соответствии, — пробасил отец Василий, дуя на ложку и причмокивая. — Прошу, Полина Антипьевна.
Актриса изящным жестом руки дала знак подождать — решила поставить на место зазнавшегося беллетриста.
— Вы слишком мало знаете театр, чтобы судить о нём. Писать рассказы и писать для театра — совершенно разные вещи. Законы драматургии понимают лишь немногие.
— В жизни много такого, чего никому никогда не понять, — сказал он миролюбиво, словно не замечая раздражения актрисы.
— Люди театра должны понимать всё, что касается сцены и игры актёра, — продолжала она, не успокаиваясь. — Главный человек в театре — актёр. Драматург сочиняет для него то, что можно сыграть: эпизод, диалог, выход, уход. В вашем «Иванове» совсем нет уходов. Вы не умеете их делать. Да, матери не каждый день находят потерянных сыновей, но если вы уберёте эту сцену, что я буду играть? Ваши монологи о тоскливой жизни? Вы сами всё это понимаете — ведь придумали эффектный эпизод появления Анны в момент свидания мужа с Сашей. Но у вас только этот эпизод да ещё банальное самоубийство в финале. Понимаете, как надо писать, но у вас не получается. Вот и ищете новые формы...
Поездку в Аутку он считал бы напрасной, если б не знакомство с дьяконом. После отъезда Стрепетовой он бывал у него несколько раз, приезжал с вечера. Просыпались под первым строгим взглядом рассвета, только что перебравшегося через горы. Спешили к морю, затихшему в предутренней дрёме. Он с вечной неизъяснимой надеждой вглядывался в цвета зари, суетно пытался искать слова для сложных, неповторимых красок, придумывал, на что похоже облачко, дерзко вторгнувшееся в самый яркий палевый слой восхода.
— Даст Бог, натягаем кефальки, — говорил Василий профессиональным басом.
Плеская вёслами, он плыл на лодке к мыску, где ставил сети. Чехов, засучив брюки, заходил в воду и забрасывал длинную удочку под скалу. Конечно, не настоящее аксаковское уженье рыбы на уютной травке под приречным тальником, с азартной игрой поплавка, но и здесь вдохновляла возникающая вдруг тяжёлая дрожь удилища и белое рыбье брюшко, вспыхивающее над водой. Нередко, правда, вспыхивала мохнатая морская трава.
Разжигали костёр, закладывали уху, дьякон доставал из корзины золотую скумбрию собственного копчения, зелёный лук и её, холодненькую, из погреба.
Помнится, в то лето, в Ялте, он совсем не кашлял. Разве что однажды, после долгой и радостной рыбной ловли с дьяконом, когда, вернувшись на дачу, обратился к надоевшему рассказу. Подумалось, что сочиняется весьма скучная история, и вдруг пришло решение — рассказ так и будет называться: «Скучная история».
Чтобы история была не такой скучной, требовалось придумать для профессора какую-то любимую зацепочку в его уходящей жизни. Самое сильное — это, конечно, любовь, но супружеская любовь вообще сомнительна, особенно в старости, а любовница — не для этого рассказа. Любовь к дочери не проходит, поскольку дочь, как и вообще дети — одно из самых больших разочарований в жизни. Не дочь и не любовница, а... воспитанница. Тогда-то он и придумал её.
Она должна без памяти любить театр.
«Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катею, когда ей было 14—15 лет. Я говорю об её страстной любви к театру».
Она должна стремиться на сцену, подобно мотыльку на огонь.
«И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радостных надежд и аристократические взгляды на дело».
Она должна потерпеть неудачу на сцене.
Она должна быть несчастливой в любви.
«Прошло ещё немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дальше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдёте нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите...»
«Впоследствии по некоторым намёкам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться».
Она должна потерять ребёнка.
«Последнее письмо её ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей...»
Конечно, в Ялту.
«...и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребёнка».
Он думал о ней как о реально существующей женщине, видел её милое лицо с выражением необыкновенной доверчивости, жалел её погибшую молодость и вдруг задохнулся в приступе болезненного кашля, разрывающего грудь. Наверное, простыл утром на море.
VII
Он её придумал, и она пришла к нему в дом.
Накануне её появления состоялось очередное свидание с Каратыгиной — Антоний и Клеопатра встречались теперь, как те, историко-театральные Антоний и Клеопатра, но не в египетских дворцах, а в двухкомнатной московской квартирке, снятой сёстрами Каратыгиными у какого-то немца. Кроме Клеопатры, достопримечательностями квартиры были: огромная собака, которую он боялся, и огромная же служанка, которой он восхищался. Короткий красный сарафан служанки, едва не лопающийся на груди и на ягодицах, позволял любоваться её чудесными босыми ногами, а особенно восхищала грубоватая бесхитростность её высказываний. Хозяйки пытались называть её не Дарьей, как окрестили родители, а по-модному Дориной, на что та ответила решительно: «Нечего меня б...скими кличками обзывать». Открывая дверь Чехову, она сказала: «Я загадала, что боле не придёте — Клёпа для вас стара. Это с молодой слаще делать».
Только что вышел ноябрьский номер «Северного вестника», где благодаря старику Плещееву была напечатана «Скучная история», и Клеопатра не преминула высказаться о рассказе так же бесхитростно-искренне, как Дарья о его интимной жизни:
— Очень много тоски и скорби. Почему?
— А что на свете весёлого, сударыня моя? Покажите пальцем.
— Как — что весёлого? Вот мы с вами... — И осеклась, увидев со стороны убогую свою комнатушку, редкого тайного гостя, ради свидания с которым приходится отправлять сестру на долгие прогулки по холоду.
— И, кроме нас с вами, больше ничего хорошего.
— А театр? — вспомнила Клеопатра главное в своей жизни.
— О театре в рассказе есть кое-что.
— Кое-что есть, но лучше бы не было. Ваш театр в рассказе губит людей, а не радует. Прочитав «Скучную историю», человек выведет из неё, что жить вообще не стоит. Вот и я думаю: отдала всю жизнь театру, а теперь что? Жизни нет, счастья нет... Надо скорее околевать. Зачем вы только написали эту «Скучную историю»?
Он напомнил ей о некоторых несомненных радостях жизни, но, уходя, предупредил, что собирается в Петербург, а затем — сборы на Сахалин. Следовало понимать, что больше свиданий не будет. Он предчувствовал нечто, потребующее прекращения этой связи.
Нечто произошло следующим вечером, когда он хотел ещё раз перечитать свою «Скучную историю» якобы для того, чтобы проверить критику Клеопатры, но если откровенно, то просто по-писательски хотелось в который уже раз перечитать придуманное им и чудесным образом превратившееся в нечто другое, значительное, необходимое людям, ему уже не принадлежащее, но сохранившее отпечаток его имени, его души. Это естественно — говорили, что даже Лев Толстой перечитывает свои новые вещи. Так же, наверное, тянется к «Крейцеровой сонате», не пропущенной цензурой, но напечатанной «Посредником».
Так что Лев Николаевич одобрительно кивнул с фотопортрета: читай, мол, но мешал младший брат, решивший всерьёз изучить английский и поэтому во всех комнатах забывавший словари и учебники. В кабинет иногда входил не постучав и жалобно просил посмотреть, нет ли на столе какого-нибудь его словаря.
— Вы, молодой человек, за изучением языков забываете главные дела, — упрекнул его старший брат.
— Какие главные дела, Антон? — удивился Миша.
— Докладывайте, милсдарь, какие у вас успехи с Шавровыми.
— Ну, какие успехи, Антон? Хорошие девочки. Языки знают прекрасно...
— Я не о языках.
— Лена ждёт только тебя. Каждый раз, когда я прихожу, она спрашивает о тебе и обижается, что ты не приходишь.
— Продолжайте в том же духе, милсдарь. Словаря у меня нет, а работа есть.
Не успел открыть журнал с рассказом, как Миша вновь ворвался в кабинет с безумными глазами и сказал, заговорщицки понизив голос:
— Антон, пойдём.
— Куда? Ты заболел? Вам касторки прописать, молодой человек?
— Пойдём скорее. Марья привела потрясающе красивую девицу.
— Что ж, пойдём, — согласился он, поднимаясь и надевая пенсне. — Посмотрим, что за девица.
Они остановились в дверях прихожей и уставились на гостью, поправляющую перед зеркалом причёску.
Её облик мгновенно и навсегда впечатался в сознание, заняв предназначенное место, приготовленное именно для этой мраморной красоты лица, оживляемой светящимися глазами цвета моря на рассвете, обращёнными к миру с выражением необыкновенной доверчивости, для пепельно-золотистых волн волос, бушующих на плечах. Увидев глазеющих на неё мужчин, она малиново вспыхнула, затрепетала, пытаясь убежать или спрятаться, и, отвернувшись, уткнулась лицом в шубы на вешалке. Голубое платье натянулось ниже талии, выделив крутой изгиб полноватого тела, необходимо довершающий женскую прелесть.
— Моя подруга Лидия Стахиевна Мизинова, — представила Маша девушку. — Для друзей просто Лика.
— Мы уже друзья, — сказал он. — Вы согласны, Лика?
Девятнадцатилетняя девушка не может отказаться от дружбы со знаменитым писателем во цвете лет, высоким, русоволосым, проникающим прямо в душу взглядом голубых глаз.
Поднялись в гостиную, где отец сидел с газетой, а мать с вязаньем. Миша, преодолевая робость, сказал, что странно представить юную девушку в роли учительницы. Лика сказала:
— А мне странно, что брат моей подруги — знаменитый писатель.
— И извозчики уже величают меня «превосходительством», — ответил он, решив, что с взволновавшей его девушкой надо держаться тона лёгкой насмешки. — В России теперь есть две недосягаемые вершины — гора Эльбрус и я.
— Маша рассказывала, как много вы работаете, заботитесь о семье.
— Заставили беднягу литератора тянуть неподъёмный воз и ещё похваливают за то, что он не падает. А мне вот приходится нечасто встречать таких молодых интересных девушек, и я уже забыл и не могу себе ясно представить, как чувствуют себя в восемнадцать — девятнадцать лет, и потому у меня в рассказах молодые девушки не очень получаются.
— Я только что прочитала «Скучную историю» — там Катя выведена как живая. Я прямо её вижу. Но почему у неё такая тяжёлая судьба? Неудачи на сцене, неудачная любовь, смерть ребёнка...
— Таких девушек много в России, и их судьбы заключены в их сердцах. Я бы хотел хоть час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете обо всём, и вообще, что вы за штучка.
— А я хотела бы побывать на вашем месте.
— Зачем?
— Чтобы узнать, как чувствует себя известный талантливый писатель.
— Вы преувеличиваете мою известность.
— Но о вас же пишут в газетах. Что вы чувствуете, когда читаете о себе?
— Когда ругают — злюсь, и два дня чувствую себя не в духе, а когда хвалят — страшно трушу и хочу спрятаться под стол.
— Жребий людей различен. Одни едва влачат своё скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные; другим же, как, например, вам — вы один из миллионов, — выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения. У меня тоже будет такая жизнь. Я обязательно стану актрисой. Сейчас репетирую в драме — мне дали Зинаиду в «Горящих письмах» Гнедича[10]. Но, главное, я пою. Буду петь на сцене.
— Пусть сегодня наша гостиная станет вашей сценой. Вы согласны?
Ежеминутно открывались новые достоинства Лики: согласилась петь без жеманства. Сама села за рояль, и словно кто-то подсказал ей его любимый романс:
День ли царит, тишина ли ночная, В снах ли тревожных, в житейской борьбе, Всюду со мной, мою жизнь наполняя, Дума всё та же, одна, роковая, Всё о тебе!..У неё было сочное красивое сопрано, хрустальным потоком льющееся в душу, рассказывающее не о той жизни, что непрестанно стучит в висках заботами и расчётами, а о той, что представляется в мечтах. В её пении, как и во всяком настоящем искусстве, мечта сбывалась, и возникала наивная вера, что она сбудется и в жизни.
Девушку осыпали комплиментами, даже Павел Егорович сказал:
— Барышня поёт хорошо, и это хорошо.
— Антон Павлович молчит, — заметила Лика. — Наверное, ему не понравилось.
— Что вы, милая Лика, — горячо возразил он. — Вы поёте замечательно. Когда я вас слушал, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню. Знаете, такую хохлацкую канталупку.
VIII
Приступы кашля иногда были мучительными и железом скребли изнутри грудную клетку, но самую страшную боль он испытывал, когда жизнь, вдруг оскалившись палаческой ухмылкой, ставила ему клеймо ничтожества. Ещё в таганрогской гимназии он знал, что будет стоять высоко, во всяком случае, не ниже Островского — уже была создана пьеса, какую не написать ни Шпажинскому[11], ни Гнедичу, ни Крылову, да и старик Островский не сумел бы вывести такие характеры. И жизнь в лице Ермоловой[12] — в сущности, деревянной актрисы — тогда вдоволь поиздевалась над ним. Сама играла в совершенно ничтожных пьесах, зарабатывая аплодисменты то «революционными» выкриками в «Грозе», то убийством герцога в «Корсиканке», подгаданном к первому марта, а ему даже не ответила.
Пришлось превратиться в Чехонте, в «газетного клоуна», как выразился великий критик Скабичевский, предрёкший ему смерть под забором. Та боль была мучительнее кашля и усиливалась ещё и тем, что о ней никому нельзя было рассказать — никто бы не понял. Собственно, причина его разочарований и страданий заключается именно в том, что люди не понимают.
Люди театра ничего не понимают в драматургии и не в состоянии отличить настоящую пьесу от ремесленной поделки. Литературные критики и издатели ничего не понимают в литературе, восхваляют и издают ничтожное и отвергают талантливое, множат глупость и ложь. Женщины не понимают мужчин — отворачиваются от достойных и ложатся перед ничтожными.
Боль неразделённой любви не менее страшна, чем страдания от неприятия твоего творчества. Девушка, явившаяся в его дом из его мечтаний, с его страниц, не должна ничего почувствовать, не должна ни о чём догадаться — новая катастрофа ему не нужна. Пусть она пока видит в нём старшего брата, относящегося к её внешним достоинствам с добродушной насмешкой.
Лика, появлявшаяся у Чеховых почти каждый день, и вправду становилась чуть ли не ещё одной его сестрой. Её обаятельная простота позволяла сидеть с ней за столом в тесной близости, листая атлас Крузенштерна, рассматривая карты Сахалина, куда собирался Антон Павлович. Коснувшись невзначай тугого бедра девушки, сказал в той же избранной манере простецкой шутливости:
— Однако вы толстеете, милая канталупка. Надо приказать Ольге, чтобы давала вам поменьше картошки.
— Ваша жадность известна, — парировала Лика. — Горничную заморили голодом, теперь за меня берётесь.
Левитан пришёл в ранние зимние сумерки, когда свет ещё не зажгли, и в гостиной дымилась дремотная голубизна. Маша представила ему Лику:
— Подруга моя и моих братьев.
— О, божественная! — воскликнул художник. — Я преклоняю колени перед вашей красотой и проклинаю тот день и час, когда стал пейзажистом. Я написал бы такой ваш портрет!..
— Ради того, чтобы вы меня написали, я сама готова превратиться в лес или в речку.
— Лучше в русалку! — продолжал Левитан, прожигая девушку угольками глаз, искрящимися сумасшедшим блеском. — Мы купались бы с вами при свете луны...
— Холодные ванны тебе, Исаак, показаны, — сказал он, надев пенсне и тревожно вглядываясь художнику в глаза. — И вообще, милсдарь, ежели вы пришли на приём к доктору Чехову, пожалте в кабинет.
Войдя в кабинет, Левитан прямо от двери, согнувшись, кинулся к дивану и упал, закрыв лицо руками, застонал, забормотал:
— Завесь. — Он с ужасом отмахивался от сумеречных окон. — Я боюсь. Закрой меня от них. Спрячь от него. Он убьёт меня. Он всё знает.
Чехов опустил шторы, зажёг свечи и с грустью наблюдал живое воплощение величия и ничтожества человека: художник дрожал от страха, съёжившись в комочек, а над ним излучало мудрый покой вечности создание его рук и его мысли — бледно-голубое небо отражалось в речонке, вьющейся меж печальных серых полей. Этюд, написанный Левитаном на Истре.
— Кто посмеет убить лучшего художника России?
— Он всё знает. Она сама сказала мне, что он всё знает.
Для многих не было секретом, что ученица Левитана, жена полицейского врача Софья Петровна Кувшинникова, училась у художника не только живописи, а возможно, и сама его кое-чему учила — слава Богу, лет на десять старше его. Оказалось, что об этом узнал и её муж, спокойный, молчаливый человек.
— Он что-нибудь тебе говорил? Угрожал? Оскорблял?
— В этом-то и весь ужас! Я был у них на Мясницкой третьего дня, и ничего. Всё как всегда. Знаешь, как это он: «Пожалте покушать», и всё такое. А она мне потом говорит: «Он всё знает». О-о! Ведь мы с ней в Плёсе всё лето... Он молчит — значит, готовит что-то страшное. Надо бежать. Но куда? Я не сплю ночами — жду, что он вот-вот ворвётся с полицией... Я застрелюсь. Дай мне пистолет.
— Сначала я дам тебе лекарство. Выпей, это лёгкое успокоительное. В основном здесь валериана. А это выпьешь дома перед сном. И примешь два этих порошка. Больше не дам — со страху всё слопаешь. Рецептик безопаснее.
— Где наш Коля? — вновь застонал художник. — Как его нам всем не хватает. Всей России его не хватает. Это был гений. Добрый гений. Он любил всех. Зачем ты похоронил его там, на Украине? Я бы сейчас пошёл к нему на могилку, поговорил бы, поплакал...
— Кстати, никакого шнапстринкен. Даже кофе запрещаю. Только слабый чай.
— Антон, а эту девицу ты уже протараканил? — спросил вдруг Левитан, словно только что бредил, а теперь очнулся и вспомнил нечто важное.
— Успокоился, Тесак Ильич? Так тебя на Истре звали? Вспомнил тогдашнюю терминологию? Заинтересовался новым пейзажем?
— Жанром, Антон, жанром. Или, знаешь, в духе Поленова — смесь пейзажа с жанром. Она ведь Машина подруга, а ты всех её подруг тараканил. И Наташку, и Катьку Юношеву, и эту длинную, как её...
— Ты про Астрономку? Про Гундасиху? Я ей верен. Если я ей изменю, она зарежет меня раньше, чем тебя застрелит Димитрий. Ты же ей предлагал своё расположение.
— Она сказала, что любовь ей не нужна, а ей, оказывается, был нужен ты. И Катька выбрала не меня, а тебя. Помнишь, ты передал ей стихи: «Как дым мечтательной сигары, носилась ты в моих мечтах...»? И она сдалась, а стихи-то сочинил Коля. Эх, Коля, Коля, зачем ты ушёл от нас?..
— Нуте-с, больной... Лекарство подействовало, и если ты способен к чаепитию за семейным столом...
— А барышня останется?
— Исаак, если Сафо что-нибудь узнает о твоих увлечениях, то обязательно пристрелит. Бойся её, а не Димитрия.
— С Димитрием странно. Ведь он её любит. Ты замечал, как он смотрит на неё, когда она начинает свои комплименты: «Господа, смотрите, какое у Димитрия выразительное лицо...»?
— Наверное, любит.
— Но как же тогда?
— То, что происходит между супругами, известно только Господу Богу. Я не удивлюсь, если узнаю, что она сама рассказала мужу о ваших отношениях.
За чаем успокоившийся Левитан снова был в центре внимания — он рассказывал о жизни на Волге:
— Однажды в праздник я писал этюд, сидя возле дороги, в тени под зонтиком. Деревенские женщины шли из церкви, останавливались и смотрели на мою работу. Вдруг смотрю, еле плетётся какая-то дряхлая старушонка. Остановилась, долго глядела, потом почему-то перекрестилась несколько раз, вынула из кошелька копеечку и положила мне в ящик с красками. Я храню эту монетку дома вместе с самыми ценными вещами.
— Она молилась за тебя, за твоё искусство, — сказал Чехов. — Что ты написал для неё? Чем ответил на её молитву?
— Написал. Большое полотно. Почти закончил. Приглашаю всех посмотреть. Нестеров видел — в восторге. Он, конечно, увлекается, но... не знаю. Я назвал «Тихая обитель». Работал новым методом — компоновал. Воздвигнул на полотне другой монастырь, не тот, что в пейзаже.
— Вы бывали в монастыре? — спросила Лика. — Или в церкви?
Художник её заинтересовал.
— На Троицу мы пошли в церковь с... — Начав рассказывать, Левитан поперхнулся, взглянув на Чехова, и не назвал Софью Петровну, — С одной своей знакомой. Она объясняла мне, куда ставить свечу, как её зажигать и вообще порядок службы. Когда началось благословление цветов и зазвучали слова молитвы, я не мог сдержать слёз. Ведь это не православная и не другая какая молитва. Это всемирная молитва.
— Православная молитва есть молитва православная, — убеждённо высказался Павел Егорович, и все на некоторое время погрузились в раздумья, пытаясь проникнуть в глубину его мысли.
Антон Павлович пытался понять ещё и Левитана: просто ли он предаётся воспоминаниям или очаровывает Лику. Странно и смешно представить его в роли соперника. Странно и смешно.
— Ещё пирожка возьмите, Исаак Ильич, — угощала Евгения Яковлевна. — Вид у вас такой усталый. Видать, работаете много. И Антоша себя не жалеет — всё пишет и уезжать собирается. На Истре такие все были весёлые, здоровые.
Вспоминали случаи из тех времён: о том, как Левитана судили за тайное винокурение и Чехов был прокурором, о том, как художник наряжался бедуином, а бедуин вдруг закрыл глаза — и голова его упала на грудь. Он мгновенно очнулся, но доктор Чехов, внимательно наблюдавший за ним, заметил это и сказал, что художнику пора отдыхать.
Его проводили, Лика ещё оставалась. Сомнений не было — художник её заинтересовал.
— Однако вы хороший доктор, Антон Павлович, — сказала она. — Так быстро вылечили его от восхищения моей красотой.
— Симптом серьёзного заболевания.
— Вы этим заболеванием не страдаете.
— Спасаюсь касторкой. Исаака на Истре спасал тем же способом, когда он хотел жениться на Марье.
— Она мне рассказывала, что он просил её руки.
— Это был приступ болезни, называемой глупостью. Марья прибежала ко мне в слезах. Я растерялся, не знал, как поступить, сказал, что Исаак предпочитает женщин бальзаковского возраста, а она не знала, что такое бальзаковский возраст, и заревела пуще прежнего.
— А если серьёзно, Антон Павлович? Он действительно болен?
Опытный психиатр может вынести художнику тяжёлый приговор, увидев его голову, как бы вбитую в плечи, безнадёжно обвисшие щёки, потухшие в депрессии глаза и услышав лихорадочные, бредовые речи во время приступов. Если избежит самоубийства, то когда-нибудь в необоримом страхе бросится вон из города и будет бежать, пока его не поймают где-нибудь в поле. Но если ты порядочный человек, то о друге никогда никому ни одного плохого слова. Тем более женщине ничего, что могло бы унизить или опорочить друга. Наоборот, ищи оправдания его поступкам.
— Никакой болезни у него нет, кроме, конечно, обморочного восхищения вашей красотой, Ликуся. Исаак здоров, но у него так же, как и у всех, и у нас с вами, иногда возникает плохое настроение. Упадок духа. Это бывает у всех, но у каждого проявляется по-разному. У него немножко поострее, чем у других.
— Всё же поострее, — добивалась Лика. — Это же чем-то вызвано?
Разве возможно понять и объяснить, почему одни могут с помощью воли и разума преодолеть дурную наследственность и врождённые недуги, а другие страдают до конца. Но люди всегда ждут простых объяснений, и он объяснил Лике:
— Жизнь Левитана с детства была мучительной. Собственно, у него и не было детства. Спросите его — он вам такое расскажет, что вы подумаете, будто он рос под забором без отца и матери. Конечно, есть богатые евреи-кровопийцы, но он из семьи нищего ремесленника. И позже нищета и унижения. После первого марта[13] всех евреев выгнали из Москвы, и он каждый день добирался до училища из Салтыковки. Да и теперь он для властей не лучший художник России, а подозрительный еврей.
Лика вздохнула.
Она заинтересовалась художником. Она его пожалела.
IX
Но полюбила она писателя Чехова, тридцати лет, собиравшегося на Сахалин в путешествие неизвестно зачем. Он окончательно поверил в это, вернувшись из Петербурга, где пришлось целый месяц улаживать предотъездные дела, — таким полным счастьем засияли её глаза, таким смущённо-радостным румянцем запылали щёки и расслабленно раскрылись губы в улыбке, когда она вошла в дом и увидела его. Ранняя Масленица, как догадливая подруга, постаралась с освещением, разбросав по комнатам лоскуты солнца, и если бы вместо рояля в гостиной стояло механическое пианино, то оно обязательно заиграло бы полонез из «Онегина».
За столом с блинами, наливками, икрой и прочими радостями жизни Лика не столько ела, сколько смотрела на него, и глаза её становились совершенно круглыми и большими — наверное, для того, чтобы полностью вобрать в себя писателя Чехова. Разумеется, он произнёс небольшую праздничную речь об огромном значении блинов, появившихся на свет раньше русской истории и выдуманных, как и самовар, конечно, русскими мозгами. Объяснил: если до сих пор нет научных работ относительно блинов, то это объясняется тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними. Высказал предположение, что кроме тяжёлого, трудно перевариваемого теста в них скрыто ещё что-то более высокое, символическое, быть может, даже пророческое...
Павел Егорович подтвердил теоретические выкладки сына примерами из жизни:
— Вот от этого купец Оганчиков на тридцать втором блине Богу душу отдал, не сходя с места. А которое тесто хорошее, то Иван Феофилактыч с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест, но запивал только лимонной, вот этой вот.
По этому поводу выпили лимонной, Антон Павлович перешёл к петербургским впечатлениям, рассказал о постановках Островского в Александринке, о хорошем любительском исполнении «Власти тьмы».
— А как тебе сама пьеса?
— О Толстом я могу говорить только как коллежский асессор о тайном советнике.
— Вся Москва читает «Крейцерову сонату», — сказал Миша. — Очень сильно, но есть о чём поспорить.
Михаилу очень хотелось быть литератором, и он старался всё читать и обо всём судить.
— Запрещённые книги читаете, молодой человек-с? А ежели в участок?
— Запрещённые книги запрещены, — строго сказал Павел Егорович.
— Миша, неужели такие книжки в дом носишь? — всполошилась Евгения Яковлевна.
— Вся Москва читает, — оправдывался Миша. — И Марья читала, и Лика...
Антон Павлович успокоил мать, объяснив, что книга напечатана небольшим тиражом — триста экземпляров, и читать её не возбраняется. Рассказал и новый петербургский анекдот:
— Государю понравилась «Крейцерова соната», он намеревался разрешить её без ограничений, но Победоносцев и иже с ним[14] подсунули ему «Николая Палкина». Александр, конечно, рассердился и приказал принять меры. Долгоруков принимает меры — посылает к Толстому адъютанта с приказом немедленно явиться. Лев Николаевич выслушал адъютанта и ответил: «Передайте князю, что я езжу только в знакомые дома».
Разговор о новой повести Толстого открыл новые достоинства Лики. Они гуляли с ней перед вечером, когда весёлое масленичное небо постепенно блекло, приобретая цвет топлёного молока, и над Кудринской, над ветвяной полоской зоопарка поднималось лимонное зарево. Чехов узнавал героев своих ранних рассказов, бредущих заплетающимся шагом по тротуарам, развалившихся в извозчичьих санях, мчащихся, наверное, в «Эрмитаж» или «Салон варьете» — на извозчичьем языке «Солёный вертеп». Осторожно дали пройти паре, занявшей чуть ли не весь тротуар зигзагообразными движениями. Дама в салопе строго отчитывала спутника: «Натрескался, идол! Постыдился бы, люди пальцами показывают». За ними — двое крепких мужчин с красными сосредоточенными лицами. «Царапнем, Коля», — уговаривает один. «Не могу — у меня порок сердца», — отвечает приятель. «Плюнь, царапнем по рюмке», — продолжает настойчивый. «Я и так уже семь выпил...»
Свернули на Большую Никитскую. Здесь почти все двигались в одном направлении — к центру, к играющим впереди радужным гроздьям воздушных шаров, ещё успевающих захватить последний солнечный луч. Вспомнили о Толстом, и Чехов сказал, что ему, как человеку старшего поколения, кажется, что «Крейцерова соната» — чтение не для девиц.
— А я человек нового поколения, — ответила Лика. — Я взрослая женщина... — Здесь она несколько сбилась, но продолжила решительно и даже с вызовом: — Пусть я девушка, но я взрослый человек, преподаю в гимназии и всё понимаю: и любовь, и брак, и вообще...
— А я вот ничего не понимаю. Рассказали бы мне о любви и вообще...
— Я не коллежский асессор, и я с ним не согласна. Он выступает против естественных отношений между мужчиной и женщиной, установленных Богом и природой. Чему вы так глупо улыбаетесь? Разве я не права?
— Правы, правы, умнейшая Лика. Конечно, тайный советник поразительно талантлив по сравнению с мелким чиновником Чеховым. Читая повесть, во многих местах я хотел кричать: «Это правда!» Однако напрасно он трактует о том, чего не знает.
— Это о... о разных болезнях? Вы — врач и об этом знаете больше.
— И о болезнях, и об особенностях женской природы. Понимаете, о чём я говорю?
— Да. — Она смутилась, понимая, что речь идёт о якобы испытываемом женщинами отвращении к совокуплению, упомянутом Толстым, но овладела собой и продолжала, намеренно замедлив шаг и глядя прямо в глаза: — Я — девушка и ещё не всё понимаю, но кроме «Крейцеровой сонаты» есть другие книги.
Её здоровая милая невинность вызвала острое сложное чувство, которое он ещё никогда не испытывал ни к одной девушке: неясную щемящую жалость к её чудесному неопытному телу, жёсткое сознание своего мужского долга, требующего совершить над ней известное насилие, которого она и боится и жаждет, и возникшее вдруг могучее желание.
Он желал сейчас же увести её в номера на Малую Дмитровку и сделать это.
Наверное, и следовало так поступить, но Чехов слишком хорошо знал, как должен вести себя порядочный человек, и слишком твёрдо выполнял известные правила.
Его чувства припорошил снег, возникший над Никитской и поторопивший приход ранних зимних сумерек.
Мимо по тротуару спешили двое юношей в шинелях и барашковых шапках с медными орлами. На их поясных бляхах сверкали перекрещивающиеся гранаты, на белых погонах — красные вензеля: «А. II.» Один, похожий на татарчонка, сказал другому: «Пойдём по бульварам». Его приятель возразил: «Нет, Куприн, лучше через Красную площадь, на Ильинку и через Маросейку к Чистым прудам на каток...»
— Александровцы, — заметил Чехов, —Что-то есть привлекательное в военной молодёжи и вообще в русских офицерах. Я когда-нибудь обязательно напишу пьесу, где будет много офицеров. Один — похожий на Лермонтова, другой — говорун-либерал...
— Пушкинский снег, — сказала Лика.
— И вы, Ликуся, кажется, незаконная дочь Пушкина?
— Неужели я так стара?
— Но вы же мне что-то рассказывали о вашем родстве с поэтом.
— Не с ним, а с его приятелем. Когда Пушкин ездил петербургским трактом, то часто сворачивал в сторону — к городку Старице и дальше в Берново, в имение Осиповой-Вульф. Там для него всегда была приготовлена комната. В Бернове он встречался с местными помещиками, ухаживал за женщинами, сочинял стихи. Вы, наверное, знаете: «Без вас мне скучно — я зеваю; при вас мне грустно — я терплю; и мочи нет, сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю!» Это он посвятил падчерице хозяйки Алине. А в одном письме у него есть: «Алина заняла своё воображение бакенбардами и картавым выговором Юргенева». Этот Юргенев — мой дедушка. Только он женился не на Алине. Там, в Тверской губернии, у меня даже есть маленькое имение. Подсосонье. А в Москве со мной и мамой живёт бабушка. Она не совсем бабушка. Кузина Юргенева. Софья Михайловна Иогансон. Очень хорошая, но странная. Ведёт дневник.
X
ИЗ ДНЕВНИКА С. М. ИОГАНСОН
«1886. 24 июня. Вторник. Сердцем Лидюша добрая, но не знаю, откуда набралась такой напущенности. Всё гадко, старо, ничем не дорожит и не бережёт, к тому же и с ленцой, всё бы читать романы, а не работать.
1890
5марта. Понедельник. Лидюша пришла в 5 часу и обедала одна, а вечером в 8 часу ушла к Чеховым, вернулась в 3 часа утра, очень довольная, что туда попала, общество было там разнообразное, приятное, умное: сам, сын хозяина, поэт, много пишет, и так радушно её приняли, у них и ужинала, меньшой сын её до дома провожал.
9марта. Пятница. Лидюша пошла к Чеховым. Вернулась в 3 часа утра, на репетиции не была, а провела вечер у Чеховых.
10 марта. Суббота. Лидия вчера весь вечер была дома, занята была до возвращения Лидюши домой писаньем; ей же готовит свою исповедь и совет образумиться, отвлечь её от праздной бесшабашной жизни, дома не бывает и каждый вечер является поздно домой; дом и домашнюю жизнь не любит. Ужасно это нас огорчает, особенно мать, а говорить с нею невозможно, тотчас раскричится, и кончится тем, что уйдёт, недовольная жизнью семейной, говоря, что это не жизнь, а ад.
11 марта. Воскресенье. Лидия была в концерте консерватории на музыкальном вечере. Лидюша вернулась в 2 часа. Заходила к Чеховым, там пила чай.
13 марта. Вторник. Лидюша проваландалась до 2 часов, отправилась в Румянцевский музей списки делать об острове Сахалине, помогает Марье Павловне Чеховой, а она для брата списывает. Он как писатель отправляется, на свои расходы, в те места в апреле месяце; так теперь спешат всё, что надо знать, списать. В 7 часов вернулась, покушала и пошла одеваться, едет в концерт.
14 марта. Середа. Лидюша опять пропала, пошла урок брать французского языка, а уже полночь, её всё нет, не берёт же она и ночью урок. Горе, да и только, с нею. Мать плачет горючими слезами, что из неё будет. Страшно и подумать, ни одного вечера не бывать дома, а является за полночь домой. Каких она друзей нашла, что не может дня прожить, чтоб с ними не повидаться? Вернулась в 2 часа; с урока пошла к Чеховым, за нею девушку присылали.
16 марта. Пятница. Лидюша после обеда пошла на урок французский и зайдёт к Чеховым передать тетрадь.
17 марта. Суббота. Лидюша отправилась к товарке, там брат именинник — празднуют, и её очень просили прийти.
18 марта. Воскресенье. Лидюши не было дома, опять к товарке пошла.
21 марта. Середа. Лидюша вечером едет в театр с Чеховыми слушать концерт пения Фигнеровых, мужа и жены, будут давать Джиоконду. От Чеховых вернулась в 2 часа ночи, там ужинала, не пустили.
23 марта. Пятница. В день своих именин Лидия и Лидюша получили телеграммы от Головина и Чеховых. Чехова Мария Павловна приехала прямо с концерта.
24 марта. Суббота. Лидюша весь день была вне дома, ходила на репетицию к Кожевниковой, а потом до 3 часов ночи пробыла у Чеховых, нет дня, чтобы она там не была, дружба новая завелась, надолго ли?
25 марта. Воскресенье. Лидюша получила в подарок от Антона Чехова, он много интересного, умного пишет, две книги, одну я прочитала — Скучная история. Подписался на книге — Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой от ошеломлённого автора. Дразнит её, что она происходит от армянской породы; другую книгу, его же Рассказы: Счастье, Тиф, Ванятка, Свирель, Перекати-поле, Задача, Степь, Тина, Тайный советник, Письмо и Поцелуй. Подписал: Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой, живущей в доме Джанумова — от автора Тер-Чехианца на память об именинном пироге, которого он не ел».
Неужели это он, писатель Чехов, проникающий в суть вещей, в том числе и в женские души, мог серьёзно волноваться, что его не позвали на пирог в день именин Лики 23 марта? Неужели это он с таким прямолинейным юмором подписывал подаренные ей книги, чтобы не очень кичилась связями с пушкинским окружением? Неужели это он вариант за вариантом переписывал «Лешего», превращая его в оперетку со счастливым исходом для всех любовных пар?
Откладывал ручку, откидывался в кресле и с идиотской улыбкой смотрел в пространство, где возникала она в серебристом сиянии. Он сумел удержаться от объяснения в любви, но не удержался от объяснения, более опасного своей откровенностью, — открыл смятенную писательскую душу.
Пришла из Румянцевки усталая, внесла беспокойство сырого предвесеннего ветра, выложила записи, сказала, глядя не на него, а на бумаги:
— Вот нашла «Московские ведомости» за семьдесят пятый год. «Вольная колонизация острова Сахалина».
Он записывал, тоже сосредоточенно рассматривая выписки.
— Подождите, — остановил девушку. — Тысяча восемьсот семьдесят пятый год... Месяц, число?
Она коротко вздохнула с жалобным детским всхлипом, он поднял глаза и увидел на её лице утомление, обиду и даже вскипающий гнев женщины, которой пренебрегают.
— Зачем это всё, Антон Павлович?
— Что зачем? Число и месяц? В научном труде...
— Зачем этот Сахалин? Зачем вы едете туда?
Он ласково (разумеется, в пределах ласки старшего брата) полуобнял девушку, усадил на диван, сел рядом и рассказал о том, как нелепо быть писателем в России. Говорил, что человек всегда стремится выполнить свою работу лучше — так он создан природой, — и к тому же знает, что чем лучше сделает своё дело, тем выше будет награда. Плотник строит хороший дом, сапожник шьёт хорошие сапоги, а писатель, наверное, должен писать хорошие книги. Но хорошую избу и хорошие сапоги отличит каждый, а как быть с книгой? Кто её оценивает? Читатели? Нет. Русский читатель — человек послушный. В детстве его в гимназии научили и объяснили, какие книги хорошие, а во взрослом состоянии он слушается критиков. А кто такие критики? Можно ли представить, например, сапожного критика, который бегал бы по улицам и кричал, что Иван шьёт хорошие сапоги, а Пётр, наоборот, плохие? А в литературе так и происходит. Критики — это люди, которые судят о том, чего сами делать не умеют.
Резче было бы сказать, что критики — это импотенты, рассуждающие о любви, но это пока не для Лики.
— Я начал с того, что написал пьесу, — продолжал Чехов. — Человек, на которого я рассчитывал как на понимающего, не смог оценить мой труд и в то же время принимал к постановке произведения, гораздо слабее и даже вообще бездарные. Уже тогда я понял, что сколько бы ни писал пьес, как бы ни старался сделать их интереснее — никто не оценит мой труд. И я превратился в Чехонте, писал лёгкие рассказики, прилично зарабатывал и веселился по трактирам в компании таких же литераторов. И вдруг нашлись люди, высоко оценившие мои рассказы. Они испортили всю мою механику — прежде, когда я не знал, что меня читают и судят достойные литераторы, я писал безмятежно, словно блины ел; после этого стал писать и бояться: вдруг плохо? Взялся за серьёзную работу. Написал «Степь». Есть в ней слабости, но в целом повесть получилась. Кстати, критики и её не поняли — царапали и либералы и консерваторы. Лишь те поняли; кто сами умели писать. Салтыков-Щедрин, Гаршин... Салтыков назвал меня «действительным талантом». Но что такое «Степь»? Воспоминания о детских впечатлениях. Одну такую книгу может написать каждый грамотный человек с мало-мальски чувствительным сердцем. У всех было детство, и всё о нём вспоминают. Вот и я вспоминал и писал. А что дальше? Решил, что писать серьёзно — это поднимать проблемы. Поднял проблему пессимизма. Вздумал пофилософствовать — написал «Огни», и вышел канифоль с уксусом. Решил, что надо поменьше философии, побольше жизни. Написал «Скучную историю». Там что-то получилось. Говорят: мило, талантливо, но... далеко от Толстого, а «Отцы и дети» Тургенева гораздо лучше. И как бы хорошо я ни писал, всегда будет так. До гробовой доски всё будет только мило и талантливо. А когда умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Чехов. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева».
В России нельзя быть просто писателем. Вот Короленко[15]. Его знают и читают, потому что он герой. Конечно, он хороший писатель, но его рассказы известны меньше, чем его отказ от присяги Александру Третьему. Впрочем, писатель он никакой, и никто его и не читает. Его занудные очерки нужны только Михайловскому для иллюстрирования идеалов добра, справедливости и любви к народу-страдальцу. Ко мне Короленко относится как генерал, покровительствующий поручику: похлопывает по плечу, ведёт к Михайловскому и Глебу Успенскому[16], рекомендует как подающего надежды, а те вместе с ним учат несмышлёного Чехова, как надо писать во имя идеалов. Учили, говорили о необходимости общей идеи, вспоминали Чернышевского. Мне надоело их слушать, и я сказал, что очень рад встрече с ними, так как пишу большой роман и хочу в нём вывести две-три светлые личности, подобные вам... Короленко рассмеялся — умный человек, а Успенский аж затрясся от возмущения. Он больной человек.
В России литератором быть трудно, но есть другие люди, которые честно служат народу.
Он говорил о Пржевальском, о людях, подобных ему, чья идейность и благородное честолюбие имеют в основе честь родины и науки; об их непобедимом стремлении к намеченной цели, богатстве их знаний, трудолюбии, фанатической вере в христианскую цивилизацию и науку, делающих их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу.
Женщина, даже совсем юная, не всегда умея проследить логику мужских рассуждений, не понимая, может быть, сложных мыслей, высказываемых мужчиной, понимает главное, понимает больше, чем сказано. Её высшее понимание застаёт мужчину врасплох. И Чехов был изумлён, когда Лика перебила его, и в её голосе прозвучало насмешливое превосходство старшей:
— Итак, вы едете на Сахалин за биографией? Чтобы не хуже, чем у Короленко? Или, как Пржевальский, хотите найти ещё одну новую лошадь? Напрасно, Антон Павлович: всех лошадей уже нашли.
XI
Астрономка тоже поняла всё, по крайней мере то, что сам он понял позже или, вернее, поздно. Она явилась в день, исполненный раздражающими словами, такой же длинный и нескладный, как она сама. До отъезда оставалось мало времени и много дел. «Леший» ещё под Новый год, мягко выражаясь, не дал сборов, а попросту шлёпнулся и провалился. Постаревший и растолстевший Гамлет — Сашечка Ленский своими критическими монологами вообще убил его, как Полония, но Плещеев просил срочно текст для публикации в «Северном вестнике». Прежде чем посылать, хотелось что-то улучшить, убрать банальности, приподнять любимого героя — доктора, спасающего леса.
Тем временем не дремали живые герои — возникли студенческие беспорядки в Петровской академии, в той самой, где Нечаев хотел перевернуть Россию, начав с убийства одного несчастного студента[17]. Теперь там возмутились новым уставом. Суворин просил написать ему в Петербург о происходящем подробно и беспристрастно — бывший шестидесятник любил смаковать всякие общественные движения и потом оплёвывать их в своей газете. Чтобы разобраться, пришлось доставать гектографированные студенческие воззвания: «К товарищам», «К русскому обществу», «Студентам Московского университета»... Требования были обычными: полная автономия университетов, полная свобода преподавания, свободный доступ в университеты без различия вероисповедания, национальности, пола, общественного положения; приём евреев в университеты без ограничения и уравнение их в правах с прочими студентами; свобода сходок...
Пьеса дня была сделана талантливее, чем «Леший», — следующим чтением после воззваний оказался свежий номер «Русской мысли», и неведомый режиссёр открыл журнал на странице библиографического отдела, где обсуждалось новое издание известного направления — «Русское обозрение». Свою фамилию Чехов замечал в текстах сразу:
«Ещё вчера даже жрецы беспринципного писания, как гг. Ясинский и Чехов, имена которых прохаживались в списках сотрудников всевозможных российских изданий, даже они не появлялись в проспектах «Русского вестника» и ему подобных изданий. Была, значит, до сих пор невидимая демаркационная линия между литературою общей и специально-охранительной. Эту линию соблюдали одинаково с обеих сторон, не останавливаясь ни перед какими соображениями внешнего характера. Сегодня эта линия пройдена не только жрецами «искусства», это было бы ещё не так удивительно, но и некоторыми публицистами, которые ныне мирно и общими усилиями будут споспешествовать процветанию нового «Русского обозрения».
Главное — предупредить приступ кашля. Он задержал дыхание, медленно поднялся, сделал несколько шагов по кабинету, ожидая, пока схлынет чёрная горячая волна ненависти, требующая какого-то немедленного действия — дуэли, ответных оскорблений, желчной статьи в «Новом времени». Кашлять сейчас нельзя — родные забьют тревогу, и прощай Сахалин. Вернуться за письменный стол не удалось — отлично слаженная пьеса жизни продолжалась. Пришёл домохозяин Корнеев, он же врач, он же крупный московский чиновник с бородой дворника, сотрудничающего с полицией. И борода, и её хозяин имели вид праздничный — получили назначение на должность инспектора Московского университета.
— От души поздравляю, Яков Алексеевич, — сказал Чехов, усаживая Корнеева в кресло в гостиной. — Однако же теперешние беспорядки...
— Потому и сняли Доброва.
— Находясь в известном смысле под вашим хозяйским глазом и зная вашу твёрдость, не сомневаюсь в успехе вашей деятельности...
Маша и Лика с утра бродили по магазинам в поисках некоего «валансьена» и на минутку забежали домой. Маша пошла переодеться, а златокудрое создание оказалось в гостиной, когда обсуждали с новым инспектором студенческие волнения. Чехов говорил о воззваниях, которые только что читал:
— В прокламациях нет ничего возмутительного, но редактированы скверно — чувствуются жидки и акушерки.
Лика молчала, раздражая округлившимися неласковыми глазами и исходящей от неё холодной сыростью вязкого дня, застрявшего между метелями и дождями. Когда Корнеев ушёл, она сказала вызывающе:
— Теперь я понимаю, почему вы не любите Левитана. Когда вы распространялись о его несчастном детстве, я чувствовала вашу неискренность, но не могла понять, в чём дело. Оказывается, вам просто не по нутру евреи. Так же, как, наверное, и армяне, и вообще все инородцы. Потому Суворин ваш лучший друг.
— Лика! — Он не собирался сдерживать перед ней возмущение, не стал натягивать маску старшего брата — свою честь надо отстаивать открыто, тем более перед такой проницательной особой. — Я, как и все люди, могу сказать глупость, могу схитрить, или, простите, соврать, но я никогда не был человеконенавистником, никогда не был и не буду так называемым патриотом по-нововременски. Левитан — мой старинный друг, и за него я отдам пятерых русских. Мой старший брат Александр женат на еврейке, покойный Коля был близким другом её сестры. Если я и печатаюсь в «Новом времени», то это лишь потому, что я писатель. Я готов печататься где угодно, лишь бы мои строчки доходили до читателя. Суворин меня пригласил в свою газету, а знаменитый либерал не только не пригласил, но ещё и оскорбил в своём журнале. Не читали мартовскую книжку «Русской мысли»? Будете приятно удивлены.
— Но ведь вы заодно с этим Корнеевым, который сейчас пойдёт душить несчастных студентов и вылавливать, как вы изволили выразиться, жидков.
— Лика, не я создал эту проблему, и не мне её решать. А что касается слов, то слова писателя Чехова — в его рассказах. И вообще, по поводу слов есть хорошая пословица...
Предусмотрительный автор пьесы этого дня задержал Лику — вошла Маша в фартуке и сказала, что на кухне неуправка и магазин отменяется.
Спустились в кабинет, и он показал Лике статью. Когда она, прочитав, возмущённо отбросила журнал, решил, что девушке надо ещё многое объяснять.
— Русский писатель загнан в узкую и неудобную щель, милая Лика. Я это понял, ещё когда начинал, ещё в Таганроге, когда писал первую пьесу. Это был конец семидесятых, только что кончилась турецкая война, раскол в русском обществе был такой же, как и сейчас, такой же, какой, наверное, будет ещё лет двести. С одной стороны — недалёкие патриоты, защитники братьев-славян, заставлявшие русских солдат умирать на Шипке и под Плевной, с другой — честолюбивые реформаторы-радикалы, охотившиеся за царём-освободителем, как за зайцем. Я решил тогда на всю жизнь, что не буду ни с теми, ни с другими.
— Двух станов не боец, как Алексей Толстой?
Его горячая откровенность не исчезала бесследно в унылой серости дня, а наполняла комнату теплом напряжённого чувства, растворяла иней непонимания в глазах девушки.
— Вообще не боец. Я свободный художник. В этом журнале, который вы так выразительно швырнули, я печатался бы с большим удовольствием, чем у Суворина. К сожалению, либералы встретили меня весьма недружелюбно — ведь в моих рассказах не было намёков на необходимость революции. Однажды Скабический обозвал меня газетным клоуном и предрёк смерть под забором. А Суворин пригласил в свою газету и издаёт мои книги. Сейчас вот «Хмурые люди».
— Вы же говорили, что это был Григорович[18], — вспомнила Лика.
— Григорович приписывает себе то, что сделали другие. Первым заметил мои рассказы Буренин и привлёк внимание Суворина. Тот хоть и считает себя писателем, но в глубине души чувствует, что не понимает литературу. Вообще он себе не верит и легко поддаётся влияниям. Даже моему влиянию поддался. Кстати, самый страшный тип русского человека — тот, что постоянно ищет идейного вождя, мессию, за которым слепо пойдёт. Сам же никогда не выбирает дорогу. Для Суворина литературный мессия — Григорович. Обратился к нему, тот написал мне письмо, будто с восторгом читал какой-то мой рассказ, но не помнит названия. В общем, врал — ничего не читал. Старый специалист по участию в открывании талантов. Когда-то вместе с Белинским открыл Достоевского, теперь вместе с Сувориным — Чехова. Почему-то так называемый патриот Буренин, которого я с удовольствием отправил бы на Сахалин, в своих пятничных критических очерках иногда говорит даже о чистом искусстве, защищает мою «Степь», где, кстати, положительно выведены представители ненавистной ему нации, а так называемые либералы набрасываются на меня без всякого повода. На премьере «Иванова» либеральная половина зала почти провалила спектакль, потому что услышала слова: «Не женитесь на еврейках», — и далее слушать не стала. А почему Ермолову произвели в великие актрисы? Потому что в «Овечьем источнике» громко призывала к революции, а в бездарной «Корсиканке» зарезала герцога, причём как раз после первого марта. Узость мысли. Большие претензии, чрезмерное самолюбие, полнейшее непонимание литературы — вот что такое либерал. «Русская мысль» будет выкидывать ещё и не такие фортели. Под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знавала даже Испания во времена инквизиции. Все эти Гольцевы напустят такой духоты[19], что всякому свежему человеку литература опротивеет, а всякому шарлатану и волку в овечьей шкуре будет где лгать и лицемерить. А меня с юных лет влечёт к истинному искусству. Оно же существует, хоть и не поддаётся объяснению. Как объяснить неизъяснимый подъём чувств, очищение души, испытываемые, когда откроешь страницу Тургенева и окажешься вместе с ним в чудесном русском лесу, в деревне, в старой усадьбе, услышишь чудесную русскую речь, или перечтёшь «Письмо Татьяны»?.. А настоящий театр! Я видел «Гамлета» лет десять назад, когда Ленский был в расцвете, и не могу найти слов для того, чтобы передать впечатление от спектакля. Скорее даже потрясение. Когда Ленский вскакивал и кричал: «Оленя ранили стрелой», я, дай весь театр были готовы подняться и кричать вместе с ним. Или на кладбище, когда брал в руки череп и говорил: «Бедный Йорик», — я знал, что это он обо мне, что это я бедный Йорик. После такого искусства несколько дней чувствуешь себя так, словно видел хороший сон. Это и есть искусство, и никто не знает секрета его создания, и слава Богу, что не знают. Я ещё не написал ничего, что можно было бы назвать истинным искусством.
Он видел, что Лика поняла его, и теперь перед ним не просто увлёкшая его юная красавица, а молодая женщина, разделяющая его самые сокровенные мысли, и с ней возможна та высокая любовь, которая представляется в мечтах. Настал момент, когда он должен был взять её податливую руку и сказать...
— А какую пословицу вы хотели мне напомнить? — спросила вдруг Лика.
— Пословицу? — С улыбкой счастливого влюблённого он сел рядом с ней. — Есть такая: попал в стаю — лай не лай, а хвостиком виляй.
Хотел сказать: «Моя стая — это вы», но таинственный режиссёр не дремал — звонок, шаги, стук двери, женские восклицания, и вот уже в дверях кабинета радостная разрумянившаяся Маша, а рядом — Ольга Кундасова, по прозвищу Астрономка, поскольку когда-то работала в обсерватории.
— Антон! Смотри, кто к нам приехал! — восклицала Маша.
— Погода — мразь, — сказала Ольга. — Здравствуйте все.
И пожала ему руку крепко и порывисто. Высокая, худая, с большим носом, покрасневшим и распухшим от простуды, в старой измятой бархатной кофточке, — он помнил эту кофточку со времён курсов Герье, где учились Маша и Ольга, — она внимательно разглядывала Лику. Когда-то его соблазнили её красивые тёмные глаза и умное, искреннее выражение лица, теперь же явилась немолодая некрасивая женщина, хотя и лицо и глаза были те же.
Словно что-то прочитав и отбросив, как неинтересное, Кундасова отвернулась от Лики, бесцеремонно прошлась по кабинету, уселась в кресло и сказала, что правительство — мразь, что студенты справедливо возмущены тем, что им не разрешают приводить на казённые квартиры девиц, «Крейцерова соната» — мразь, Антон Павлович совершенно правильно решил уехать на Сахалин — в Москве жить нельзя, все здесь мразь, и она сама с удовольствием уехала бы.
Простодушная Лика пыталась возражать: можно, мол, не соглашаться с мнениями автора, но «Крейцерова соната» — серьёзная вещь, трактующая о главных вопросах жизни, о любви, о взаимоотношениях в семье...
— Любовь! — Для Астрономки это понятие стоило лишь презрительной усмешки. — Любовь не может быть главным вопросом для мыслящего человека. Тем более для трудящегося, зарабатывающего кусок хлеба своим трудом, как я...
Пришлось её прервать — запаса подобных восклицаний у неё могло хватить надолго:
— Милые дамы, я счастлив всю жизнь быть рядом с вами, кроме, разумеется, времени, отведённого на обед, но я тоже трудящийся, зарабатывающий кусок хлеба, и моя пашня ждёт меня. «Леший», того и гляди, уйдёт в лес.
— Хорошо, мы встретимся вечером, — легко согласилась Ольга.
Как женщина днём она была неопасна: ложилась с ним только в кромешной темноте, погасив все свечи.
Маша предложила вечером встретиться всем по случаю появления старой подруги, вспомнила, что ещё и Долли хотела увидеться с Ольгой и надо её позвать, потанцевать, порезвиться... Лика, в соответствии с замыслом той же дьявольской пьесы, вспомнила, что должна показать свою Зинаиду из «Горящих писем» — Антон Павлович давно обещал посмотреть.
— Вы играете на сцене? — Ольга спросила так, словно перед ней было существо, которое не то что играть, но и говорить-то не умеет.
— После Пасхи буду дебютировать.
— Простите, где же? В Малом или в Большом?
— Пока в частной драме. Есть такой Пушкинский театр.
Разумеется, она должна без памяти любить театр.
Если бы Лика показала роль ему одному, возможно, он что-нибудь бы нашёл, как в Ялте в рассказе гимназистки. Возможно, покривил бы душой, похвалил бы что-то, но рядом сидели другие зрители, и не только доброжелательные. Ольга видела всё и в Малом, и у Корша, и когда вечером Лика, с трудом подавляя смущение, уныло-монотонно начала пересказывать пьесу и чужим голосом выделять свои реплики, всё стало понятно и ей и ему.
По пьесе Зинаида, расставшись с любимым, решает сжечь его письма, но в этот момент приходит он, предлагает сначала вновь перечесть письма, и за этим занятием к ним возвращается любовь.
Разумеется, она должна потерпеть неудачу на сцене.
— Слава Богу, что не сожгли, — сказал Чехов. — Я боялся пожара.
И ушёл к себе, к «Лешему».
Главная же пьеса продолжалась: Григорович явился подобно нечистой силе, о которой не следовало бы упоминать, или как старый бабник, почуявший аромат молодых женщин. С картинной сединой, в модно повязанном галстуке, он выглядел благородным отцом из французской мелодрамы, но, увидев Лику в платье с полупрозрачными рукавами, демонстрировавшими её роскошные плечи, превратился в героя «Дядюшкиного сна» — долго мусолил руку девушки и произносил длинные комплименты времён Крымской войны.
— Красота Лидии Стахиевны покорила всю Садово-Кудринскую, — подтвердил Чехов. — Я сам слышал, как соседская девочка, увидев её, сказала матери: «Мама, эта тётя почти такая же красивая, как наша собака».
Впервые после знакомства он увидел в её глазах и сжатых губах настоящий гнев.
— Идите вы... к «Лешему», — сказала она.
Он так и поступил и сидел над текстом, недовольно посматривая вверх, когда потолок подрагивал и гудел. Несколько раз поднимался к гостям, стараясь не подходить к Ольге, пытался разговаривать со старым лгуном Григоровичем, но тот находился почти в невменяемом состоянии и дрожащим голосом бубнил ему на ухо:
— Вакханалия, милый Антон Павлович! Как пляшет эта Лика! Она, знаете, похожа на жену Алексея Константиновича. Ведь я её... Она мне давала в саду, прямо на качелях, а он сидел в кабинете и писал «Царя Фёдора». Прямо на качелях...
Дарья Мусина-Пушкина, желавшая, чтобы её называли Долли, но у Чеховых прозванная Дришкой, выбивала из рояля вальсы Штрауса. Кавалерскую повинность отбывали Миша и флейтист Иваненко, введённый в дом ещё покойным Колей. Лика отчаянно кружилась с Иваненко, и из-под её развевающегося платья открывались кружева, не предназначенные для чужих глаз. Когда Дришка остановилась передохнуть, Чехов подошёл к Лике и назвал её новым именем:
— Однако вы попрыгунья.
Объяснений с Ольгой ему избежать не удалось: сама решительно вошла в кабинет, уселась в кресло и начала:
— Я всё поняла, но не беспокойтесь. Я не нуждаюсь в вашей любви. Я, как трудящийся человек... — Не выдержав неестественного, напыщенного тона, она всхлипнула. — Что вы нашли в этой кукле? Я вас любила за ум, за душу, за талант, а ей нужно только ваше писательское имя. Не беспокойтесь, я не буду киснуть. Я сумею вырвать вас из своего сердца. Только досадно и горько, что вы такая же мразь, как и всё, что вам в женщине нужны не ум, не интеллект, а тело, красота, молодость... Молодость! — проговорила она в нос, как бы передразнивая кого-то, и засмеялась: — Молодость! Вам нужна чистота, Reinheit! Reinheit! — Она захохотала, откидываясь на спинку кресла. — Reinheit!
— Дорогая Ольга, вы говорите о том, чего нет, — сказал он не очень убедительно.
— И не будет! — оживилась она. — Ничего не будет. Не потому, что я буду вам мешать. Нет. Я даже попытаюсь помочь вам заполучить эту куклу, но она — не ваша судьба.
Ольга ушла, но вместе с ней ушёл и «Леший». Вернуть его на письменный стол никак не удавалось. Вместо него в кабинет постучал озабоченный отец с газетой в руках.
— Извини меня, Антоша, за-ради Бога, — сказал он, шелестя страницами, — но вопрос такой серьёзный, что в самом деле серьёзный вопрос. Как же это здесь напечатано, что Бисмарк ушёл в отставку? Ведь такого не может быть...
— Потому что не может быть никогда.
— В рассуждении о настоящей политике этого не может быть никогда. Германия есть держава, а без Бисмарка разве это держава? Конечно, англичанка гадит, но, с другой стороны, надо разобраться с точки зрения дипломатии и наших интересов. Ежели немец пойдёт...
Решить проблемы европейской дипломатии, возникшие после победы левых на выборах в Германии и отставки Бисмарка, не удалось, и, оставшись наконец в одиночестве, он аккуратно сложил рукопись пьесы, убрал её в стол и на чистом листе написал начало другого произведения: «Вукол Михайлович...» Всё же решил написать письмо в «Русскую мысль»:
«На критики обыкновенно не отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете. Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа.
Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был.
Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял, короче говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я охотно бы выбросил за их негодность, но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы стыдно. Если допустить предположение, что под беспринципностью Вы разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатавшийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы и проч., то в этом отношении «Русская мысль» должна по справедливости считать меня своим товарищем, но не обвинять, так как она до сих пор сделала в сказанном направлении не больше меня — и в этом виноваты не мы с Вами...»
Не он виноват в том, что письмо пришлось закончить резко:
«Обвинение Ваше — клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу и его не вырубишь топором; объяснить его неосторожностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде я тоже не могу, так как у Вас в редакции, как мне известно, сидят безусловно порядочные и воспитанные люди, которые пишут и читают статьи, надеюсь, не зря, а с сознанием ответственности за каждое своё слово. Мне остаётся только указать Вам на Вашу ошибку и просить Вас верить в искренность того тяжёлого чувства, которое побудило меня написать Вам это письмо. Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собою понятно.
А. Чехов».
XII
ИЗ ДНЕВНИКА С. М. ИОГАНСОН ЗА 1890 ГОД
«28 марта. Середа. Пришла Лидюша, была у Чеховых. Познакомилась случайно с матерью Марьи Павловны, мы с Лидюшей их встретили в Пассаже, очень милая, в обхождении простая, тут же познакомились и поговорили.
29 марта. Четверг. Лидюша пошла к всенощной в какой-то монастырь с товарками. Обманула! Пошла с Чеховыми и поздно ночью половина 2 часа вернулась домой.
30 марта. Пятница. Лидюша ушла с Чеховыми к Вознесенью большому, потом узнали, что ездили кататься в Нескучное.
31 марта. Суббота. За Лидюшей пришла М. П. Чехова; хотела идти к ним. Ушла опять в Кремль смотреть процессию заутрени, общество будет опять Чеховых. Явилась удалая Кундасова, просит отпустить Лидюшу к Чеховым, на что Лидия сказала, что у нас исторический обычай разговляться в семье.
1 апреля. Светлое воскресенье. Лидюша получила поздравление от Антона Чехова с коробкой конфет и от других братьев карточки.
3 апреля. Вторник. Опять порядочная размолвка была, поделом её мать распекла. Пришла Марья Павловна Чехова, а Лидюша ещё не одета, собирались идти вместе на выставку картин, а нам не сказала, так поздно встала. Вечер опять одни провели. Лидюша всё у Чеховых.
5 апреля. Четверг. Лидюша пошла к Чеховым. Сниматься будут вместе на фотографию, вот уж как близко с ними познакомилась. Что-то далее будет. Лидия дала ей 5 рублей на покупку ужина, угощать Чеховых. Явились только два брата Чеховых из меньших, Иван да Михайла, да консерваторский бывший ученик Шестаковской Иваненко. Лидюша в волнении, что Марья Павловна с Антоном Чеховым не пришла, вдруг исчезла, с полчаса явилась вместе с ними, так устроила, что гости уехали, а они пришли к нам. Очень нам понравился Антон — он врач и писатель, такая симпатичная личность, прост в обращении, внимателен.
7 апреля. Суббота. Утром Лидия спросила, зачем она, Лидюша, не осталась дома, когда заходила вчера, она ответила, что пошла к Чеховым. Вот зачастила туда ходить, даже совестно. Лидия ей внушает, что неприлично каждый день туда ходить, а ей нипочём, так хочет, и баста.
8 апреля. Воскресенье. День театральный; Лидюша будет играть «Горящие письма». Поздно встала, ушла в 12 часу к Чеховым, будут семейно сниматься на фотографию и нашу Лидюшу к своим присоединили. В 6 часов отправилась Лидия с Лидюшей в Пушкинский театр, забрав все наряды с собою. Слава Богу! Наконец всё окончилось. Вперёд наша не пожелает играть, а то она возмечтала, что имеет способности к драматическому искусству, не тут-то было, ни малейшей способности не оказала. Она опять из театра заехала к Чеховым, из них никого не было на представлении.
11 апреля. Середа. Вернулась в половине 12-го, была у Чеховых.
12 апреля. Четверг. Наша спешила идти в музей писать кое-какие заметки, помогает Марье Павловне, которая пишет для брата Антона Павловича, он в понедельник отправляется в дальний путь, так теперь торопятся с писанием, анаша туда на подмогу пустилась.
13 апреля. Пятница. Сказала: мы едем большим обществом кататься за город, устраивают прощальный отъезд Антона Чехова, так и она в числе приглашённых.
14 апреля. Суббота. Лидюша на вечер поехала к Ольге Петровне Кундасовой. Там будут все Чеховы, вернулась в 4 часа утра.
18 апреля. Середа. Лидюша пришла и как угорелая оделась и опять поспешила к Чеховым, там Иван Павлович именинник.
19 апреля. Четверг. Лидюша отправилась в музей, опять списывать. Антон Павлович отложил поездку до завтра и, может быть, выедет в субботу. Лидюша к вечеру отправилась опять к Чехову, там оставалась до 1 часу.
21 апреля. Суббота. Сегодня, наконец, уезжает Антон Павлович Чехов. Поэтому Лидюше будет отдых. В 1 часу явился к нам Антон Павлович проститься. Едут в 7 часов на вокзал провожать его свои и много знакомых, в том числе и Ольга Кундасова, порядком в него заразилась. С полчаса у нас пробыл и отправился вместе с Лидюшей, она к товарке, а он с прощальными визитами к знакомым. В декабре надеется опять быть в Москве. Боюсь, не заинтересована ли моя Лидюша им? Что-то на это смахивает. Храбрится и сваливает на меня, как будто я по нём буду плакать. А славный, заманчивая личность. Лидюша вернулась, пообедала и пошла провожать отъезжающего. Вместе с сестрою Марьей Павловной приехала с вокзала к нам».
Его провожал щемяще нежный закат — над замшелой зеленью Николаевского вокзала развернулось ровное, без ярких обострений полотно цвета крема, не шоколадного, не кофейного, а фруктово-сливочного. Рельсы весело горели старым таганрогским блеском, призвавшим его когда-то в Москву, чтобы он завоевал её, как Растиньяк Париж. Теперь они звали на восток, откуда он должен был вернуться не беллетристом Чеховым, который пишет хуже Тургенева, а писателем — общественным деятелем, необходимым России. Не разрушать империю, не охранять подгнивающие трёхсотлетние устои, а помочь несчастным, обездоленным людям, облегчить участь тысяч ссыльно-каторжных. Для этого не требуется быть ни либералом, ни консерватором — надо быть просто человеком, врачом, русским интеллигентом.
Провожали и люди. Димитрий Павлович Кувшинников в своей обычной манере рассудительного мужчины, всё делающего обдуманно и не спеша, произнёс речь о значении поездки Антона Павловича для прогресса и в заключение вручил подарок:
— Передаю вам, дорогой Антон Павлович, бутылку коньяка в специальном футляре, который предохранит её во время вашего путешествия через моря и горы. Разрешаю вам открыть её только на берегу Великого, или Тихого, океана.
— Лучше Тихого, — сказал Чехов. — Мы с микадо сядем на бережку и царапнем по рюмочке.
Коньяк был упакован в кожаный футляр на ремне, и Кувшинников торжественно надел его через плечо отъезжающему.
Притихшая Лика не сводила с Чехова глаз — встречи последних дней, вернее, ночей со случайными объятиями и поцелуями, пока ещё почти братскими, истомили её, и усталое, похудевшее лицо светилось новой лихорадочной красотой.
— Вы сегодня прекрасны, как Жамэ из оперетты, — сказал он ей. — Но поёте вы лучше.
— Коньяк с микадо пейте только из моего стаканчика, — напомнила Лика о своём подарке.
Софья Петровна Кувшинникова, по обыкновению наклонив набок голову, смотрела на всех с выражением вызывающего вопроса: что вы, мол, скажете, если я сейчас совершу нечто считающееся неприличным? В деревне она скакала верхом в сумасшедшем галопе, набросив на себя лишь короткую накидку, которая ничего не закрывала; в Москве на своих вечерах устраивала живые картины, изображая Клеопатру. Эта женщина сорока с лишним лет с вмятинами возникающих морщин на щеках и Лика с нежно-чистым юным лицом были странно похожи. Их сближала и отличала от других свобода движений и слов. Если другие знали, что и как надо говорить и как вообще вести себя на проводах, и поступали в соответствии с правилами, то Лика и Софья Петровна вели себя как им хотелось.
Лика то почти прилипала к Чехову, то вдруг с громким хохотом напоминала Иваненке, как ночью на прогулке он упал в сугроб. Софья Петровна подошла к Левитану, только что вернувшемуся из-за границы, и начала расспрашивать о Париже.
— Он там видел только женщин, — сказал Чехов.
Левитан, опасливо оглядываясь на Кувшинникова и стараясь отодвинуться от Софьи Петровны, невнятно забормотал:
— Париж, Париж... Чёрт его знает что за город. К нему надо привыкнуть, а то всё как-то дико. Чёрт его знает, женщины — сплошное недоумение...
— Я знаю, как вы любите Россию! — не отступалась Софья Петровна. — Помните Волгу, Плёс?.. Антон Павлович! Я так счастлива, что вы увидите эти места! В Плёсе ищите дом с красной крышей — мы в нём жили. А какая там чудесная деревянная церковь на кладбище. Исаак Ильич будет её писать. Вы уже начали, Исаак Ильич?
— Пока в эскизах. Полотна ещё не вижу, — когда говорили о живописи, Левитан успокаивался, распрямлялся и на лице его появлялось выражение некоторого превосходства. — Пейзаж — это не просто сочетание красивых линий и предметов...
— Какой он сегодня... — Лика не нашла слова.
— Томный, — подсказала Маша.
Она то и дело доставала платочек и утирала глаза.
— Если так будет продолжаться, я никуда не поеду, — пригрозил ей брат. — Ты выплакала все слёзы, отпущенные тебе на время моей поездки. Чем ты теперь будешь плакать?
Восхитительно благопристойно вела себя Ольга Кундасова: скромно попрощалась и ушла минут за десять до отхода поезда, сославшись на неотложное дело. По замыслу Софьи Петровны, Кувшинниковы и Левитан ехали с Чеховым до первой остановки, до Троицы, и, когда дали второй звонок, они начали шутливо прощаться с остальными.
— Ты, Исаак, прощайся без шуток, — сказал Чехов. — Тебя я беру до Сахалина.
— Тогда я обязательно должен поцеловать златокудрую Лику!
Брат Иван, никогда не забывавший о том, что он учитель гимназии, не одобрил состоявшийся поцелуй:
— Вам ноль по поведению, Лидия Стахиевна.
XIII
Утром в Ярославле встретил безнадёжный ливень и простуженный Илья Гурлянд, бывший ялтинский «апостол», ныне ярославский студент. Он командовал носильщиками, вёл к извозчику через пузырящиеся лужи, подобные морям. Чехов прятал горло в воротник кожаного пальто и пытался сквозь дождь разглядывать торопящихся пассажиров.
— Едем прямо в порт, — объяснял Гурлянд. — Пароход «Александр Невский». Ищете знакомых, Антон Павлович?
— Вдруг кто-нибудь тоже едет на Сахалин.
По дороге к речному порту Гурлянд рассыпался в благодарностях за помощь: «Новое время» напечатало его рассказ, журнал «Артист» — статью.
— Всё это только благодаря вам, — говорил он. — Я просто не знаю, какими словами выразить вам свою любовь и преданность.
— Вы не находите, Илья Яковлевич, что в Ялте погода была несколько лучше?
— О-о! Ялта! Это была сказка. А как она? Леночка? Она ведь тоже показывала вам свои рассказы.
— Никакой Леночки нет, милсдарь. Есть писатель Шастунов, он же Шавров. Газеты надо читать.
— Тоже напечаталась? Как славно!
— В «Новом времени».
— Мы все видели, что она была в вас влюблена. Помните, в Дерекое вы с ней прятались за орешиной? А в Москве вы с ней встречались?
— Следуя примеру героя известной сказки, я посылал к ней своего младшего брата. Однако он не преуспел. Вообще я благодетельствую молодым авторам в надежде, что на старости лет вы будете меня кормить и не дадите умереть под забором от пьянства.
— А Володя Шуф? Как его стихи?
— Послушайте, он же совершенно не поэт. Такие стихи никому нельзя показывать. Никакой Буренин его не напечатает, даже если он сочинит поэму против всех евреев сразу.
— Говорил, что показывал свои стихи Надсону.
— Потому Надсон и умер так рано[20].
В каюте парохода по стёклам иллюминаторов катились потоки дождя, не хотелось снимать пальто, и он чувствовал себя как человек, решительно бросившийся в ледяную воду и усилием воли преодолевающий желание немедленно вернуться на берег. Провожая Гурлянда, на палубе, как и на вокзале, внимательно всматривался в пассажиров, затем быстро спустился вниз. Ольга Кундасова ждала его у дверей каюты.
— Погода — мразь, — сказала она. — Я благодарна вам, Антон Павлович, от всей души за то, что вы разрешили мне поехать. Вы настоящий друг, и я никогда этого не забуду.
— Не забудьте, что мы с вами встретились случайно. По-моему, здесь на вокзале вас увидели, и мне придётся написать своим о нашей встрече.
— Вы же знаете, что я выше всяких сплетен и пересудов. Наши отношения с вами — не пошлая любовная интрижка, а настоящая дружба близких по духу, мыслящих людей. Нас соединяет нечто высшее...
Через Нижний дорога была бы короче, но он поехал через Ярославль, чтобы увидеть больше Волги, а великая река обернулась упрямым дождём, злобно взрывающим её воды, и патетическими речами Ольги.
В ресторане угрюмые пассажиры сосредоточенно поглощали небогатое меню: «щи зеле, сосиськи с капу, севрюшка фры, кошка запеканка». По поводу кошки пришлось обратиться к заспанному половому, и тот объяснил, что не кошка, а кашка. Ольга закатилась неистовым смехом, заглушившим пароходную машину.
Нельзя оставаться равнодушным к тем, кто нас любит, и прекрасные тёмные глаза Ольги вновь тревожили его, как прежде.
— После севрюжки фры я намереваюсь дать волю своему таланту.
— То есть? — не поняла Ольга.
— Хочу завалиться спать.
— Вы хотите... оставить меня одну?
— Сейчас же белый день, Ольга Петровна, — сказал он, улыбаясь.
— Это не имеет значения. — И она потупила взгляд, как смущающаяся девочка.
— Тогда дадим волю...
Оправившись от смущения, она резко перебила его:
— Только не предавайтесь порнографическим соображениям.
И ударила локтем по столу.
Дождь перестал, наверное, только для того, чтобы можно было выйти на палубу и взглянуть на Плёс, найти дом с красной крышей. Разгоняемые ветром тучи злобно дымились над притихшим городком, успокоившаяся река мерцала призрачным предвечерним светом — Левитан в своём полотне «После дождя. Плёс» точно уловил беспокойный холодный ветер и этот особенный свет, и думалось о роковом бессилии искусства передать бесконечную глубину жизни и о несомненном превосходстве создания мысли и рук человека над бессмысленным хаосом природы. Никогда никакой гениальный художник не сможет воплотить в своём творении жизнь во всей её великолепной необъяснимой полноте, но в его создании сверкают высшие земные ценности — порождения духа человеческого. Своё существование на земле человек может оправдать лишь делом, необходимым для других людей. Вне своего дела человек оказывается существом весьма неприятным, погрязшим в болезнях, страстях, раздорах. Левитан страдает опасными депрессиями и ищет спасения в объятиях пожилой женщины, тоже психически неуравновешенной, не знающей, что делать со своей жизнью, придумавшей для себя игру в живопись. Увешала стены своими и чужими этюдами, в столовой повесила лапти и серпы и думает, что это художественно. Он же, беллетрист Чехов, страдает опасным кашлем, связан с женщиной, которая ему совершенно не нужна, в то время как в Москве осталась девушка...
— В этом доме с красной крышей жил томный Левитан, — сказал он Ольге.
Женщина странным образом угадывает, какая тайная мысль терзает любимого мужчину, когда он говорит о чём-то совершенно не относящемся к своим скрытым раздумьям, причём угадывает как бы нутром, подчас даже не понимая своей догадки, а лишь непроизвольно проявляя её.
— Они жили вдвоём, — сказала Ольга. — Настоящие мужчины, такие, как вы, Антон Павлович, идут в одиночку в походы, в пустыни, в сражения. Это свойство настоящих мужчин. Они верят, что их будут ждать. Только... — Остановилась, не решаясь продолжать, взглянула ему в лицо с опасением и сочувствием и всё же сказала: — Только главное свойство юной невинной девушки в том, что она очень быстро перестаёт быть юной и невинной.
Как и было договорено, они попрощались в Нижнем Новгороде. Далее путешествие продолжалось на другом пароходе по Каме.
XIV
Чем дальше от Москвы и от цивилизации, представляемой железными дорогами, чем глубже в сибирскую грязную весну, более похожую на позднюю осень, тем отчётливее выяснялось, что главный его багаж — это не громоздкий, неудобный чемодан, а нечто невесомое и даже неосязаемое. Сначала, приблизительно до Екатеринбурга, это была семейная фотография: во дворе корнеевского дома-комода, в затишке от апрельского ветра, семейство Чеховых снималось на память перед его отъездом. Конечно, он в центре, на переднем плане. Она села рядом, но в последний момент Маша попыталась втиснуться между ними, и Лика обиженно растянула губы. Чем больше он вглядывался в фотографию, тем значительнее становилась девушка с пышными кудрями, с лицом юным, но проникнутым вековой женской мудростью.
Уже на «Александре Невском» в первом письме он написал (с расчётом, что Маша передаст Лике): «Надеюсь, что Лидия Стахиевна и Иваненко ведут себя хорошо. Интересно знать, кто теперь будет кутить с Лидией Стахиевной до 5 часов утра? Ах, как я рад, что у Иваненки нет денег!» В следующем письме с парохода, который вёз его по Каме до Перми: «Кланяюсь Иваненке с флейтой и Тер-Мизиновой с бабушкой».
На почте в Екатеринбурге он ожидал кроме семейного письма от Маши получить ещё и поэтический конвертик с аккуратным девичьим письмецом, подписанным, например, «Ваша Л...». Однако поэтического письма не оказалось, и в гостинице, благо номер был хорош, сочиняя длинное письмо своим, он так и не нашёл слов, выражающих его обиду каким-нибудь шутливым намёком. Решил наказать её перечислением в общем списке, где «привет всем». Даже загнал её в самый конец после Кундасовой. Но, подписав письмо и уже собираясь заклеивать конверт, передумал и сочинил постскриптум: «Попроси Лику, чтобы она не оставляла больших полей в своих письмах».
Писать рассказ, то есть записывать нечто уже существующее в воображении, надо, конечно, за столом, и не обязательно в тишине — пусть наверху в гостиной топочут и поют, можно даже остановиться на половине фразы, не найдя нужного слова, самому выйти в гостиную, поговорить, посмеяться, вернуться в кабинет, где необходимое слово уже ждёт на кончике пера, но думать о будущих страницах будущих книг, наверное, лучше в дороге, и не в поезде с говорливыми попутчиками, а в такой вот корзинке-плетушке под сибирский колокольчик и обязательную матерщину вольного возницы. То, что надо писать о Сахалине, он знал, не выезжая из Москвы: миллионы людей сгноили в тюрьмах зря, без рассуждения, варварски; гоняли их по холоду в кандалах десятки тысяч вёрст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и всё это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы. Прославленные шестидесятые ничего не сделали для больных и заключённых. Поэтому он и едет на каторжный остров и будет писать о нём. И появится ещё одна обличительная книга, что-то полунаучное, публицистическое, далёкое от любимой беллетристики. Проза не терпит общеизвестных готовых выводов, пусть даже самых верных и благородных, а он всё-таки писатель. Найдёт ли он на Сахалине то, что взорвётся в его сознании, выпуская потоки новых слов, послушно выстраивающихся в необходимые фразы, абзацы, страницы, как это было со «Степью», «Скучной историей»?..
Возок особенно начинало трясти к вечеру, когда дорожная грязь превращалась в заледенелые кочки. Усталость и холод спутывали ход мыслей, хотелось только тепла и постели, и тогда он обращался к самой важной части своего багажа, которую, кроме него, не видел никто. Фотографию теперь не требовалось доставать: надо было просто закрыть глаза и увидеть гостиную в тёплом свете люстры и её, стоящую у рояля в голубом платье, с прижатыми к груди руками, сжимающими и удерживающими до времени текучий хрусталь звуков, готовых обрушиться водопадом прямо на сердце. Перебирая не спеша эту часть багажа, он заказывал «День ли царит», «Я люблю тебя, светлая ночь», но чаще — «Ночи безумные», и возок подпрыгивал в ритмах Чайковского и Апухтина[21]: «...осени поздней цветы запоздалые». Он даже вдруг уверился, что, когда писал «Цветы запоздалые», представлял княжну в точности похожей на Лику.
Письма от неё не было ни в Тюмени, ни в Томске, а в пути между этими городами ему было знамение, как выразился бы Павел Егорович. Ямщик мчавшейся встречной почтовой тройки заснул, и лошади едва не столкнулись. Старик, правивший чеховским тарантасиком, успел свернуть вправо, но вторая встречная тройка всё же врезалась, лошади смешались, затрещали дуги, тарантас поднялся на дыбы, сам он, уже лёжа на дороге под чемоданами, увидел мчащуюся прямо на него третью тройку, и если бы в момент столкновения спал в тарантасе, то комедия так бы и закончилась. Но он не спал, а вновь рассматривал гостиную в зимний вечер с жёлтым звоном Кудринских фонарей за окном, а она пела: «Знаю одно: что до самой могилы помыслы, чувства, и песни, и силы — всё для тебя», и он знал, что это всё для него, и нервы были напряжены, и он видел и чувствовал во много раз острее, чем обычный человек, как это бывает под гипнозом. Поэтому и успел молниеносно подняться и отскочить от смерти.
Это событие, а может, и вправду знамение убедило его, что она думает о нём, а не пишет, потому что пушкинское воспитание не позволяет переписываться с мужчиной, который так и не подал знака, что он для неё больше чем брат подруги. В письме своим из Томска нашёл новые слова: «Славной Жамэ привет от души. Если летом она будет гостить у вас, то я буду очень рад. Она очень хорошая». Из Красноярска: «Где теперь Жамэ? Хотел было заказать ей работишку в музее, да не знаю, где проживает теперь эта златокудрая обольстительная дива».
И возникло слово нежданное, прежде имевшее для него смысл иронический. Это случилось на Амуре — где же ещё, как не на Амуре? Долгий июньский закат, широкий и спокойный, как счастье, лежал от берега до берега, духовой оркестр на палубе играл в перерыве между танцами марш Преображенского полка, и мешки, перетаскиваемые на китайской стороне людьми в пёстром тряпье, сверкали почти так же ярко, как выпуклые извивы контрабаса. Рядом дымил папиросой поручик Шмидт, болтливый курляндец, один из военных попутчиков, надоевших ещё с Красноярска. Милые люди. Получили тройные прогоны, то есть по полторы — две тысячи рублей, и при цене бутылки пива тридцать пять копеек, а приличного обеда — один рубль мгновенно оказались без денег, занимали у бедного беллетриста сто пятьдесят рублей до завтра и мгновенно пропивали. Говорили же только о женщинах. И теперь Шмидт, находясь в обычном состоянии, разглядывал скучившихся у перил пассажирок-институток, ожидавших вальса, прихорашивавшихся и как бы невзначай, как бы безразлично бросавших на мужчин короткие взгляды, и разглагольствовал о преимуществах высоких перед невысокими. Разговор на такую серьёзную тему, разумеется, следовало поддержать:
— Послушайте, поручик, но ведь наши московские и петербургские барышни — просто королевы по сравнению с этими парашами-сибирячками. Институтки, которыми вы любуетесь, — какие-то замороженные рыбы. Надо быть моржом или тюленем, чтобы разводить с ними шпаков.
— Однако вы, Антон Павлович, имели вчера некоторое рандеву вон с той блондиночкой, если я не ошибаюсь. Как её... Зиночка, Ниночка, если я не ошибаюсь. И смею утверждать, что у неё достаточно высокий зад.
— Образованная девица. Надсона знает. И Апухтина. «Ночи, последним огнём озарённые...»
— О-о! Ночи, огнём, как это... опалённые, озарённые... У вас с ней даже литературные интересы. Было бы совсем не банально с вашей стороны, отправляясь на Сахалин, чтобы изучать быт каторжан, по дороге наложить на себя узы Гименея.
Так пронзительно играла музыка, так багряно пламенел Амур, так хотелось жить и любить, что он вдруг ответил поручику серьёзно и растроганно:
— Не могу. У меня в Москве уже есть невеста. Только вряд ли я буду с ней счастлив — она слишком красива.
XV
Если бы Шмидт разговаривал с ним не на палубе амурского пароходика, севшего на мель, а через несколько месяцев на борту «Петербурга» в Индийском океане, он не стал бы говорить о каких-то сомнениях в возможности счастья с ней. После прогулки по Цейлону счастье казалось таким же естественным, как восход солнца.
В первой же части пути в Россию чаще приходили мысли мрачные. Когда сразу после отплытия из Владивостока на пароходе умер один бессрочно отпускной, а после Гонконга другой, и их хоронили по морскому обряду, природа была равнодушно-жестокой. Труп несчастного русского крестьянина, замученного на царской службе и так и не вернувшегося в родную деревню, заворачивали в парусину и после краткой молитвы бросали за борт. Он летел, кувыркаясь, — а до дна несколько вёрст, — и думалось, что и сам ты скоро умрёшь и будешь брошен в море. Пусть даже не в море — отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Смерть — жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Он, Чехов, не может утешиться тем, что сольётся со вздохами и муками в мировой жизни, которая имеет цель. Он даже цели этой не знает. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Страшно стать ничем.
Пахнущая неведомыми пряностями рука бронзовой цейлонской женщины легла ему на лицо и сняла, как паутину, безысходность и страх. Уныло-обличительный рассказ о солдате, прослужившем денщиком и умершем на пароходе по пути в Россию, получил неожиданный финал, когда Чехов увидел закат над Индийским океаном. Вдруг представилось, как тело солдата, сброшенное в океан, становится частью подводной жизни, подплывает к нему акула... «А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зелёный луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с ним золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно».
Теперь он не сомневался, что рассказ хорош. Он всегда безошибочно оценивал свою работу — талант писателя и в самооценке. Если ты пишешь настоящую прозу, вряд ли кто-нибудь, кроме тебя, сможет правильно оценить твою работу. Писатель — творец, бог, а кто может оценить мир, сотворённый богом? Только он сам, о чём и сказано в Библии: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма». И увидел писатель Чехов, что его рассказ хорош весьма.
Рассказ «Гусев» рождал мысли. Образ всегда рождает мысль, а мысль не может породить образ. В «Огнях» он попытался придумать образ, исходя из общих рассуждений о пессимизме, и получился канифоль с уксусом. Читатели «Гусева», наверное, задумаются о вечной красоте мира, о справедливости природы, о том, что смерть есть часть жизни, а жизнь прекрасна, и если в ней существует зло, то лишь как часть прекрасного целого.
Время работы над «Гусевым» было июлем его жизни. Вслед за июлем, как водится, наступает август, он и начался в декабре, сразу после возвращения в Москву. Он ещё не знал, что это август, но в ранних декабрьских сумерках почувствовал странную нереальность. Неподвижно-густой воздух стоял и на Малой Дмитровке, где теперь жили Чеховы, и на бульварах, и на Трубной. Приглушённо звучали извозчичьи «вас-сиясь, куда прикажете?». Писатель Чехов, сопровождавший красивую пышную барышню в манто, опушённом белым мехом, приказал в «Эрмитаж».
Ещё полупустой белоколонный зал с пухлощёкими купидонами над синими окнами был нереально театрален, и загримированные дамы с высокими причёсками прогуливались между столиками подобно оперным статисткам. Официант в белой рубахе, перехваченной шёлковым поясом, возник возле столика мгновенно.
— Заказывайте на свой вкус, — сказала Лика. — Только не очень много — ведь вы известный обжора.
Она заметно нервничала и пыталась скрыть своё состояние напускной грубоватостью.
— Салат «Оливье» обязательно — иначе нас не будут пускать сюда. Автор салата — хозяин ресторана.
— Еда — ваша любимая тема. Наверное, книга о путешествии на Сахалин будет состоять из рассказов о том, чем вас кормили во время поездки.
— Как ни странно, вы угадали. На ваши умственные способности положительно повлиял ваш переход в городскую думу. Теперь я буду вас звать думский писец.
Отпустив официанта, он рассказал, как по дороге к Томску, в деревне его накормили прекрасной щучьей ухой и вкуснейшим белым хлебом.
— Кстати, это было в семье одного из соплеменников некоего Левитана, который, как рассказывают, часто провожал вас по вечерам. Неужели вы не боитесь Софью Петровну?
— Не надо, Антон Павлович. — Голос Лики звучал почти жалобно. — Кажется, сегодня мы встретились не для того, чтобы говорить о Левитане. А эти дамы? Они... что?..
— Да. Это кокотки. А тот в дверях, весь в брильянтах, с напомаженной причёской — их покровитель и хозяин. Проще говоря, бандер.
— А какая из них ваша? Наверное, та, высокая. Похожа на вашу Кундасову.
— Не надо, Лика. Сегодня мы встретились не для того, чтобы говорить о других женщинах.
— А для чего? — В её вопросе звучал нервный вызов: легко согласившись на меблированные комнаты после ужина, она всё же волновалась, а может быть, и раскаивалась.
— Для того, чтобы пить шампанское. Давайте нарушим правила хорошего тона и выпьем, не дожидаясь овощных блюд.
Официант бесстрастно откупорил бутылку, вино заиграло в бокалах, и он, разумеется, предложил выпить за любовь, за счастье.
— Будем щисливы, — поддержала Лика. — Пусть это станет нашим словом: не счастливы, а щисливы.
— Я понял: несчастливы, — не удержался он от шутки.
О любви трудно говорить на обыкновенном человеческом языке, поскольку чувство это необыкновенное, нереальное, может быть, даже воображаемое, представляющееся в мечтах. Как в литературе и вообще в искусстве ты встречаешь не обыкновенных людей, которых знаешь в действительности, а некие образы, то есть каких-то других существ, так и в любви перед тобой не реальная девушка, а её возвышенный образ, порождённый твоими желаниями и мечтами. Прежние его романы происходили просто и естественно, как просты и естественны были желания, возбуждаемые Ольгой Кундасовой, Глафирой Пановой, Каратыгиной и прочими милыми женщинами, теперь же, наверное, пришла любовь, и златокудрая Лика вызывала у него ту самую тяжёлую, хотя и приятную грусть, неопределённую и смутную, как сон, о которой он писал в рассказе «Красавицы».
Наверное, сложные обычаи сватовства, сговора, свадьбы, первой ночи для того и придуманы, чтобы вырвать человека из паутины личных рефлексий и вернуть в слаженный ход родовой жизни, вернуть к природе. Но слово «невеста» осталось на Амуре, стёрлось раздражающими раздумьями о маниакальной страстности Левитана, о гусарских усах Иваненко, о каком-то Балласе — друге семьи Мизиновых, и, главное, о странном человеческом установлении, именуемом браком. Обязательное сожительство бок о бок днём и ночью в течение всей жизни ему не только не нужно, но и вызывает настоящий страх. Он даже против того, чтобы жена, как луна, появлялась только на ночь. В современной форме женитьба слишком серьёзный шаг. Возможно, Лика будет хорошей женой — понимает искусство, литературу. И помощница нужна, особенно сейчас, когда надо разбирать сахалинские материалы. Но он до сих пор не узнал её хорошо, не понял. Писатель Чехов, совершивший весьма важное для России путешествие и собирающийся в триумфальную поездку в столицу, действует не только решительно, но и обдуманно. Не только обдуманно, но и решительно. Для этого он и встретился сегодня с девушкой.
— Во время моего путешествия вы часто виделись с Марьей?
Он старался, чтобы вопрос прозвучал как можно более равнодушно — словно больше не о чем говорить.
— Мы же вместе учительствовали, и к вашим я заходила. Мама сказала, что надо беречь голос и серьёзно его ставить — потому я и ушла из гимназии. Может быть, поеду за границу.
Зал постепенно наполнялся: смокинги, белые галстуки, либеральные пиджаки, монархические бороды, шёлковые платья с кружевами сзади по глубокому вырезу, эгретки из страусовых перьев над греческими пирамидами причёсок, в ушах — ночные огни кабешонов. Новой нелепой нереальностью над залом взлетел весёлый баритон, если и не оперный, то вполне опереточный:
— Гоп, кума, нэ журысь; туды-сюды повернысь!..
Высокий мужчина со знакомым лицом преградил дорогу между свободными столиками одной из местных загримированных дам. Женщина, вообще привычная к самым нелепым шуткам пьяных посетителей, сразу не нашлась:
— Ой, вы уж завсегда такие шутники, — начала кокетничать, но шутник не пропускал, и она жалобно запищала: — Ну, пустите же меня ради Бога...
Человек с брильянтами почти на всех пальцах рук сделал движение по направлению к происходящему, но инцидент разрешился без него. Возмутился седовласый господин из компании, занимавшей ближний столик:
— Господа, уймите же этого хама! Мы же не в хохлацкой корчме.
Тот, кого назвали хамом, направил на седовласого уничтожающий взгляд и строго и размеренно поправил:
— Не в хохлацкой, а в украинской, милостивый государь.
И с достоинством, не торопясь, медленно удалился к двери, ведущей к отдельным кабинетам.
Чехов узнал одесского знакомого.
— Лика, вы знаете, кто это?
— Нет.
— Давайте проведём литературно-медицинский опыт.
Заметив ищущий взгляд Чехова, подлетел официант:
— Рыбное прикажете подавать-с?
— Скажи, пожалуйста, ты знаешь этого господина, который сейчас так громко разговаривал?
— Как же-с. Господин Потапенко. Знаменитый писатель-с.
— А писателя Чехова знаешь?
— Не слыхали-с.
— А я, наоборот, знаю знаменитого писателя Чехова, а о Потапенко ничего не слыхала. Кстати, он похож на вас.
— Это его главное достоинство.
Вечер постепенно приобретал черты реальности, хотя многое ещё было не ясно. В зале включили музыкальную машину, и звуки механического фортепьяно и труб сложились в торжественно-печальную мелодию вальса «Воспоминание». Он вспомнил, как этот вальс звучал над Амуром.
— Я беспокоился, что Марья без меня будет скучать и плакать. Хорошо, что вы были с ней.
— Она моя лучшая подруга.
— Вот уж обо мне, наверное, сплетничали.
— Антон Павлович! Мы ждали вас. Маша часто плакала, рассказывала, как вы чуть не погибли...
Рассказывала, конечно, и о его письмах, передавала то, что предназначалось подруге, но почему же Лика так и не написала ему, «не оставляя больших полей»? Почему не поехала летом на Истру с его семьёй? Не захотела быть официальной невестой? Было бы непростительным мальчишеством осыпать её упрёками, было бы непростительной ошибкой вспоминать амурское амурное слово. Женитьба — шаг серьёзный.
Лика спросила о Михаиле, только что окончившем университет:
— Как поживает «английская грамматика»? Наверное, перешёл на изучение зулусского?
— Алексинского. Он там, в Алексине, податным инспектором. Коллежский асессор, шестой класс, мундир надел. Это вам, сударыня, не какой-то там беллетрист Чехов, которого не знают даже официанты. А вы, однако, умеете давать прозвища.
— Имея такого учителя, как вы, можно многому научиться.
— А знаете, как я прозвал Иваненко? Двадцать два несчастья. Ему всегда во всём не везёт. Даже флейтистом он стал, потому что не повезло — не было места на фортепьянном отделении. А помните, как он с головой упал в сугроб?..
Упоминание об усатом флейтисте оставило Лику равнодушной. Он её, по-видимому, не интересовал.
Подали рыбное, и Чехов вспомнил о своём самом интересном сувенире, привезённом из путешествия, — семействе мангусов: самец и самка.
— Как вы и предсказывали, новую лошадь я не нашёл, но мангусы поинтереснее. Их нет ни в одном зоопарке. Это помесь крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Я вас обязательно с ними познакомлю. Сейчас они сидят в клетке за дурное поведение: переворачивают чернильницы, стаканы, выгребают землю из цветочных горшков, тормошат дамские причёски — пропали ваши кудри, Ликуся...
Лика почти не ела, играла рыбным ножичком матового серебра, слушала как будто с интересом, но вдруг подняла взгляд опытной женщины и сказала, сложно улыбаясь:
— Я думала, что вы с нетерпением ожидаете радостей любви, а вы, оказывается, ждали соте из налимов.
Только что нервничала и смущалась, а, услышав такое, впору самому покраснеть. Позже выискивая в этом нереальном вечере острые препятствия, битые стёкла на тропинке любви, он думал и об острой шуточке, выпорхнувшей из целомудренных уст Лики. Даже убеждал себя, что будто бы намеревался сразу после ужина проводить девушку домой. Возможно, так и было: мужчина всегда немножко Подколёсин.
После ужина он привёз Лику в меблированные комнаты на Никитской — место весьма пристойное: здесь останавливались состоятельные приезжие с семьями, изредка появлялись и московские интеллигенты, почему-либо нуждающиеся во временном романтическом жилище. Лестница на второй этаж застелена белым ковром, на площадках — венские стулья, в номер проводил строгий лакей во фраке, предложил напитки и сладости. Выбрали замороженный пунш на чайном ликёре, конфеты и яблоки.
Номер состоял из гостиной и спальни. Лика выпила пунш и взглянула с ожиданием и, как ему показалось, с некоторым любопытством. Он пригласил её в спальню с большой кроватью и туалетным столиком с трюмо. Сказал, что платье можно повесить в шкаф. Она послушно стала перед ним, расстегнула крючки и пуговицы, помогая снимать платье и отвечая на поцелуи.
— Лика, мы будем с вами щисливы.
— Да, щисливы.
Под платьем — нижняя юбка, бледно-фиолетовый тугой корсет, лиф, белые панталоны с кружевами, что-то ещё.
— Всё это вам не удастся снять, — сказала Лика и засмеялась неприятно-раздражающе.
И мир стал совершенно нереальным. Оказалось, что перед ним совсем не та девушка, с которой он мечтал лечь и совершить то, что она от него ждёт. Вызывающе смеющаяся женщина с голыми роскошными плечами и пышными бёдрами в колышущихся кружевах не вызывала у него мужского желания. Скорее ему было жаль это красивое существо, обречённое на пошлость жизни, жаль и себя, участвующего в таком постыдном эпизоде, и естественный стыд заставлял опускать глаза и прятать лицо в механических поцелуях.
Женщина не ближе к природе, чем мужчина, а она и есть сама природа. Её отношение к мужчинам — отношение природы к своим творениям: любовное — к живому, сильному, растущему; равнодушно-презрительное к немощному, вянущему, засыхающему. Лика почувствовала искусственность поцелуев, ставших ей ненужными и неприятными, почувствовала, что близость мужского тела не зажигает её. Отстранившись, она сказала сердито:
— Мне холодно. Подайте моё платье.
XVI
Он отнёсся к случившемуся, вернее, к неслучившемуся как опытный мужчина с медицинским образованием, тем более что это существовало, как ему казалось, где-то на окраине его жизни. Ждал Петербург, встречи, выступления, поздравления.
Вернувшись домой раньше, чем собирался, решил, что всё к лучшему и он теперь, возможно, успеет напечатать «Гусева» ещё в этом году. Сел писать Суворину.
Сначала о рассказе: «У меня есть подходящий рассказ, но он длинен и узок, как сколопендра; его нужно маленько почистить и переписать. Пришлю непременно, ибо я теперь человек, который не ленивый и трудящийся...» Потом о Плещееве, получившем в наследство два миллиона, потом о послесахалинских планах: «Привёз я около 10 тысяч статистических карточек и много всяких бумаг. Я хотел бы быть женат теперь на какой-нибудь толковой девице, чтобы она помогала мне разбираться в этом хламе, на сестру же взваливать сию работу совестно, ибо у неё и так работы много...»
Вспомнил «толковую девицу», с которой только что расстался, и, наверное, для того, чтобы убедить себя в незначительности происшедшего, написал: «У меня растёт брюшко и начинается импотенция». И далее ещё, с попыткой пошутить: «Как вы были не правы, когда советовали мне не ехать на Сахалин! У меня и брюшко теперь, и импотенция милая, и мириады мошек в голове, и чёртова пропасть планов, и всякие штуки, а какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки «Крейцерова соната» была для меня событием, теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошёл — чёрт меня знает».
Через несколько дней, посылая «Гусева», в коротком письме попросил «для шика написать внизу: «Коломбо, 12 ноября», а затем вновь о том же: «Импотенция in status quo[22]. Жениться не желаю и на свадьбу прошу не приезжать». Рассказ с письмом был отправлен 23 декабря, а 25-го Россия читала его в рождественском номере «Нового времени» с той самой подписью «для шика». Лишь ради того, чтобы написать хороший рассказ и немедленно дать его читателям, стоило ехать на Сахалин и вообще жить.
XVII
Развязный мороз грубо вломился в Рождественские праздники, бегом погнал пешеходов по Малой Дмитровке, запечатал окна дутым литьём с экзотической разрисовкой, прикоснулся тонкой смертоносной сталью к груди, и возникли перебои сердца. Каждую минуту сердце останавливалось на несколько секунд, и где-то возле него появлялся резиновый мячик. Причина болезни пока не была точно установлена: случай ли в меблированных комнатах, сильные морозы или бочонок сантуринского, присланный из Греции Сувориным-младшим. Неясно было и откуда пришёл мороз: из университетской холодной юности или из ещё более холодного близкого будущего, из собачьей старости, уже показавшей своё неприглядное лицо в меблированных комнатах.
Мороз ударил и по брату Ивану — приехал погостить на праздники и свалился в тифе. Чистый ноль по поведению. Помогала держаться лишь надежда на Петербург — там должна была начаться новая, главная часть жизни писателя Чехова. Он погрузился в замученную каторжную Россию до самого дна, до телесных наказаний — до сих пор тошнит, как вспомнишь, — и честный рассказ о Сахалине в петербургских встречах, а затем в большой книге необходим обществу больше, чем самый хороший роман. Это должны понять все, кого волнуют судьбы страны. Пока же общественный резонанс на его поездку выразился лишь в сообщении «Нового времени»:
«Известный наш беллетрист А. П. Чехов возвратился из своей поездки на остров Сахалин. Он отправился туда через Сибирь и возвратился морем через Суэц в Одессу. На Северном Сахалине, где находятся поселения каторжных и ссыльных, он пробыл два месяца, тщательно изучая быт и нравы».
Выздоравливающий Иван удивился — неужели всего два месяца брат был на Сахалине?
— Ровно три. Это так же верно, как то, что ты выпил три рюмки вина, а не две.
Целый вечер сидели они вдвоём за сантуринским, и если на Кудринской гостиная была большим светлым миром, то на новой квартире, при всей её аристократичности, чёрная холодная бесконечность проникала сквозь окна и стены, и жизнь сжималась в слабый комочек застольного разговора с братом.
— В газете ошиблись? — спросил Иван.
— Нет, Ваня. Это они из глубоких дружеских чувств. С тех пор как Суворин стал меня печатать, редакторы «Нового времени» заболели желтухой от зависти и злобы. Мелкие литераторы такие же интриганы, как артисты. Мою фортуну, сволочь этакую, надо, Ваня, взять и высечь тою машинкою, какая имеется у каждого земского начальника.
— Ты, Антон, исполнил свой долг. Feci, quod potui, faciant meliora potentes[23]. В нашей учительской среде совершенно другие нравы. Мы все глубоко уважаем директора и не позволяем...
О прекрасных отношениях в гимназии Иван всегда говорил долго, длинно, убеждённо, но не очень убедительно, и эти его речи слушать не следовало, тем более что в памяти то и дело возникала спальня меблированных комнат и она с удивлением и обидой в чудесных серебристо-синих глазах. В такие моменты хотелось зажмуриться, зажать уши и вообще исчезнуть.
— Почему, Антон? — повторял брат какой-то свой вопрос.
— Почему никуда не хожу? Холодно, Ваня, и сердце что-то пошаливает.
Он каждый вечер собирался пойти, но не мог решить куда и оставался дома. Существовало две возможности: первая — к ней... Вторая... Нет. Пожалуй, в его возрасте туда ходить уже не к лицу.
— Я спрашиваю, почему не работаешь над повестью? Ещё весной ты мне рассказывал замысел.
— После Сахалина писать повесть из кавказской жизни? Наверное, от меня ждут другого.
— Пиши другое.
— Съезжу в Петербург, подведу итоги и засяду.
Наверное, самое лучшее — это исключить одну возможность и к ней не ходить никогда, но в ломано освещённом пространстве гостиной вновь появлялись её глаза, и вариант «никогда» отпадал.
Коллежский асессор Михаил Чехов принёс третий вариант. Он находился в состоянии непрекращающегося праздника, и с ним появлялись новые планы, новые возможности, новые надежды.
— Ты чего такой весёлый? От Мамуны?
— Нет, Антон. Сейчас расскажу. Мороз ослабевает, но ещё, знаете, кусается. Налейте согревающего.
— Вина чиновнику шестого класса!
— Если будешь дразниться, Антон, я подам в отставку.
— Ты, Миша, не должен обижаться на старшего брата, — серьёзно сказал Иван. — Благодаря ему ты сразу и так великолепно начал свою служебную карьеру. Он это сделал для тебя именно в тот момент, когда тебе это было нужно. Как говорили римляне, beati possidentes[24], и напоминали: do ut des [25].
— Итак, ты был не у Мамуны?
— Кто такая Мамуна? — спросил Иван.
— Разве ты её не знаешь? С Марьей кончила на курсах. Графиня Мамуна. Красавица с косой. Мише особенно нравится коса.
Миша выпил рюмку вина и торжественно сказал:
— Я был у Шавровых! Лена сказала, что, если ты не придёшь на ситцевый бал, она утопится в проруби. За пригласительные билеты я заплатил.
— Я же седьмого еду в Петербург.
— Тогда она бросится под поезд, — сказал Иван и засмеялся.
— А бал шестого, — отвёл возражения Миша. — Мне надоело быть твоим представителем у Шавровых. Понимаешь, Иван, он познакомился с ними в Ялте, хорошая семья: мать — аристократка, три девочки — три сестры. Они, конечно, ждали, что он в Москве сделает им визит, а он послал к ним меня и на моей визитной карточке написал: «По поручению А. П. Чехова». Конечно, мне у них интересно — они знают языки и принимают меня хорошо, но всё время ждут Антона. Особенно старшая. Я же не могу его заменить.
— А я надеялся, что заменишь. Если Лена собирается куда-нибудь бросаться, или в прорубь, или под поезд, то я вынужден пойти.
— Тогда она бросится тебе на шею, — сказал Иван и засмеялся.
XVIII
На ситцевом костюмированном балу, устроенном Обществом попечения о бедных и бесприютных детях, предсказанное Иваном почти произошло. Лена Шаврова, одетая фарфоровой статуэткой, задыхалась от радости, представляя своему учителю вполне уже развитые груди и бёдра, пикантно обтянутые матовым ситцем. Он знакомил её с сестрой, но она смотрела только на него, не слышала, о чём её спрашивает Маша, и в бальной суете, как бы из-за толкотни, то и дело прикасалась к нему рукой, плечом, грудью, обдавая ароматом духов и девичьего тела.
— Антон Павлович! Какое счастье, что я вас вижу, — повторяла она.
Он, разумеется, не мог испытывать никакого счастья под хмурыми взглядами Александра Третьего и Марии Фёдоровны, устремлёнными на него с портретов над оркестром, который играл пошлый подэспань, а вычурные ситцевые костюмы, прыгающие по кругу Колонного зала в парах с погонами или манишками, вызывали тоскливое чувство потери — словно он вернулся в знакомый дом и увидел вместо друзей чужие равнодушные лица. Когда студент Чехов впервые оказался в этом зале, на него со стены смотрел царь-освободитель, танцующая молодёжь, состоявшая из читателей Чернышевского, Милля и листовок «Народной воли»[26], излучала энергию радостной борьбы. Потом ещё были баркаролы Рубинштейна[27], иносказания литературных вечеров, Надсон...
— Вам нравится мой костюм? Как вы думаете, мне дадут приз?
— Я присудил бы вам первый приз. А ты, Маша, как думаешь?
— Уж не ниже, чем второй.
— Но лучше, Лена, оставайтесь вне конкурса. И в жизни, и в литературе, и во всём прочем оставайтесь вне конкурса. Так я всегда поступаю сам.
— Я должна вам так много сказать, Антон Павлович. У меня есть новые рассказы. Ещё не совсем законченные. Вы мне должны посоветовать, что с ними делать. И ещё я хотела вам сказать... Вы разрешите мне к вам прийти?
Её слишком откровенный, слишком женский взгляд, те же знакомые пухлые щёчки, подбородочек, убегающий куда-то к шее, делали девушку понятной до дна и ненужной, как пустой стакан. Третий вариант исключался.
— Милая Лена, к сожалению, я завтра уезжаю.
— Неужели опять на Сахалин?
— Нет. Всего лишь в Петербург.
— Ещё я хотела вам рассказать, что начала ходить в театральную студию.
— Леночка, девушка с вашим литературным талантом не имеет права отвлекаться от литературной работы. Пишите рассказы. У вас хорошо идёт ялтинский материал. Напишите, например, о Зильбергроше...
В буфете было так же уныло, как и в зале. Благотворительница-буфетчица смотрела на посетителей с тем же жадным ожиданием, с каким Лена глядела на него. Торговля шла плохо, пьяных почти не было, только за столиком возле буфетной стойки сидел некто в одиночестве, опустив голову в пьяном раздумье. Когда он посмотрел на этого мыслителя, тот, почувствовав сильный взгляд, встрепенулся, а заметив, кто на него смотрит, поднялся, подошёл и сказал:
— Я вас узнал, а вы?
Длинный визитный сюртук был неуместен на этом человеке, как и сам он был неуместен здесь, на балу, с мокрым измятым лицом давно не протрезвлявшегося пьяницы.
Усадив Машу и Лену за столик, пришлось отойти с ним в сторону, чтобы другие не услышали пьяных речей бывшего героя тайных студенческих сходок.
— Опять в Москве? Помиловали?
— Меня нельзя помиловать, я приговорён совсем... Навсегда! У меня отняли молодость и здоровье, но истина не в этом!
— Истины те же, что и тогда?
— Истина в том, что когда мы шли на виселицы и на каторгу, ты Катьку... это... Помнишь Катьку Юношеву? И писал зубоскальство. «Письмо учёному соседу». Когда Ульянова вешали, ты писал сказочку про степь... Не говори своим женщинам, кто я. Скажи: неизвестный.
Отделавшись от пьяного, сел за столик, стараясь скрыть обиду и раздражение. Сказал, наливая себе coupe glacee:
— С такими благотворителями дети долго не протянут.
— Что же делать, Антон Павлович, — оправдывалась Лена, участвовавшая в подготовке бала. — Я не знаю, почему так скучно, такая маленькая прибыль. Никаких пожертвований.
— Люди стали эгоистами, — сказала Маша. — Думают только о своих удовольствиях.
— Фен де сьекль, — констатировал он.
— Что с вами, Антон Павлович? Вы такой скучный. Кто этот человек?
— Из ссылки.
— Красный?
— Сейчас все красные стали розовыми. Наверное, от водки.
— Вы его знаете?
— Нет. Неизвестный человек.
— В Ялте вы были совсем другой.
— Я посмотрю, что у них за конфеты, — сказала Маша и поднялась из-за столика.
— Старею, Лена.
— Антон Павлович! Вы моложе всех мужчин на свете! Я хотела спросить, вы в Петербурге, конечно, будете у Суворина?
— Я буду у него жить.
— Передайте мою благодарность Алексею Сергеевичу за его доброе отношение. Я, конечно, понимаю, что он печатает меня благодаря вам, но и ему тоже я обязана.
Неужели и ему тоже?
Третий вариант с нежными, едва заметными прыщичками на щеке возле ушка остался скучать в залах Благородного собрания, а из оставшихся двух был избран главный, самый сложный: в день отъезда он посетил Мизиновых. Бабушка Софья Михайловна засуетилась, прибирая гостиную и оправдывая Лику, с утра ещё не успевшую привести себя в порядок.
— Лидия Стахиевна подобна солнцу, — успокоил он её, — а зимой солнце поднимается поздно.
— Она у нас очень хорошая, аккуратная, но вечерами ходит на уроки. Лидия заставила ставить голос. Приходит другой раз поздно...
Разбросанные ноты, косынки на стуле, кофточка на другом, фотографический портрет Чайковского брошен на краю стола, и его наполовину закрывает книга рассказов Мопассана — это не беспорядок, а стиль. Волнующий аромат богемы.
— Мы читали ваши статьи из Сибири. Вы так выводите людей — читаешь и видишь...
Лика вышла в пеньюаре, по пояс обвитом распущенными пепельно-золотистыми кудрями, аккуратно оставившими свободной середину груди с нежными симметричными припухлостями и синей ложбинкой. Встретив её спокойный, грустно-укоризненный взгляд, он понял, что сюда не следовало приходить, а если пришёл, то надолго, если не навсегда.
Раздумывая о способах спасения, он сказал, что обещал сахалинскому начальству выслать программы для училищ, а Маша очень занята, и поэтому он обращается к ней. Поскольку он уезжает в Петербург, то выслать программы придётся туда. Лика покорно согласилась, записала петербургский адрес — адрес Суворина, принимающего его у себя, а он с некоторым раздражением представлял, что если сейчас уйдёт, девушка спокойно попрощается, а если потребует лечь с ним — покорно разденется и ляжет, разве что бабушка помешает. Эта тихая покорность не делала Лику ближе, понятнее, а, наоборот, позволяла ей ускользать. Если он не будет настаивать, уговаривать, требовать, Лика навсегда останется подругой Маши и её братьев. Ни шагу, ни знака, ни движения навстречу, как это было у прежних его подруг. Только покорность. Странная ускользающая покорность.
— Неужели вы действительно верите, что я пришёл только ради программ?
— Вы так сказали.
И в глазах упрёк и недоумение, и хочется прижать её к груди, целовать, ласкать и говорить глупые любовные слова.
— Нет, уважаемый Думский писец, я еду в Питер только для того, чтобы получить там от вас любовное письмо. Чтобы не ввергать вас в расходы, вручаю вам марку.
— Зачем вам любовное письмо от меня, если... Если всё так?
— Для того, чтобы всё было не так, а по-другому. Я говорю о нашем неудачном свидании.
— Я не знаю... — Девушка старалась преодолеть смущение. — Вы в тот вечер плохо себя чувствовали... Потом болели...
— В тот вечер вы плохо себя вели, Лика. На любовном свидании девушка должна быть поэтичной. В любовном письме напишите мне о нашем будущем свидании.
Прощаясь, целовались, и он в своих объятиях узнавал прежнюю наивную влюблённую девушку, но, оторвавшись от него, она вдруг резанула насмешливо-любопытным взглядом коварной обольстительницы и сказала:
— Вы дали только одну марку. Вам достаточно одного моего письма? Вы так мало хотите получить от меня?
XIX
Первое её письмо оказалось не любовным, а серьёзным и робким: о школьных программах, о том, что одно длинное письмо написала и не отправила — «сплошной плач», о том, что хотела бы уехать почему-то на Алеутские острова. В конце: «Ответа не жду, потому что я ведь только думский писец, а Вы — известный писатель Чехов!»
Он сразу написал ответное письмо в том покровительственно-шутливом тоне, в каком обычно разговаривал с Ликой, но в конце приписал: «Напишите мне ещё три строчки. Умоляю!» Понадеялся, что она поймёт, какое письмо он хочет получить. Затем направился к хозяину в кабинет, чтобы показать ему московскую газету «Новости дня». Здесь сообщалось о ситцевом бале в Дворянском собрании: «Прибыль составила всего 449 руб. 60 коп.; этого едва хватит на розги, чтобы высечь всех бедных детей г. Москвы».
Кабинет Суворина был предназначен не для того, чтобы думать, писать и разговаривать, а для строгого напоминания каждому вошедшему сюда о его бренности и ничтожности перед монументальностью тёмной мебели, вечной, как горы Кавказа, и перед неисчерпаемостью мудрости, заключённой в книжных шкафах. Переписчики инкунабул[28], монахи-летописцы, первопечатники, просветители, масоны, декабристы, славянофилы, нигилисты, антинигилисты, народовольцы, марксисты, мистики, в общем, все, кто запечатлевал на бумаге слова, а иногда и мысли, делали это, конечно, для наполнения шкафов в библиотеке и в кабинете редактора «Нового времени». Особой достопримечательностью кабинета была тяжёлая зеркальная дверь, ведущая в редакцию газеты.
Лицо Суворина состояло из двух примерно равных частей: высокий светлый лоб и монархическая борода лопатой; между ними обособленно существовали живые азиатские глазки. С ним всегда было трудно, как с человеком, который тебя любит, не совсем понятно за что, от которого ты зависишь и с которым почти ни в чём не согласен. Пытался с ним по-всякому, но, наверное, с тем, кто тебя любит, надо просто быть самим собой — ведь любят-то тебя именно такого, какой ты есть.
Посмеялись над ситцевым балом, и Суворин, естественно, спросил, зачем было идти на такую скуку.
— Меня заманил туда наш юный талант — Леночка Шаврова, сиречь писатель Шастунов.
— Буренин в шастуновских рассказах не находит ровно ничего, — холодно сказал Суворин и обратился к бумагам на столе.
— Ему надо печёнку лечить. Он и обо мне написал, что я начинаю увядать. У Леночки есть то, чего нет у многих беллетристов: она хорошо видит. Псевдоним она дурацкий придумала. Я ей говорил. Шастунов! Табачная торговля «Шастунов и Ко». Просила вам передать миллион благодарностей, говорила, что очень вам обязана и... что девственные прыщички её мучают.
— Так и сказала? — усмехнулся Суворин.
— Как врач и писатель, я понял её именно так. С нетерпением ждёт вашего приезда в Москву.
— Стар я для этого, милый Антон Павлович. С опытными дамами иногда встречаюсь, а для девочки стар. Как её рассказ называется?
— «Замуж».
— Вот-вот. Пусть идёт замуж, а рассказ пойдёт в номер. Я себе отметил. А что с вами происходит, милый Антон Павлович? Что за импотенция? На Цейлоне-то не было? — И над бородой выпятились кружком влажные пухлые губы.
С удовольствием прослушал рассказ о том, как было на Цейлоне, — любил мужские разговоры. Особенно понравилось, что под пальмой. Потом давал советы, как старший младшему:
— Надо пойти в хороший бордель. Я сам когда-то лечился таким способом.
— Было такое намерение, но как-то неловко — не мальчик. Семнадцатого стукнет тридцать один.
— М-да... Есть у меня дама. Она приводит девочек. Бандерша. Ко мне в дом, конечно, нельзя — снимите номер.
— Сестра приказала мне найти здесь, в Петербурге, одну её подругу. Вы, кажется, её знаете — Мусина-Пушкина. Бежала из Москвы от жениха и любовника.
— Найти в Петербурге человека, тем более молодую женщину, для Чехова — это Суворин может.
По звонку из зеркальной двери появился молодой человек, лицо которого, по Салтыкову-Щедрину, выражало несомненную готовность претерпеть. Ему было сказано коротко и категорично:
— Мусина-Пушкина Дарья Михайловна. Узнай, где живёт. Бери лихача — и к полицмейстеру.
XX
От него исходила завораживающая житейская мудрость, подобно душному успокаивающему теплу от русской печи с запахом хорошо упревшей в чугунке каши. Усталый продрогший путник, измученный простудой и разочарованиями, расслабляется в звенящем духе натопленного жилья и, прильнув к неровным, шершавым выпуклостям лежанки, вновь открывает для себя простую меру вещей, снова верит и надеется. И усталый путешественник по сахалинам любви и литературы, прильнув к суворинской доброте и откровенности, начинал выздоравливать от сомнений и разочарований, вновь открывал шершавое тепло простых жизненных истин, в которые не имел права верить писатель Чехов, создатель новых форм.
Сначала было очень смешно — Дарья Мусина-Пушкина жила в том же доме, что и он, только вход с другой стороны. Потом опять было смешно, сладко и лишь немного неприятно: услышав через дверь его голос, Дарья открыла в радостной спешке, не успев одеться, и смущённо смеялась, а он обнимал её смуглые плечи, целовал душистые щёки и говорил:
— Дришка... Дришка... Какая ты тёплая и сладкая...
Он и прежде, на вечерах в доме-комоде, представлял эту стройную женщину в виде сжатой пружины, готовой распрямиться и своим порывистым движением увлечь того, кто будет рядом. И она разжалась и увлекла. Лежала под ним, судорожно целуя в губы и в усы, повторяя:
— О-о!.. Тараканище!.. Какой тараканище!
Потом сказала:
— Вы лучше, чем я ожидала.
— Почему были такие неприятные предположения?
— Потому что вы смотрели на эту пышечку Лику совсем не по-мужски. Мне сказали, что она собирается замуж par depit[29]. Ведь вы только смотрите. Это правда?
Он почти ничего не почувствовал — наступало настоящее выздоровление. И на улице впервые после приезда в Петербург залюбовался пышными голубыми кудрями заиндевевших деревьев.
На следующий день процесс выздоровления продолжался. Неожиданно январское низкое солнышко вспыхнуло на гранёном стекле суворинского книжного шкафа, и почти физически захотелось писать. На этот раз в кабинет пригласил сам хозяин.
— Писать, конечно, надо, дорогой Антон Павлович, — в глазах у Суворина сверкали лукавые смешинки, как у доброго родственника, собирающегося чем-то обрадовать, — а то выходит, что за целый год всего один рассказ. «Гусев» — хороший рассказ, но только один. Вот вам первый результат путешествия на этот проклятый остров.
— Но теперь я напишу книгу о Сахалине.
— Как ваше путешествие было никому не нужно, так и книга о нём никому не нужна. Но раз уж вы съездили, — он сделал паузу, разглядывая собеседника, словно примеряя его к чему-то, — раз дело сделано, надо получить результат. Я понимаю, почему вы не хотели ехать официально, от властей, но теперь, когда надо что-то предпринимать для облегчения участи этих негодяев каторжников, без властей не обойтись. Вам надо приблизиться к трону, и я знаю, как это сделать, чтобы и результат приобрести, и вашу политическую невинность соблюсти. Есть такой умница Анатолий Фёдорович Кони[30]. Он большой друг больших людей, особенно дам. Для вашего дела — он друг графини Нарышкиной, а она председательница какого-то общества, которое печётся о ссыльно-каторжных и прочих мерзавцах, но главное, она — фрейлина государыни. Анатолию Фёдоровичу я вас рекомендую, а дальше... вы понимаете. Будете там — нажимайте на детей. Дамы любят жалеть детей.
XXI
Второе письмо тоже оказалось не любовным. Скорее наоборот:
«Сейчас только вернулась от Ваших. Меня провожал домой Левитан!.. Не обращайте внимания на почерк, я пишу в темноте и притом после того, как меня проводил Левитан!.. А знаете, если бы Левитан хоть немного походил на Вас, я бы позвала его поужинать!!»
Письмо раздражало, и он решил наказать девушку и не отвечать. Ещё лучше вообще больше с ней не встречаться. Ему безразлично, кто её провожает, его не волнует слух о её намерении выйти замуж par depit. Почти безразлично, почти не волнует. У него в Петербурге слишком много дел, и нет времени для бесплодных размышлений о взбалмошной девице.
Одно из необходимых дел — посещение брата Александра. Удалось выяснить, что Сашечка появляется в редакции «Нового времени» только по выплатным дням. Подстерёг его в самый важный момент, когда он расписывался в конторской книге, причём, в отличие от других сотрудников, ставил свою подпись вверх ногами — изобретатель. По-братски обнялись, растрогав редакционных дам. Братец был побрит и похож на интеллигента, значит, пребывал в коротком, но трезвом периоде своего существования. Посему и было принято приглашение на семейный обед.
Одна из дам догнала в коридоре, извинилась и обратилась со странной просьбой:
— Я знаю, что вас очень любит Алексей Сергеевич, и если вы его попросите помочь в деле, касающемся моего родственника, он вам не откажет. У него такие большие связи в Петербурге, что ему не составит никакого труда сделать то, что поможет молодому морскому офицеру в его службе...
Ещё не успел приблизиться к трону, а уже просительница. Софья Карловна Гартнунг устраивала служебную карьеру племянника — мичмана Азарьева. Моряк остался без отца, и некому было за него хлопотать, кроме этой энергичной пухлолицей женщины с решительным взглядом белых прибалтийских глаз. Мичмана после возвращения из плавания назначили в Петергофскую охрану, что, разумеется, весьма почётно, но лишает перспектив продвижения по службе, так как он не проплавал необходимый ценз. Молодого человека требуется перевести туда, где он может продолжить плавание.
Конечно, пришлось пообещать. Следовало заметить, что этот моряк возник именно в тот день, когда он впервые решил окончательно порвать с Ликой.
Обед у старшего брата вызывал нехорошие предчувствия. Идти к нему — это идти в клетку человекообразной обезьяны, отказывающейся стать человеком и дико ревущей о преимуществах обезьяньей жизни. Они братья и выросли в одном логове, и сам он был маленькой обезьяной, но никогда бы не мог, как Александр, будучи уже студентом, одетым в приличный сюртук, в цилиндре, догнать на улице пожилую даму и рыгнуть ей в лицо.
Уже тогда старший брат, знающий всё от Канта до публичного дома, вызывал сомнения, и в первой своей злосчастной пьесе, разрабатывая Платонова, он кое-что брал от Сашечки и от человека, которым должен был стать великовозрастный студент, числящийся в университете седьмой год, но посещающий в основном не лекции, а трактиры в качестве прихлебателя богатых балбесов.
Отдавая ему на суд пьесу, волновался не только как начинающий гений, но и как автор карикатуры на брата. Сашечка себя не узнал и вообще вряд ли что-нибудь понял в своём непросыхающем состоянии. Наверное, и не читал, а полистал, остановился на двух-трёх страницах и, убеждённый в своём глубоком понимании литературы, дал категорическую оценку: «Непростительная, хотя и невинная ложь». Его, так сказать, рецензия содержалась в письме из Москвы, и по тону письма легко представлялась пьяная чванливая обезьяна с отвисшей мокрой губой. Особенно обидело высокомерное презрение мудрого старшего к недалёкому младшему: «Если ты захочешь, я когда-нибудь напишу тебе о твоей драме посерьёзнее и посильнее». Сейчас, мол, некогда — время шнапстринкен.
Этому всегда время. Пришёл к обеду, а в квартире Александра уже клубился невидимый горячий дымок. Хозяин пребывал в первоначальной стадии, когда мир прекрасен и прозрачен и он всё в мире понимает и лукаво, пока ещё почти добродушно, посмеивается над непонимающими, а ты видишь перед собой нелепую физиологическую улыбку, сумасшедший блеск в глазах и слышишь непонятные намёки непонятно на что. Встретил восклицаниями, выражающими вроде бы искреннее восхищение рассказом «Гусев», но сопровождающимися подмигиванием и многозначительным понижением голоса.
— О, гейним! — выкрикивал Александр. — Твой рассказ достоин лучшего, чем наша гнусная газета. Все говорят о тебе и о твоём «Гусеве». Даже больше о тебе. Понял? — И подмигивал. — Никто не знает, кто такой Гусев. Никто не знает, что рассказ назван в мою честь.
— Ты же назвал сына Антоном. Знал, что обижусь, если назовёшь Шекспиром. Где он? Показывай крестника.
— Наташка! Представляй детей великому брату моему. Она их блюдёт как своих. Понял? Блюдёт. Скоро у нас будет свой законный. Будет? — И хлопал по животу Наташу и вновь хитро подмигивал. — Если старший брат взялся, то будет отчётливый результат.
Наташа покорно и печально улыбалась, и мудрые бездонно-чёрные глаза её просили спокойно снести пьяные намёки мужа на далёкое прошлое, когда студент Антон приходил к ней ночевать, спасаясь от семейной тесноты. Минуло почти десять лет, и самая живая его подружка превратилась в молчаливую пожилую женщину с измождённым, заострённым книзу лицом. Чужих детей она действительно содержала как родных, наверное, не хуже, чем это делала бы покойница мать. Оба мальчика подстрижены, одеты в чистое, научены, как обращаться с гостем, и даже его пятилетний крестник уже знает азбуку.
Лучшее, что можно было бы сделать — это отдать подарки и уйти, но стол накрыт, и Наташу не хотелось обижать.
— О, гейним! — продолжал Александр. — Ты такой великий, что мне стыдно носить фамилию Чехов. Я бы лучше назвался Задницыным, или Промежницыным, или...
— Александр! Тебя слушают дети.
— Извини, о брате. Уснух спах, восстах не выспахся. А мальчишек я воспитываю без ханжества. Они у меня всё называют своими именами. Это наша великая лживая литература лицемерит: чудное мгновенье, тургеневские женщины. Сам твой любимый Тургенев этих женщин драл как хотел... Хорошо, не буду. Давай царапнем по рюмахе, как наш Коля говаривал. Пообедаем отчётливо. Я для тебя нашёл самую дорогую хавьяшку...
К следующей стадии Сашечка перешёл уже в самом начале обеда.
— И я, ничтожнейший, приготовил тебе подарок, о великий брате. Ода, посвящённая путешествующему на Сахалин. Слушай:
Талантливый писатель Чехов, На остров Сахалин уехав, Бродя меж скал, Там вдохновения искал. Но, не найдя там вдохновенье, Своё ускорил возвращенье... Простая басни сей мораль: Для вдохновения не нужно ездить вдаль.Нет. Это не я. Это твой друг великий критик Буренин. Почему все великие критики на «Б»? Белинский, Буренин, Суворин...
— Почему Суворин? — удивилась Наташа. — Он не на «Б», и он писатель.
— Потому что б...! — Брат перешёл почти на крик.
— Саша! — взвизгнула жена.
— И ты б...!
Наталья в слезах выбежала из-за стола, детей отправили раньше, и весь запас обезьяньей энергии пришлось принять на себя. Брат, как пьяный лакей, проклинающий хозяина, выкрикивал, что жидомора Суворина ненавидит вся Россия, кроме его гениального братца Антона, готового на всё за лишний гонорарчик.
— И никакой ты не талант, — всё более зверел Александр. — Ты посредственный беллетрист, жалкий подражатель Тургенева. Тот писал романы, а у тебя кишка тонка. Мопассан рассказы пишет лучше твоих, и романы у него блестящие. «Жизнь»! Это же великая вещь! Тебя печатают, потому что ты всегда сидишь в заднице у редакторов. И на Сахалин поехал, чтобы прославиться, чтобы печатали, как великого благотворителя, народного защитника, но тебя раскусили. Настоящая интеллигенция тебя презирает. Владимир Соловьёв не прислал тебе на подпись воззвание в защиту евреев. Больше ста человек подписали. Лучшие люди России: Толстой, Короленко, Тимирязев, Герье, Столетов... Тебя не пригласили, потому что ты в суворинской банде. Весь Петербург знает, зачем ты сюда приехал, — на дочке Плещеева хочешь жениться. Миллион в приданое мечтаешь заполучить. Твои лучшие друзья по всему городу об этом болтают — Щегловы, ежовы. Да они тебе и не друзья — с ними ты общаешься, потому что они тебя в глаза хвалят. И Суворин тебе не друг. Раньше Лейкин был другом[31] — теперь ты называешь его литературной белужиной. И Суворина предашь, как Лейкина, когда найдёшь других покровителей. Либералы станут тебя печатать — будешь Лаврову и Гольцеву лизать[32], как сейчас Суворину. Я талантливее тебя! Могу написать такой рассказ, что ты после него вообще бросишь литературу. Только я хочу жить, а не гнить над бумагой. У меня жена, дети, ещё будет один. Я из него настоящего гения выращу. А ты зачем живёшь? Всех девиц, Марьиных подруг, перепортил, а жениться боишься. Думаешь, я не знаю, что и Наташку ты ....? Не посмотрел, что еврейка — она ж в редакции секретарствовала, помогала рассказики в журнале печатать. И сейчас какую-то смазливую девицу обхаживаешь — Бибиков рассказывал, красавица. Почему же на ней не женишься? Женитьба — шаг серьёзный, да? Будет мешать сочинять рассказики? Ты и выпить боишься, и погулять по-человечески, отчётливо. Давишь в себе всё. Высох, кашляешь. Помнишь, Лесков сказал, что ты умрёшь раньше меня? Так и случится, если не перестанешь себя мучить из-за рассказиков... Вот я отчётливо живу. Руси веселие есть пити. Пиво — национальное состояние... расстояние... достояние. Вот. Беру это достояние и прихожу в состояние...
Если ты настоящий художник, то понимаешь людей лучше, чем другие. И себя понимаешь так же хорошо, но себя понимать страшно, и ты скрываешь свою сущность от себя самого. Лишь в редкие минуты истины, высокой и холодной, как осеннее небо, говоришь о себе с горькой смелостью признания. И он сказал не столько пьяному брату, сколько себе:
— Ты, Саша, прав. Я такой и не могу быть иным. Я так создан. Я должен писать и печататься. Это и есть моя жизнь.
Александр не удивился, не возмутился, а испугался. Забыл свои обличительные формулы и молча смотрел на брата, как бы не узнавая, не понимая. Затем замахал руками, как на призрак, явившийся в алкогольном бреду, и сказал устало:
— Иди. Совсем уходи. Не зови меня на свои именины. Уходи.
XXII
Состояние почти забытое, но незабываемое — не проснулся, а очнулся в жуткой пустоте, и мгновенно что-то ударило в мозг, сдавило, рвануло в сердце, железно скребануло в груди. И страстно захотелось спрятаться обратно в сон. Закрыл глаза, чтобы не видеть хилый синенький рассвет за окнами, но сердце гремело, как пароходная машина на Амуре, и давало не меньше ста. Каждый его удар попадал в висок, вызывая невыносимую боль. Застонав, он нащупал точку пульсации над правым глазом, придавил пальцами, и стало чуть легче. Узнал место — его спальня у Суворина. Время — около девяти утра. Остальное пока неизвестно.
От Александра ушёл в мерзком настроении, но в здравой памяти. Свободина не застал дома. Леонтьев[33]? Какой-то бордель с красными стульями. Нет, не Леонтьев, а какой-то малоизвестный, но очень талантливый его приятель. Куда-то ехали с ним...
За дверью послышались осторожные шаги. Кто-то заглянул и так же осторожно ушёл. Потом — шаги другого человека, мягкие, но уверенные, хозяйские. Постучал и вежливо спросил:
— Можно к вам, Антон Павлович?
Суворин вошёл, сел в кресло, деловито спросил, не подать ли кофе или огуречный рассол в постель, но он предпочёл подняться и пройти в столовую. Здесь всё было приготовлено: и рассол, и кофе, и горячее молоко, и холодная водка. Дворянского воспитания Суворин не получил — отец был солдатом, участвовал в Бородинском сражении, потом дослужился до офицерского звания, — но такую деликатность встретишь даже и не у каждого аристократа: ни прямо, ни намёком не спросил, где и с кем произошло вчерашнее упоение. Самому бы узнать.
Хозяин, наверное, уловил вопрос в воспалённых глазах и осторожно сказал:
— Вы ночью что-то говорили о чтении в Обществе. Когда я вас провожал со свечой в вашу комнату. Будете там читать?
— Русское литературное общество. Предложили что-нибудь прочитать. Я пока отказался. До встречи с Нарышкиной мне не следует выступать публично.
Не следовало бы и напиваться неизвестно с кем. Гостеприимный хозяин пригласил писателя, культурного человека, а оказалось, что в его доме поселился мерзкий пьяница, которого надо встречать по ночам, чтобы не опозорить перед лакеями, провожать со свечой до кровати, помогать раздеваться...
Процедура опохмеления снимает физическое недомогание, но психическая травма заживает медленнее. Если в душе мрак, почему-то никогда не происходит что-нибудь хорошее, успокаивающее, возвращающее веру в себя. Наоборот, злые удары судьбы кем-то нарочно приберегаются для чёрного часа, чтобы стукнуть по больному месту и добить тебя окончательно.
Когда он немножко пришёл в себя и подкреплялся горячим кофе, Суворин озабоченно спросил:
— Как вы договорились с Кони?
— Завтра я должен быть у него, или он заедет сюда, и мы вместе едем к Нарышкиной. Как видите, я уже начал готовиться к визиту в высшие сферы.
Суворин не поддержал юмор и спросил с той же озабоченностью:
— Полегчало, Антон Павлович? Может быть, пойдёте отдохнуть?
— Нет, я уже пришёл в себя и могу ехать не только к Нарышкиной, но и к её августейшей покровительнице. Даже могу вести с вами философский диспут о Сахалине. Кстати, я слышал, что философ, он же поэт, Соловьёв составил какое-то воззвание. Вы ничего об этом не знаете?
— Редактор «Нового времени» знает всё, тем более что это касается моей газеты. Соловьёв сочинил обращение к нам, людям, издающим газеты и журналы. Убеждает или даже требует прекратить нападки на евреев. Подписали человек сто, и все — имена. Толстой, Короленко, ну и прочие. Пытались опубликовать, но негодяй Победоносцев донёс государю. Не люблю жидов, но доносчиков ненавижу. Александр написал на этой бумаге, что Соловьёв — чистейший психопат, и запретил печатать.
— Написано-то дельно? Может быть, следует остановить разгул газетчиков, оскорбляющих целую нацию?
— Антон Павлович, я в своих статьях позволяю оскорбления?
— Но ваша газета! Эльпе, Буренин...
— Антон Павлович, я когда-нибудь правил ваши рассказы? Вот. Никогда. Если я люблю автора, верю ему, то печатаю то, что он написал, нравится мне или не нравится. Буренина я люблю. Он много сделал для меня хорошего, человек талантливый. Я не могу переделывать его статьи, так же как и ваши рассказы. Но, дорогой Антон Павлович, меня волнует совсем другое. Вчера вы пришли... поздно, и я не успел передать вам письмо. Его принесли вечером.
Он достал из кармана домашней куртки нераспечатанное письмо в конверте официального учреждения.
— Это от него, — встревоженно сказал Суворин, — от обер-прокурора Кассационного департамента, сиречь от Анатолия Фёдоровича Кони.
Прочитали вежливый текст, смысл которого заключался в двух фразах: «Моё нездоровье не позволило мне быть у Вас, чтобы поблагодарить за любезное посещение. По тому же нездоровью я не успел и повидаться с Нарышкиною».
— Что сей сон значит?
Мог бы и не спрашивать — всё было понятно. Суворин разъяснил ещё понятнее, со знанием дела:
— Анатолий Фёдорович — умнейший и хитрейший политикан-прохвост. Он сейчас в чести у высшей власти, а если, не дай Бог, в России случится революция, он и в ихней мерзкой республике будет наверху. Каким-нибудь министром или комиссаром назначат. Он заболевает всегда вовремя. Всё проверил, пронюхал, повыспрашивал при дворе и выяснил, что беллетриста Чехова там не хотят.
Его не хотели нигде. При дворе он красный, у либералов — негодяй нововременец.
XXIII
Бесцельно сидел за письменным столом, рисуя какие-то закорючки, женские фигурки, буквы. Вдруг получились «Л и М» — заветный вензель, — когда лакей доложил, что просит принять господин Чехов Александр Павлович.
Сашечка пришёл в тёмных очках — прятал виноватый взгляд. На смятом небритом лице — раскаяние в сложном сочетании с бодростью небольшого свежего опохмеления. Ещё пару пива, и вместо извинений вновь загремят обвинения.
— Прости меня, Антон, — бормотал Александр, стоя у двери. — Не помню, что вчера говорил, но знаю, что обидел. И у Наташи я просил прощения. Она меня понимает. Проклятая водка. Клянусь, что брошу пьянство. И Наташе обещал. Есть один гипнотизёр — он обещал меня вылечить. Сегодня же пойду к нему. Или завтра...
Конечно, завтра, — сегодня он пойдёт в кабак. Потерян счёт его покаяниям, и не было смысла выслушивать ещё одно.
— Иди, Саша, лечись. Я тебя, как всегда, прощаю.
— Я пойду, но пойми, Антон, я не виноват! Каким я ещё мог стать после палогорычева воспитания. Он же меня сёк до двадцати лет. А вся наша семейная грязь...
— Всё, Саша. Ты не виноват. Иди к гипнотизёру, только не в кабак.
Александр ушёл, и он опять остался наедине с болезненно-мрачными раздумьями. В такие моменты помогает беседа с хорошим другом, но у него настоящих друзей нет. Все эти ежовы, Щегловы, как справедливо заметил Сашечка, никакие не друзья. В душе они все его ненавидят и завидуют ему. Если бы он сейчас застрелился, все бы они обрадовались.
Стреляются, когда рушится всё, когда больше нет надежд. У него разрушилась любовь, провал в литературе — один рассказ за целый год, призрачными оказались надежды на сахалинское путешествие — нс сумел он помочь ни одному несчастному, ничего и сам не получил от поездки, только истратил кучу денег. Брат Николай погиб от водки и чахотки, Александр — неизлечимый алкоголик, сам он давно чувствует чахотку в груди, и нервная система разрушена, и на свидании с чудесной девушкой оказался несостоятельным, преждевременно состарившимся. Это явные признаки вырождения, часто наблюдаемого в купеческих семьях.
Если у человека есть нечто глубоко личное, своё, ни с кем не разделённое, предпочитаемое им всему остальному миру, значит, есть зацепочка, за которую он ухватится в тяжёлую минуту и не упадёт, не погибнет, не застрелится. Зацепочка удержит его сама, и он почувствовал её, когда вдруг возник сюжет, связанный с его жизнью, но не копирующий происшедшее, а выражающий его сущность и отбрасывающий ненужные личные подробности. Это всегда у него получалось механически, без усилий. Он всегда чувствовал разницу между хаосом происходящего и точностью запечатляемого в литературных образах. В жизни он, сын мелкого разорившегося купчишки, запутался в сложных отношениях с девушкой из другого круга и, главное, истерзан писательской рефлексией. Девушка не столько из другого круга, сколько из другого рассказа, который он мечтает написать чуть ли не с самого детства, но почему-то никак не начнёт. В сюжете о купеческой семье не нужна неудачливая актриса. Здесь герой унаследует миллионное дело, влюбится в интеллигентную девушку и будет мучиться подозрениями в том, что она вышла за него из-за денег, как сам он думает о Лике, будто ей он интересен не как мужчина, а как известный писатель. Третьей лишней будет его любовница — женщина типа Астрономки.
Хаос рассыпающихся суетных и мучительных мыслей исчезал, смытый ровным неспешным потоком воображения, точно направленным к некоей цели, ещё не известной, требующей раскрытия, но несомненно существующей. Исчезали и болезни, и сомнения, и разочарования. Происходило то, для чего был предназначен писатель Чехов.
В мире восстановился порядок, и то, что казалось неудачей, становилось необходимым. Не надо досадовать на то, что не состоялась встреча с фрейлиной. Хорошо, что он не влип ещё в отношения с двором. Хватит с него и «Нового времени». Не надо наказывать неопытную девушку за не понравившееся ему письмо.
На огромном письменном столе, предоставленном хозяином в его распоряжение, всегда была приготовлена пачка отличной бумаги, напомнившая ему сейчас просьбу Лики. Рядом — принесённая редакционным курьером записка Софьи Карловны с подробными сведениями о её племяннике и даже фотография молодого моряка. Это он убрал в особую папку, а из стопы взял лист для письма Лике.
«Спешу порадовать Вас, достоуважаемая Лидия Стахиевна: я купил для Вас на 15 коп. такой бумаги и конвертов. Обещание моё исполнено. Думаю, что эта бумага удовлетворит изысканным вкусам высшего света, к которому принадлежат Левитан, Федотов и кондуктора конно-железной дороги...» И далее в обычной интонации. Подписал: «Остаюсь преданный Вам А. Кислота». Потом сделал большую приписку и в ней всё же напомнил: «Если бумага эта Вам понравится, то, надеюсь, Вы поблагодарите меня письменно. Ваши письма я показываю всем — из тщеславия, конечно».
Позже выяснилось, что в тот же день, когда он писал эти строки, Лика сочиняла ему «любовное» письмо. Он получил его перед обедом и, прочитав, решил, что выпьет несколько лишних рюмок водки.
«Зная твою жадность, дорогой мой Антоша, и желая придраться к случаю написать тебе, я посылаю марку, которая была мне так нужна. Скоро ли ты приедешь? Мне скучно, и я мечтаю о свидании с тобой, как стерляди в Стрельнинском бассейне мечтают о чистой прозрачной реке. Я не умею быть поэтичной, и когда хочу себя настроить на этот лад, то выходит не то! Но всё-таки приезжай 26-го, и ты увидишь, что я могу быть поэтичной не только на словах. Я пишу письмо в таком тоне, т. е. решилась писать только потому, что ты велишь прислать марку в любовном письме. А такие письма я пишу обыкновенно на «ты»! Итак, я жду тебя, я надеюсь, что ты подаришь мне хоть 1/2 часа! Не всё же ей! За мою любовь я заслуживаю 1/2 часа. До свидания, целую тебя и жду. Твоя навеки Лидия Мизинова».
XXIV
Сначала показалось, что выпить лишнего не удастся, — за столом никаких гостей и слишком светло из-за заметного прибавления петербургского дня и ослепляющего свечения жемчужного ожерелья Анны Ивановны на восьми нитках. Свет расширял пространство, усиливал звуки, и за обедом все держались с редкой доброжелательностью. Дети, вернее подростки Настя и Боря, вежливо помалкивали. Алексей Сергеевич поглядывал с хитровато-сюрпризной улыбкой, Анна Ивановна очень умело скрывала свою неприязнь к беллетристу Чехову, старый лакей Николай разливал селянку с видом щедрого дарителя, и даже собаки, носившие имена героев «Каштанки», вели себя на удивление пристойно.
Надо быть писателем Чеховым, чтобы понять истинное отношение Анны Ивановны к себе, как, впрочем, ко всем, кто находился возле стареющего мужа, превосходящего её возрастом на четверть века. Её постоянное состояние — страх. Боится, что мужа уведут, как она увела его от первой жены, что их разорят, втянув мужа в литературу или в политику, что он умрёт и начнутся споры о наследстве, что он долго не умрёт и свои цветущие бальзаковские годы она проведёт возле немощного старца.
Подали жаркое, и возник повод выпить лишнюю рюмку. Суворин прервал незначительный застольный разговор и начал неожиданно торжественно:
— Дорогой Антон Павлович, я хочу ещё раз поздравить вас с окончанием вашей сахалинской эпопеи и пожелать скорейшего возвращения к литературному творчеству. Ваше гуманное, но без сентиментальности миросозерцание, независимое от всяких направлений, какими бы яркими или бледными цветами они ни украшались, позволяет русскому читателю надеяться на появление ваших новых прекрасных рассказов и повестей, в которых вы всегда приветствуете простую живую жизнь, а не призываете тратить силы на несоразмерные подвиги и на попытки зажечь море. Мы с Анной Ивановной всегда помогаем вам и сейчас намереваемся помочь отдохнуть после тяжкого путешествия и набраться мыслей и наблюдений для творчества. Я в ближайшее время еду за границу, во Францию и Италию, и нижайше прошу вас быть моим спутником и товарищем.
Он, конечно, ответил, что польщён, весьма благодарен и с удовольствием поедет, если ничего не помешает. Конечно, наполнялись рюмки, и Анна Ивановна при всей своей неиссякаемой хитрости оказалась нормальной русской бабой, умеющей на время забыть обиды и расчёты, всем всё простить и закружиться в хмельном веселье.
— И я за вас рюмочку, милый Антон Павлович, — говорила она с искренней теплотой и ласкала сочувственным женским взглядом. — За ваше здоровье. Берегите себя...
Хозяин перешёл от стиля торжественного к разговорному и в который уже раз повторил:
— Никому не нужен этот дикий остров со всеми его мерзавцами каторжниками. И не пишите вы о нём ничего.
Пришлось возразить:
— Он нужен всем нам, потому что... Впрочем, не за обедом об этом говорить. Да вы, Алексей Сергеевич, и сами понимаете, почему нам всем нужно знать о Сахалине и что-то делать для него.
Потому что прибывших ссыльных женщин вели с пристани в тюрьму через грязный сахалинский туман, как скотину на убой или на продажу, и в толпах старожилов, тянувшихся за ними, мужские взгляды так по-хозяйски и оценивали их, согнувшихся под тяжестью узлов, грязных, измученных дальней дорогой и морской качкой. Тишина делала картину особенно страшной, и хотелось прервать это безмолвие, сказать добрые слова хотя бы одной из несчастных, может быть, той светлолицей. Бывают такие лица, к которым никакая грязь не пристаёт.
Его опередил провожатый унтер — крикнул этой женщине:
— Эй ты, кургузая! Как зовут?
— Степанова Мария, — ответила женщина, привыкшая в тюрьме и на этапе к перекличкам.
Когда женщины прошли, он спросил унтера, зачем тому понадобилось узнавать фамилию ссыльной. Тот сказал, что приглядывает хорошую бабу в услужение.
— Чтобы, значит, по всем статьям, — пояснил унтер. — Ежели, конечно, писаря себе её не запишут. Они на это дело ушлые. Такая баба уже нынче одна спать не будет. Которые никудышные, старые, тех в южный округ...
В этот же день он разыскал Степанову в тюрьме, в том же бараке, где в одиночке сидела знаменитая Соня Золотая Ручка. Вновь удивило чистое светлое лицо послушной девочки.
— За что попала сюда, Маша?
— Мужа отравила, — ответила она, как нашкодившая девчонка.
— Бил? Мучил?
— Бил-то что... Эка невидаль. Да особо и не бил. Любил он меня. Да я-то не его любила.
— А тот?
Словно и не было чистоты и наивности — ненависть в щёлки сдавила глаза, злоба перекосила рот, открывая собачий оскал:
— Его бы задушила! Замучила бы иуду! Уговаривал повиниться, с мужем поладить... Я для него на такое дело пошла, а он на суде меня продал. Сказал: «Её грех», — и тринадцать лет каторги. А то, может, оправдали бы.
— А как здесь жить будешь, знаешь?
— Говорили — начальству в услужение. Возьмёте меня? Я бы к вам пошла. Я и по дому, и на кухне, и в огороде...
— Нет, Маша. Я не начальник. Я из Петербурга, из газеты.
— Вот и напишите, как измываются над нами, бабами. Нешто я виновата, что полюбила? Нешто Бог против любви? Неужто по-божески жить с постылым?..
Потому и надо всем знать о Сахалине.
Потому что на амурском пароходе везли на Сахалин в ножных кандалах арестанта, убившего свою жену. С ним ехала сиротка-дочь лет шести. Когда отец спускался вниз, в ватерклозет, за ним шли конвойный и дочь; пока тот сидел в клозете, арестант с ружьём и девочка стояли возле двери. Когда арестант взбирался наверх по лестнице, девочка карабкалась за ним и держалась за его кандалы. Ночью она спала в одной куче с арестантами и солдатами.
Потому что, когда на Сахалине хоронили женщину, на кладбище привели двух детей покойницы — одного грудного и другого — Алёшку, мальчика лет четырёх, в бабьей кофте и латаных штанах. Его спросили, где мать, а он махнул рукой, засмеялся и сказал: «Закопали!..»
Подали спаржу на серебряном штативе с широкими щипцами, бокалы наполнились шампанским, и он сказал:
— Я глубоко благодарен за незаслуженно высокую оценку моей литературной деятельности. Я попытаюсь оправдать ваши надежды на мой скромный талант, буду работать, но считаю важнейшим своим писательским и человеческим долгом написать книгу о Сахалине. Арестантский халат навсегда останется в моём шкафу.
Любовное письмо перечитал и после обеда, и после отдыха, и впечатление не изменилось. Близкие отношения между мужчиной и женщиной слишком важны для обоих, цена их слишком высока в этой бедной радостями жизни, чтобы превращать их в предмет пустой насмешки. Он скорее предпочтёт проститутку, серьёзно относящуюся к своей работе, чем вновь поведёт в меблированные комнаты бесчувственную хихикающую куклу.
XXV
К серьёзной проститутке идти не потребовалось, поскольку в Москве его ждала Ольга. Когда они ложились с ней, она вернулась к старой привычке и потребовала погасить свечи. Потом спросила, был ли он на «Пиковой даме» и какого он мнения о «Послесловии» к «Крейцеровой сонате». Услышав его индифферентное «нет», резко повернулась лицом к нему, пронзая темноту возмущённым блеском глаз, и вознегодовала:
— Что же вы делали в Петербурге, чёрт вас задави? Пьянствовали и ходили к продажным женщинам? Вы газеты перестали читать. Ваш друг Суворин в своей газете уже написал о «Пиковой даме»...
Она горячо говорила о святой обязанности образованного человека быть в центре культурной жизни, участвовать в общественных делах, откликаться, высказываться, поддерживать... Он твёрдо молчал, и Ольга поняла это по-своему — прервала речи о долге культурного человека и сказала с обидным сочувствием:
— Я предупреждала вас, что она не ваша судьба.
— И что же Суворин о «Пиковой даме»? Хвалит, конечно?
— Вот и нет. Определил как «хорошие отрывки». Считает, что если в Онегине есть общественный и исторический смысл, то здесь его нет. Даже каламбурит: «Три карты, три карты... полкварты, полкварты...» Предлагает сделать Германна сыном графини и Сен-Жермена.
— А Пушкин не догадался.
Ольга громко захохотала, подпрыгивая и раскачивая кровать. Когда приступ закончился, он спросил об её собственном впечатлении.
— Музыка — жуть. Страшно. И очень милые есть места. Дуэт, французский романс...
— Французский?
— Графиня поёт по-французски.
— Разумеется, вы всё поняли.
— Я давала уроки французского.
— Если я попрошу вас дать мне несколько уроков?
— Начнём сейчас?
Она прижалась к нему и вновь захохотала.
Он объяснил, что собирается с Сувориным за границу и хочет усовершенствоваться в языке.
— Суворин — хороший старичок, — сказала Ольга, — только очень хитрый.
— Какой же он старичок? Ещё нет и шестидесяти, И он в вас влюблён.
— Убирайтесь к чёрту.
И повернулась на другой бок, толкнув его узкой хрящеватой спиной.
Он так и написал Суворину, а приехав в Петербург перед началом путешествия в Европу, рассказал подробности. Тот посмеялся, сказал:
— Всё же она изумительная женщина.
XXVI
С Ликой Мизиновой на этот раз он не прощался, и в те предотъездные дни ему всё ещё казалось, что в душе установился порядок. К счастью, не удалось превратиться в общественного деятеля, и он остался писателем, свободным художником. Книгу о Сахалине он, конечно, напишет — это его долг, но главное — романы. Сначала из кавказской жизни, потом — о вырождающейся купеческой семье. Писательство — его труд, и он должен относиться к нему серьёзно. Нельзя надеяться на вдохновение, на память, на случайности. Мысли, словечки, наблюдения, сюжеты и прочее словесное сырьё надо собирать и записывать. И была куплена специальная записная книжка, с которой хоть на войну — твёрдый переплёт в металлической рамке. На первой странице написал: «Сия книга принадлежит А. П. Чехову. Петербург, М. Итальянская, 18, кв. Суворина».
Всё было спокойно и ясно, но перед самым отъездом произошло событие... Выезжали из Петербурга 17 марта, а 16-го он увидел Элеонору Дузе[34] в «Антонии и Клеопатре». Он увидел театр, и вновь затрепетало сердце таганрогского гимназиста.
Прощальное письмо сестре было отправлено ещё днём, но, вернувшись из театра, он написал ещё одно:
«16 март. 12 ч. ночи. Сейчас я видел итальянскую актрису Дузе в шекспировской «Клеопатре». Я по-итальянски не понимаю, но она так хорошо играла, что мне казалось, что я понимаю каждое слово. Замечательная актриса. Никогда ранее не видал ничего подобного. Я смотрел на эту Дузе, и меня разбирала тоска от мысли, что свой темперамент и вкусы мы должны воспитывать на таких деревянных актрисах, как Ермолова, и ей подобных, которых мы оттого, что не видали лучших, называем великими. Глядя на Дузе, я понимал, отчего в русском театре скучно...»
Маше было достаточно этих строк, а о душевном потрясении, вызванном актрисой, не должен знать никто. На сцене Александринки появилась не маленькая, на первый взгляд даже невзрачная женщина в восточном наряде, а могучая властительница с беспощадно-величественным взглядом и тонкими жестокими губами. Когда гонец сообщил, что Антоний женат, верхняя губа царицы приподнялась в зловещей усмешке, обнажая блеск зубов. Клеопатра подошла к нему хищными шагами и вдруг в бешенстве кинулась на вестника. Зрители первых рядов в ужасе отшатнулись. Разъярённая царица топтала раба, рвала ему волосы, царапала лицо, достала кинжал из-за пояса, обратив несчастного в бегство, затем приказала вернуть его. Он ползал у неё в ногах, а Клеопатра засыпала его нервными резкими вопросами. Не надо знать язык, чтобы понять — расспрашивала о сопернице. Не надо знать итальянский, чтобы понять — узнала нечто порочащее ту женщину. Вздохнула, как после удушья, и не села, а почти упала на пол, опершись спиной о царское ложе, откинув голову на подушки. Руки повисли, успокоенно-туманный взгляд блуждал где-то в небесах.
Зрители бешено аплодировали, но актриса ещё не закончила свою сцену-шедевр. Молниеносно вскочила, вновь напугав первые ряды, и заметалась, выражая бурную радость, лаская гонца, как домашнюю обезьянку, страстно улыбаясь, томно изгибаясь, чувственно напрягая бёдра. Театр неистовствовал — зрители видели не фривольно-опереточные движения, а выражение самого великого, что есть на земле, — женской любви.
И она так мучилась, когда он был с Ольгой и другими, и так же будет счастлива, когда вновь встретится с ним.
Ему не избежать своей участи: жить только для театра, в театре, во имя театра.
Ему не избежать своей участи: он должен быть с ней.
И, возвращаясь в Россию, он возвращался к ней.
XXVII
В Москву из-за границы он вернулся 2 мая, на следующий день был уже в Алексине, на даче, снятой Михаилом, а ещё через несколько дней ожидал прибытия парохода из Серпухова.
Ниже пристани река пересекалась длинным железнодорожным мостом, чем-то напоминавшим итальянские средневековые развалины. Ока равнодушно колыхалась, доплёскивая холодной волной до самого сердца. Ветер мел воду против течения, и солнце падало на реку красными дрожащими каплями.
Он стоял на спуске к реке, откуда было видно всё её русло. Когда пароход прошёл несколько выше пристани, забросав мост клочьями дыма, и, приглушив машину, начал медленно, под углом, по течению скользить к причалу, он увидел её. В светлом платье и шляпке она стояла на палубе у перил с какими-то мужчинами. Причаливая, пароход развернулся, и её не стало видно.
Пассажиров было не много. Она вышла в числе последних, как ему показалось, с теми же мужчинами. Один, высокий, в дворянской фуражке, откланялся и направился к экипажам, ожидавшим приехавших. Другой вёл её под руку и нёс дорожную сумку. Он узнал её спутника, и его охватила тяжёлая, похожая на тупую боль тоска. Она приехала с Левитаном.
Маска натирает мозоли на душе, если её долго носить, а за полтора месяца путешествия с покровителем постоянно приходилось быть в напряжении, покладисто соглашаться или, в крайнем случае, мягко возражать. Теперь, когда надеялся дышать по-домашнему свободно и встретить Лику не насмешками старшего брата, а вниманием любящего мужчины, вновь требовалось напрягаться, радостно встречать старого друга, играть шутливую ревность и вообще вести себя так, как подобает писателю Чехову. Надел пенсне, чтобы не выдали усталые глаза, и мило басил:
— Дорогая Лика, неужели этот мавр умыкнул вас у бабушки, чтобы тайно обвенчаться? Но по какому обряду? Здесь же нет ни мечети, ни синагоги. Придётся тебе, Исаак, креститься, а я уж буду твоим крестным отцом.
Она немного похудела и стала ещё красивее, а взглянув в её глаза, полные детской бесхитростности и девичьего ожидания, он мгновенно освободился от смятенно-тоскливых подозрений: она так чиста и наивна, что не понимает, почему его может обидеть её приезд с Левитаном.
— Если вы не оставите ваши шуточки, Антон Павлович, то...
Он не мог сдержать счастливую улыбку, слушая её певучий голос, звенящий детской обидой, и Лика закончила свой решительный ответ, смеясь:
— ...то мы будем жить в гражданском браке.
— А куда вы денете третьего, о златокудрая? Того высокого, в фуражке?
Перебивая друг друга, Лика и Левитан рассказали о случайном знакомстве на пароходе с местным помещиком Былим-Колосовским. Он услышал их разговор, в котором часто упоминался Чехов, представился, заявив, что Чехов — его любимый писатель, и они всю дорогу были с ним. Его имение Богимово здесь неподалёку, и он приглашал их всех к себе.
— Он читал ваши рассказы, — говорила Лика. — И книгу «В сумерках» знает. Он большой либерал. Очень интеллигентный человек.
— Очень интеллигентный, — подтвердил Левитан. — Только что выгнали из Петровской академии.
— За что?
— За политику — не посещал лекции и не сдавал экзамены.
С Левитаном они виделись в марте, в Петербурге, на выставке, где не было картины лучше его «Тихой обители», и теперь было что сказать художнику:
— Много живописи я видел в Европе, побывал в парижском весеннем Салоне, но лучше твоих пейзажей не видел. Среди пейзажистов ты король. Когда я тосковал по России, вспоминался тот милый мостик на твоей картине, и хотелось идти по нему через реку к белым стенам монастыря.
— А здесь у тебя вид не очень, — сказал Левитан. — Какой-то мост... Правда, если взять отсюда...
К даче приходилось подниматься в гору, ветер нагнал облака, закрывшие солнце, майская зелень дрожала от холода, и если бы он внимательно всмотрелся тогда в происходящее, то мог бы увидеть черты безнадёжно пасмурного августа, но он не мог внимательно всматриваться. Лика опиралась на его руку, и её сладкая тяжесть проникала в сердце тёплой волной, в которой всегда тонут странные мужские стремления к победам, путешествиям или к созданию новых форм. И он тогда, в начале рокового лета, соглашался тонуть в радостях обыкновенной человеческой любви.
Ковригинская дача, снятая Мишей, не годилась для радостей: всего четыре комнаты. В одной — родители, в другой — Маша, кабинет для него, а Миша вынужден спать в столовой. Лучше всех устроился мангус — хозяйничал во всех комнатах и свободно гулял вокруг дачи. Лика его побаивалась, и ей пообещали, что на ночь его куда-нибудь запрут. За обедом рассуждали, куда же его запереть и, кстати, куда уложить гостей. Левитан пытался смешить, заявляя, что он готов потерять невинность и лечь с Лидией Стахиевной. Вообще он был мрачен и шутки не получались.
Вечером гуляли. Он под руку с Ликой, Левитан — с Машей. В голубых сумерках за рекой вспыхивали огоньки города. Холод проникал в душу, и хотелось чем-то возмущаться. Сначала возмутили высказывания Лики об игре Дузе, гастролировавшей в Москве:
— Мы были с моей Малкиель и удивлялись, что эта маленькая кривляка имеет такой успех.
— Ваша Малкиель скоро заменит нам Дузе. Её, кажется, берут куда-то играть? И вас взяли бы, будь ваш отец тоже владельцем театра, вместо того чтобы работать на железной дороге.
Ещё более возмутило, что Лика перестала брать уроки пения.
— Лето я должна отдыхать, — беззаботно сказала она.
— От каких трудов? Вы же ещё ничего не сделали.
Он пытался объяснить ей, что жизнь слишком коротка, чтобы позволять себе откладывать развитие своего таланта, но Лика не хотела слушать:
— Антон Павлович, вы пригласили меня, чтобы истязать поучениями?
— Вы знаете, зачем я вас пригласил, и если бы вы приехали в одиночестве, я оставил бы вас на всё лето.
— Какое счастье, что Исаак со мной!
— Тогда давайте догоним их и вы присоединитесь к нему.
— Вы перестали понимать шутки, Антон Павлович?
— Какие же шутки? Я вас приглашаю, а вы приезжаете с другим мужчиной. Почему? Хотели меня оскорбить?
— Но я... Но вы... Не могла же я ехать в такую даль одна. Ночью. Поезд, потом пароход...
— У вас есть подруги.
— Неужели вы не знаете, что...
И она вдруг заплакала. Он пытался её успокоить, обнял мягкие плечи, гладил растрепавшиеся кудри, но она вырвалась.
— Неужели вы не знаете, в каком тяжёлом положении Исаак Ильич? — В её голосе звенело возмущение. — Приказано выселить из Москвы евреев. Ему некуда деться.
XXVIII
Утром распогодилось, и Маша предложила пойти собирать щавель. Он поддержал:
— У нас так, милая канталупка: что соберёшь, то и поешь. Даром не кормим.
Лика одарила его долгим непонятным взглядом. Она была нервна, раздражена и не скрывала своего настроения. Ему это казалось достоинством, отличавшим Лику от большинства лживых и лицемерных девиц.
— Как вам спалось? — спросил он её.
— Мы с Марьей всю ночь ругали Мишу за такую тесную дачу.
— Внутри тесно, снаружи простор.
Деревья сбежались к реке, открывая просторный луг. Солнце рассыпалось искрами и блестками по яркой майской траве, испятнанной желтяками одуванчиков. Для сбора щавеля взяли одну большую корзину на четверых и не знали, как ею распорядиться. Пришлось беллетристу придумывать порядок сбора.
— Корзина поручается самой мудрой женщине — Лидии Стахиевне, — объявил он. — Учитывая особую ответственность выполняемых ею обязанностей и её несомненное превосходство над всеми нами, она освобождается от чёрной работы по сбору щавеля. Тем более что её прекрасная фигура не приспособлена для некоторых телодвижений.
— Я приспособлена для того, чтобы дать вам по физиономии, но, учитывая вашу мудрость, отложу до более удобного случая.
Далее он объяснил, что тот, кто наберёт хороший пучок щавеля, подзывает Лику с корзиной. Левитан дополнил:
— Как главный приказчик у Мюр-и-Мерилиза вызывает приказчиков словом «счёт!».
У Лики было слишком дурное настроение, чтобы участвовать в этой игре, да и он злил её своими насмешками. Крикнул: «Счёт!», она направилась к нему, а он поторопил: «У Мюр-и-Мерилиза приказчики бегают».
— Я была для вас думским писцом, теперь стала приказчиком.
Когда он отдалился от Маши и Левитана и снова позвал её, Лика даже несколько шагов пробежала.
— Я так спешу на ваш зов, а вы...
— Ваше доброе отношение ко мне вселяет радужные надежды: из вас выйдет большая певица и вам дадут хорошее жалованье. Тогда вы подадите мне милостыню: жените меня на себе и будете кормить на свой счёт. Я буду красть у вас настойку и играть в шашки с другом дома — неким еврейчиком с большой лысиной.
— О Боже! Если вы не прекратите ваши идиотские шутки, я просто уеду.
— С ним?
Из-за кустов орешника Маша крикнула: «Счёт!», и сразу же закричал и Левитан. Лика направилась к Маше, услышав Левитана, остановилась в растерянности и вдруг в сердцах бросила корзину. Все собрались вокруг неё, пытались успокоить, но он потребовал решительных мер:
— Такое преступление требует сурового наказания. Учитывая юный возраст провинившейся, предлагаю ограничиться детской экзекуцией, тем более что рядом растут чудесные молодые берёзки. Вот этот хорошенький хлыстик будет в самый раз.
— Но вы не заставите меня поднимать платье?
— На первый раз — нет. Через платье будет не так больно.
Эта игра несколько развеселила Лику, корзину всё-таки наполнили щавелём, но на обратном пути гостья расплакалась. Маша и Левитан ушли далеко вперёд, и Лика рыдала у него на плече, бессвязно жалуясь на судьбу:
— Я не могу так больше... Время уходит... Мне уже двадцать второй... И с пением не получается... Надо ехать за границу, а я... а вы... Я чувствую, что начинаю сохнуть... Иногда у меня мутится в голове, и я словно схожу с ума... Я боюсь, что со мной может что-нибудь случиться, когда я буду с кем-нибудь...
— Ну что с вами может случиться, милая канталупка? Вы такая умница...
Вновь его трогала её наивная девичья откровенность, и он знал, какие слова должен сказать, чтобы успокоить девушку, но холодный разум останавливал: ещё не время, ещё не всё понятно.
В Богимово к Былим-Колосовскому поехал с ней и с Мишей. Туда вёрст десять, и, пока ехали, солнечное утро превратилось в грустный дождливый день. Остановились у въезда в имение, Лика укрылась от дождя под навесом, а они с Мишей направились к растянувшемуся среди запущенной зелени двухэтажному дому светло-красного кирпича простой старинной архитектуры. Миша наводил справки и сказал, что дом построен в конце XVIII века помещиком Прончищевым.
Встретила молодая рыжеволосая женщина, далеко не красавица, но находившаяся в том возрасте и, по-видимому, в тех жизненных обстоятельствах, когда каждая женщина красива. Представилась как заведующая молочным хозяйством, послала мальчика за помещиком и ввела в дом. Когда по каменным ступеням поднялись на второй этаж и вошли в большую залу с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана и стола, он понял, что именно здесь всё должно произойти.
Хозяин, Евгений Дмитриевич Былим-Колосовский, высокий темноволосый красавец с изящной бородкой, войдя в залу, обменялся со своей заведующей взглядами, по которым стали понятны счастливые обстоятельства жизни этой рыжеволосой женщины с трудно запоминаемым именем: Анимаиса Орестовна. Помещик выразил своё восхищение талантом любимого писателя Чехова, любимый писатель выразил восхищение домом. Сказал, что эта зала словно предназначена для того, чтобы здесь писать роман.
— Я прикажу передвинуть стол к окну, — сказал Евгений Дмитриевич.
— Не надо. Здесь такие широкие подоконники, что сразу хочется сесть сюда, как за стол, и писать.
Анимаиса поинтересовалась, сколько комнат нужно господину Чехову. Услышав, что господин Чехов намерен снять на лето весь второй этаж, она напомнила хозяину:
— Вы назначали двести рублей.
— Согласны, Антон Павлович? — спросил тот.
— Многовато.
— Давайте сто пятьдесят, — сразу уступил Былим-Колосовский. — У меня за сто пятьдесят снимает первый этаж художник Киселёв.
— Тогда я буду платить сто шестьдесят.
На этом и порешили.
Окна залы выходили на поле, очерченное вдали еловой аллеей и серой деревенькой. Солнце брызнуло из-за туч и рассыпалось осколками по листве берёз и лип, расступившихся перед окнами и собравшихся по углам дома. Наступающее лето представилось временем счастья.
Лика шла навстречу по аллее, щурясь от солнца. Ей захотелось пить, и хозяин пригласил во флигель, где жил сам и где, конечно, жила его молочница. В столовой она предложила молоко.
— У нас очень хорошее молоко, — похвалилась она. — И на вкус, и по анализу. Уж я-то знаю. И в Вологде на молзаводе служила, и на курсах училась, и сама учила.
— Всё это требует большого труда, — вздохнул хозяин. — С утра до вечера в делах, и ни в ком не находишь сочувствия.
Молоко действительно было на редкость вкусным.
— Все наши дачники хвалят, — сказала Анимаиса. — И профессор, и студенты.
Былим-Колосовский пояснил, что в одном флигеле живёт профессор Вагнер с семьёй, в другом — студенты. О студентах говорил с заговорщицкой интонацией:
— Очень прогрессивные молодые люди, и вы понимаете, им приходится быть весьма осторожными. В Калуге полиция интересуется. Но я, как человек прогрессивных взглядов, помогаю, чем могу.
— Молоко бесплатно им даём, — сказала Анимаиса. Когда вышли во двор, Лика сказала:
— У них полная ваза клубники. Видели? А ваш Былим-Колосовский не угостил.
— Смотрите на этот дом, Жамэ, — сказал он ей. — На те окна второго этажа. Там мы будем щисливы. Это место нашего романа.
— Вы будете писать роман?
— А вы станете героиней.
XXIX
И роман состоялся. Но роман в письмах.
«Чехов — Мизиновой. 17 мая, Алексин.
Золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика! Мангус третьего дня убежал и больше уж никогда не вернётся. Издох. Это раз.
Во-вторых, мы оставляем эту дачу и переносим нашу резиденцию в верхний этаж дома Былим-Колосовского, того самого, который напоил Вас молоком и при этом забыл угостить Вас ягодами. О дне переезда нашего уведомим своевременно. Приезжайте нюхать цветы, ловить рыбку, гулять и реветь.
Ах, прекрасная Лика! Когда Вы с рёвом орошали моё правое плечо слезами, пятна я вывел бензином, и когда ломоть за ломтём ели наш хлеб и говядину, мы жадно пожирали глазами Ваши лицо и затылок. Ах, Лика, Лика, адская красавица! Когда Вы будете гулять с кем-нибудь или будете сидеть в обществе и с Вами случится то, о чём мы говорили, то не предавайтесь отчаянию, а приезжайте к нам, и мы со всего размаха бросимся Вам в объятия.
Когда будете с Трофимом в Альгамбре, то желаю Вам нечаянно выколоть ему вилкой глаза.
Вам известный друг Гунияди-Янос.
Кланяется Вам сторожиха. Маша просит, чтобы Вы написали насчёт квартиры. Адрес не станция Алексин, а город Алексин».
«Чехов — Мизиновой. 23 мая, Богимово.
Многоуважаемая Лидия Стахиевна! Маша поручила мне написать Вам, что она ждёт от Вас письма. Адрес: г. Алексин Тульской губ. Мы перебрались в Богимово, где Вы были и стояли под навесом, когда шёл дождь.
С почтением А. Чехов».
Иван привёз из Москвы набор крючков, поплавков и лесок. Погода испортилась, но настоящему рыболову и снасти рассматривать — удовольствие. Перебирали яркие поплавки — красно-синие, жёлто-зелёные, красно-зелёные с белыми полосками, новенькие чёрные крючки, обсуждали, какой на какую рыбу.
— Этот — на пескаря, для окуня маловат. На пруду карась берётся. Вот этот на него. Кого видел в Москве? Что просили передать?
Иван всегда был тяжелодумом, и на этот раз долго перечислял Семашко, Малкиель, Иваненко, ещё кого-то и лишь после того, как распределили крючки по всем рыбам России, вспомнил:
— Да! Лика просила передать, что приедет первого.
«Левитан — Чехову. 29 мая, Затишье.
Пишу тебе из того очаровательного уголка земли, где всё, начиная с воздуха и кончая, прости Господи, последней что ни на есть букашкой на земле, проникнуто ею, ею — божественной Ликой!
Её ещё пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, белобрысого, а меня, волканического брюнета, и приедет только туда, где я. Больно тебе всё это читать, но из любви к правде я не мог этого скрыть.
Поселились мы в Тверской губернии вблизи усадьбы Панафидина, дяди Лики, и, говоря по совести, выбрал я место не совсем удачно. В первый мой приезд сюда мне всё показалось здесь очень милым, а теперь совершенно обратное, хожу и удивляюсь, как могло мне всё это понравиться. Сплошной я психопат! Тебе, если только приедешь, будет занятно — чудная рыбная ловля и довольно милая наша компания, состоящая из Софьи Петровны, меня, Дружка и Весты-девственницы. Напиши, почему вы очутились в Богимове, из чего оно состоит. Напиши... что хочешь, напиши, только не ругань, ибо я этого окончательно не люблю. Напиши мне, что я пропуделял, не взяв дачи в Богимове!
Познакомились с Киселёвым?
До свидания, наисердечнейший привет твоим. Твой И. Левитан.
Кто из ваших вздумает приехать к нам, — обрадует адски. Не ленись, приезжай и ты, половина расходов по пути мои. На, давись. Будь здоров и помни, что есть Левитан, который очень любит вас, подлых!
Ходил на тягу 28 мая!!! И видел 10 штук вальдшнепов. Погода прескверная у нас. У вас?
Целую тебя в кончик носа и слышу запах дичи. Фу, как глупо. Совсем по-твоему!
Дай руку, слышишь, как крепко жму я её?
Ну, довольно, плевать».
На этом роман в письмах мог закончиться. И, наверное, тогда и следовало его закончить.
Поднявшись с одинокого дивана, по обыкновению, в пять, когда солнце ещё скользило по вершинам сада, не достигая окон, и можно было работать на подоконнике, он сел за сахалинскую рукопись, а Левитану решил не отвечать. И, разумеется, не писать ей. Когда же они успели договориться? Неужели ещё на пароходе? Но она же обещала Ивану приехать первого. Приехать, но не к нему. А он её ждёт! Посылает письма с приглашениями! Мечтает увидеть золотые россыпи её волос на этой подушке, обнажённое тёплое плечо, приоткрывшееся из-под одеяла...
Ожидались летние радости, а начались неприятности. Ещё в Алексине убежал мангус и, наверное, погиб в незнакомых лесах. Здесь заболела Маша — слегла с сильной простудой. И это письмо.
Отмучившись положенное время над сахалинской рукописью, постучал к сестре. Болезнь ещё держала её в постели, и приходилось давать ей порошки и микстуры. Проверил пульс, посоветовал проветривать комнату, потом спросил, переписывается ли Маша с Ольгой Кундасовой.
— Да. Она в Москве.
— Как она? Наверное, без денег?
— У неё всегда с деньгами плохо — то потеряет, то куда-то пожертвует.
— Пригласила бы к нам. Пусть отдохнёт. Французским с ней позанимаюсь.
— Ты всерьёз взялся за французский? Зачем? Опять собираешься за границу?
— Нет, надо кое-что прочитать в подлиннике.
— Я и сама думала пригласить Ольгу. Люблю, когда ты... когда она у нас. А Лика приедет?
— Не знаю, — ответил он как можно равнодушнее. — Может быть, у неё другие планы.
XXX
Вернувшись к себе, долго вышагивал вдоль окон залы и всё же убедил себя, что надо написать Левитану, но только для того, чтобы сообщить о болезни Маши.
«Чехов — Левитану. Богимово, 1 июня.
Кровожадный Мавр, покоритель пустынь и пустых женских сердец! Сообщаю тебе, что Богимово состоит из дома, сада, речки, прудов, карасей, окуней и одинокого беллетриста, завидующего твоей великолепной сладкой жизни в обществе двух собак и двух женщин. Если перламугровая, восхитительная, фильдекосовая, златокудрая и пр. уже приехала, передай ей, что, узнав о её измене, мангус в отчаянии убежал в лес и не вернулся, а Маша заболела и слегла. Я пытался утопиться в пруду, но он оказался слишком мелок для моей долговязой фигуры. Придётся ещё пожить и поумнеть.
Если приедете вдвоём, или даже втроём, всем хватить места.
Твой грустный — чуть не написал глупый —
А. Чехов».
«Левитан — Чехову. 4 июня, Затишье.
Дорогой Антоша! Встревожило меня очень извещение о болезни Марьи Павловны. В каком положении она теперь? Что за болезнь и как ход её? Пожалуйста, напиши. Передал я о болезни Марьи Павловны Лике, а она очень встревожилась, хотя и говорит, что будь что-нибудь серьёзное в болезни Марьи Павловны, то ты не писал бы в таком игривом тоне. Говорит она же, что будь что-нибудь опасное, то вы телеграфировали бы ей. Ради Бога, извести, меня это крайне беспокоит. Как вы упустили мангуса? Ведь это чёрт знает что такое! Просто похабно, везти из Цейлона зверя для того, чтоб он пропал в Калужской губернии!!! Флегма ты сплошная — писать о болезни Марьи Павловны и о пропаже мангуса хладнокровно, как будто бы так и следовало!
С переменой погоды стало здесь интересней. Явились довольно интересные мотивы. В предыдущие мрачные дни, когда охотно сиделось дома, я внимательно прочёл ещё раз твои «Пёстрые рассказы» и «В сумерках», и ты поразил меня как пейзажист. Я не говорю о массе очень интересных мыслей, но пейзажи в них — это верх совершенства, например, в рассказе «Счастье» картины степи, курганов, овец поразительны. Я вчера прочёл этот рассказ вслух Софье Петровне и Лике, и они обе были в восторге. Замечаешь, какой я великодушный, читаю твои рассказы Лике и восторгаюсь! Вот где настоящая добродетель!
Насчёт Богимова думаю провести там время к осени. Но об этом ещё впереди. Я приеду к вам и ещё раз посмотрю.
Будь здоров, мой сердечный привет твоим. Немедленно напиши о здоровье Марии Павловны.
Твой Левитан».
Приписка С. П. Кувшинниковой:
«Присовокупляю и мои тревогу и сожаление — первую по поводу болезни Марии Павловны, второе по поводу бедного мангуса! Не понимаю, как можно было выпустить на погибель этого маленького чужеземца. Начинаю просто думать, что Вы, Чехов, страшно завидовали его успеху и потому умышленно не сберегли Вашего соперника!.. Но Вы всё-таки милый, и всё-таки мы здесь с наслаждением переживаем ваши повествования... а потому приветствую Вас и прошу передать массу тёплых слов всем Вашим.
С. Кувшинникова».
А от неё ничего! Наверное, сидела рядом, третьей лишней, и говорила с улыбкой начинающей интриганки: «Не надо привета от меня — пусть подумает». Может быть, она третья, но нелишняя? Эмансипированная Софья Петровна, превращающая живопись в свидания с любовником и даже в зверьке открывающая мужчину, способна на любую экстравагантность. Он сам, разумеется, не ханжа и готов многое простить человеку, умеющему находить радости в нашей короткой жизни. Многое, но не всё. Истинная любовь и настоящее искусство неприкосновенны.
Бессонными дождливыми ночами терзали приступы кашля и болезненные мысли о том, что он упускает жизнь и любовь, откладывая свою главную работу — пьесу новой формы, отталкивая Лику, скрывая чувство шутками, боясь унижений. Но вдруг пришло солнечное утро, и показалось, что начинается счастливое лето. У крыльца стоял бородатый человек с ружьём за спиной и с большой охотничьей сумкой, из которой торчал знакомый живой пушистый хвост.
— На ковригинской даче сказали, будто ваш зверёк, — объяснил охотник. — Мои собаки его загнали, так он в каменоломне в щель спрятался. А то бы загрызли. Принимайте, выкупайте...
В глазах мангуса посверкивал мудрый животный оптимизм — он не только выжил и спасся от охотничьих собак, но даже разжирел, скитаясь в чужих лесах восемнадцать дней. Свобода — великая вещь, но быть свободным — это значит бороться за свободу. И вообще, чтобы жить, надо бороться. И за любовь надо бороться до конца.
На закате неправдоподобно клевал окунь. Сидели с Иваном у омута напротив мрачно темнеющей старой мельницы. Последние лучи солнца проникали сквозь тальник и пробивали густо-зелёную воду, высвечивая возню рыбьей стаи вокруг крючка с червяком. На поплавок можно было и не смотреть — в живой грозди мутных силуэтов рыбок одна вдруг замирала, другие испуганно шарахались в разные стороны, это означало, что надо подсекать. Счёт пошёл уже до сотни, и, соревнуясь, братья сбились и не знали, кто поймал больше.
— Может быть, ты перепутал, — спросил он Ивана, воспользовавшись коротким перерывом в клёве, — и она собиралась ехать не к нам? Первое уже прошло.
— Ушёл, негодяйчик, — восхищённо воскликнул Иван, резко выдёргивая удочку с пустым крючком. — Сорвался, сорванец. Двоечник. Что прошло?
— Первое июня прошло. Или она собиралась приехать первого января? Или приехать в другое место?
— Ты о Лидии Стахиевне? Она говорила, что её приглашают к своим, в Тверскую губернию, но собиралась ехать к нам. Правда, на всякий случай дала мне адрес имения, чтобы я написал, если она не приедет сюда... У тебя клюёт.
— У меня не сорвётся... Так напиши ей. Я бы и сам написал, но завяз в романе и на Сахалине.
Роман в жизни пока не получался, роман в письмах прервался, роман о некоем Ладзиевском, уехавшем на Кавказ с чужой женой, упрямо сжимался в повесть. Вставая в пять, он честно в романные дни пытался раскрутить сюжет в цепь событий, имеющих какой-то смысл для русской жизни. Персонажи Тургенева боролись и страдали во имя идеалов шестидесятых; Толстой объясняет законы истории и тайные движения души человеческой... Французские сюжеты больного Достоевского не пример для него; Боборыкин при всей своей наблюдательности и кропотливости вообще не писатель[35]. «А у твоих персонажей идеалов нет, законы истории и тайны души их не интересуют, да и не верят они, что в этой жизни можно что-нибудь понять. Они совершают обыкновенные человеческие поступки, о которых пишут повести».
Вынес мангуса на утреннюю прогулку, пустил его на лужайку, открывшуюся в саду между цветущих яблонь. Пушистый хвост зверька скользил в метёлках овсяницы и в цветах одуванчиков. Из аллеи вышел мальчик, и пришлось дать ему знак, чтобы не спугнул зверька. Поймав мангуса, подозвал мальчика, познакомился — это был Коля Киселёв, сын художника. Отец со старшим братом писал этюды на Кавказе, и здесь Коля жил пока с матерью и тремя сёстрами.
Потом вместе купались. Речка Мышега разливалась прудами, и на самом чистом стояли купальни. В воде Коля затеял разговор читателя с писателем:
— Антон Павлович, почему вы не дали Ваньке верный адрес дедушки, чтобы он мог получить письмо? Ведь вы, наверное, знали адрес?
— Был бы адрес — не было бы рассказа.
— Почему не было бы? Очень даже интересно, если б дедушка приехал и забрал Ваньку домой.
— И тебе нужны счастливые концы? Хорошо, я найду адрес и пошлю его Ваньке.
— А где он сейчас?
— Он уже не мальчик, а взрослый человек. Когда-то служил на побегушках в лавке у... у одного купца в Таганроге. Где он сейчас, не знаю.
Женская купальня пустовала.
— Почему, Коля, твои женщины не купаются?
— Они ещё дрыхнут. Верка читает всю ночь, а потом её не добудишься.
Сёстры Киселёвы встретились им в сиреневой аллее. Младшие завизжали, затараторили, спрашивали, тёплая ли вода, рассматривали с детским любопытством писателя Чехова. Семнадцатилетняя Вера остановила их болтовню и, скромно поздоровавшись, прошла мимо, скользнув прямым взглядом тёмных вопрошающих глаз. Он близко увидел её слабую неразвитую грудь под белым просвечивающим платьицем, тонкие плечи и худенькое тело, туго стянутое поясом.
XXXI
Он старался строго следовать своему расписанию, но иногда не мог дотерпеть до воскресенья, чтобы сесть за рассказ, — несчастная сахалинская Маша требовала, чтобы люди узнали о ней, о рабской судьбе русской женщины. Странным получался рассказ — возникало сочувствие к убийце. Конечно, можно было придумать жуткого тирана мужа, и читатель бы понял и простил, но нечто, данное автору от природы, именуемое, например, художественным вкусом, отвергало хитрые расчёты, несовместимые с настоящей литературой. Отравленный муж тоже должен вызывать симпатии читателей — он тоже жертва семейно-религиозных уз, заставляющих женщину жить с нелюбимым во имя отвлечённых принципов и общественных установлений.
Под печальную песню, доносящуюся издалека, одна из женщин, действующих в рассказе, выданная замуж за полуидиота, откровенничает с подругой о своих любовных похождениях: «А пускай. Чего жалеть? Грех так грех, а лучше пускай гром убьёт, чем такая жизнь...» От печальной песни потянуло свободной жизнью, Софья стала смеяться, ей было и грешно, и страшно, и сладко слушать, и завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грешила, когда была молода и красива».
Слева от окна, за которым он писал, росла старая липа с картинно-круглой кроной, достигавшей крыши. Показалось, что за её угольно-чёрным стволом вспыхнуло что-то белое. Поднявшись, он подошёл к крайнему окну и осторожно посмотрел в сторону дерева. За стволом липы пряталась Вера Киселёва и смотрела на окно, за которым он только что сидел.
Днём пришлось идти в деревню к больной крестьянке, и его сопровождала Анимаиса. Её надменно-спокойное лицо женщины, полностью удовлетворённой жизнью, с лермонтовским синим венчиком под глазами, вызывало игривые мысли. Навстречу, из разросшейся отцветшей сирени, вышла Вера, с раскрытой книжкой, в светлой рубашечке и в тёмно-синей юбке. Сквозь широкие рукава просвечивали её тонкие слабые руки. Не успев ни спрятаться, ни убежать, она сконфузилась и в ответ на его приветствие пробормотала что-то невнятное.
— С печальной думою в очах, с французской книжкою в руках, — сказал, пытаясь успокоить смущающуюся девушку, заставить её улыбнуться, разговориться.
— Да... это по-французски, — еле слышно подтвердила Вера и показала светлый переплёт с латинскими буквами, почему-то вызывающими у русского человека робость: «Guy de Maupassant. Bel ami»[36].
— Разрешите посмотреть?
Она подала раскрытую книгу, и он прочитал:
— Vous êtes en deuil? Demanda Madeleine.
Elle rêpondit tristement:
— Oui et non. Je n’ai perdu personne des miens. Mais je suis arivée a Page oú on fait le deuil de sa vie. Je le porte aujourd’hui, pour l’inaugurer»[37].
— «...Траур по моей жизни...» Хорошо. Надеюсь, вы и по-русски читаете?
— Да. Я знаю ваши рассказы и «В сумерках»...
— Кроме Чехова есть и другие авторы. Вот Пушкин, например. Кстати, у вас нет здесь книги стихотворений Пушкина? Мне нужно для работы. Я набрал с собой целый сундук литературы, а Пушкина не взял. У хозяина, как ни странно, нет.
Вера пообещала поискать книгу, её смущение проходило, в глубоких тёмных глазах появилось женское любопытство.
До Данькова версты две, и Анимаиса намеревалась всю дорогу доказывать, что Верочка хитрое, коварное существо.
— Она и французского-то не знает, — убеждённо говорила спутница, кося на него зелёным глазом. — Вот истинный крест, Богом клянусь, давеча видела её в саду с этой же книжкой, а она держала её вверх ногами. Мужчин завлекает, будто она такая учёная. Сама ещё недоросток, а туда же. И с Евгением Димитриевичем заигрывала, но он её сразу от себя отвадил. «Мне, — сказал, — не до французского. У меня хозяйство». Он ведь целыми днями в хлопотах.
— И ни в ком не встречает сочувствия.
— Какое уж там сочувствие. А эта ещё пристаёт.
— Уважаемая Мюр-и-Мерилиза Орестовна, напрасно вы ревнуете Евгения Димитриевича к девушке. Он ваш верный рыцарь.
— Ой, вы скажете... И называете меня всё по-смешному. Никакой он не рыцарь, а мой хозяин. Хорошо ко мне относится — не буду врать. Но это за мою работу. У него же всё здесь разваливалось после смерти матушки, а теперь и масло, и творог...
До деревни ещё было далеко, и Анимаиса успела рассказать о своём хозяине много хорошего. Его отец — военный моряк, чуть ли не адмирал, и дед тоже чуть ли не адмирал, и прадед... Сам же он отказался от службы, потому что стоит за народ. Студенты, живущие во флигеле, Серёжа и Коля, тоже за народ, потому и прячутся здесь от полиции...
Когда приезжал Суворин, гуляли с ним по этой же дороге, среди поля цветущей ржи, рассуждали о том, что хорошо бы купить здесь имение, выходили на аллею старых, тесно посаженных елей. В конце аллеи — заброшенный дом с террасой и мезонином, похожий на домик Лариных из декорации «Онегина» в Мариинке. Представлялся рассказ о тех, кто мог бы жить в этом доме. Красивые девушки, две сестры, как у Пушкина, стояли бы у каменных полуразрушенных ворот. Одна из них похожа на Верочку...
Теперь шли в деревню, и аллея осталась в стороне. Каждый раз его здесь удивляла деревенская равнодушная пустота и неподвижность. В детстве ездили к деду в имение Платовых, где Егор Чехов служил управляющим, и с тех пор жизнь земледельца, садовода, огородника представлялась самой разумной, дающей человеку наибольшее удовлетворение. А здесь не жили, а прозябали в грязи, нищете и тяжком труде невежественные люди с бедным, тусклым кругозором, с одними и теми же унылыми мыслями о серой земле, о серых днях и чёрном хлебе.
Лечил бабу, упавшую с воза. Она лежала на полатях, на соломе. Из-за несмываемой грязи и маленьких окон стены избы казались чёрными. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная. Внизу тёрлась о рогач рыжая кошка. Анимаиса позвала её: «Кис, кис».
— Она у нас не слышит, — сказала девочка.
— Отчего?
— Так. Побили.
Он осмотрел больную — ушибы заживали. Дал ей укрепляющую микстуру, сделал компресс. Анимаиса помогала, брезгливо морщась.
— Некому и помыть тебя? — спросила она.
— Кто ж придёт? На работе же все.
— А мужик?
— В Алексин подался. Може, заработает на хлеб.
Возвращались под жарким, ещё не надоевшим солнцем, и тёплое дыхание счастливо притихшего поля вновь пробуждало надежды на радостную трудовую жизнь на этой земле. Суворин присмотрел здесь для себя имение — Спешиловку. Ему легко заплатить двадцать тысяч, а у тебя самого пока одни лишь долги, и если всерьёз, то заработать ты можешь только на небольшой дом вроде того, с мезонином, и на какие-нибудь две-три десятины...
XXXII
Вечером, как обычно в хорошую погоду, собрался клуб — так он называл праздные сборища дачников на крыльце дома с разговорами обо всём. Рассаживались на стульях, вынесенных из комнат, а то и просто на ступенях. Вера Киселёва, по обыкновению, стояла, прислонившись к стене у двери, и молча слушала. Тёмная накидка поверх светлого платья делала её старше и придавала некую загадочность. Ради почти южного тепла, повеявшего, наверное, со страниц его абхазского романа, появились даже такие редкие посетители клуба, как Павел Егорович и старик Флор, не помнивший, сколько ему лет, и служивший Былим-Колосовским с незапамятных времён. Старик сидел на ступеньке, подрёмывая, и бойкая горничная Лена, привезённая Машей из Москвы, бегом поднимаясь на крыльцо, зацепила его юбкой, рассмеялась и сказала:
— Шёл бы ты спать, старик.
— Да-а... Пойдёшь, — размеренно забормотал Флор, — как же... А кто присмотрит? Кто чего сделает по хозяйству? Огурцы вот надо полить.
— Что-то ты всё поливаешь, а они не растут, — не отставала Лена. — Марья Павловна в Алексине заказывает.
— Нету, нету огурцов, — вмешалась Анимаиса, радеющая за хозяйское добро. — Помёрзли.
— И помёрзли, — подтвердил Флор, — и сажали мало. А раньше, бывало, при Василии Николаиче, возами огурцы возили и в Алексин, и в Калугу, и в Москву. И солили, и мариновали... А нынче и сортов таких нету.
— Почему же сортов нет? — поинтересовалась Маша.
— Забы-или, — протянул Флор. — После несчастья всё забыли.
— Какого несчастья?
— После воли.
— Признаки вырождения, — зацепился за любимую тему профессор Вагнер. — То же происходит не только с огурцами, но и с людьми...
Удобно устроившись на стуле между лелеявшими его женщинами, женой и тётушкой, он уже не в первый раз излагал заимствованные у Спенсера идеи о борьбе за существование и естественном отборе в человеческом обществе. Надменно-усталым голосом лектора, объясняющего простые истины невеждам, он говорил:
— Не надо мешать процессу естественного отбора. Поддерживая массу бездельников и ничтожеств, давая им возможность размножаться, мы губим цивилизацию. Человечество выродится так же, как огурцы в хозяйстве Евгения Дмитриевича...
— Вы ошибаетесь, — возмущённо прервал его хозяин. — У меня чудесные огурцы. Старик Флор заговаривается...
— Я-то старик, а вы всё как мальчик, — упрекнул его Флор. — Опять вот сапожки надели, а надо под брючки туфельки...
— Прошу прощения, дело не в огурцах, — продолжал Вагнер. — Дело в том, что кормим и лечим людей, которые по закону выпалывания должны погибнуть, оздоровляя тем самым человечество...
Если бы этого профессора не было, его пришлось бы выдумать: в романе требовался идейный противник любимого героя — лишнего человека восьмидесятых, страдающего не в поисках смысла жизни, не из-за проблем освобождения угнетённых, а в поисках денег и из-за проблем с женщинами и вином. Теперь, прислушиваясь к Вагнеру, изучающему жизнь пауков и переносящему паучьи законы на людей, осталось придумать другую фамилию своему персонажу. Тоже немецкую. Пусть будет фон Корён. Тоже зоолог, изучающий, например... медуз. Ведь действие происходит в Абхазии на берегу Чёрного моря.
— Человечество охраняет себя от вырождения борьбой за существование, — продолжал Вагнер. — Чтобы хилые и негодные не размножались, они должны погибнуть в этой борьбе, иначе цивилизация погибнет и человечество выродится окончательно...
Конечно, его герой будет не таким раскисляем, окружённым дамами, глядящими ему в рот, а настоящим мужчиной, не только рассуждающим о борьбе за существование, но и участвующим в этой борьбе. Он вызовет на дуэль этого лишнего человека Ладзиевского. Казалось, роман получается: любовь, Кавказ, дуэль. Именно это любит русский читатель.
Профессору возражала Маша, с пафосом народной защитницы напоминая об ужасной жизни крестьян. Она говорила, что деревня вырождается и гибнет не потому, что там кормят и лечат слабых, а потому, что все голодают и умирают без всякой медицинской помощи.
— Нет ни больниц, ни медицинских пунктов! — восклицала Маша. — Антон Павлович здесь единственный врач и вместо того, чтобы отдыхать и писать, ходит к больным крестьянам.
— Вы подменяете предмет исследования, — пытался возражать Вагнер. — Крестьянская среда — это своеобразный организм, в котором проявляются общие закономерности...
— Пропиваются, потому что все они пьяницы, — вступил в дискуссию Павел Егорович.
Пока речь шла об отвлечённых предметах, он был неопасен, теперь же, когда перешли к теме, ему близкой, требовалось внимательное наблюдение, чтобы вовремя остановить его мудрые рассуждения. Однако отвлёк внимание Былим-Колосовский, и отцу удалось высказаться. Помещик начал о своём глубоком сочувствии к нуждам народа, о постоянных заботах о народе, которые он проявляет, несмотря на то что ни в ком не находит сочувствия, и заявил, что твёрдо решил построить больницу для крестьян.
Анимаиса сокрушённо качала головой, вздыхала, пыталась что-то сказать, но промолчала, по-видимому не в первый раз выслушивая несбыточные проекты хозяина. И Павел Егорович высказался:
— Построите мужикам больницу, а они её за...
Все сделали вид, что не услышали, только Верочка рванулась прочь и, ни на кого не глядя, сбежала с крыльца и исчезла в аллее.
— Мы должны поддержать Евгения Дмитриевича, — сказал громко, словно стараясь заглушить сказанное отцом. — Я предлагаю создать больничный фонд и делаю первый взнос — три рубля.
Его предложение приняли единодушно, кассиром определили Машу. Воспользовавшись всеобщим оживлением, он спустился в сад. Вера стояла в тёмной аллее, будто ожидая его.
— Я искала Пушкина, — сказала она, глядя прямо ему в лицо. — Так жалко — мы тоже не захватили книгу. Но я много помню. Может быть, помогу вам?
— Вы, конечно, помните письмо Татьяны, «Чудное мгновенье»...
— Ещё «Я вас любил»...
— Вот-вот.
— «Вновь я посетил», «К Чаадаеву»...
— Я пишу роман и для эпиграфа к одной главе хочу взять из Пушкина, но не помню точно текст. В том стихотворении есть слова: «...но строк печальных не смываю».
— Не помню, — виновато созналась Вера. — Я очень много читаю, и всё так перепутывается.
Они шли садом, полным голубого света долгих июньских сумерек, и разговаривали о литературе. Он сказал, что Мопассан, конечно, интересный автор, но в его прозе много прямолинейной тенденции — люди низших сословий добры, честны, нравственны, буржуазия обыкновенно развращена, эгоистична, бесчестна. Много претензий на занимательность любовными сценами и мелодрамой. Вспомнил «Франсуазу», отредактированную Толстым и недавно опубликованную Сувориным.
— Но ведь это ужасно, — сказала Вера. — Встретить сестру в... в таком доме.
— Придумать душещипательную историю, вряд ли возможную в действительности, легче, чем увидеть и показать драму, происходящую в обыкновенной жизни, когда люди обедают, пьют чай, гуляют, разговаривают, а в это время рушатся их судьбы. «Милый друг» интересный роман, однако жизнь состоит не только из любовных похождений. От Мопассана ждали новых, более глубоких вещей, но увы — в Париже я узнал, что он болен неизлечимо.
— Но и наш Толстой пишет о... об этом. — Девушка преодолевала смущение и смотрела прямо в глаза. — Вы, конечно, читали «Крейцерову сонату» и «Послесловие»?
Он так ещё и не прочитал «Послесловие», но зато читал статью Суворина по этому поводу, где тот доказывал, что не надо верить писателю Толстому, поскольку человек Толстой — прекрасный муж и отец. В общем, поговорить с девушкой о взглядах Льва Николаевича на семью и брак он вполне мог. Но тем временем они вышли к полю, замершему в призрачно-голубом вечернем безмолвии, а за дальними холмами, над зубчато-чёрной лентой леса горела яркая лимонная полоска, подобная закату над Кудринской, когда он говорил о «Крейцеровой сонате» с другой девушкой.
— Пожалуй, пора возвращаться, — сказал он Вере. — Вас, наверное, ждут. Да и похолодало.
Прежде чем войти в дом, он бродил по тёмному саду, прислушивающемуся к его одиноким шагам. Его душу переполняла любовь, и он придумывал и шептал нежные слова, уменьшительно-ласково произносил имя любви — Ликуша, Ликуся, Ликусь, улыбался, представляя встречу с ней здесь, в этом саду, в этом доме, в зале с колоннами и большим диваном.
Почти во всех окнах зажглись огни, и в комнате Веры на первом этаже вспыхнул зелёный огонёк. Он вдруг почувствовал, что любит и Веру, и даже представляет её своей невестой, и ещё он любил ту неведомую, красивую и печальную, гибнущую на сцене... В этот вечер он любил Любовь.
Из флигеля вышел Былим-Колосовский, по обыкновению в поддёвке, по обыкновению озабоченный. Сказал, что невыносимо устал и вышел проветриться. Сотни вёрст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могли бы нагнать такого уныния, как один этот человек, длинно рассуждающий об усталости, разочарованности, болезни века — пессимизме...
— Скажите, Евгений Дмитриевич, отчего вы живете так скучно, так неколоритно? Отчего вы так мало берёте от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Верочку Киселёву?
Он был настолько удивлён вопросом, что даже споткнулся. В ответ сначала забормотал нечто невнятное, потом нашёл слова:
— Я люблю другую женщину. А вот вы сами почему не влюбитесь в эту девушку?
— Я тоже люблю другую женщину.
XXXIII
Поднимаясь к себе на второй этаж, он мысленно сочинял письмо к ней: «Очаровательная Лика...» Маша встретила в коридоре, как ответ судьбы.
— Миша приехал из Алексина и привёз тебе письмо, — сказала она, передавая конверт. И многозначительно предупредила: — Оттуда.
Роман в письмах продолжался.
«Мизинова — Чехову. 10 июня, Покровское.
Удивительный, неподражаемый Антон Павлович. Прежде всего мой поклон мангусу и пожелание ещё раз убежать; во-вторых, кланяется Вам Софья Петровна; в-третьих, квартиры, которые Маша просила меня посмотреть, — по-моему, ни к чёрту не годятся. На Пречистенке стоит 850 р. И комнаты меньше Ваших, а те, что в Петровском парке, тоже не годны вот почему: одна очень красивая, особняк, на самом шоссе и около заставы, но стоит 1500 р., когда я спросила дворника об хозяине, не уступит ли он, то тот ответил, что вряд ли, и представьте, это квартира Джанумова; другая совсем в закоулке, и зимой там жить, на мой взгляд, положительно немыслимо; она совсем у Башиловки, но идти к ней отвратительно: масса кабаков и харчевен.
Поправилась ли Маша и что с ней было? Я знаю об Вас только то, что мне говорит Левитан, а то я даже не знала бы, что Вы живы или нет. За это чёрт Вас задави, как говорит Ольга Петровна.
Живётся мне довольно мерзко на том основании, что я почти не пользуюсь летом и моими любимыми вечерами, так как после захода солнца не могу выходить; купаться мне также нельзя, и вот я страдаю, даже говорить нельзя громко и много благодаря каким-то влажным хрипам, которые у меня открыли перед отъездом. Ну да чёрт с ними, а лучше Вы мне напишите об вас. Софья Петровна со мной ужасно мила, всё зовёт к себе, а Левитан мрачен и угрюм, и я часто вспоминаю, как Вы его называли Мавром. Мне ужасно хочется поехать к Вам, но сейчас мне нельзя, потому что я очень кашляю и пью воды и всякую мерзость, поэтому неудобно всё это тащить к Вам, а вот попозже надеюсь всё-таки ещё раз пореветь. Ехала я до Осташково с Семашко, и он мне всё рассказал об вас, что знал. Ваши письма, Антон Павлович, возмутительны, Вы напишете целый лист, а там окажется всего только три слова, да к тому же глупейших. С каким удовольствием я бы Вам дала подзатыльник за такие письма. Большое спасибо Ивану Павловичу за обещанное письмо; я была уверена, что получу его. Много же пескарей вы поймали и съели; воображаю, как Вы едите теперь у Колосовского — ещё больше, я думаю, на радости, что мангус нашёлся. Не знаю, разберёте ли Вы моё писанье, только я уверена, что больше Вы никогда не скажете, что у меня хороший почерк. Передайте мой поклон всем Вашим, а Машу за меня обругайте. Если увидите сторожиху, то передайте ей мой поклон, а также и то, что я её так же часто вспоминаю, как и Антона Павловича Чехова, нашего симпатичного, талантливого и т. д.
Если вы не совсем ещё стали дубиной, то напишите.
Мой адрес тот же, что и Левитана, только пишите в с. Покровское.
Лика.
Поклон Вам от Trophima».
Он же намеревался написать ей, не дожидаясь этого письма. Так он и сделает.
«Чехов — Мизиновой. 12 июня, Богимово.
Очаровательная, изумительная Лика!
Увлёкшись черкесом Левитаном, Вы совершенно забыли о том, что дали брату Ивану обещание приехать к нам 1-го июня, и совсем не отвечаете на письма сестры. Я тоже писал Вам в Москву, приглашая Вас, но и моё письмо осталось гласом вопиющего в пустыне. Хотя Вы и приняты в высшем свете (у головастенькой Малкиель), но всё-таки Вы дурно воспитаны, и я не жалею, что однажды наказал Вас хлыстом. Поймите Вы, что ежедневное ожидание Вашего приезда не только томит, но и вводит нас в расходы: обыкновенно за обедом мы едим один только вчерашний суп, когда же ожидаем гостей, то готовим ещё жаркое из варёной говядины, которую покупаем у соседских кухарок.
У нас великолепный сад, тёмные аллеи, укромные уголки, речка, мельница, лодка, лунные ночи, соловьи, индюки... В реке и в пруде очень умные лягушки. Мы часто ходим гулять, причём я обыкновенно закрываю глаза и делаю правую руку кренделем, воображая, что Вы идёте со мной под руку.
Если приедете, то спросите на станции ямщика Гущина, который и довезёт Вас к нам. Можно и на полустанке высадиться, но тогда нужно раньше дать знать, дабы мы могли послать за Вами пегаса. От полустанка до нас четыре версты.
Кланяйтесь Левитану. Попросите его, чтобы он не писал в каждом письме о Вас. Во-первых, это с его стороны не великодушно, а во-вторых, мне нет никакого дела до его счастья.
Будьте здоровы и щисливы и не забывайте нас. Сторожиха Вам кланяется».
Вместо подписи нарисовал сердце, пронзённое стрелой, и написал:
«Это моя подпись.
Мангус нашёлся. Маша здорова.
Сейчас получил от Вас письмо. Оно сверху донизу полно такими милыми выражениями, как «чёрт вас задави», «чёрт подери», «анафема», «подзатыльник», «сволочь», «обожралась» и т. п. Нечего сказать, прекрасное влияние имеют на Вас такие ломовые извозчики, как Trophim.
Вам можно и купаться и по вечерам гулять. Всё это баловство. У меня все мои внутренности полны и мокрых и сухих хрипов, я купаюсь и гуляю и всё-таки жив.
Воды Вам нужно пить. Это одобряю. Приезжайте же, а то плохо будет. Все низко кланяются, я тоже. Почерк у Вас по-прежнему великолепный».
«Мизинова — Чехову. 17 июня, Покровское.
Прежде всего, хоть Вы и «знаменитый Чехов», но Вы пишете глупости, или как доктор Вы ничего не смыслите; стоит только мне немного подышать сыростью, как я всю ночь не могу спать от кашля, а наутро и говорить не могу совсем, а про купанье и говорить нечего, точно я не пробовала. Вы идиот. Так как в моём письме не было ни одного неизящного выражения, а Вы всё-таки мне пишете, что я мало воспитана, то я в этом письме постараюсь пополнить недостаток. Сестре Вашей я писала в тот же день, как получила от неё письмо, и Вы, верно, заблуждаетесь в том, что она его не получила. Ивану Павловичу я обещала приехать или 17 июня, или позднее. Очень благодарю за приглашение приехать, я им непременно воспользуюсь, но не знаю когда; во всяком случае я напишу заранее, когда приблизительно могу приехать. Когда приеду, то обязательно привезу на Вас палку, чтобы Вас поучить вежливости. У нас тоже великолепный сад и всё то, что Вы пишете, да кроме того ещё и Левитан, на которого, впрочем, мне приходится только облизываться, так как ко мне близко он подойти не может, а вдвоём нас ни на минуту не оставляют. Софья Петровна очень милая; ко мне она относится теперь очень хорошо и совершенно искренно. Она, по-видимому, вполне уверилась, что для неё я не могу быть опасной, и поэтому сердится, когда я день или два не бываю в Затишье. От себя они оба меня всегда провожают домой. Софья Петровна немного в претензии на Вас, что Вы её как будто игнорируете в письмах к Левитану, несмотря на то, что она Вас и Машу звала к себе, ей Вы на это ничего не отвечаете и не приписываете. Вот ещё что. Не смейте Вы мне писать так об Левитане. Вы действительно анафема. Вы только портите мне всегда и во всём, потому что Ваше письмо я получила в Затишье и пришлось при Софье Петровне прочесть первую Вашу фразу: «Увлёкшись черкесом Левитаном...» и т. д. Мне ужасно хочется попасть поскорей в Богимово и повисеть у Вас на руке так, чтобы потом у Вас бы три месяца ломило и сводило руку, и Вы бы постоянно вспоминали бы обо мне с проклятием. Что Машина живопись? Отчего она так спесива и не хочет мне написать, неужели же я ей уже надоела? Передайте мои поклоны всем Вашим. Бабушка Вам кланяется. Колосовскому и блондинке поклон, Вам же желаю полюбить и отбить её и привезти в Москву как доказательство Вашего изящного вкуса. Но всё-таки она симпатичная. Ни со мной, ни с Левитаном на свиданьях не случается ничего, успокойтесь! Подпись моя почти та же, что и Ваша, но изобразить её я не умею. Прощайте, желаю Вам поумнеть, конечно, не для Вас, а для литературы».
Бумагу, которую он купил ей в Петербурге, Лика, наверное, израсходовала на письма другим или забыла в Москве — письмо написано убористо на листочке с обеих сторон, и не уместилась ни подпись, ни последняя фраза. Её она написала поперёк текста крупными буквами:
«Какая простота нравов и костюмов в Затишье?! Стоит приехать посмотреть».
Однажды утром, перебирая бумаги, нашёл фотографию молодого моряка, не мог вспомнить, откуда сие, и придумал послать её туда.
«Чехов — Мизиновой. 23 июня, Богимово.
Дорогая Лида!
Посылаю тебе свою рожу. Завтра увидимся. Не забывай своего Петьку. Целую 1000 раз!!!
Купил рассказы Чехова: что за прелесть! Купи и ты.
Кланяйся Маше Чеховой.
Какая ты душка!»
«Чехов — Левитану. 12 июля, Богимово.
Исаак! Мне срочно необходим текст стихотворения Пушкина, в котором есть слова «но строк печальных не смываю». В нашей монашеской глуши, где мы за неимением акрид питаемся пескарями, я не мог найти книги Пушкина, а кроме тебя у меня нет литературно образованных друзей. Если знаешь это стихотворение — напиши. Мне необходимо для романа — в отличие от тебя мы только пишем романы.
К нам собирается Лика. Передай ей, чтобы захватила книгу стихотворений Пушкина.
Твой Чехов».
«Чехов — Мизиновой. 19 июля, Богимово.
Дорогая Лидия Стахиевна!
Я люблю Вас страстно, как тигр, и предлагаю Вам руку.
Предводитель дворняжек
Головин-Ртищев.
Р. S. Ответ сообщите мимикой. Вы косая».
«Левитан — Чехову. 21 июля, Затишье.
По какой-то странной случайности для меня посланное тобою письмо от 12 июля я получил только 20 июля. Стихотворение Пушкина начинается так:
Когда для смертного умолкнет шумный день И на немые стогны града Полупрозрачная наляжет ночи тень И сон, дневных тревог награда, В то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бденья; В бездействии ночном живей Горят во мне змеи сердечной угрызенья; Мечты кипят; В уме, подавленном тоской, Толпится тяжких дум избыток; Воспоминание безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток; И, с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу, и проклинаю, и горько жалуюсь, И горько слёзы лью, но строк печальных не смываю.К вам думаю собраться в конце июля. Наверное, соберусь. Работа как идёт у тебя и Марьи Павловны? Хочется вас всех видеть чрезвычайно. У нас теперь целая толпа: Дмитрий Павлович, Пётр Никитич, Нечаева, Краснова и, вдобавок, целый день гости.
До скорого свидания.
Поклон всем вашим.
Твой Левитан.
Софья Петровна кланяется».
«Левитан — Чехову. 29 июля, Затишье.
Прости мне, мой гениальный Чехов, моё молчание. Написать мне письмо, хотя бы и очень дорогому человеку, ну просто целый подвиг, а на подвиги я мало способен, разве только на любовные, на которые и ты тоже не дурак. Так ли говорю, мой друг? Каракули у меня ужасные, прости.
Как поживаешь, мой хороший? Смертельно хочется тебя видеть, а когда вырвусь, и не знаю — затеяны вкусные работы. Приехать я непременно приеду, а когда, не знаю. Мне говорила Лика, что сестра уехала; надолго? Как работала она, есть ли интересные этюды? Не сердись ты, ради Бога, на моё безобразное царапанье и пиши мне; твоим письмам я чрезвычайно рад. Не будем считаться — тебе написать письмо ничего не стоит. Может быть, соберёшься к нам на несколько дней? Было бы крайне радостно видеть твою крокодилью физиономию у нас в Затишье. Рыбная ловля превосходная у нас: щуки и всякая тварь водная!
Поклон, привет и всякую прелесть желаю твоим.
Твой Левитан VII Нибелунгов.
За глупость прости, сам чувствую, краснею!»
Дошло до того, что написал ей от имени сестры в виде шутки, своим почерком:
«Чехов — Мизиновой. 31 июля, Богимово.
Милая Лика!
Если ты решила на несколько дней расторгнуть ваш трогательный тройственный союз, то я уговорю брата отложить свой отъезд. Он хотел ехать 5-го августа. Приезжай 1 или 2-го. С нетерпением ждём.
Ах, если б ты знала, как у меня живот болит!
Любящая тебя М. Чехова».
Роман в письмах закончился. Она не приехала и больше не писала. Финальный эпизод произошёл недобрым августовским утром после ночной грозы: пришла Маша и сказала, что из Покровского приехала подруга горничной Лены с интересными новостями.
— Она служила у Панафидиных, — рассказывала Маша. — Её и к Левитану в Затишье посылали. Всё случилось у неё на глазах. Сначала Исаак и Лика встречались тайком, но Софья Петровна узнала. Была сцена, и Софья уехала. Левитан перебрался в Покровское, снял там дачу, и Лика теперь даже ночует у него. Эта девушка заставала их в постели. Хочешь с ней поговорить? Нет? Ты... ты хорошо себя чувствуешь?
— Я себя чувствую, как автор повести, которую давно ждут в редакции...
XXXIV
Сестра ушла, и его охватил долгий приступ кашля, раздирающего грудь. Боль впивалась в сердце, туманила голову, отравой разливалась по всему телу. Страдания молодого Вертера — это не страдания любви, а страдания уязвлённого самолюбия. Потому Наполеон и брал в походы роман Гёте и перечитывал его семь раз. Обжигает стыд, и приступы кашля возобновляются и усиливаются с каждой новой картиной, возникающей в болезненной памяти. Ходил вдоль этих окон, идиотски улыбаясь, представляя золотистые кудри на своей подушке. Рисовал в письме сердце, пронзённое стрелой. С наивным спокойствием читал письмо Левитана о его любовных подвигах. Всё началось с меблированных комнат...
Стыдиться своих поступков — это стыдиться людей, знающих о них. О его постыдных сладеньких мечтах не знает никто, и стыдиться приходится самого себя. От истерического сожаления, что ты упустил некую радость, некое удовольствие, не так уж трудно избавиться. Страшно узнать, что ты оказался не тем человеком, каким себя считал. Не тем красивым талантливым писателем, перед которым не могла устоять ни одна девица, а ничтожным неудачливым болезненным беллетристом, унылым, преждевременно старящимся мечтателем. Девушку, предназначенную тебе, придуманную тобой, легко соблазнил плешивый еврейчик. В прошлом году написал всего один средний рассказ, и в этом году только один и тоже средний — вряд ли рассказ «Бабы» о несчастной Маше очень взволнует русскую общественность.
Роман не получился ни в жизни, ни на бумаге. Бесплодные мечтания о любви заглушили даже врождённое художественное чутьё и профессиональную писательскую интуицию: если тебя восхищает то, что ты написал, если нет желания что-то улучшить, дописать, убрать, значит, всё перечёркивай и начинай сначала. Лишь та проза хороша, которая снова и снова показывает твоё бессилие написать всё, что ты хочешь. Трудность не в том, чтобы написать хорошо, а в том, чтобы написать именно то, что ты хочешь. «Дуэль» казалась прекрасной прозой: Кавказ, превратности любви, дуэль. Всё это любит русский читатель со времён Лермонтова и Бестужева-Марлинского[38]. Но Лермонтов не прятал за кустом на месте дуэли попа-миротворца, не мирил Печорина с Грушницким, не хоронил мужа Веры, чтобы соединить влюблённых в счастливом браке и уничтожить величайший русский роман.
Со страниц рукописи выпирает прямое подражательство. «Нелюбовь Ладзиевского к Надежде Фёдоровне выражалась главным образом в том, что всё, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь... Ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из её головы и идут в потёмках рядом с ней и тяжело дышат, а она сама, как муха, попавшая в чернила, ползёт через силу по мостовой и пачкает в чёрное бок и руку Ладзиевского...» Это не Чехов, а Лев Толстой.
Теперь он будет писать другое — не придуманное в спокойные утренние творческие часы, а рвущееся из оскорблённой души.
Садиться за работу надо с холодной головой, и, приведя себя в порядок, предстал перед ожидавшим его моряком с видом человека, находящегося в хорошем настроении. Тот ожидал его внизу, в комнате у лестницы. Его лицо показалось странно знакомым. Именно «странно»: он был уверен, что никогда не встречал этого человека, и в то же время был убеждён, что недавно видел его простое замкнутое лицо с осторожными светлыми глазами.
— Мичман Азарьев Николай Николаевич, — представился знакомый незнакомец и, заметив непонимание в глазах Чехова, объяснился подробнее: — В Петербурге к вам обращалась моя родственница Софья Карловна Гартнунг. В «Новом времени».
Всё вспомнилось и стало понятным, в том числе и фото, которое он послал в письме туда.
Уверил мичмана в том, что говорил о его деле с Сувориным, дважды посетившим Богимово, и тот обещал помочь через Главный морской штаб. Мичман объяснил, что гостил в Калуге у родственника, который хорошо знал Былим-Колосовского, собрался к нему по какому-то делу, и он поехал с ним, узнав, что здесь проводит лето Чехов.
— Где бы вы хотели продолжить службу, Николай Николаевич?
— Моя мечта — Дальний Восток.
Не улыбнулся, не смягчил непроницаемость лица и холод взгляда. Так он сам сказал бы, что его мечта — великая пьеса. Только он никогда никому не скажет о своих тайных мечтах.
— Послушайте, но Дальний Восток заберут китайцы. Я был там прошлым летом и понял, что мы всего лишь гости, а они — коренное население. Конечно, сами китайцы ничего не сделают, но на их стороне будут какие-то силы. Может быть, англичане.
— Японцы, — убеждённо сказал мичман. — Они строят флот. Мы будем защищать Россию на востоке. Там — настоящая служба.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Азарьев — потомственный моряк, никакой личной жизни у него нет — для него всё это нечто второстепенное, смысл его жизни — служба, исполнение долга перед Россией. Казалось бы, что общего у писателя Чехова с этим служакой, но в молодом моряке он узнавал своё, близкое, понятное, чего нет в приятелях-литераторах. Для него тоже всё было второстепенным, кроме литературы. Когда-то в молодости он был уверен, что у каждого человека есть нечто главное, то, что он ценит более всего, то, ради чего он живёт, — служба, наука, искусство, но, к сожалению, оказалось, что абсолютное большинство живёт просто для того, чтобы жить, то есть иметь семью, деньги (это главное), дом, ещё что-то... Только не знают, зачем это всё. Наверное, им всем было дано от природы нечто такое, высшее, ради чего стоит жить и бороться, но они забыли, растеряли, променяли на чечевичную похлёбку. Мичман Азарьев не потерял, не променял — он знает, зачем живёт.
Мичман был участником недавнего события, прогремевшего на весь мир: в ознаменование союза между Россией и Францией в Кронштадт прибыла французская эскадра. Он рассказывал о прекрасной погоде, о многочисленной публике, прибывшей на пароходах из Петербурга.
— Я никогда в жизни не видел и, наверное, не увижу столько цветов и флагов над морем. По-моему, французских флагов было даже больше, чем русских. В газетах вы, конечно, читали, что адмирал Жерве шёл на «Маренго», и едва эскадра показалась, как заиграли гимны. И знаете, по-моему, больше играли «Марсельезу», чем наш. Потом на «Маренго» прибыл наш старший на рейде — и подняли русский флаг. А о том, как мы опозорились, в газетах писали мало: посадили «Маренго» на мель и почти до вечера мучились — снимали.
— Послушайте, значит, франко-русский союз сразу сел на мель?
— Получается так. Потом были встречи, обеды. На другой день я имел честь быть в охране государя, когда он посещал «Маренго». Он пробыл там двадцать минут. Ему показывали вращающуюся орудийную башню.
— Как вы думаете, что даст России этот союз?
— Трудно сказать. Когда я учился в корпусе, да и теперь на флоте мы как-то привыкли видеть союзником Германию. А теперь другая политика.
— Франция рано или поздно обязательно попытается взять реванш и вернуть себе Эльзас-Лотарингию.
— Пусть лучше поздно.
Приветствия от имени журналистов на встрече французских моряков Азарьев не слышал, зато читал рассказы Чехова и даже рассказ «Бабы», совсем недавно опубликованный в «Новом времени».
— Следующий рассказ читайте в «Ниве».
Почему-то казалось необходимым, чтобы тот рассказ был напечатан в добротной семейной «Ниве». Прощаясь, пожелал мичману успехов в службе, пообещал ускорить решение его дела. Азарьев заверил, что Дальний Восток останется русским.
За завтраком старался быть особенно оживлённым. Подшутил над Мишей — важничать стал с тех пор, как у Александра родился сын и в семье появился ещё один Михаил Чехов[39]. У горничной, имеющей злополучную подругу, спросил, не собирается ли Парис похитить Елену Прекрасную, и Лена кокетливо покраснела. С отцом обсуждал перспективы франко-русского союза, спросил, какую кафизму он читал утром, и даже вспомнил из девятнадцатой кафизмы: «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом...» Ещё поспорил с ним о сроках бабьего лета — по двадцать девятое или по второе. Маша прервала спор, напомнив, что никакого бабьего лета в этом году нет, яровые погибли и деревне грозит голод.
Вернувшись к себе, нашёл письмо молодого петербургского литератора Червинского, просившего помочь издать книгу стихов, и написал ему ответ. Между прочим включил в письмо и свою просьбу: «При случае узнайте, почём платят в «Ниве». У меня есть подходящий рассказик».
Ещё не было написано ни строчки, но неослабевающее нервное напряжение требовало немедленной разрядки точным словом.
XXXV
Даже на мгновение не мог он представить рассказик о безнравственном еврее, соблазнившем невинную русскую девушку, разрушившем чистую любовь. Банда нововременцев была бы в восторге.
Природа одарила его талантом, художественным вкусом и пониманием людей не для того, чтобы он сочинял анекдотики о своих друзьях и недругах. Если увидел и понял то, что не заметили другие — покажи это людям. Он увидел новую болезнь русского общества. Так называемая интеллигенция забыла славные традиции шестидесятников, прониклась патологическим равнодушием к жизни народа, к настоящему искусству, погрязла в бессмысленной суете и прикрывает свою себялюбивую пустоту разговорами о либерализме, эстетизме, пессимизме и т. п. Они не хотят участвовать в естественной человеческой жизни, где лишь трудом, талантом, честным исполнением долга перед людьми можно достичь успеха. Жизнь заменяют игрой в жизнь, игрой в искусство, игрой в любовь. Эта игра гибельна, но первыми гибнут не они, а те, кто попадает в их лицемерный маскарад. Речь не о Левитане — Исаак настоящий талант, но больной человек. Он получит своё в другом рассказе. Здесь другой художник. Пошляк, жанрист, пейзажист, анималист. Смесь пейзажа с жанром во вкусе Поленова, как говаривал Исаак. Но такой же томный. Посмотрел на неё обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь: «Я устал».
Зло воплощается в женщине. В его подруге. Софья Петровна у себя на Мясницкой поставила в передней японское чучело, ткнула в угол китайский зонт, повесила на перила лестницы ковёр и думает, что это художественно. Если художник в убранстве своей квартиры не идёт дальше музейного чучела с алебардой, щитов и вееров на стенах, если всё это не случайно, а прочувствованно, то это не художник, а священнодействующая обезьяна.
Его героиня, конечно, не Кувшинникова, а молодая женщина, ровесница Лики, Ольга Ивановна. Она увешала в гостиной все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий... В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе.
Суть не во внешних проявлениях, а в поступках, определяющих жизнь. Лике от природы дан чудесный голос, и, приложив труд и упорство, она могла бы стать хорошей певицей, артисткой, но зачем трудиться, если гораздо приятнее играть и порхать? Пыталась выступать в драме, собиралась что-то переводить, немножко пела и намеревалась ставить голос, но всё кончилось Левитаном. Его Ольга Ивановна пела, играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но всё это не как-нибудь, а с талантом. Дилетантство во всём, и главное, дилетантство в жизни, в семье, в любви. Она отдаётся художнику не по истинной любви, а в кружении всё той же страшной бессмысленной игры, заменяющей жизнь поиском искусственных раздражителей: вчера вино, сегодня театр, завтра — новый мужчина.
Так и Лика в Покровском: «Пусть осуждают там, проклинают, а я вот назло всем возьму и погибну... Надо испытать всё в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»
Ольга Ивановна своим порханьем погубит жизнь мужа, великого человека, надежду медицинской науки. Великий человек умрёт, и она будет рыдать над его телом:
«Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не всё ещё потеряно, что жизнь ещё может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...»
Рассказ он так и назвал: «Великий человек». Вместо «Нивы» подвернулся «Север» — хороший приятель Тихонов стал там редактором и попросил «что-нибудь». Название вызывало сомнение, но в журнал так и послал «Великого человека» — художественный вкус иногда проявлялся не сразу, он знал это и старался давать себе время перечитать, подумать. На этот раз торопился по понятным причинам. Через две недели после того, как рассказ был отправлен, он вспомнил раздражающе хмельное лицо Лики, танцующей вальс, её развевающиеся юбки и написал Тихонову:
«Право, не знаю, как быть с заглавием моего рассказа! «Великий человек» мне совсем не нравится. Надо назвать как-нибудь иначе — это непременно. Назовите так — «Попрыгунья».
Встреча с девушкой, о которой мечтал, первое в жизни чувство глубокой любви, целомудренные свидания, мечты о ней как о невесте, вера в неё и надежда на счастливую любовь, и... её измена и измена друга, оскорбительное надругательство над его чувством, разрывающее сердце, вызывающее роковой кашель с алыми смертельными пятнышками, — всё это произошло лишь для того, чтобы в журнале «Север» за 1892 год, в первом номере (вышел 5 января) и в номере втором (вышел 12 января), был опубликован рассказ А. Чехова «Попрыгунья».
АРИАДНА 1892-1894
I
акануне отъезда с Сувориным в Воронеж по делам помощи голодающим сидели с ним в его номере в «Славянском базаре» и под пьяный гул метели пили красное вино.
— Так я приглашу её, Алексей Сергеевич?
— Придёт?
— Прибежит.
— Она прибежит к вам, Антон Павлович.
— В приглашении я укажу распределение ролей.
И он написал:
«Уважаемая Елена Михайловна, рукопись получил и прочёл тотчас же с превеликим удовольствием.
В Москве теперь Суворин. Он хочет с Вами познакомиться. К Вам приехать ему нельзя, так как весь день он занят и не принадлежит себе, вечером же, после восьми часов, ехать неловко... и т. д. К тому же он издатель, а Вы сотрудница, и будет явным нарушением чинопочитания, если он приедет к Вам первый. Не найдёте ли Вы возможным сегодня около 9 часов вечера пожаловать к нему в «Славянский базар» № 35? Мы поговорили бы, поужинали... На сегодняшний вечер забудьте, что Вы барышня и что у Вас есть строгая maman; и будьте только писательницей. Право... Я болен и потому буду скучен, Суворин же в отличнейшем настроении духа и расскажет Вам много интересного.
Скорее отвечайте телеграммой или через рассыльного. Не держите нас в неизвестности и не заставьте нас в ожидании Вас просидеть до полуночи. Суворину я сказал, что Вы добрая и непременно придёте. Завтра я и он уезжаем в Воронежскую губернию.
В ожидании ответа
А. Чехов.
Сегодня интересное симфоническое, но забудьте о нём».
На конверте написал:
«Её высокоблагородию
Елене Михайловне Шавровой
Афанасьевский пер., д. Лачиновой».
— Написано талантливо, — признал Суворин.
— Недаром произведения этого автора печатаются в «Новом времени».
Вызвали рассыльного, приказали: «Бегом!»
— Аллюр «три креста», как выражается бывший храбрый офицер Жан Щеглов.
Рассыльный помчался, а Суворин уцепился за Щеглова, наверное, для того, чтобы не говорить о предстоящем:
— Какой он был офицер, я не знаю, а рассказики его не очень читаются. Если что и есть, то чувствуется ваша рука.
— Я тоже ждал от него большего. Помогал, правил, советовал, но последняя его книжка показала, что дальше он не пойдёт. Вяло тянет всё тот же воз унылых воспоминаний о своей унылой службе. Не понимает, что это никому не интересно. Вот ваше «В конце века» читаешь не отрываясь.
— Все хвалят. Илья Ефимович Репин прислал весьма лестное письмо по поводу этого рассказа.
Почему знаменитый художник хвалит дилетантскую суворинскую прозу, вряд ли можно понять, но беллетристу Чехову, только что погасившему долг покровителю благодаря его же покровительству, которое позволило напечатать «Дуэль» в «Новом времени», полагается восхищаться. Он старается восхищаться осторожно — говорит не о качестве произведения, а о впечатлении, производимом на читателей:
— Потому у вас и бессонница, Алексей Сергеевич, что вы сочиняете такие волнующие рассказы...
Ещё бы не взволноваться, читая, как героиня с помощью своего искусства гипнотизировать находится одновременно в двух местах: в постели перед мужчиной и в соседней комнате. Мудрый автор даже объясняет, почему это возможно: оказывается, душа имеет несколько материальных оболочек, и одна из оболочек может выскочить из тела и очутиться, например, в соседней комнате. Понять бы, почему такие неглупые люди, как издатель «Нового времени» или хороший приятель Жан Щеглов, пишут всякую чепуху. Главное свойство таланта — развивать талант, а они останавливаются, по-видимому, из-за того, что так называемая читающая публика спокойно эту чепуху читает.
— Лекарство от бессонницы я как врач вам выписал, — сказал он, возвращая Суворина к действительности, более волнующей, чем дилетантские фантазии. — Скоро это лекарство появится здесь, и больному останется его принять.
Сначала появился запыхавшийся, облепленный снегом рассыльный с розовым конвертом. На веленевой бумаге тот же гимназический аккуратный почерк:
«Уважаемый Антон Павлович!
С удовольствием приеду сегодня вечером в «Славянский базар», так как сама давно хотела познакомиться с Алексеем Сергеевичем. Но приеду попозже, из театра, где «divina» Дузе играет сегодня. Наверное, кончится часам к 11. До свидания».
II
В двенадцатом часу он вышел в зеркально-сумрачный вестибюль гостиницы встречать Лену. Она выскользнула из метели и очутилась перед ним, совсем не затронутая белой бурей, как он сам когда-то выходил сухим из волн Индийского океана. Ему для этого приходилось пользоваться кокосовым маслом, а Лену раскалял огонь юных страстей, и снежинки, едва приблизившись к ней, мгновенно истаивали.
Подбежала, сияя знакомым, не очень повзрослевшим личиком с высоким лбом, пухлыми щёчками и западающим подбородком, сказала, что боялась опоздать, что Дузе гениальна и что она очень счастлива. Когда вошли в номер, возникло подозрение, что Суворин в ожидании успел выпить лишний бокал, а возможно, и не один — в бороде что-то застряло, сюртук расстегнут, галстук на боку. Приветствуя гостью, угрюмо пробормотал:
— Вот и хорошо, что пожаловали.
В глазах Лены девичье беспокойство, ожидание и вопрос, а сама восторженно рассказывает о «Даме с камелиями» в театре «Парадиз», о гениальной Дузе, о том, что спектакль затянулся, что она сомневалась, можно ли ехать так поздно, и даже извозчика не отпустила — ждёт на улице. Её, конечно, убедили, что вечер по-настоящему только начинается, заказан ужин, а извозчика надо отпустить. Он вышел распорядиться, а вернувшись, увидел неожиданную мизансцену: Суворин сидел набычившись, не глядя на девушку, как прыщавый гимназист, неприлично робеющий в обществе девицы. Видно, он, подобно многим мужчинам, только в воображении донжуан. Потому и женат дважды, и Анна Ивановна постоянно в женских волнениях. Лена продолжала о Дузе, поглядывая то на одного, то на другого с некоторым недоумением:
— Когда она прощалась со своей комнатой, упала на диван и зарыдала, вместе с ней плакал весь театр...
— Я потому и бросил писать пьесы, что у нас нет такой актрисы, как Дузе.
— А я теперь не знаю, что делать: писать или идти на сцену. И наша Оля рвётся на сцену, и даже Анечка.
— Писать, милый Шастунов! Обязательно писать. Вы согласны, Алексей Сергеевич?
Алексей Сергеевич ответил неясно, и Лена, почувствовав напряжённость в мужских взглядах, сказала, что должна привести себя в порядок, и вышла в туалет.
— Увольте, Антон Павлович, — умоляюще вполголоса сказал Суворин. — Я пас.
— Но барышня явилась не для того, чтобы говорить о театре.
— Она явилась к вам, Антон Павлович. А я готов быть свидетелем. Или, если хотите, зрителем...
Далее вечер или, вернее, ночь шла отчётливо, как выразился бы Сашечка. Когда подали ужин с устрицами и шампанским и он сел на диван рядом с Леной, касаясь её бёдер, девушка поняла, что роли перераспределились, и показала взглядом, улыбкой и вздохом облегчения, что перемена исполнителей её устраивает. В начале ужина Суворин сосредоточенно молчал, ел и пил, а он развлекал барышню окололитературным разговором:
— Боборыкин — это гоголевский Петрушка, потрясённый свойством букв складываться в слова, получивший образование и научившийся складывать слова штабелями, почему-то называемыми романами. Приходил недавно ко мне — говорил только о литературе. Хочет написать историю романа. Я пытался его убедить, что сейчас это невозможно: надо описывать всё, что влияет на сочинение книг такого высокого жанра, а влияет именно всё. А как вы это всё увидите?.. Потапенко видит хорошо, но смотрит лишь под ноги своим «общим взглядом». Читали этот очерк, Леночка? Нам с Алексеем Сергеевичем понравился. Я иногда правлю рассказы своих друзей, но если бы мне дали этот «Общий взгляд», я бы не поправил ни строчки. Или... забраковал всё. Ведь там, наверное, целый лист, а о чём? О том, что не надо привлекать к суду человека за то, что он сам набивает для себя папиросы, а негодяй дворник донёс, будто он работает на продажу... Когда читаешь Кугеля[40], чувствуешь себя так, словно разговариваешь с интересной дамой, у которой плохо пахнет изо рта. А когда читаешь вашего Буренина, Алексей Сергеевич, кажется, будто кто-то рядом разулся...
Лена хохотала, не отрывая от него обожающего взгляда, и высказывала восторги о его последних работах:
— «Дуэль»! Это что-то чудесное! Это не проза, а прекрасное благоуханное вино! Юг, море, любовь, офицеры... Я ждала каждого номера с таким нетерпением, а потом прочитала ещё раз всё сразу. Я чувствовала себя так, словно вошла в знакомый дом, где встречаю дорогих сердцу людей: Онегина, Печорина, Максима Максимыча...
— Конец у повести я скомкал. Пришлось заняться другой срочной работой. Критики заметили. Плещеев мне об этом написал. А вот Немирович-Данченко написал другое: «Не верьте двоедушным рецензиям: «Дуэль» — лучшее из всего, что Вы до сих написали».
Он и сам знал цену повести. В тяжёлую минуту переусердствовал и безжалостно раскритиковал свою работу, а спокойно разобравшись, понял, что «Дуэли» стыдиться нечего, хотя критики и уловили главный недостаток — придуманность. Добрая и увлекательная придуманная история нужна читателю не меньше, чем проникновение в глубины жизни, большей частью безрадостные.
— А какой чудесный очерк о Москве. Я сама догадалась, что это ваша рука, cher maitre[41]. Когда я читаю вас, я не могу!.. Я в таком восхищении, в таком восхищении...
И прижималась к нему, и руки её нервно касались его рук, передавая жар нетерпения. Происходило то, что всегда происходит во время счастливых любовных свиданий, и он испытывал то, что должен испытывать здоровый мужчина в эти минуты, то, что заложено от природы и почти не зависит от него самого. Всё его тело принадлежало природе, и даже в голосе он различал неожиданные победно-радостные ноты. Весёлые, бесстыдно-счастливые моменты предвкушения любовных радостей нельзя омрачать вертеровскими фантазиями и болезненной рефлексией, как было с той, о ком не надо вспоминать. Там всё кончилось.
— Однако вы устали, Леночка, — сказал он, снова замечая в своём голосе уверенно-лукавые ноты. — Вам надо отдохнуть, прежде чем уходить в метель.
— Да, да!.. — горячо согласилась она. — И вы... И вам надо отдохнуть.
В спальне он сказал:
— Дверь не будем закрывать, чтобы Алексей Сергеевич не чувствовал себя одиноким.
— Да, да. Как вы хотите... Как ты хочешь! Наконец я с тобой! О, мой cher maitre! Я так ждала этого. Раздень же меня. Я так мечтала об этих мгновениях. Вот так... А теперь это... И, главное, вот это...
III
Повиноваться природе легко и приятно, однако если следовать только ей, забывая своё, человеческое, разумное, выработанное веками цивилизации, то, исполнив веление природы, испытываешь тоску разочарования. Человеку требуется нечто большее, человеческое, великое. Писатель Чехов, автор «Попрыгуньи», которую, кстати, ещё никто не прочитал, живёт не ради того, чтобы срывать панталончики с девиц. Конечно, после любовных «подвигов», как выражается Левитан, чувствуешь приятную опустошённость и уверенность в себе. Всё, что делаешь, представляется правильным и интересным. И в дорогу весело собираться, зная, что тебя ждёт, что кому-то нужна твоя помощь.
Маша помогла собрать чемодан и намеревалась ехать на вокзал. Он отговаривал: метель всё ещё бушевала, застилая дымом окна, развешивая под крышами трепещущие белые бороды. В такую погоду в тёплой гостиной хорошо говорить о литературе, и Маша спросила о «Попрыгунье» — что говорят?
— Ещё никто не прочитал. Всего две недели, как вышел журнал.
— Ты говорил, что доволен рассказом.
— Что-то получилось.
— Но тебя что-то беспокоит. Я чувствую.
— Не очень.
Разговор о литературе прервала мама. Вышла из своей комнаты озабоченная, беспокоящаяся о любимом сыне.
— И что же ты, Антошенька, себя не жалеешь? Недавно такую простуду перенёс и опять вот едешь. Что ты там сделаешь? Накормишь ты их, что ли? Другие-то дома сидят и даже денег не хотят дать. Киселёв-то что тебе написал?
— Не хочет давать деньги на голодающих, потому что, мол, в Красном Кресте воруют.
— Какой Киселёв? — спросила Маша.
— Не художник, а настоящий Киселёв. Истринский.
— Маша, ты положила Антоше тёплую жилеточку, которую я связала? Нет? Я ж тебе говорила! Какая ты забывчивая!
— Влюблённые всегда рассеянны.
— Не дразни ты её, Антоша. Она и так извелась из-за этого имения. Смагин то пишет, что хорошее, а то — что не годится.
— А насчёт свадьбы что пишет? Сознавайтесь честно, Марья Павловна, когда и где? В украинском имении?
— Имение будем искать под Москвой, а свадьбы не будет.
— Что так? Изменил с генеральской дочкой?
— Как бы я не изменила.
— Ваши безнравственные намерения оставьте при себе, милсдарыня, а имение чтобы до весны было. Больше никаких дач и никаких либеральных помещиков, которые ни в ком не находят сочувствия.
В семейном тепле его душа исполнилась покоем. Уложили в чемодан тёплую жилетку, зажгли свечи, вспыхнули искры на снежных наростах оконных стёкол, настало время ехать, и послали горничную за извозчиком. Представлялся выход в синюю метель, вокзал, уютное купе, неторопливые разговоры за вином с уютным Сувориным, но...
Ждали горничную, на звонок открыли дверь, и вошла она. Выпутавшаяся из бушующих зарослей метели, исполосованная острыми её ветвями, Лика вытирала тающий снег с раскрасневшегося лица и молча смотрела на него. Он увидел в её взгляде не прежнюю девичью смущающуюся открытость, а жестокое женское любопытство и понял, что ничего не кончилось и не будет мира в его душе.
IV
В мрачном купе окно источало металлический холод, Суворин с неприятной самоуверенностью бывалого и всезнающего доказывал, что в России всё плохо, но сделать ничего нельзя, а он, делая вид, что внимательно слушает, вглядывался в глаза Лики, невидимо светящиеся в пыльном вагонном сумраке, и кроме женского хладнокровного любопытства улавливал в них ещё и оскорбительное сочувствие. Как любая красивая женщина, она уверена в своей власти над мужчиной, знает, насколько необходима ему вся она, её обаяние, её нежность, её тело, её ласки, и с безжалостностью исследователя наблюдает мучения неудачного влюблённого. Однако её уверенность, как и всякая самоуверенность, основывается на зыбкой почве — она не понимает особенностей мужской психологии и физиологии.
— Россия слишком велика и многообразна, — говорил Суворин. — Множество народов, разные языки, верят в разных богов, живут по самым разным обычаям и ещё разделяются по классам. Здесь и духовенство, и аристократия, и крестьяне, и мещане, и рабочие, и торговый люд. Удовлетворить не только всю эту орду, но даже какой-нибудь один класс нет никакой возможности. Бесполезны все теории, все социализмы — в такой огромной стране невозможно провести последовательно какую-нибудь одну систему...
Однако он сам и ему подобные последовательно и успешно всегда проводят одну и ту же систему: наживаются и наживаются, а чтобы благоприятные для наживы обстоятельства как-нибудь не изменились, надо доказывать, что ничего делать не надо, потому что ничего сделать нельзя. По установившейся удобной привычке следовало бы ответить что-нибудь с мягким юмором: или по Тютчеву «Умом Россию не понять...», но уже во время заграничной поездки он умом понял мелкую сущность этого самодовольного пустослова и графомана, кроме того, если нет мира в душе, то не только с ним, а и вообще ни с кем нет желания соглашаться.
— Что ж, Алексей Сергеевич: ничего сделать нельзя и напрасно мы с вами едем.
— Почему же напрасно, Антон Павлович? Всё какое-нибудь облегчение мужику сделаем. Ваша комбинация в Нижнем Новгороде по закупке весной крестьянами лошадей с возвратом очень хорошо придумана. Это позволит им отсеяться, и будущий урожай будет спасён.
— Комбинацию придумал не я, а мой старый приятель Егоров, но и она ничего не даёт. В России ничего нельзя сделать для крестьян, потому что у нас не крестьяне, а нищие пролетарии, не имеющие земли. Так называемая крестьянская община развращает мужика, приучает его к лени и пьянству. Если у человека нет собственности, нет ничего, кроме чёрной избы-развалюхи, а работает он на земле, которую через год у него отнимут и отдадут другому, не ждите от него настоящего труда. Труд на общинной земле даже менее продуктивен, чем рабский труд. Раба заставляют, погоняют, хозяин на себя работает до последних сил, а общинник — это хищник на земле, старающийся поменьше поработать и побольше взять. Потому у нас даже в урожайные годы плохие урожаи и вечный голод. Вы говорите, что сделать ничего нельзя, но и в России можно что-то сделать, и делают. Только надо делать, а не рассуждать о том, что сделать ничего нельзя. Александр Второй освободил крестьян и перевернул страну.
— За что его и убили. А вы знаете, Антон Павлович, мне рассказывали сведущие люди, близкие к царствующим особам, что Александр первого марта, прежде чем ехать на роковой развод, отделал княгиню Юрьевскую прямо на столе. Он был мужчина не промах. Чуть ли не всех смолянок перебрал. Таких, как ваша Леночка. Всё-таки она редкая девочка — сохранила себя для вас. В наше время невинность почти не встречается. Григорович говорил, что ему за всю жизнь только две попались...
Разговоры об этом Суворину интереснее, чем рассуждения о судьбах русского крестьянства. История, политика, литература, вообще всё, что волнует мыслящего человека, для него лишь парадный мундир, который он хоть и научился носить, но чувствует себя свободно, когда мундир снят. Любую тему он хорошо сводит к скабрёзному анекдоту. Кто не умеет это делать, тот любит об этом разговаривать.
Как бы самому не перейти в разряд разговаривающих: она волнует его как прежде, но волнует не так. Он не понимал себя: любовь ли это, игра самолюбия, стремление наказать обидчицу или каприз мечтательного гимназиста, придумавшего себе театральную героиню и вцепившегося в похожую на неё женщину. Встретившись на несколько минут перед его отъездом, они не успели переговорить, но взгляды тоже говорят. Он понял, что «Попрыгунью» она ещё не прочитала.
— Ваша Леночка — исключение, — развивал Суворин любимую тему. — Нынешние девицы стали настолько развратны, что невинность и в гимназии не найдёшь.
— Послушайте, Алексей Сергеевич, откуда вы взяли, что прежде девушки были более строги, более целомудренны? Вы же прекрасно знаете екатерининское время. Тогда четырнадцатилетних выдавали замуж, чтобы покрыть грех.
— А вы знаете, как Екатерина с солдатом...
— Такое и сейчас случается.
— Случается, Антон Павлович, и такое, и ещё хуже. Конец века. Женщины погрязли в разврате, у мужиков — водка, в обществе — морфин, кокаин, хлорал, карты. Я бы даже сказал, картомания. Нет, милейший Антон Павлович, современного человека надо бить по голове.
— Я с вами соглашусь, если вы мне докажете, что прежде людей не били или мало били.
— Что уж доказывать, голубчик? И тот...
Если покровитель начинал сбиваться и повторять нелепое «и тот», значит, расстроен и обижен, а обижать его не следовало.
— Вы правы, Алексей Сергеевич: не надо доказывать. Каждый знает своё, и никто не знает настоящей правды.
— Я смотрю, что-то вы сегодня... И тот...
— Заботы обступили, как деревья в лесу. Вот и о моряке всё забываю спросить: устроили ему перевод?
— Простите, голубчик, не припомню.
— Мичман. Просит перевода с береговой службы на корабль. Предпочтительно на Дальний Восток.
— Вспомнил. Говорил в Морском штабе. Обещали сделать весной. Голубчик, я всегда любую вашу просьбу выполняю...
Старик искренне любит его, и оба они чувствуют друг в друге близкое, общее: оба растиньяками из провинции завоёвывали место в столицах, в журналах, в литературе; в обоих играла упорная мужичья сила. Жаль, что покровитель остановился там, где надо начинать: научился добывать деньги и решил, что этого достаточно. Неужели можно жить, не любя ничего, кроме денег? Убеждает всех и себя самого, что любит театр, но он его любит, как мальчишки любят цирк. В заграничной поездке, насмотревшись на римские развалины, вдруг пустился в рассуждения о театре будущего, который будто бы переместится на ипподромы и стадионы.
— Мучаюсь над одной повестью, Алексей Сергеевич. Когда вы сказали, что в России нельзя провести никакую систему, никакой социализм, вы попали в самую больную точку. Я пишу о социалисте.
V
— Я никогда не писал на эти темы и не люблю об этом обо всём разговаривать, но я постоянно думаю о России, о судьбах народа, особенно о наших крестьянах — ведь мой дед был крепостным. Я его хорошо помню. Это был чудесный, мудрый человек. Он так любил землю, работу на земле. Я у него унаследовал эту любовь, потому и мечтаю купить имение. Еду вот с вами в Воронеж, а Марья вся в хлопотах: к лету мы должны жить уже на собственной земле. Её друг присмотрел было на Украине, но оказалось — не годится. Решили искать под Москвой. Хочу жить ближе к людям, похожим на моего деда, к людям, которых я люблю. Если я не пишу обличительных рассказов в духе Глеба Успенского или Короленко, то это не значит, что у меня не болит сердце, когда я думаю о жизни наших мужиков. Потому и езжу всю зиму по голодным губерниям. И о политике, и о революции думаю — моё поколение вступало в жизнь под взрывы первомартовских бомб. Ходил я и на сходки, и прокламации читал, но революционером не стал, потому что не верю, будто революция, разрушения, массовые насилия могут улучшить жизнь людей. Убили царя-освободителя — стало в России лучше? Великая французская революция, гильотина, Наполеон, а что сейчас? Мы оба с вами были потрясены в Париже первого мая. Какая впечатляющая демонстрация рабочих. А в Италии в этот день даже стреляли.
— О чём же повесть, Антон Павлович?
— О социалисте, разочаровавшемся в революции. Недавно встретил старого знакомого — участника движения. Вернулся из ссылки, опустился, пьёт, зол на весь мир, в том числе и на меня. Страдает из-за того, что погубил молодость, здоровье...
Чёрное окно, отражающее бороду Суворина, задребезжало под резким порывом ветра, пахнуло холодом, и приступ кашля не удалось удержать. Хорошо, что Маша снабжает его огромными носовыми платками.
— Мы с вами, Антон Павлович, тоже не жалели здоровья, тоже молодость провели не в сладких радостях, а в тяжком труде. У меня нервы ни к чёрту, у вас кашель...
— И я давно задумал написать о человеке, поверившем в правильность революционного пути, в социализм, а сегодня оказавшемся в тупике. Сейчас почти все эти люди, даже самые твёрдые из них, отошли от борьбы, некоторые раскаялись. Тихомиров даже книгу издал[42], где признает ошибочность своей революционной деятельности. Даже Чернышевский спокойно доживал, что-то там переводил.
— А я не рассказывал вам, Антон Павлович, что Чернышевский выплатил мне гонорар? Один из первых моих приличных гонораров. Лично выплатил. Деньги мне были нужны позарез — вы же знаете жизнь начинающего литератора. Я пришёл к нему домой. Он брился. Открыл дверь весь в мыле. Добродушно так меня принял. Велел подождать, добрился и выдал мне пятьдесят рублей. Да. Так о чём же повесть?
— Я начал писать её ещё лет пять назад. Тогда был процесс Кибальчича, Ульянова и прочих[43]. Трудно идёт. Хочу показать революционера, отошедшего от борьбы, но не из страха, не из-за разочарования в социалистических идеях, а по причинам психологическим. Помните, мы встретились в Париже с Павловским?
— Как же. Мой человек. Я же его книжку издал. Но он просто не захотел сидеть в одиночке. Здесь никакой загадки нет.
— Я его знаю с детства. Наш, таганрожец. Вы правы — он слишком недалёк, чтобы во что-нибудь верить или не верить. Вот на Сахалине я встретился с Ювачёвым, бывшим мичманом. Вы, наверное, помните «процесс четырнадцати»[44].
— Ему, кажется, дали каторгу?
— Нет. Приговорили к повешению, но он написал императору, и тот заменил каторгой. На Сахалине Ювачёв заведует метеорологической станцией.
— Этот испугался петли.
— Им руководил не только страх. Это сильный, мыслящий человек. Он пришёл к религии. Я ещё не встречал таких истинно верующих. Мой отец вроде бы очень религиозен, но он совершенно далёк от понимания христианского миросозерцания. Ему интересны священные книги, Псалтырь, церковная служба. Он читает Евангелие с тем же интересом, с каким читает газету.
— Конечно, «Новое время». Только моя газета может сравниться со священным текстом.
— И разумеется, ваши «Маленькие письма». Религия — великая духовная сила, христианство — величайшее творение человеческого духа, но такой поворот в повести у меня не получается. Чтобы убедить читателя в том, что учение Христа заставило человека отказаться от революционной борьбы, надо самому быть религиозным человеком. А у меня давно нет веры — церковное воспитание, которое я получил дома, выбило всё. До, по-моему, вся интеллигенция отошла от религии, а те, кто считает себя верующими, только играют в религию от нечего делать.
— Какую же идею вы хотите провести в повести? Что произойдёт с вашим социалистом?
— Думаю.
— Боюсь, что ваши раздумья окажутся бесплодными. Цензура не пропустит социалиста.
— Я знаю это, но ничего не могу сделать. Повесть просится на бумагу. Мой герой по заданию своей организации должен убить некоего вельможу. Чтобы выполнить это, он нанимается лакеем в дом своей будущей жертвы, но там встречает настоящую женскую любовь.
— В данном предмете вы, Антон Павлович, разбираетесь лучше, чем в вопросах религиозных.
— Но согласитесь, что настоящая, глубокая, самоотверженная любовь изящной, молодой, умной женщины — это такая редкость, такое счастье для мужчины, что может перевернуть всю его жизнь.
— А вы встречали такую любовь?
— Ещё нет, но...
VI
Но он вновь увидел настоящую любовь в её глазах, когда Лика застала его среди развала и беспорядка оставляемой навсегда московской квартиры. Жизнь предпразднично звенела тающими пирамидками сосулек под крышами Малой Дмитровки, сияла ещё по-зимнему чистым снегом в углу двора и, главное, обещала радость весенних перемен: переезжали в собственное имение Мелихово. Почти всё уже отправили туда и теперь суетились, набивая сундуки и узлы остальным имуществом. Он упаковывал книги и, встречая гостью, оторвался от ящика с томами Тургенева, радуясь случаю передохнуть, представая перед Ликой энергичным, деятельным хозяином в рубашке с засученными рукавами. Смотрел на неё островопросительно, в ответном взгляде — то же неприятное любопытство, но теперь не холодно-жестокое, а сочувственно-испуганное. Так смотрят на близкого человека, которому нечаянно сделали больно. Не увидел ни возмущения, ни насмешки, ни смущения, ни ещё какого-то резкого чувства: не прочла «Попрыгунью». Приветствовал её в стиле той же привычной игры, которая велась вот уже третий год:
— Здравствуйте, милая Мелита.
Появилась Маша, подруги восторженно расцеловались, сестра сразу обрушила на гостью беспорядочные рассказы о мелиховском имении, засуетилась насчёт чаепития, а Лика пожаловалась ей на нехорошего брата, придумавшего для неё новое прозвище.
— Он не придумал — это из спектакля «Сафо», — объяснила Маша. — Ты разве не была? Вся Москва смотрела. Мелита — подруга Сафо.
— Конечно, смотрела, но шуточки Антона Павловича вызывают у меня нервное раздражение.
Пить чай устроились на краешке стола, сдвинув нагромождение книг. Присоединился и Миша, повергший всех в уныние какой-то длинной английской фразой, где несколько раз прозвучало слово love.
— Как было бы хорошо, если б Антон Павлович излагал свои шуточки по-английски, — сказала Лика.
— Кстати, как Сафо? — спросил он. — Ещё не бросилась с Мясницкой каланчи, оставляя вам жгучего брюнета Фаона?
— Софья Петровна страшно возмущена вами, — сказала Лика.
Повеяло сладким холодком нервной встречи, ожидаемой, но непредсказуемой: неужели та прочла?
— Чем же я провинился? Написал плохой рассказ?
— Она возмущена тем, что вы отдали мангуса в зоопарк.
— Я потому и отдал его, что он был моим соперником. Сафо сама призналась мне, что испытывала к зверьку преступную страсть.
Не прочла. Пишешь буквально кровью, а так называемая интеллигенция, к которой обращаешься в рассказах, не изволит интересоваться.
Маша поставила вазу с печеньем на томик Толстого.
— Машка, это же Толстой! — возмутилась Лика.
— Том с «Крейцеровой сонатой», — уточнил Миша.
— Антоше этот рассказ не понравился. Потому я так и отношусь.
— Великий Чехов уже и Толстого не признает? Вы же когда-то говорили, что перед ним вы как коллежский асессор перед генералом.
— Ещё ниже, милая канталупка. Толстой — гений, но даже гений не должен писать о том, чего не знает, и призывать людей следовать его сомнительным капризным указаниям. Не ешьте мяса, не рожайте детей, не сочиняйте поэмы и романы, не лечитесь у мерзавцев докторов. Это же всё чушь. В паре и электричестве любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса. К чёрту философию великих мира сего! Она вся со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше не стоит одной кобылки из «Холстомера».
Он знал, что, когда, слегка волнуясь, высказывает выношенные мысли, стараясь убедить других в своей правоте, женщины обычно смотрят на него с сочувственным интересом, а то и с восхищением и даже с любовью. И Лика смотрела так.
— Антон всю ночь читает «Войну и мир» и восхищается, — сказал Миша, — а утром за кофе критикует.
— «Война и мир» — великий роман. Я не критикую, а просто кое с чем не соглашаюсь. Мне, например, странно и даже несколько смешно, когда на страницах появляется Наполеон. Все другие персонажи — очень милые люди, даже ничтожный Николай Ростов, а вот Наполеон вообще не имеет ни одной человеческой привлекательной черты. Вообще Толстой, конечно, гений, а я ничтожный беллетрист, пишущий всякую чепуху ради хлеба насущного. Чтобы расплатиться за имение, я должен работать в поте лица день и ночь не покладая рук. Надо печатать не меньше двадцати листов в год. Теперь я общаюсь только с издателями и после «здравствуйте» сразу сую рассказ. В «Северном вестнике» и в «Севере» уже вышли большие рассказы. Познакомился с Меньшиковым — договорился на повесть для «Недели». Повёл в «Эрмитаж» Ясинского — тот обещал устроить рассказ во «Всемирную иллюстрацию». На днях посылаю. На сахалинском материале. Так и называется: «В ссылке». Худекова уговорил — это издатель «Петербургской газеты» — на сорок копеек за строчку и даже двести рублей аванса выбил. Так что, милая канталупка, вам будет чем заняться в свободное от посещений Мясницкой каланчи время. Или вы теперь не читаете, а только рассматриваете пейзажи Фаона, то есть Левитана?
— Я прочитала «Дуэль». За неё я прощаю вам все ваши идиотские шуточки и намёки.
Она улыбнулась, как улыбаются, неожиданно вспомнив что-то очень хорошее. Кажется, он и писал эту повесть для такой улыбки читателя.
— Знаете, Лика, что самое смешное в рассказах Антона? — вмешался Михаил. — Он и говорит об имении, и деньги зарабатывает, а сам ни разу там не был.
— Жду, когда Маша выгонит тараканов.
— Есть примета, Антон Павлович: тараканы уходят из дома перед пожаром.
— Этого мы теперь не боимся: у нас в семье есть пожарник.
Московский день успокаивался голубыми сумерками, и разрезанные крышами лоскуты неба окрашивались в знакомый ласковый цвет топлёного молока. Лика собралась уходить. Он должен был вечером посетить князя Урусова на предмет устройства Леночки Шавровой в Общество искусства и литературы, где она должна заблистать в постановке «Лешего», но...
— Надеюсь, вы меня проводите, Антон Павлович?
— У меня назначена серьёзная встреча, и если бы сейчас за мной пришла полиция, то я оказал бы ей вооружённое сопротивление и всё-таки попал бы, куда задумал. Но вы, Лика, не полиция, а власть, перед которой дрожат даже боги.
Московская предвечерняя улица, покалывающая лёгким морозцем, хрустящая снежком под ногами, мягко бьющая копытами лошадей, обволакивала покоем и обещала близкие радости. Зажгутся огни, придёт весна...
— Я сегодня проходила мимо Румянцевки, — сказала Лика, бросив на него взгляд из прошлых, первых встреч. — Вспомнила, как бегала туда по вашим сахалинским поручениям. Я так хочу, чтобы у нас с вами всё было по-прежнему, как тогда. Если два человека... ну... Если они хорошо относятся друг к другу, то зачем им всё портить из-за каких-нибудь неприятных случаев или сплетен?
— Я тоже хочу, чтобы всё было по-прежнему, то есть чтобы вы опять выполняли мои поручения. Задание теперь будет такое: я обещал Суворину сделать новый перевод «Гибели Содома» Зудермана[45]. Вот вы этот перевод и сделаете.
VII
Дом смотрел на него жалобным усталым лицом, грубо облепленным снегом. Сугробы и бесформенные комья покрывали и перила веранды, и ступени крыльца, и даже наполовину закрыли четыре фасадные колонны. Хотелось взять платок и стереть эту белую холодную массу, как вытирают лицо мальчишки, извалявшегося в снегу.
— Таким его и напиши, Маша, — сказал он сестре. — Заброшенным, обиженным, ожидающим от нас помощи и ласки.
— Не успели, — оправдывалась она. — Только вот дорожку расчистили.
Входные двери открылись в белую светлую комнату, заваленную узлами. В углу стоял рояль в чехлах.
— Это гостиная?
— Не знаю, Антон. Как ты скажешь. Самая большая комната.
— Рояль передвинем сюда. Лика будет стоять здесь и петь «День ли царит».
— Она... Ты её пригласил?
— Она сказала, что ты её пригласила.
В коридоре слева несколько дверей. Возле одной из них стоял отец.
— Здесь моя комната, — сказал он. — Значит, здесь я буду жить и молиться.
В узкой длинной комнате справа: аккуратная кровать, над ней — скрипка, рядом — пюпитр с нотами какого-то церковного песнопения, в углу — иконостас, у стены — столик, застеленный зелёной скатертью, на нём — огромная книга-тетрадь.
— Что это, папа, у вас, похоже на Библию?
— Здесь, Антоша, я буду вести ежедневные записи нашей жизни, и поэтому каждый день сюда будет записан. Посмотри начало сих записей.
На первой странице крупными буквами:
«Г Б...»
Следовало понимать: «Господи благослови».
«Г Б. ИМЕНИЕ КУПЛЕНО В С. МЕЛИХОВО 1892 ГОДА
1-го МАРТА ПЕРЕЕХАЛИ ИЗ МОСКВЫ: ПАВЕЛ
ЧЕХОВ, МАША И ГОРНИЧНАЯ ПЕЛАГЕЯ К ОБЕДУ.
СОРОХТИН С СЕМЕЙСТВОМ В ЭТОТ ДЕНЬ ВЫЕХАЛ.
4. Антоша совсем переехал в своё имение».
— Это вы, папа, хорошо придумали.
— Если заболею или уеду к Александру или на богомолье, пиши ты, Антоша, или другие наши домочадцы. И когда меня Бог приберёт. И ещё я напишу своё Житие. Я многое помню из старого времени. Когда холера была в тридцать первом году, дёготь нам давали. Когда мой родитель выкупил нас на волю по семьсот рублей задушу, то есть всего заплатил три тысячи пятьсот рублей. Это произошло в сорок первом году...
У отца чёткий твёрдый почерк с наклоном, и каждое слово, каждая буква свидетельствуют, что писавший начертал их с любовью. Этого не скажешь о друзьях-писателях. Посмотришь на корявые, неровные строчки рукописи и понимаешь, что автор не любит писать, то есть не любит сам процесс нанесения знаков на бумагу. Потому и пишут плохо. Он всегда знал, что его талант, его любовь к письменному слову, его неугасающее стремление написать хорошо, написать ещё лучше, переделать, убрать лишнее — всё это от отца. От грубого, малообразованного, мелкого разорившегося купца, погубившего его детство церковным воспитанием с розгами.
— Твой кабинет, Антоша, мы приготовили так, чтобы ты сразу мог начать работать, — сказала Маша.
Во всех комнатах обыкновенные окна в рамах с переплётами, а в его кабинете — три больших итальянских окна с цельными стёклами. За ними — сугробы, голые ветви деревьев, зимний сумрачный сон и никакой надежды на близкую весну. Любимый письменный стол поставили правильно — к окну, чтобы свет падал слева и спереди. Хотелось немедленно сесть и написать: «Когда же весна? Лика, когда весна?»
Но писать надо не стихи, а прозу: две повести. Даже три. Или так: две повести и роман. Повести — о «социалисте» и о сумасшедшем доме; роман — о вырождающемся купеческом семействе. «Когда же пьеса? Антон, когда же пьеса? Не знаю. Не сейчас».
Его почерк, в общем, разборчивый, но не такой аккуратный, как у отца. Его любовь к порядку в письменном слове выражается в аккуратно разложенных рукописях — всегда сразу найдёшь то, что надо. Письма разложены пачками по адресатам и перевязаны ленточками. Даже есть писательская записная книжка, заведённая ещё в Петербурге перед поездкой в Европу. Правда, за год исписал всего одиннадцать страниц. Больше заметки для памяти: европейские впечатления, записи о помощи голодающим. Кое-что и для работы, но в основном к роману о купеческом семействе. Теперь же должна идти повесть о сумасшедшем художнике, погибшем в палате № 6. Но...
В «Попрыгунье» художник был необходим, и совсем не из-за Левитана: сама суть явления, игра интеллигенции в искусство, игра в жизнь требовали именно художника. Противостоять сомнительному делу рисования на потребу бездельников должно было самое необходимое людям — спасение от болезней, исцеление. Поэтому Дымов — врач. Если бы он действительно был заурядным беллетристом, оглядывающимся на приятелей и на начальство, то, наверное, заменил бы художника каким-нибудь инженером, а Дымова сделал бы чиновником, и никто бы не обиделся, и не надо было бы пребывать в нервном ожидании, что скажет Левитан. Если ты настоящий писатель, то ради художественной правды должен жертвовать всем. И дружбой, и любовью.
Начиная «Палату № 6», он вспомнил припадки Левитана и на Истре, и в Москве, когда тот прибегал к нему, охваченный ужасом. Представлялось, как Исаак, измученный преследованиями властей, прячущийся от выселения, вдруг встречает двух арестантов в кандалах и с ними четырёх конвойных с ружьями, и у него начинается приступ мании преследования. Охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежит он по улице... Нет. В повести о сумасшедшем доме художник ослабит впечатление. Проницательный читатель зевнёт и скажет: «Эти художники все помешанные». В «Палате № 6» пострадает обыкновенный человек. А Левитан... оказался первым читателем.
VIII
Никто в мире, тем более никто из близких не знал, что происходит в его душе, никто не предполагал, что вдруг могут перемениться отношения с лучшим другом покойного Коли, со старым другом всей семьи. Даже Маша не догадывалась. Возможно, она его и пригласила. Или Иван. Да Исаак и сам мог приехать, узнав у Лики адрес имения.
Накануне его приезда пришло письмо от Леночки Шавровой, только что прочитавшей «Попрыгунью».
«Cher maitre, — писала она. — Во всей русской да и во всей мировой литературе нет такого глубокого и прекрасного рассказа. Я так плакала, читая его, так возненавидела эту гадкую Ольгу Ивановну, что задушила бы её собственными руками. А Дымов! Прости, Антон Павлович, но, читая о Дымове, я всё время представляла вас. Вы и есть великий человек, которого пытаются погубить развращённые барыньки и продажные художники. «Попрыгунью» сейчас читают все, и по Москве идут разговоры, что вы изобразили реальных лиц из вашего окружения. Говорят о еврее-художнике, который живёт на средства любовницы и её мужа, и будто муж смирился со своей участью».
Шла пасхальная неделя, коричневато-бурый апрель сиял золотыми россыпями мать-и-мачехи. Левитан приехал без собаки, но в охотничьем костюме, с ружьём, в европейской охотничьей шапочке. Он подошёл с робкой, жалобной улыбкой, угли его глаз посверкивали и затухали, и невозможно было сразу понять, прочёл ли он рассказ. Не виделись почти год, и, чтобы избежать неловкости несостоявшихся объятий, пришлось намеренно замешкаться, вызывая Машу, приказывая горничной готовить закуску и прибирать гостевую комнату.
— Эту комнату, Исаак, мы назвали Пушкинской, поскольку здесь висит портрет поэта, а теперь, по-видимому, придётся переименовывать её в Левитановскую.
— Ни в коем случае, Антон! Ни в коем случае. Я жалкий пигмей по сравнению с великим поэтом.
— Заметь, Маша, какие у нас скромные друзья. Гиляй отказался от переименования комнаты в Гиляровскую, и Исаак отказывается.
— Дядя Гиляй здесь? — обрадовался Левитан. — Где же он?
— Не знаешь, где меня искать? — прорычал Гиляровский, выходя на веранду. — Моё место в буфете.
Маша поцеловала старого друга, удивила его мелиховской новостью:
— Исаак! Ты не поверишь, кто у нас здесь соседи. Коновицер!
— Кто это, Маша? Что-то не припомню.
— Его, Маша, вводит в заблуждение фамилия. Речь идёт, Исаак, об очень близко знакомой тебе Евгении Исааковне Коновицер, в девичестве Эфрос.
— Дунька?
— Исаак! Я не позволю тебе так непочтительно называть жену известного адвоката.
— Я с ней встретилась, — сказала Маша. — На днях нанесут нам визит.
— Дуня, Дуня... — вздыхал Левитан, вспоминая прошлое. — Помнишь, Антон, как пошли за грибами, попали в болото и вытаскивали Дуню за юбку?..
Напряжённость встречи с Левитаном растаяла в общем пасхальном веселье. Пили вино, обедали, потом на весеннем солнышке Гиляровский демонстрировал свою силу, поднимая брёвна и катая всех желающих на тачке. Миша вынес фотоаппарат, и Левитана как художника заставили фотографировать для истории Гиляровского, катающего на тачке всех Чеховых по очереди.
Оставшись вдвоём с Левитаном, говорили обо всём, кроме того, что волновало обоих и о чём больше всего хотелось говорить. Выяснилось, что «Попрыгунью» Исаак не читал, как не читал вообще ничего из его новых вещей: работал над картиной.
— Я сделал массу этюдов, — рассказывал он. — Там, в Тверской губернии, где я был летом. Ну, ты же знаешь — я тебе писал. И Лика, наверное, рассказывала. — Во взгляде робкий вопрос, жалобная просьба вернуться к старой дружбе.
— Закончил картину?
И вопрос и предложение были отвергнуты спокойно, даже с некоторой насмешкой в голосе.
— Да. Отмучился. И ты знаешь, Антоша, Нестеров очень хвалил. Правда, я боюсь, что отчасти из любезности — я хорошо отозвался о его «Юности Сергия». Но он всё сравнивал меня с Куинджи. Я не знаю, как его понимать. Ведь Куинджи — фокусник. Как ты думаешь?
— Что я могу думать, если ты ничего не рассказал о картине. Что за пейзаж?
— Назвал «У омута». Такая, знаешь, зелёная вода в жаркий день. Много мути. И мостик бревенчатый. Такой хилый... А знаешь, что это за омут? Пушкинское место. Берново. Имение Вульфов. Там Пушкин писал или, я не знаю, задумал «Русалку». Она утопилась в этом омуте. Мы с Софьей Петровной ездили туда, и я писал этюды. Баронесса Вульф приходила смотреть. Она много рассказывала о Пушкине, о его приездах в Берново. И Лика с нами приезжала. Она же внучка Юргенева — приятеля Пушкина. Она тебе рассказывала?
— Кто берёт картину?
— Ты знаешь, Антоша, Третьякову понравилась.
— На тягу пойдём? Скоро закат. Только я пойду без ружья.
Первая охота не удалась. После ужина он дал Левитану беловую рукопись «Палаты № 6». Прочитав, художник был потрясён.
— Это шекспировская трагедия, Антоша! Я никогда ещё не читал ничего сильнее и глубже о больной душе человеческой. Читаешь и сам чувствуешь себя больным, гибнущим в этой палате. Но почему так страшно, так безысходно? Даже конец такой неприятный, что мурашки по коже. Какая-то багровая луна, тюрьма, гвозди на заборе, пламень на костопальном заводе... Я бы не смог написать такое. Я даже смотреть бы не смог на такой пейзаж. Антоша! Что с тобой произошло? У тебя изменились пейзажи. Как чудесно ты писал в «Счастье»! И в «Гусеве». Там тоже очень печально, но какой пейзаж в финале! Закат над океаном! Он снимает всю трагичность. Такой пейзаж я стал бы писать, но, наверное, ничего бы не получилось — я же не маринист. А здесь ты рисуешь какой-то тоскливый, безнадёжный маленький ад. Если бы живописец так переменил манеру, я подумал бы, что он заболел или с ним что-то стряслось. А с тобой что произошло?
— Так. Ничего особенного. Тяжёлое лето. Некоторые неприятности.
— Я тебе, кажется, писал, что читал твоё «Счастье» Софье Петровне и Лике и мы все восхищались...
— В «Палате» я позволил себе кое в чём опровергать самого Марка Аврелия. Ты заметил эти места?..
— Знаешь, Антон, я так давно читал, но ты же там цитируешь этого Аврелия. Насчёт боли — что это только представление.
— Есть ещё места. Вот здесь доктор рассуждает: «Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого?» Марк Аврелий пишет, что смерть — по природе, а что по природе — не зло. Вот я и хотел показать, что такое страдание и смерть. Какое это страшное зло.
Последний раз ходили с Левитаном на тягу, когда другие гости уже уехали. Собрались как полагается, на закате, и всё шло по Тургеневу: устроились неподалёку от опушки, в лесу темнело, умолкали птицы, и наконец, когда почти в самом зените неба вспыхнули звёздочки Ковша, раздалось особенное карканье и шипенье, и вальдшнеп вылетел из лесной тьмы к просветам опушки. Левитан успел выстрелить, и птица упала, звучно расплескав лужу. Подбежали, и Исаак, увидев, что птица шевелится, с ужасом пробормотал:
— Он жив.
Пришлось поднять вальдшнепа за мокрое крыло. Красивая длинноносая птица с удивлением уставилась чёрным глазом на художника — почувствовала, кто хочет её убить, и попыталась понять, за что. Левитан закрыл глаза и с дрожью в голосе попросил:
— Голубчик Антоша, убей его. Ударь его головкой о ложу. Я сам не могу. Убей его, голубчик.
Пришлось это сделать. Одним красивым влюблённым созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать.
После ужина он дал Исааку читать «Попрыгунью». Оставил его в кабинете, а сам зашёл к Маше на любимый вечерний разговор о сельскохозяйственных делах. Первая весна на земле, и надо решить, что сеять, где, когда.
— Не надо сейчас заниматься садом, — продолжала Маша старый спор. — Это делается осенью. Сейчас только огород — огурцы, морковь, лук, свёкла...
— Помидоры.
— И помидоры.
— И саженцы вишен.
— Антон, саженцы оставим на осень.
— Вишни посадим сейчас.
— Почему?
— Потому что... Яблонь и слив у нас достаточно, а вишен мало. А я люблю вишнёвое варенье. И вообще, я хохол. Мне дюже гарно садок вишнёвый коло хаты.
Наверное, у всех есть друзья или близкие, кому можно открыться, рассказать о жизненных планах, о мечте. У всех, кроме него. Никогда никому не расскажешь, что, глядя в итальянские окна своего кабинета, видишь на месте старых яблонь разросшийся вишнёвый сад в цвету, а в крапчатоснежных его осыпях проглядывается небольшой домик-флигель, светящий желтизной свежего дерева стен. Там будет написана великая пьеса.
Вернувшись в кабинет, застал Левитана у окна. Он вглядывался в синюю апрельскую темь, а повернувшись к нему, коротко, судорожно вздохнул и сказал жалобным голосом обиженного ребёнка:
— Жестокий ты, Антоша. Да, очень жестокий. Вальдшнепа убил, и ничего в тебе не дрогнуло. Я наблюдал. Никого тебе не жаль. И с мангусом тоже поступил жестоко.
— С мангусом? — Обвинение было настолько неожиданным и нелепым, что он даже несколько успокоился. — Я ездил зимой по голодным губерниям, с ним некому было заниматься, и я отдал его в зоопарк.
— Антоша, у меня к тебе просьба: устрой как-нибудь, чтобы я сейчас уехал.
— Исаак, но сейчас половодье. Дороги развезло, темно. Уедешь утром.
— Антоша, ты же не заставишь меня идти на станцию пешком?
— Хорошо. Что-нибудь придумаю.
— Спасибо, Антоша, но... Прости, но ты очень жесток. А я ещё защищал тебя перед Софьей Петровной, когда она возмущалась твоим поступком с мангусом.
— Она так волнуется об этом зверьке, что просто удивительно, почему не возьмёт его из зоопарка себе в дом.
— Что? Ты даже не знаешь! Он прожил в клетке только два дня и умер от тоски.
IX
Через несколько дней он отправил Левитану письмо:
«Исаак! Что сей сон значит? Неожиданный твой отъезд и обидные замечания в мой адрес непосредственно после прочтения «Попрыгуньи», естественно, вызывают предположение, что тебя чем-то обидел рассказ. Я слишком давно знаю тебя, слишком уважаю твой ум и талант, чтобы подумать, будто ты принял «Попрыгунью» за пасквиль на тебя. Неужели мой пошлый Рябовский похож на лучшего художника России?
В рассказе я пытался показать явление, которое захватило некоторую часть нашей интеллигенции и отчасти, возможно, проявляется и во многих наших знакомых. Если же кто-то ищет в моих героях портретного сходства с близкими и друзьями или сам хочет быть похожим на кого-то из персонажей, то автор в этом не виноват.
Забудь свою нелепую беспричинную обиду и приезжай. Пойдём на тягу, но без ружей.
Маша и все Чеховы тебе кланяются.
Твой А. Чехов».
Ответа не последовало.
Лика приехала в конце мая, когда началось настоящее лето. Поднимаясь в свой ранний час, он видел нежно-розовую полоску зари уже на северо-востоке, там, где недавно горело имение Кувшинниковых-однофамильцев, что давало повод к мрачному юмору: сгорели не те. День, как почти все дни мелиховского лета, и начинался и проходил сумбурно. Поднявшись, успел написать всего несколько страниц рассказа о помещике, у которого сбежала сестра к женатому соседу. Так Маша собиралась сбежать от него к миргородскому помещику Смагину. Правда, тот не женат.
Первым помешал Миша. Он, по обыкновению, поднялся ещё раньше него и объехал верхом все двести с лишним десятин имения. Вошёл озабоченный, окутанный мужественными запахами земли, кожи и конского пота. Сказал, что надо обязательно огородить посевы хвойных деревьев, иначе затопчет мужицкий скот; посетовал, что приходится ехать на службу — столько работы дома.
— Только на государственной службе познаете истину, милсдарь. Так учит великий философ. А я напомню, что когда секут берёзовыми вениками, радуйся, что секут не шомполами. Едучи на службу в Серпухов, радуйся, что едешь не в Алексин.
— Но меня заставляют там жить всю неделю.
— Это облегчит нам приём гостей — погода установилась, и теперь нагрянут все. Порошки развесил?
— И порошки развесил, и эмульсию сделал, и мази сварил.
Больных в это утро было не много — деревенские не любят болеть в хорошую погоду, а предсказание приезда многих гостей сбывалось. Первый колокольчик зазвенел ещё до полудня, и приехал тот, кого не только не ждали, но и о чьём существовании вообще было забыто. Мичман Азарьев получил желанное назначение на Дальний Восток и, уезжая к новому месту службы, счёл своим долгом нанести визит и поблагодарить.
Сидели с ним на веранде за кофе в солнечной тишине — почему-то улетели птицы и даже исчезли комары, что, по мнению деревенских, сулило неурожай. Почему-то у них все приметы к неурожаю. Азарьев рассказывал о китайской крепости Порт-Артур, о разваливающемся Корейском государстве, об усиливающейся Японии[46]. Вспомнил о его предсказании захвата Дальнего Востока китайцами.
— Япония заканчивает программу строительства флота, — сказал он, — и готовится захватить территории на материке. По-видимому, начнёт действия против Китая и Кореи. Попытается захватить Порт-Артур. Если планы японцев осуществятся, может случиться и то, о чём вы говорили. Но русский флот и русская армия защитят русский Дальний Восток. — И счастливо улыбнулся, как человек, чьи мечты начинают сбываться и открывается поприще для дела, которое он любит и в котором обязательно должен преуспеть. Так и он сам улыбнётся, когда начнёт наконец работу над главной пьесой.
— Когда я вас слушаю, то забываю то, что видел сам на Дальнем Востоке, — спившихся чиновников, погибающих каторжников, бедствующих переселенцев, вымирающих инородцев, пьяных болтливых поручиков, забываю всё это и верю, что будущее там за нами. Верю, что у нас на Востоке могучее войско, офицеры, похожие на вас, мудрые начальники. Вообще много у вас единомышленников?
— Молодые офицеры настроены по-боевому.
— А высшие чины?
— На флоте есть Макаров[47]. А так — больше царедворцы.
— Но эти царедворцы прежде были молодыми боевыми офицерами. Беда России в том, что, пока мы молоды, пока мы студенты, курсистки и прочие молодые энергичные люди — мы честный и хороший народ. Но стоит только выйти на самостоятельную дорогу и стать взрослыми, как надежда наша на будущее России обращается в дым и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, взяточники-чиновники, ворующие инженеры, лживые литераторы, военные-царедворцы.
Он предложил моряку остаться, но тот спешил, и у ворот его ждал лопасненский извозчик. Они прощались, желая друг другу успехов, когда вновь зазвенел колокольчик и появилась коляска — корзина с цветами: белые шляпки с полями, розовые и голубые платья, модные полосатые накидки. Три дамы, три феи приехали на суд Париса: миниатюрная куколка графиня Мамуна, Наташа Линтварева из Сум, где спит вечным сном несчастный Коля, и Лика.
— Яблони ещё только доцветают, милые феи, — говорил он, помогая выйти из экипажа. — Только осенью вы узнаете, кто из вас победительница, когда я вручу ей самое кислое яблоко.
— Мы давно всё о вас знаем, Антон Павлович, — засмеялась Мамуна. — Победительница уже в ваших руках. Не уроните её.
— Клара, не говори под руку, а то он с удовольствием бросит меня в грязь. — В голосе Лики появилась новая нервная звонкость.
— Однако вы, канталупка, опять поправляетесь.
— На меня так действуют неприятности, доставляемые близкими друзьями.
Почему-то с Ликой всегда было не так. Ждёшь её — приезжает не одна, а с кем-то; мечтаешь сблизиться — вспыхивает ссора; пытаешься быть ласковым — происходит обмен колкостями. Но если он и хотел, чтобы с кем-то было так, то лишь с ней одной. Глядя на неё, думалось, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой-то широкий, изумительный замысел.
Он ввёл дам на веранду, затем в гостиную, и Наташа Линтварева остановилась перед картинами.
— Колины, — сказала она, вздохнув. — Я их помню. И он живёт в этом доме.
— Эту он назвал «Дама в голубом», — объяснил хозяин. — Она не совсем закончена. А эта — «Бедность».
— Конечно, «Бедность» написана раньше, — сказала Мамуна.
— Вы считаете, что «Дама» написана лучше?
— Лучше написаны обе. Я увидела движение от передвижников к современности.
Вечером в гостиной происходило то, что он представлял, впервые входя в этот дом: Лика в розовом платье стояла у рояля, сцепив руки на груди, словно умеряя, сдерживая рвущиеся из её души звуки, и голос её легко заполнял комнату, дом, весь мир. Она пела: «Ах, зачем я люблю тебя, светлая ночь...», и за стёклами веранды, в саду, наступала эта ночь, а ему назойливо вспоминалась такая же богимовская ночь в зале с колоннами, когда он мечтал о ней, представляя её рядом.
Аккомпанировала Маша, в креслах сидели родители и гости, на стульях — горничные, на диване происходил оживлённый немой разговор Мамуны с Мишей, почувствовавшим, что ему необходимо быть здесь, и вернувшимся с полдороги.
Лика и Наташа дуэтом пели «Ночи безумные». Он должен был срочно написать Суворину, собиравшемуся приехать. Лике давно было обещано, что Суворин не узнает о её существовании, либералка Линтварева ненавидела издателя «Нового времени», о чём тот хорошо знал. Если написать, что Наталья здесь, он не приедет.
Маша сделала перерыв, поднялась из-за инструмента и распахнула дверь на веранду, впуская влажную свежесть ночи.
— Тише! — крикнул Миша. — Соловей!
Все умолкли и услышали гулкое, как бы отдающее эхом щёлканье, затем артистические трели, затем вновь щёлканье.
— Он хочет доказать, что поёт лучше вас, Лидия Стахиевна.
— Антон Павлович всегда радует меня комплиментами. Маша, не закрывай дверь. Давай исполним «День ли царит». Пусть этот ночной разбойник нас услышит.
Этот романс особенно действовал на него. Душа освобождалась от пустых обид и разочарований, и казалось, что понял наконец простой и великий смысл жизни, и верилось, что можно быть счастливым на этой земле. На лице Лики возникло выражение отрешённой радости, с каким поют в церковном хоре девушки, и хотелось всегда видеть такое её лицо и слушать её голос. И никогда не вспоминать о том, о чём вспоминать не надо.
Маша брала последние бурные аккорды, Лика, запрокинув голову — кудри упали ниже пояса, — невыносимо долго и печально держала последнюю высокую ноту:
— «Всё! Всё! Всё о тебе-е!..»
Последний аккорд, и в ответ ударила соловьиная трель, исполненная с насмешливым превосходством гения над талантом. Аплодировали обоим.
Вышли с ней в прохладную ночь, и он надолго закашлялся, то ли от ночной сырости, то ли предвидя неприятный разговор.
— Я начала курить, — сказала Лика. — Хочу тоже кашлять. Может быть, это сделает меня ближе к вам.
— Ку... курите, — сказал он, задыхаясь в кашле.
— Нет. С вами я не буду. Конечно, смешно надеяться, но вдруг вы захотите меня поцеловать.
— Скорее я захочу вас ещё раз высечь, — ответил он, откашлявшись, — если вы не бросите курить. И теперь подниму юбку.
Они вошли в липовую аллею. В другом её конце различались две фигуры: маленькая светлая прильнула к высокой тёмной.
— Это Миша и Мамуна. Не будем, Лика, им мешать. Вы не замёрзли?
— С вами замёрзнешь и в Африке, но меня согревает злость. Зачем вы это сделали?
— Если не замёрзли, давайте сядем. Эта скамейка очень прочная — мы предполагали, что здесь будет отдыхать одна знакомая переводчица с немецкого.
— На этот раз вы не отделаетесь идиотскими шуточками, тем более что они меня больше не трогают. Зачем вы это сделали?
Её большие глаза бледно светились в ночи. Когда-то она задавала ему подобное «зачем», пытаясь понять мужчину, уезжающего на Сахалин от юной чистой девушки, влюблённой в него. Тогда в её голосе звучали слеза и стыдливая просьба. Теперь — знающее себе цену извечное превосходство женской природной мудрости над мужской тщеславной суетностью и усталое сочувствие матери-природы к одному из беспокойных заблудших сыновей, пытающемуся её перехитрить.
— Зачем, Антон Павлович? И ещё письмо Левитану написали. Вы ведь знаете, писать ему всё равно что писать Софье Петровне, а она вам этого никогда не простит.
— Чего «этого»?
— Будто не понимаете.
— Мне говорили, что она увидела себя в «Попрыгунье». Обычная психопатия пожилой дамы. Ей же больше сорока, но очень хочется быть молодой. Вот она и представила себя моей героиней, которой двадцать.
— Двадцать два, как мне, — поправила Лика. — А Дымову — тридцать один, как одному моему знакомому беллетристу.
— Он уже успел на год постареть.
— По-моему, он постарел на сто лет.
— Любовь читателей и особенно читательниц весьма этому способствует. Они очень тонко замечают, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых. Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрёка в покушении на оскорбление личности.
Совсем близко, чуть ли не над их головами, вновь защёлкал соловей так громко и гулко, словно хотел о чём-то предупредить или что-то напомнить. Наверное, Лике напомнил, что она должна делать.
— Пойдёмте, — сказала она, понизив голос, будто намекая на нечто интимное, и взяла его за руки.
Её ладони были тёплые и мягкие, как у очень близкого человека. Обычно он сам вёл женщин к любви, увлекал, уговаривал, успокаивал, а Лика теперь неприятно раздражала своим уверенным превосходством взрослого над расшалившимся подростком: поиграли, мол, и хватит. Как всякая молодая красивая женщина, она сознавала свою власть над мужчиной, которому нужна, и, как всякая женщина, ошибалась, не понимая, что власть эта эфемерна и кончается после первых любовных ласк.
— Боюсь проницательных читательниц.
— Вы блестяще высказались о них. То есть о нас. Кажется, в доме уже спят. А на веранде свечи.
— Вы считаете, что это моё высказывание?
— Не знаю. Услышала от вас. И Миши с Мамуной не видно.
— Там же он ещё написал, что читатели обычно не читают предисловий. Читайте предисловия, Мелита.
— Антон Павлович, почему вы всегда всё портите? Вместо того, чтобы... Начинаете издеваться или поучать.
На веранде, в свете свечей, показавшемся ярким после темноты сада, всё переменилось — исчезла тайна ночи, он увидел усталое обиженное лицо Лики и сказал:
— Меня удивило, что вы не читали предисловие к «Герою нашего времени».
— Ах, вот кто автор! Это он оправдывался перед Мартыновым, как вы теперь перед Левитаном. Вы же, кроме предисловий, наверное, читаете ещё и «Новое время» и, конечно, не пропустили статью Висковатого к прошлогоднему юбилею. Помните?
Он читал эту статью за богимовским широким подоконником, а рядом с газетой лежало письмо Левитана, где тот упоминал о неких любовных подвигах. Висковатов излагал версию о том, что тайной причиной дуэли была месть Мартынова за сестру Наталью, которую поэт скомпрометировал, как Печорин княжну Мэри. Будто бы и «Тамань» — образец прекрасной русской прозы — Лермонтов написал, чтобы убедить Мартынова в истинности пропажи багажа с письмами его родных к нему, в то время как сам вскрыл и прочитал эти письма, проникнув в семейные секреты Мартыновых.
— Вы мне льстите, канталупка, сравнивая с автором великого романа.
— Маша, наверное, меня заждалась — будет рассказывать мне о своём романе со Смагиным. Спокойной ночи, Антон Павлович. Да. Я не хотела вам говорить, но если вы вспомнили Лермонтова, то получайте: Исаак хотел вызвать вас на дуэль. Спокойной ночи. До завтра.
И поспешила уйти, будто опасалась, что он её остановит. Опять всё происходит не так. Может быть, из-за того, что ему весь вечер хотелось курить, но он теперь разрешал себе перед сном лишь одну сигару или хорошую папиросу и почти всегда выдерживал режим. Наконец можно было закурить, и он сидел на веранде, глядя в ночь, пуская дым и представляя невероятные картины дуэли с Левитаном.
Поднялся, по обыкновению, на рассвете и сел за рукопись повести о социалисте. Герой раздумывал о женщине, полюбившей недостойного, и вообще о женской любви:
«...и я, закрыв глаза, думал: какая она великолепная женщина! Как она любит! Даже ненужные вещи собирают теперь по дворам и продают их с благотворительной целью, и битое стекло считается хорошим товаром, но такая драгоценность, такая редкость, как любовь изящной, молодой, неглупой и порядочной женщины, пропадает совершенно даром. Один старинный социолог смотрел на всякую дурную страсть, как на силу, которую при уменье можно направить к добру, а у нас и благородная, красивая страсть зарождается и потом вымирает как бессилие, никуда не направленная, не понятая или опошленная. Почему это?»
Лика спала в комнате Маши, и он знал, что, засыпая, думала о нём. И её любовь пропадает совершенно даром.
На верхушках яблонь вспыхнули блестки, листва покрылась позолотой. Он отложил рукопись, вышел в коридор, тихонько постучал в дверь Машиной комнаты. Лика словно ждала его — дверь приоткрылась, и он увидел её стыдливо-радостную улыбку, растрёпанные кудри, складки белой сорочки, распахнутой на груди... Бледно-розовый сосочек на мгновение врезался в глаза и исчез под шёлком одеяния.
— Я сейчас, — прошептала она.
Шли полем, и их длинные тени колыхались на густой спелой зелени, местами уже прихваченной засушливой блёклостью, перекатывались через лиловые кисти иван-чая, расплывались на метёлках овсяницы.
— Чудесный час, — сказал он. — Солнце пока ещё только радует, а не жжёт.
— А в любви бывает такая пора, когда она только радует, а не жжёт?
— У нас с вами эта пора наступает.
— Ночью я подходила к двери вашего кабинета, но...
— Я понимаю: вы не хотели меня напугать, чтобы мне не пришлось лечиться от заикания.
— Не надо, Антон Павлович. Не начинайте ваши шуточки. Здесь, в вашем доме, нам с вами нельзя. Когда я выходила ночью, Марья, по-моему, просыпалась. У меня есть одна давняя мечта, о которой я даже не хотела вам говорить, но сейчас подумала и решила: это надо сделать. Мы должны вместе поехать на юг. На Кавказ. Вы же знаете, что мой отец работает в управлении железной дороги — через него я достану билеты в разные вагоны. О нашей поездке не будет знать никто. Только ничего не говорите — я знаю, что вы согласны. А теперь поцелуйте меня. И ещё... Вот так... А на Кавказе мы будем щисливы.
Когда, возвращаясь, подходили к дому, он спросил:
— Почему же Исаак не вызвал меня? Или это была истерика?
— Он сказал, что порядочный человек не будет стреляться с другом Суворина. Даже вспомнил какую-то дурацкую присказку — будто весь Петербург её повторяет: «Большой талант у Чехова Антоши — он ловко подаёт Суворину галоши».
X
Решили выехать в начале июля. В письме она сообщила: «Билеты на Кавказ будут, то есть Вам и мне разные, только не думайте, что после того, что мы говорили, Вы непременно должны ехать со мной! Только пока я прошу Вас дома ничего не говорить ни о билетах, ни о моём предложении ехать».
Он понимал, как ненужно, мелко и как обманчиво всё то, что мешает состояться настоящей любви. Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить из высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, успех или неудача в делах, радость или досада для близких, или не нужно рассуждать вовсе. Но кто знает, что такое настоящая любовь? Испытывая влечение к женщине, должен ли ты исходить из высшего, жертвуя успехом в делах и отношениями с другими людьми? А может быть, это у тебя не любовь, а игра самолюбия, тщеславное стремление к обязательному обладанию каждой приглянувшейся женской особью или и того хуже — желание наказать за известный поступок? Может быть, его обескуражила нелепость происшедшего — девушка, предназначенная судьбой, досталась другому?
И от Леночки Шавровой письмо: «Многоуважаемый Антон Павлович, если Вы ещё помните тот разговор за ужином в «Славянском базаре» — разговор о театре Суворина, — то не можете ли сообщить мне, насколько эта идея вероятна...» Хочет на сцену, где ей совсем не место.
И Ольга Кундасова прислала очередную порцию истерических заклинаний: «Мне не по себе, и писать я могу лишь через великую силу. Постараюсь быть у Вас очень скоро, и прошу Вас убедительно быть ко мне если не мягким, это Вам не свойственно, то хоть не требовательным и не грубым. Я стала чувствительна до невозможности. В заключение скажу Вам, что опасаться долгого пребывания такого психопата у себя Вам нет основания».
Построить бы для неё здесь флигель с мезонином. Пусть бы жила там постоянно, а он приглашал бы её по праздникам.
Рассуждая о любви, конечно, надо исходить из высшего, но «Палата № 6» застряла в «Русском обозрении» по причине банкротства журнала, издатель сбежал, редактор ушёл, неизвестно, как истребовать рукопись и кому вернуть пятьсот рублей аванса. Последнее особенно неприятно. После осенне-зимнего подъёма, когда удалось написать и напечатать несколько больших рассказов, он остался с двумя повестями, одна из которых застряла у банкротов, а другую — о «социалисте» — не пропустит цензура. Поэтому самое разумное сейчас — это отправиться в тайное любовное путешествие на Кавказ.
Итальянские окна, к счастью, выходили на запад, и засушливый июнь, выжигающий землю и требующий изнурительных поливов, с утра не тревожил, оставаясь за чёрной полосой тени дома. Даже можно было открыть окно, если бы не петербургские племянники, чьи пронзительные голоса донимали и через окно. Хорошо ещё, что третьего — Михаила Александровича, десяти месяцев отроду, оставили дома с матерью.
Маша пришла, успев наработаться в огороде, усталая, похудевшая, с подобранными в пучок волосами — с такой причёской у неё выделялись большие уши и она становилась похожей на мелиховскую крестьянку. Села, взглянула на бумаги на столе, сказала с тревогой:
— Антон, ты собираешься куда-то уезжать?
Если бы не расстояние от её глаз до письменного стола, можно было подумать, что она прочитала строчки письма Лики о поездке. Или она обладает сверхъестественной способностью проникать в тайные мысли брата?
— Лошадь на станцию послали?
— Миша распорядился.
— Будет неприятно, если опоздают. Павел Матвеевич едет из Москвы десятичасовым. Учти, что он тяжело болен, причём сам даже не знает, насколько тяжело. Постарайся, чтобы за обедом было поменьше острого. И никакого вина. Только водка.
Она сидела, отдыхая, пытливо вглядываясь в его лицо.
— Если ты уедешь...
— Кто тебе сказал, что я собираюсь уезжать?
— Ты же сам как-то обмолвился, что тебя не будет в начале июля.
— Я всё время уезжаю и приезжаю. Теперь придётся съездить на юг. Роман застопорился, и без этой поездки я не смогу его продолжить.
— Если ты уедешь, наш первый урожай погибнет. Овёс и так уже погиб. Не будет ни огурцов, ни свёклы, ничего. Дождей нет уже почти месяц.
— Маша, не поднимай панику. Трезвый Сашечка тебе поможет. Вы с ним организуете полив, работники у нас — дельные мужики. И хватит об этом.
В его низком голосе при необходимости звенели особенные ноты, заставлявшие прекращать возражения и споры.
Конечно, он поедет. Надо быть больным ипохондриком, чтобы отказаться от любви молодой красивой женщины. Ведь и на самом деле роман с ней застопорился, и без поездки он не сможет его продолжить.
XI
Едва войдя в дом, остановившись на веранде перед встречающими, знаменитый актёр Павел Свободин вдруг сморщил пухлое лицо, на глаза его навернулись слёзы и в голосе возникла трагическая дрожь:
— Брат Антон, скажи: человек ты или зверь?
Эта фраза из роли Любима Торцова потрясла присутствующих так же, как потрясала публику театров, где шёл спектакль «Бедность не порок» со Свободиным. Даже племянники были растроганы: старший засмеялся, младший заплакал.
За лёгкой закуской в тени на веранде артист объяснил смысл своего вопроса-восклицания:
— Долго ещё ты, брат Антон, будешь служить в суворинской банде и избегать передовые либеральные журналы, которые читают лучшие люди России? Стань человеком, Антон. Уйди от зверей.
Сидели втроём. Александр, угрюмый, как все алкоголики, прекращающие пить, мрачно жевал огурец. Свободин выпил рюмку водки, и на его одутловатом синевато-бледном лице выступили пятна румянца.
— Не понимаю тебя, Поль. Ты сам с Алексеем Сергеевичем друг-приятель.
— Старик хорош за столом. Но не за редакционным. Собрал у себя банду и делает вид, что ничего не может с ними поделать. Хитрит. Даже жалуется на них. А сам прекрасно знает, что к чему. Ведь так, Саша? Ты потому и ушёл от него?
— Все до одного подлецы, — мрачно подтвердил Александр.
— Ты сам-то, Антон, читаешь это литературно-лакейское обозрение, как его определил покойный Салтыков-Щедрин? И черпаешь много мудрости. Да? Например, узнал, что в России только два автора талантливо пишут о войне: Лев Толстой и господин Бежецкий. А с какой изящной эрудицией тот же Буренин разобрал роман Боборыкина! Оказывается, в детстве мамка ушибла автору голову. А о том, что некие злоумышленники продают русскую промышленность евреям, можно узнать только в «Новом времени». Читал статью господина Львова? Это всё в последних номерах. Вчера я просматривал у...
Свободин замолчал, не желая называть, кто принимал его накануне, и потянулся к графину. Пришлось его остановить — слишком яркие пятна разливались по щекам, и чёрные мешки набухали под глазами.
— Оставим на обед, Поль. Квасу вот хорошо в такую жару.
— А ты, Саша, кваску?
— Вода лучше.
— Я приехал к вам, Антон Павлович, от одного уважаемого человека, с которым вы когда-то познакомились на Курском вокзале. Вы увозили на юг несчастного Николая. Это было несколько лет назад.
— Это было весной восемьдесят девятого, и познакомился я тогда с Лавровым, с коим с некоторых пор прекратил даже шапочное знакомство.
— Знаю. Он мне говорил и посему назначил меня вестником мира. Пальмовую ветвь я потерял где-то в буфете, а добрую весть привёз в сердце. Вукол Михайлович Лавров и вся редакция «Русской мысли» нижайше просят Антона Павловича Чехова забыть печальное недоразумение и стать автором журнала. Мне приказано без вашего рассказа не возвращаться. Лавров ждёт меня завтра, в крайнем случае послезавтра.
— Послушайте, у меня же ничего нет. Есть незаконченная повесть или, скорее, рассказ. Но это черновик.
XII
Если ехать с ней на Кавказ автором «Русской мысли», то поездка может оказаться более радостной. С «Новым временем» и Сувориным Лика никогда не сможет примириться. Однако даже он при всём своём таланте не в состоянии написать хороший рассказ за два дня. Отправлять Свободина ни с чем нельзя. В любви ничего не надо откладывать. Особенно если это любовь издателя.
Рассказ, конечно, за ночь не написал, но придумал интересный вариант, на который требовалось уговорить Свободина. После завтрака, хмурый и озабоченный, повёл его осматривать имение. Опять стояла безжалостная жара, артист задыхался, лицо покрывалось потом. Утомлять его не следовало.
— Жарко, Поль. Не пойдём на тот участок.
— А Воловьи Лужки чьи?
И как не бывало усталости: взволнованный Ломов из «Предложения» нервно напрягался и на грани истерики доказывал, что ещё его покойный дедушка разрешил запахать эти Лужки, но они всегда принадлежали ему.
— Мои Воловьи Лужки, и Откатай лучше Угадая, — ответил ему в тон.
— Как смеялся император на этом спектакле! Да, я же писал. Я боялся на него взглянуть. И всё его семейство, и великие князья, да и весь театр умирал от хохота. После спектакля Александр поднялся на сцену, благодарил каждого участника и всё расспрашивал об авторе. А ты такой хмурый. В чём дело, Антон?
— Пойдём липовой аллеей — там прохладнее. Я всё думаю о предложении Лаврова. Можно было бы что-то придумать с рассказом, но я не очень доверяю «Русской мысли». Лавров предлагает мне стать автором журнала, причём только на словах, а сам печатает совершенно неприличную рецензию Протопопова на мою «Жену». Читал?
— Рассказ читал — замечательный. О рецензии слышал, но читать не стал. Мне сказали, что Лавров здесь ни при чём.
— В «Новом времени» Суворин ни при чём, в «Русской мысли» — Лавров. Там Буренин, здесь — Протопопов.
— Антон, скажи, кто такой Протопопов? Сегодня он в журнале, завтра его нет, а послезавтра вообще забудут, что он был. И Гольцев его не любит. Он мне говорил, что вы с ним и не порывали.
— С Виктором мы встречались в известном месте на Малой Бронной, а мужчины, встречающиеся у таких женщин, объединены в некий тайный орден.
— Предложение Лавров сделал не на словах, а через меня, Антон. Написать он, разумеется, не мог, не зная, каков будет ответ. Как только я вернусь к нему в Обираловку с рассказом Чехова, он сейчас же напишет.
— Но я не могу рисковать единственным экземпляром рассказа. Тем более черновым.
— Давай организуем переписывание. Или давай я прочитаю, сделаю себе заметки и передам Вуколу.
— Нам ещё надо править и не всё можно разобрать. Черновик есть черновик.
— Тогда прочитай сам.
На это он и рассчитывал.
Никогда не читал свою прозу и не собирался становиться публичным чтецом, но дело того стоило. Конечно, не ради того, чтобы обрадовать подругу по тайному путешествию или заслужить честь стреляться с Левитаном. «Русскую мысль» действительно читают порядочные люди. Читателей «Нового времени» он завоевал, если теперь и читатели главного либерального журнала примут Чехова, то он станет писателем всей России.
XIII
Чтение состоялось в саду под старыми яблонями.
— Это антоновки, — сказал он. — Они меня поддержат, если публика будет плохо принимать.
Публика состояла из артиста Свободина и двух братьев, с коими условились, что они будут слушать молча. Вынесли столик и стулья. На столе, кроме бумаг, стаканы и графины с квасом и водой — Сашечка употреблял только её, утверждая, что и в квасе градус есть. Такая чрезмерность очищения от греха вызывала беспокойство.
— Это называется «Рассказ моего пациента». Впрочем, название, наверное, придётся изменить. Итак, слушайте...
«По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлову...»
Он знал, как надо начинать: сразу с главного события сюжета. Никаких биографий персонажей, никаких зелёных травок и белых облачков. Он знал, что сделал хорошую прозу и не сомневался в оценке Свободина. Артист полюбил его так, что с восторгом встретит любую его вещь. Когда-то удалось сказать ему добрые слова о его игре, и оказалось, что таких слов ему не говорил никто и никогда. Рассказ ему, разумеется, понравится, но прочитать надо так, чтобы он потом сумел передать Левитану главное: впечатление увлечённого читателя. С первых страниц требовалось заявить, что герой не настроен на революционную борьбу и цензурных неприятностей не будет.
«...Не знаю, под влиянием ли болезни или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни...»
Повесть не о социалисте, а о человеческих чувствах. Орлов послал лакея с письмом к своей любовнице, женатой даме.
«...Я разглядел белое лицо, выдающийся вперёд подбородок, длинные тёмные ресницы и большой лоб. На вид я мог дать этой даме не больше двадцати пяти лет...»
Здесь Свободин предложил отдохнуть, освежиться квасом и высказался мягко, но убеждённо:
— Антон, дама-то, наверное, красива, обольстительна, если такой Орлов с ней амурничает. Напиши так, чтобы и мы её полюбили. О женщинах добрее пиши, голубчик. С любовью. «Попрыгунья» у тебя замечательный рассказ, а женщина там осуждена слишком жестоко. Христос Марию Магдалину простил, надо и Чехову быть добрее к женщинам.
Александр дремал с открытыми глазами, но явно оживился, когда в повести заговорил Орлов, излагая свои взгляды:
«...На любовь я прежде всего смотрю как на потребность моего организма, низменную и враждебную моему духу; её нужно удовлетворять с рассуждением или же совсем отказаться от неё, иначе она внесёт в твою жизнь такие же нечистые элементы, как она сама...
В законном и незаконном сожительстве, во всех союзах и сожительствах, хороших и дурных, — одна и та же сущность. Вы, дамы, живете только для одной сущности, вы и берёте её, но с тех пор, как вы начитались повестей, вам стало стыдно брать, и вы мечетесь из стороны в сторону, меняете, очертя голову, мужчин, и, чтобы оправдать эту сумятицу, заговорили о ненормальностях брака...
По её мнению, уйти от папаши и мамаши или от мужа к любимому мужчине — это верх гражданского мужества, а по-моему, это — ребячество. Полюбить, сойтись с мужчиной — это значит начать новую жизнь, а по-моему, это ничего не значит. Любовь к мужчине составляет главную суть её жизни, и, быть может, в этом отношении работает в ней философия бессознательного; изволь-ка убедить её, что любовь есть только простая потребность, как пища и одежда, что мир вовсе не погибает от того, что мужья и жёны плохи, что можно быть развратником, обольстителем и в то же время гениальным и благородным человеком, и с другой стороны — можно отказываться от наслаждений любви и в то же время быть глупым злым животным...»
Тени сада с неприязненной методичностью передвигались вокруг стола, открывая лица и головы солнцу, и приходилось передвигать стулья. Прибегали любопытные таксы, привезённые Александром, их отгоняли; прибегали племянники, за ними приходила горничная; время от времени вдруг начинали кричать гуси, зной легко пробивал кроны яблонь, и чтобы не ослабить внимание слушателей, сохранить проникающую убедительность чтения, приходилось напрягаться, в груди разрастался горячий комок, мешающий дышать. Лакей-социалист тем временем наблюдал развитие отношений между Орловым и переехавшей к нему Зинаидой Фёдоровной. В его усталой душе возникала любовь к милой женщине, ушедшей от мужа и страдающей от холодности и лжи любовника.
Одним из ключевых эпизодов было появление в квартире Орлова его отца — того самого известного государственного человека, которого по заданию товарищей социалист должен был убить. Свободин предложил здесь дописать:
— Я понимаю, Антон, что герой влюбился в женщину, думает о ней, мечтает о счастье и в таком настроении вроде бы не станет убивать старика. Но, по-моему, надо показать, что ему просто по-человечески невозможно ударить по голове старого человека, который с тобой доверительно разговаривает. Напиши, голубчик, так, чтобы каждый понял.
Конечно, беспокоили его те места в тексте, где упоминалось о делах революционных:
— Антон, всё правильно здесь написано, без всяких преувеличений, но цензура самих слов испугается. Не упоминай ты слов «социализм» и «революция».
— Напишу так: «Кроме задач, составляющих сущность моей жизни, есть ещё необъятный внешний мир...» — и так далее.
Вот уже раскрылся обман Орлова, герой признался Зинаиде, кто он, увёз её за границу, она родила дочь и умерла. Он читал, пропуская многое, не вызывающее сомнения, иначе слушатели бы не выдержали. Закончил примерно за два часа. Прозвучали последние слова:
«...Я читал это письмо, а Соня сидела на столе и смотрела на меня внимательно, не мигая, как будто знала, что решается её участь».
И ударил колокол.
Братья знали, в чём дело, а Свободин, конечно, удивился.
— Пушку, Поль, я ещё не завёл, и пока в полдень у меня бьют в колокол. Фрол аккуратный мужик — опоздал всего на три минуты.
XIV
По колоколу садились обедать. На столе и рыба, и икра, и салаты, и каперсы[48], и маслины, и зелёный сыр... Прошли времена семейных салатов, состоящих из картошки, лука и маслин. Хозяин имения писатель Чехов может позволить себе всё, и его стол достоин любого гостя. И артисты, и писатели здесь обедали, и Суворин, и князь Шаховской — сосед по имению. Но всё получено ценой напряжения воли и нервов, подавления многих желаний, отказа от многих радостей. Того, что он получил от природы, недостаточно для успеха. Мало знать, как надо писать, надо ещё и написать и оценить каждую строчку с холодной беспощадностью постороннего специалиста. И главное, надо добиться, чтобы твою работу оценили и приняли люди, понимающие литературу гораздо хуже тебя, а то и вовсе не понимающие, да ещё и не очень тебе приятные. Теперь оказалось, что надо ещё уметь читать свою прозу.
Чтение изнурило и опустошило, в груди ворочалось нечто острое, металлическое, и за обедом он с трудом сдерживал кашель. Помогало представление о купе вагона в поезде, идущем на юг, открытое окно, горячий степной воздух, она рядом... Он больше не станет изводить её шутками. Маша всё ощутимее пыталась проникнуть в его мысли, понять его цели и намерения, и, наверное, иногда ей это удавалось. Вдруг оторвалась от жаркого и спросила:
— Антон, ты читал сегодня газету?
— Просматривал.
— Обратил внимание, что на юге холера?
— Не холера, а разговоры о холере. В такой клоаке, как Баку, всего несколько заболевших. К моей поездке это не имеет никакого отношения.
— За прегрешения наши поразил Господь, — сказал Павел Егорович. — Нынче в здешнем храме на заутрене священник увещевал молящихся избегать соблазнов. Сказал, что по воле Господа явишася две источницы воднии, два источника перед нами — чистый и мутный. Чистый — это праведная жизнь ко благоугождению Господа нашего, мутный же есть водка, искушение бесовское, зелье дьявольское. «Припадайте, — сказал, — к чистому, избегайте же мутного».
— И народ, выслушав его, направился в кабак.
— Давай же и мы, Антон, припадём к мутному, — предложил Свободин, а на одутловатом лице его уже пылали алые круглые пятна.
Александр за столом был мрачно-молчалив, а после обеда, когда самое время дать волю таланту и завалиться на диван, пришёл в кабинет и, не садясь, не глядя в глаза, высказался по поводу «Рассказа моего пациента»:
— Ты, Антон, так же, как и я, получил палогорычевое воспитание, а взялся изобразить дворянина. Никогда дворянин не позволил бы себе мужского предательства, не открыл бы Зинаиде правду об её любовнике. Скорее бы эта пошлая горничная рассказала бы ей всё, чтобы сделать барыне больно.
— Саша! Зачем ты писал «Историю пожарного дела»? Зачем редактируешь пожарный журнал? Тебе надо писать прозу. А сейчас нам надо предаться блаженному отдыху.
— Подожди, Антон. Ещё хочу сказать, что Орлова ты сделал талантливо. Его циничные речи весьма убедительны, а благородные увещевания героя, его пылкое обличительное письмо очень скучны, вялы. Ему не веришь. А знаешь почему? Потому что ты в душе и есть Орлов!
XV
Свободин уезжал на следующий день утром. Подали коляску, запряжённую единственной приличной лошадью. На козлах сидел Фрол в новой красной рубахе. Прощаясь, вновь обговаривали, что Свободин сразу же напишет о намерениях Лаврова, что если наладятся отношения, то «Палату № 6» тоже надо будет передать «Русской мысли». Оставалось обняться на прощанье, но он, как бы вспомнив что-то, сказал:
— Подожди, Поль, я тебе дам ещё письмо в Москву, чтобы ты там его отправил.
И направился в кабинет. Здесь взял бумагу и написал:
«Милая канталупочка, напишите, чтобы впредь до прекращения холеры на Кавказе не хлопотали насчёт билетов. Не хочется сидеть в карантинах.
У нас брат Александр с чадами и Свободин. Я пользуюсь отъездом Свободина и пишу Вам две строчки. Милая Ликуся, вместо того чтоб ныть и тоном гувернантки отчитывать себя и меня за дурное поведение, Вы бы лучше написали мне, как Ваши дела. Ухаживают ли за Вами ржевские драгуны? Я разрешаю Вам эти ухаживания, но с условием, что Вы, дуся, приедете не позже конца июля, иначе будете биты палкой.
Пишите мне побольше, а я буду Вам отвечать. Пишу коротко, ибо спешит Свободин. Ах, как у нас шумно!
Помните, как мы рано утром гуляли по полю?
До свиданья, Ликуся, милая канталупочка.
Весь Ваш
Царь Мидийский».
Передал письмо так, чтобы Маша не увидела адрес на конверте. Попрощались, и коляска тронулась. Они стояли с Машей у дома, она хотела уйти, но он остановил её:
— Подожди. Помахай Полю, посмотри на него, пока не скрылись за воротами. А где Александр? Я его не вижу со вчерашнего дня.
— Пожалуйста, Антон, не возмущайся, отнесись по-доброму. Он вчера выпил и теперь прячется в моей комнате. После обеда пришёл ко мне, жаловался на судьбу, говорил о своих неудачах в литературе и попросил пива. Ну и...
— Я не буду возмущаться, потому что ждал этого.
— А почему ты хотел, чтобы я смотрела вслед Павлу Матвеевичу?
— Потому что, скорее всего, ты больше его не увидишь. Он умрёт месяца через два-три.
— Боже. Он совсем не стар.
— Старше меня всего на десять лет. А как ты думаешь, я проживу ещё десять лет?
XVI
Через несколько дней зашелестели под ветром берёзы, загудела крыша и полил долгожданный, звонкий, дымящийся дождь. Промокший Миша привёз со станции почту. На письменный стол возле итальянских окон, испятнанных и посеребрённых назойливыми каплями, легли три письма.
От Лаврова:
«Многоуважаемый Антон Павлович!
Наш общий друг Павел Матвеевич Свободин говорил мне о Вашем намерении дать в «Русскую мысль» свой рассказ. Конечно, Ваше произведение найдёт самый радушный приём на страницах «Русской мысли» и, кроме того, раз навсегда покончит печальное недоразумение, возникшее между нами года два тому назад. Тогда, по горячим следам, я собирался отвечать на Ваше письмо, хотел было уверить Вас, что у меня, да и вообще у всех нас, не было ни малейшего намерения проявить своё недоброжелательство к Вам как к писателю и человеку, что редактируемый мною журнал всегда с величайшим сочувствием следил за Вашею литературною деятельностью и если отмечал в ней какие-нибудь недостатки, то руководствуясь лишь крайним своим разумением, — но, к сожалению, не успел этого сделать: Вы уже уехали за границу.
Теперь, пользуясь представившимся мне случаем, я спешу и считаю за особое удовольствие, как горячий поклонник Вашего таланта, сказать то, что помешали мне сказать не зависящие от меня обстоятельства, и попросить Вас верить искренности моего уважения к Вам.
В. Лавров».
От Свободина:
«...Ну, разумеется, «вся редакция» в восторге, кланяются и благодарят. Вы получите письмо, которое послужит Вам документальным доказательством, что никто Вас кушать не хотел и все желают Вам здравия и долголетия. Смотрите же, милый друг, теперь меня не поставьте в дурное положение и на распростёртые объятья не отвечайте чем-нибудь недоброкачественным, — проще сказать, если допишете рассказ, то уж непременно отдайте в «Русскую мысль». Всем очень понравилось переданное мной вкратце содержание. Гольцеву, — который Вам кланяется, — особенно. Цензурных преград надеются избежать и просто думают, что их не будет.
Ваш Поль Матиас».
От неё:
«Вечно отговорки! Пишу мало, потому что Свободин торопится, или потому что холодно, или ещё что-нибудь. Кажется, не было случая, чтобы что-нибудь не мешало Вам написать мне приличное письмо!
О том, чтобы билетов не доставали, я уже написала, и Вы можете не беспокоиться. Насчёт того, ухаживают ли здесь за мной? Конечно! Всегда и везде! На этот счёт я всегда счастлива одинаково. С офицерами ещё не знакома, но надеюсь, что познакомлюсь. Здесь есть городской судья барон Штакельберг, он из немцев и плохо говорит по-русски. Вместо с — s выходит так смешно, что со всем моим желанием увлечься им и его титулом — не могу. Ездим часто во Ржев, там теперь служит один мой кузен — бывшая моя любовь.
В тот день, когда я писала Вам, было холодно, шёл дождь, устала с дороги и вот, вероятно, почему написала многое ненужное. Собственно говоря, я ни за что не желаю отчитывать ни себя, ни Вас и ни о чём не жалею. Вы пишете, помню ли я, как мы гуляли? — Я-то помню, вот Вы как?
Пишите, голубчик, побольше, право, это ни к чему не обяжет Вас, а мне так приятно получать письмо от Вас.
Ваша Лика».
XVII
Если бы он писал роман, где действующими лицами являлись бы он и Лика, то роман логично закончился бы событиями прошлого лета в Богимове и Покровском. В крайнем случае можно было бы растянуть до эпизода отказа героя от путешествия на юг. Дальнейшее повествование о разговорах и письмах было бы уже не романом, а занудством хуже боборыкинского. Но персонажи романа поступают по законам художественной литературы, а живые люди действуют в соответствии со своими желаниями и намерениями, если и подчиняются каким-то законам, то законы эти никто не знает. Конечно, хорошо бы если не других, то хотя бы себя понять, но рефлексия — опасная штука. Всё просто. Милая женщина хочет стать твоей, а ты занят весьма серьёзным делом, которое может повлиять на ход твоей жизни. Тогда отложи свидание, но не порывай с ней.
Он и с Астрономкой не порывал отношений, и с Дришкой-Долли, и даже с солидной Каратыгиной, которая недавно просила у него сто пятьдесят рублей. Так надо и с Ликой. И он вновь писал ей в привычном стиле:
«Благородная, порядочная Лика! Как только Вы написали мне, что мои письма ни к чему меня не обязывают, я легко вздохнул, и вот пишу Вам теперь длинное письмо без страха, что какая-нибудь тётушка, увидев эти строки, женит меня на таком чудовище, как Вы...
У нас всё тихо, смирно и согласно, если не считать шума, который производят дети моего старшего братца. Но писать всё-таки трудно. Нельзя сосредоточиться. Для того чтобы думать и сочинять, приходится уходить на огород и полоть там бедную травку, которая никому не мешает. У меня сенсационная новость: «Русская мысль» в лице Лаврова прислала мне письмо, полное деликатных чувств и уверений. Я растрогался, и если б не моя подлая привычка не отвечать на письма, то я ответил бы, что недоразумение, бывшее у нас года два назад, считаю поконченным. Во всяком случае ту либеральную повесть, которую начал при Вас, дитя моё, я посылаю в «Русскую мысль». Вот она какая история!
Снится ли Вам Левитан с чёрными глазами, полными африканской страсти? Продолжаете ли Вы получать письма от Вашей семидесятилетней соперницы и лицемерно отвечать ей? В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею...»
То, что происходило между ними, становилось всё более не похожим на его отношения с другими женщинами, и он уже переставал понимать, приносит ему Лика радость или только боль и раздражение. На рассвете, в часы бодрости и оптимизма, когда даже главы «Сахалина» шли быстро и легко, хотелось видеть её здесь, рядом. И вечерами рояль вдруг обращал к нему чёрное безглазое лицо, жалобно гудел о том, что скучает без неё, без тонких переливов её голоса. Но затем откуда-нибудь выпрыгивала «Попрыгунья», Левитан вызывал на дуэль, Сашечка Ленский с театральным гневом обрушивал проклятья, будто бы узнав себя в рассказе: «Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать...» Тогда требовалось делать усилия, чтобы стыд и боль оставались внутри, в сердце, в груди, разрываемой кашлем, и ни один человек, даже самый близкий, не заметил и следа его душевных страданий.
Об Ольге Кундасовой или о Леночке он вспоминал с улыбкой сочувственной, но слегка иронической. Думая о Лике, то мучился, как подросток, униженный опытной девицей, то вдруг вспоминал взгляд её больших глаз, проникнутый обидой на его шутки, и чувствовал себя так, словно ни за что обидел милого ребёнка.
Самые тяжкие свои мысли и переживания нельзя доверить никому — одиночество его удел. Маша — родная душа — тоже подолгу задумывалась о своём трудном и тоже не могла открыто до конца высказаться, хотя и пыталась: её проблемы известны всей семье. Повела его днём показывать огород. Овощи регулярно поливались, а теперь, после дождей, всё пошло в бурный рост. Самую солнечную часть огорода он назвал «Юг Франции» — здесь росли овощи, казавшиеся диковинными мелиховским крестьянам. Выше метра успели вытянуться артишоки с длинными резными листиками и с бурой завязью соцветий на верхушках; развесили мохнатые слоновые уши баклажаны с кривыми зелёными стручочками завязавшихся плодов; на кустах помидоров поникали под солнцем золотистые соцветия и уже обещающе светлели верхушки увесистых зелёных плодов. Маша радовалась обильным завязям «синеньких», но вдруг замолчала, задумалась и сквозь свои грядки стала смотреть в пространство. Наверное, увидела поля Полтавщины, где баклажаны уже фиолетово темнеют и подсолнухи высовывают головы из огородной зелени, передразнивая солнце.
— Надо, чтобы каждый плод освещался солнцем, а не прятался под листья, — сказал он сестре.
— Что ж теперь — листья рвать?
— Не надо рвать листья. Подвязать, подпорочку поставить, некоторые веточки осторожно отогнуть...
— Здесь у нас спаржа, но что-то плохо растёт.
— Не так уж и плохо. На этом уже можно резать побеги. И на этом.
Представился рассказ о человеке, всю жизнь мечтавшем стать помещиком и выращивать там... например, любимые артишоки. Старый, смертельно больной, будет он есть свои любимые овощи, приговаривая: «Как вкусно...»
Потом пошли к деревьям, и он объяснял Маше, где посадит осенью новые яблони, вишни и кусты сирени.
— Здесь будет так хорошо, — сказала она, печально вздохнув.
— А вместо тех полузасохших тополей я мечтаю посадить берлинские тополя.
Маша, очнувшись от навязчивых раздумий, оживилась, встряхнулась, словно приняв наконец решение, и сказала без всякой печали, с уверенностью человека, знающего, что он будет делать завтра, послезавтра и через год:
— Пойдём к цветнику. Я там кое-что придумала.
Уже не в первый раз он наблюдал эти её молчаливые решения, но вскоре вновь начинались тяжёлые думы. Пора бы решить окончательно, и он спросил:
— Какие новости из Миргорода? Лужа ещё не высохла? Что по этому поводу пишет Александр Иванович?
— Знаешь, Антон, я, наверное, не выйду за него.
— Почему?
— Он прекрасный человек, настоящий мужчина, но я не могу представить его своим мужем. Может быть, его характер мне нс подходит. Не знаю. Наверное, не выйду.
Когда женщина не хочет назвать истинную причину разрыва с мужчиной, она обычно ссылается на его характер.
Маша показала, где она хочет посадить астры и куда пересадить лафатеру. Затем она осталась в саду, а он направился в дом. Остановился на веранде перед зеркалом и увидел перед собой плохо выбритого, хитрого мужичка в пенсне.
— Хитрите вы, милсдарь, как и ваша сестра, — сказал он ему, то есть себе. — Не такие у вас дела, чтобы нельзя было съездить на недельку на юг с милой женщиной. Испугались, как бы чего не вышло. Подколесин вы, милсдарь, а не Чехов.
— Антон, к тебе пришли! — крикнула Маша.
У крыльца стоял тощий сгорбленный старик с наивной улыбкой на лице. Выцветшая поддёвка, старые рыжие сапоги, покрытые пылью, в руке палка, под мышкой — истрёпанный парусиновый портфель.
— Ты кто?
— Цоцкай.
— Сотский, что ли?
— Так точно, ваше высокоблагородие. Бавыкинской то есть волости. Бумаги вот, значит, для вас.
— Для меня? Зачем мне, братец, бумаги из волости?
— Так на то они и бумаги, чтобы получить и читать.
— Давай сядем, разберёмся.
Сели за столик, где недавно читали повесть, а теперь пришлось читать казённую бумагу:
«Доктору Антону Павловичу Чехову.
Ввиду того, что уездным земством предпринимается ряд мер с целию предупреждения появления холеры, я считаю себя обязанным обратиться к Вам с запросом, не согласитесь ли Вы принять участие и оказать помощь нам в борьбе против появления эпидемии. В случае, если на Ваше любезное содействие можно рассчитывать, не откажитесь уведомить меня сегодня же.
Земский начальник 3 участка Серпуховского уезда».
— Придётся, брат, лечить. А что, болеют в наших местах?
— Больше от водки, барин.
— А холерой?
— Вроде не слыхать.
— Скажи, дед, сколько лет ходишь ты сотским?
— Да уж лет тридцать. После воли через пять лет стал ходить, вот и считай. С того время каждый день хожу. У людей праздник, а я всё хожу. На дворе Святая, в церквах звон, Христос воскресе, а я с сумкой. В казначейство, на почту, к становому на квартиру, к земскому, к податному, в управу, к господам, к мужикам, ко всем православным христианам. Ношу пакеты, повестки, окладные листы, письма, бланки разные, ведомости, и, значит, господин хороший, ваше высокоблагородие, нынче такие бланки пошли, чтобы цыфри записывать, — жёлтые, белые, красные, — и всякий барин, или батька, или богатый мужик беспременно записать должен раз десять в год, сколько посеял, сколько убрал, сколько пудов ржи, овса, сена и какая, значит, погода и разные там насекомые...
— Сколько ж ты получаешь жалованья?
— Восемьдесят четыре рубля в год.
— А другие доходишки есть?
— Какие наши доходишки! Нынешние господа на чай дают редко. Нынче строгие господа, обижаются. Ты ему бумагу принёс — обижаются, шапку перед ним снял — обижаются. Ты, говорит, не с того крыльца зашёл, ты, говорит, пьяница, от тебя луком воняет, болван, говорит, сукин сын. Случается, какая барыня вышлет стаканчик водочки и кусок пирога, ну, выпьешь за её здоровье. А больше мужики подают; мужики — те душевней, Бога боятся, в правду верят; кто хлебца, кто щец даст похлебать, кто и поднесёт. Я тоже жил хорошо. У меня, ваше высокоблагородие, были две лошади, три коровы, овец штук двадцать держал, а пришло время, с одной сумочкой остался, да и та не моя, а казённая. Нынче вот портфель дали. На верёвочку привязываю, да порвалась вот верёвочка.
— Отчего же ты обеднял?
— Сыны мои водку пьют шибко. Так пьют, так пьют, что сказать нельзя, не поверишь. А ты, барин, из Москвы к нам? Правду говорят, что поперёк всей Москвы канат протянут?
— Не видал, братец, такого.
— А ещё сторож в управе сказывал, будто зимой в Москве мороз был в двести градусов. Две тыщи людей помёрзло будто.
— Не было такого.
— Врут, значит?
— Не врут, а сочиняют. Скучно жить на свете — вот и придумывают разные интересные истории, чтобы стало немножко веселее. И я, брат, сочиняю.
XVIII
В Щеглятьеве, где развернули противохолерный пункт, к нему пришёл местный школьный учитель, собиравшийся подписаться на следующий, 1893 год на «Новое время». Ждал, конечно, одобрения — читал же в «Литературном приложении» и «Гусева», и «Дуэль», и «Бабы», и ещё многие рассказы.
Если бы он писал повесть, где между двумя персонажами существовали бы такие отношения, какие сложились у него с Сувориным, то после письма Лаврова эти персонажи должны были бы разойтись. А в непонятной жизни он не только прочитал подготовленное к печати графоманское творение покровителя «Конец века. Любовь», выросшее из рассказа, понравившегося Репину, но ещё и написал автору нечто похожее на похвалу. Кажется, никогда в жизни ещё не сочинял таких огромных и хитрых писем.
Начал: «Честное слово, Ваша повесть мне чрезвычайно понравилась», причём «Честное слово» подчеркнул. Умеющий читать да прочитает. В самом начале там есть чиновничий анекдотик: начальник заявляет, что смотрит на Россию с высот Кремля, и о нём говорят, что поэтому он не видит ничего дальше Замоскворечья. Если Суворин сам это придумал, то можно отметить некоторый талант, с которым вполне можно печататься у Лейкина в разделе «Смесь». Вообще же такую прозу читать не надо.
Есть в повести девица, поблекшая и потухшая после совокупления; жуткая галлюцинация, перешедшая из исходного рассказа; философские рассуждения автора об учении Толстого, о превосходстве христианского Нового Завета над иудейским Ветхим...
По поводу поблекшей девицы написал ему: «Я теперь поверю Савиной, которая говорила кому-то, что Вы знаете женщин. Быть может, Вы вовсе не знаете женщин, но обладаете тонкой способностью угадывания, или же даром вымысла, что собственно и есть настоящий талант». И о жутком эпизоде: «Галлюцинация Мурина сделана отменно. Жаль только, что Варя стукнула его по голове подсвечником». По поводу мудрых мыслей о Толстом написал, что эту тираду безусловно надо исключить. И обо всей повести высказался: похожа на живописную дорогу, которая в двадцати местах прерывается туннелями.
Проще бы написать одно нехорошее слово, но он этого никогда не сделает, и совсем не потому, что суворинское издательство выпускает его книги. Случилось так, что он получил от природы дар понимания литературы, которого нет у других. Он один знает, какой должна быть русская проза, он умеет писать такую прозу. «Степь», «Скучная история», «Гусев», «Дуэль», «Попрыгунья» — это не стыдно показать там, где уже приняли и утвердили Гоголя и Тургенева. Другие не понимают, не знают, не умеют. Его долг помогать им, делиться тем, что он получил от природы, научить хоть немногому, чтобы внесли они и свою каплю в океан русской литературы.
Учитель, молодой, узкоплечий, деликатный, пришёл к нему на медицинский пункт, чтобы получить от доктора Чехова медицинскую помощь, но он сделал вид, что не понял, зачем пришёл молодой человек, и сказал ему:
— Садитесь, и давайте принимать больных.
Как сговорились, одна за другой шли старушки, у которых главной болезнью была старость, а самым сильнодействующим лекарством доброе слово, и учитель только смотрел и записывал посетителей в журнал. Потом беседовали, и возник вопрос о «Новом времени». Спросил его, на что ещё собирается подписаться. Тот назвал «Ниву» и «Живописное обозрение». Получает двадцать пять рублей в месяц и хочет потратить деньги так бездарно.
— «Живописное обозрение» не журнал, а лубок. Рекомендую вам выписать газету «Русские ведомости». Газета серьёзная: её сотрудники — профессора. Там, между прочим, печатаются статьи немецкого социалиста Бебеля. И выпишите журнал «Русская мысль». Я вам сделаю подписку со скидкой: вместо двенадцати рублей в год всего за восемь. И на «Русские ведомости» подпишу вас со скидкой.
Благодарил, мялся, стеснялся, но всё же попросил:
— Антон Павлович, я хотел бы, чтобы вы меня осмотрели. Была сильная простуда, катар, потом болели лёгкие, и с тех пор плохо себя чувствую. Плохо сплю, как-то тяжело в груди.
— Не буду я вас осматривать и выписывать рецепты. Болезнь, на которую вы жалуетесь, пройдёт сама по себе, когда доживёте до тридцати лет. У вас плечи станут шире и грудь выше. А пока побольше гуляйте, побольше кушайте украинского сала и кислого молока. Приходите ко мне в Мелихово — мамаша даст вам рецепт, как надо правильно готовить кислое молоко.
Учитель был несколько обескуражен, но и обрадован.
— Вы и писатель, и так хорошо понимаете человеческий организм, и медицину знаете.
— Медицина для меня законная жена, а литература — любовница. Слава Богу, в наших местах ещё холеры нет, но на соседнем участке зарегистрированы случаи. Если у нас объявится, я знаю, как её встретить. Лучшим сейчас считают метод Кантани, и я его тоже буду использовать, но не просто — я его усовершенствовал и горжусь этим больше, чем любым своим рассказом.
— Но вы же сейчас пишете? В «Русской мысли» будут ваши рассказы?
— Пойдёт повесть. Может быть, две повести. Но и кроме меня там печатаются очень хорошие авторы: Михайловский, Короленко.
— А Потапенко?
— М-да... И Потапенко.
XIX
Возвращался в Мелихово в собственном экипаже, приобретённом по случаю за семьдесят рублей. Вполне современный экипаж — с откидным верхом. Сейчас верх, конечно, откинут — молодое бабье лето в такой щемящей красоте, что хотелось кому-то сказать, как всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своём человеческом достоинстве. Он, писатель и врач, понимающий и литературу и медицину, не жалеющий сил и времени на борьбу с холерой не только из чувства долга, но и с радостью мастера, умело выполняющего трудную работу, и вдруг такая постыдная мальчишеская обида при упоминании Потапенко.
В «Русской мысли», где пока Чехова не печатают, но зато помещают вторую за год кислую протопоповскую рецензию на его вещи, у Потапенко идёт огромный роман с продолжением под названием «Любовь». У того «Конец века. Любовь», у этого — просто «Любовь». Как если бы вот этот вонючий ручей, куда сливают отходы угрюмовской кожевенной фабрики, назвали Волгой.
— Надо бы, Антон Павлович, кругом ездить, — сказал Фрол, — покуда этот мостик не завалился. Да и несёт отсюда, не дай Господи.
— Поехал бы кругом, — согласился он. — А запах... Сапоги кожаные носишь — вот и нюхай.
— Из ихней кожи сапоги не сошьёшь — уж не знаю, кто у них берёт такой негожий товар.
Он пытался читать роман Потапенко, но споткнулся и упал на фразах, где «она была в радужном настроении», а он — «в волнении, охватившем его с непобедимой силой». Непонятно, почему так пишет образованный человек, по-видимому читавший и Толстого, и Тургенева, и, конечно, прозу Пушкина и Лермонтова. Непонятно, почему это печатают в лучшем русском журнале, почему читают, хвалят и производят автора в знаменитости. Да что Потапенко — Володя Шуф, ялтинский стихотворец, напечатал в либеральнейшем «Вестнике Европы» ту самую поэму, которую не смогли дослушать до конца он и его «апостолы».
Непонятно, почему графиня Орлова-Давыдова встретила его с холодным высокомерием, оглядывала с ног до головы, словно он пришёл к ней наниматься в работники, и не хотела понять, что надо построить барак для своих рабочих и содержать его по всем правилам гигиены. Даже позволила себе выразиться оскорбительно:
— Если вы нуждаетесь в средствах для своих пунктов или ещё для чего-то, то скажите, какую сумму вы просите. Мы с братом уже выделили пятьсот рублей через своего доктора.
Брезгливая гримаса на лице, в ушах — огромные бриллианты, по-видимому весящие значительно больше, чем её аристократический мозг. Пришлось сделаться таким же напыщенным и холодным и сказать:
— У меня достаточно собственных средств для моей работы.
А у самого — только надежды на гонорар за повести, которые ещё не опубликованы.
И монастырский архимандрит удивил, отказавшись дать помещение для больных, которые могут появиться в монастыре. Спросил его, что он будет делать с теми, кто заболеет в монастырской гостинице, и в ответ услышал:
— Они люди состоятельные и сами заплатят.
И здесь не сдержался, вспылил и опять солгал:
— Мне не нужны ваши деньги — я достаточно богат. Речь идёт о защите вашего монастыря от холеры.
«Много, милсдарь, непонятного в этом мире». Угрюмовская фабрика отравляет округу, а в семье фабриканта — душевнобольная женщина сидит на цепи. Её так держат не потому, что буйная, а чтобы не выходила на улицу — там она срамит семью своими нелепыми россказнями. В другом большом селе — Крюкове — ситценабивная фабрика, а её хозяин — хронический алкоголик. Приезжая в Мелихово, просил помочь: «Пью водку и никакие могу уняться. Скажите, что делать». Сотни рабочих по двенадцать часов в сутки трудятся в невыносимых условиях, делают ситец, плохую кожу, живут впроголодь и лишь в кабаке находят призрачную радость.
Много непонятного на этом свете, но для него, наверное, самое непонятное — отношения с Ликой. Роман так и не состоялся, и пора бы перестать думать о ней как о женщине, предназначенной судьбой для него. Пусть приезжает к сестре, он будет с ней любезен, как со старой знакомой, но... Почему-то каждая встреча с ней похожа на неудачное любовное свидание, и потом он долго не может избавиться от неприятного чувства, возникающего, когда что-то сделаешь совсем не так, как было задумано.
Написала ему: «А как бы я хотела, если бы могла, затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везёт! Для чего это Вы так усиленно желаете напомнить мне о Левитане и о моих якобы «мечтах»? Я ни о ком не думаю, никого не хочу и не надо мне. Я, должно быть, буду типичной старой девой, потому что чувствую в себе задатки этой нетерпимости и злости».
А он в ответ, по обыкновению, шутил: «Напрасно Вы думаете, что будете старой девой. Держу пари, что со временем из Вас выработается злая, крикливая и визгливая баба, которая будет давать деньги под проценты и рвать уши соседским мальчишкам. Несчастный титулярный советник в рыжем халатишке, который будет иметь честь называть Вас своею супругой, то и дело будет красть у Вас настойку и запивать ею горечь семейной жизни. Я часто воображаю, как две почтенные особы — Вы и Сафо — сидите за столиком и дуете настойку, вспоминая прошлое, а в соседней комнате около печки с робким и виноватым видом сидят и играют в шашки Ваш титулярный советник и еврейчик с большой лысиной, фамилии которого я не хочу называть».
Подъезжали к дому. Мелиховская роща дремала в предзакатной тишине, клонилась к земле её тяжёлая спелая зелень, и кое-где уже проглядывали светящиеся золотые кисти.
У неё золотые брови.
XX
В конце сентября пришло письмо от Свободина, в котором он опять выражал беспокойство по поводу дел с «Русской мыслью»:
«Что ж Вы мне ничего не написали о сношениях с «Русской мыслью»? Дописали Вы нигилиста или нет? Я ещё раз прошу Вас, если это не нарушит Ваших видов и дипломатических соображений, напишите Лаврову три слова: пишу, мол, скоро надеюсь прислать или привезу сам. Если Вам нежелательно почему-нибудь написать Лаврову, то напишите подобную же записочку Гольцеву».
Вскоре выпал первый снег, и земля в саду стала пятнистой, как шкура белой пантеры, на пожухлой листве поздних яблонь густо налипли ярко-белые комья, от итальянских окон пополз железистый холодок. В сумерках, когда он зажигал свечи, в тишине дома возникли звуки открываемых дверей, топот ног, отряхиваемых от снега, тревожно-торопливые шаги. Почувствовав, что всё это движется к нему, он сам вышел навстречу. Горничная подала телеграмму:
«Свободин умер сейчас во время представления пьесы Шутники приезжай голубчик Суворин».
На похороны, конечно, ехать не стоило, тем более что холерный участок ещё формально не закрыт. Летом он не поехал к любви, сославшись на холеру, которой ещё не было, осенью не едет к смерти, сославшись на холеру, которой уже нет.
Памяти Свободина он посвятил долгую вечернюю прогулку по пустынному полю, забелённому скудным первым снегом, оставившим рваные чёрные лоскуты голой земли. Наверное, сверху чёрные неправильные пятна и кривые полосы похожи на поверхность луны, и он придумал, что идёт по луне, совершенно одинокий во Вселенной. Сколько бы он ни шёл, куда бы ни направлялся, нигде никогда не встретит ни одного человека. Как и на земле. Здесь его окружают не люди, а плоские тени людей, лишённые душевного объёма, и с ними невозможно человеческое общение, невозможна искренняя мужская дружба и истинная женская любовь. Только ложь, хитрость, лицемерное корыстолюбие, изворотливый карьеризм, потуги тщеславия. Павел был искренним другом — слава Богу, артист, а не литератор, и потому не завидовал. Но сам-то он считал Павла одним из многих приятелей, привязанных к нему благодаря счастливому его таланту нравиться людям. Но смерть делает человека человеком в полном смысле слова, и всё сказанное им остаётся завещанием, истиной, цитатой. Если и существует кто-то кроме тебя на этой земле-луне, то лишь мёртвые.
И мёртвый Павел шёл с ним по черно-белому пустынному полю и напоминал о себе живом. Его широкое пухлое лицо не было приспособлено к обычной мужской унылой серьёзности, и глазки неутомимо рыскали в поисках хоть малейшего повода посмеяться, рассказать анекдот, изобразить Аркашку, которого трагик так швырнул со сцены, что несчастный прошиб головой дверь в женскую уборную, или Добчинского-Бобчинского, доказывающего, что это он сказал: «Э-э...»
Связал его с «Русской мыслью» и умер, словно для того и задержался на земле, чтобы ввести беллетриста Чехова в лучший журнал России. Ещё успел сказать кое-что о его прозе — краткие, не очень ясные замечания, на которые он тогда почти не обратил внимания, а теперь обязан вспомнить их и обдумать. В тот день, когда происходило чтение в саду, говорил, что в рассказах автор не любит женщин, недобр к своим героиням. Тогда показалось читательским пустословием, а ведь прав был Поль. Попрыгунья, Надежда Фёдоровна в «Дуэли», Наталья Гавриловна в «Жене», даже Катя в «Скучной истории» — о них автор явно невысокого мнения. Катя должна была влюбить в себя читателя, как сам он оказался влюблён в такую девушку, не существующую в жизни, но не покидающую его мужского и писательского воображения. Сделал её в финале равнодушной и ленивой. А она самозабвенно любит театр, много страдала, пережив смерть ребёнка и разочарование в любви. Ленива другая — та, что существует в жизни. С первых встреч пытался он приучить её к правильному труду, к работе в библиотеке, к осмысленному чтению, убеждал серьёзно учиться пению, ставить голос, развивать свой талант — всё напрасно. Когда у них что-то возобновилось, воскресло, он опять пытался заботиться о ней — дал интересную работу: сделать новый перевод немецкой пьесы. Сначала взялась, а потом, по обыкновению, остыла, передала работу какой-то немке. Пытался увещевать, но в ответ: «В том, что у меня нет потребности к правильному труду, Вы отчасти правы. Я не могу правильно трудиться над всем, и раз занимаюсь чем-нибудь одним — то этому одному предаюсь с интересом и увлечением, а так как это одно у меня есть, то, конечно, всё другое для меня отступает на задний план». «Одно», что у неё будто бы есть, — это пение, но ведь и пением серьёзно не занимается.
Свободин, конечно, справедливо заметил, что беллетрист Чехов в своих рассказах не очень добр к женщинам, но, может быть, автор в чём-то прав? Да, автор не лжёт и не клевещет, но пишет о женщинах с холодной объективностью. За письменным столом женское сердце возбуждает в нём любопытство патологоанатома, а не волнение художника.
Абсолютно прав Свободин в том, что «Рассказ моего пациента» — плохое название повести. Теперь он её назовёт: «Рассказ неизвестного человека».
Здесь героиня написана тепло, сочувственно. Он вместе с героем возмущался тем, что её любовь не оценена по достоинству, но рядом с Орловым и она проигрывает, потому что Орлов — это он сам, как справедливо заметил А. Чехов-старший. И в «Жене» герой выражает недобрые чувства автора: «Все современные, так называемые интеллигентные женщины, выпущенные из-под надзора семьи, представляют из себя стадо, которое наполовину состоит из любительниц драматического искусства, а наполовину из кокоток». «Жену» он писал той осенью, вернувшись из Богимова, а Лика прочитала летом и как-то сказала: «Не могу догадаться, к какой половине вы меня относите. Неужели к обоим?»
Поздний вечер в доме наполнен строгой тёплой тишиной, так хорошо успокаивающей, когда приходишь с прогулки по луне. Существующие негромкие звуки не нарушают тишину, а вписываются в неё: из комнаты отца слышно монотонное чтение Псалтыри, в кухне грамотей Фрол читает вслух «Капитанскую дочку», старая кухарка всхлипывает, переживая страдания Маши Мироновой.
В кабинете порядок наисовершеннейший. Стол аккуратен и чист. В особенном ящике, запирающемся на ключ, связки писем. Телеграмму — в суворинскую пачку, а от Павла Свободина писем больше не будет. Эту связку можно убрать в дальний угол.
Здесь обнаружились листы с какими-то записями, почему-то не нашедшие места в связках. Оказалось, что писал он сам в Богимове:
«Вчера в селе Богимове любителями сценического искусства дан был спектакль. Это знаменательное событие как нельзя кстати совпало с пребыванием в Кронштадте могущественного флота дружественной нам державы, и, таким образом, молодые артисты невольно способствовали упрочению симпатий и слиянию двух родственных по духу наций.
Спектакль был дан в честь маститого зоолога В. А. Вагнера. Не нам говорить о значении зоологии как науки. Читателям известно, что до сих пор клопы, блохи, комары и мухи — эти бичи человечества и исконные враги цивилизации — истреблялись исключительно только персидским порошком и другими продуктами латинской кухни, теперь же все названные насекомые превосходно дохнут от скуки, которая постоянно исходит из сочинений наших маститых зоологов...»
Там участвовали все три сестры Киселёвы, но пошутить над Верочкой не поднялась рука:
«...Г-жа Киселёва Пая с самого начала овладела вниманием и сочувствием публики, заявив себя артисткою во всех отношениях выдающеюся. Хорошие вокальные средства при несомненном умении прекрасно владеть ими, сценический талант при большой выработке его, громадном знании сцены и сценической опытности делают из неё отличную актрису. Ей горячо аплодировали и после каждого акта подносили венки и букеты, которые публика приобретала за кулисами у гг. исполнителей, озаботившихся преждевременно приготовить предметы, необходимые для их чествования.
В игре г-жи Киселёвой 2-ой, исполнявшей трудную роль, мы не заметили тех недостатков, которые так не нравятся нам в Саре Бернар и Дузе[49]; дебютантка входила в комнату в шляпе и не брала письма, когда ей давали его, и такими, по-видимому, ничтожными нюансами и штрихами она выказала оригинальность своего дарования, какой могла бы позавидовать даже М. Н. Ермолова...»
Конечно, Ермолова играет хуже восьмилетней девочки.
«Из исполнительниц живых картин надо прежде всего отметить г-жу Киселёву 3-ю, сияющее лицо которой всё время заменяло артистам и публике бенгальский огонь».
В мелиховском кабинете на мгновение вспыхнул свет богимовского лета, на письменном столе колыхнулись тени листвы, падавшие на подоконники залы с колоннами. Обернись — и увидишь свой диван, а на его спинке нацарапаны стихи юного поэта М. Чехова:
На этом просторном диване, От тяжких трудов опочив, Валялся здесь Чехов в нирване, Десяток листов исстрочив. Здесь сил набирался писатель, Мотивы и темы искал. О, как же ты счастлив, читатель, Что этот диван увидал!Нервную богимовскую вспышку поглотил глубокий мелиховский сумрак, требующий не воспоминаний о прошлом, а работы для будущего. С «Русской мыслью» пока только переговоры — ни «Палата № 6», ни «Рассказ неизвестного человека» не печатаются, роман о купеческой семье застрял, как лошадь Анна Петровна на осенней дороге в Лопасню. Оглядываться нельзя, но... Но без воспоминаний не пишется хорошая проза — всё придумать невозможно. И о Богимове будет он вспоминать не для того, чтобы вздыхать, а чтобы написать хорошую повесть, где героиней будет девушка, похожая на Верочку. Она будет жить в доме с мезонином и гулять по еловой аллее...
Перечитывал свою шуточную рецензию с меланхолической, так сказать, улыбкой, но ледяной холод, повеявший вдруг оттуда, где пребывал теперь Павел Свободин, вызвал долгий приступ кашля. Появился и сам артист воспоминанием о случайном разговоре здесь, в кабинете, о его словах, тогда как бы не замеченных. Павел посетовал на отсутствие новых чеховских пьес. Ему хотелось что-нибудь весёлое, вроде «Предложения», понравившегося императору. Потом сказал:
— И в рассказах исчез юмор. Вся Россия смеялась, читая Чехова, а теперь Чехов стал очень серьёзным. Хорошие, конечно, рассказы, заставляют нас думать, но где же юмор? Что произошло, Антон?
Только сейчас он понял, что с ним действительно произошло непоправимое. Даже такую немудрёную шуточную рецензию, даже примитивную юмористическую сценку для лейкинского журнала он уже никогда не сможет написать. Его юмор исчез навсегда, остался в зале с колоннами, растворился в августовском тумане в то утро, когда пришла Маша и рассказала...
И опять она пришла — будто бы, проходя по коридору, услышала кашель и обеспокоилась. Постучала, он убрал бумаги со стола, пригласил войти, успокоил:
— Ничего чрезвычайного. Долго гулял, вспоминал Павла, наглотался холода.
Поговорили об умершем, вспоминали его последний приезд, разговоры о «Русской мысли», где обязательно должен печататься Чехов, о театре, который вдруг наскучил Павлу, о том, каким добрым и милым был этот человек. Потом он заметил, что у сестры сегодня странные глаза.
— Чем же странные?
— Словно тебя долго не было здесь, ты приехала и на всё смотришь с интересом.
— Твоя проницательность меня пугает. Иногда хочется от тебя спрятаться. Я на самом деле приехала и больше не уеду. Решила окончательно: замуж не выхожу. Объясню почему. Это просто...
— Не надо, — перебил он.
— Почему? Тебя не интересуют причины?
— Ты опять передумаешь.
— Теперь уже не передумаю — написала ему.
— Всё равно передумаешь. Не объясняй. И вообще — пора спать.
Удалось убедить сестру, что объяснения лучше отложить, удалось избавить от необходимости лгать. Наверное, придумала бы что-нибудь о характере или о своей живописи, будто он не понимает истинную причину отказа от замужества. Сама же заметила его проницательность. Он такой проницательный, что понимает даже себя. Только не всегда хочет понимать.
XXI
Зимой в Петербурге получил письмо от Лики, где она вдруг выразила желание приехать туда, к нему. Осколочек южного солнца, так и не дождавшегося их летом, сверкнул всполошливо в питерском тумане и исчез. Он не хотел, чтобы она приезжала, но не хотел и понимать этого и написал:
«Ликуся, если Вы в самом деле приедете в Петербург, то непременно дайте мне знать. Адрес всё тот же: Мл. Итальянская, 18.
Дела службы, которые Вы ехидно подчёркиваете в Вашем письме, не помешают мне провести с Вами несколько мгновений, если Вы, конечно, подарите мне их. Я уж не смею рассчитывать на час, на два или на целый вечер. У Вас завелась новая компания, новые симпатии, и если Вы уделите старому надоевшему вздыхателю два-три мгновения, то и за это спасибо.
В Петербурге холодно, рестораны отвратительные, но время бежит быстро. Масса знакомых...»
Не приехала: наверное, тоже оказалась проницательной.
Даже пресловутый Буренин оказался проницательным: в коридоре между суворинским кабинетом и библиотекой подошёл с всегда приготовленной для Чехова сложной улыбкой, якобы приветливой, но с ироническим оттенком, будто знает о тебе что-то нехорошее, и начал хвалить «Палату № 6», вышедшую наконец в ноябрьском номере «Русской мысли». Хвалил, конечно, по-своему: говорил, что талантливо, умно, серьёзно, что напрасно критики клевещут на автора, будто в «Палате» он вывел Россию.
— Критиков не люблю и не читаю, за исключением, разумеется, некоего Алексиса Жасминова, весьма живо и сочувственно изобразившего Лескова. Как это там у вас... то есть у Жасминова... Да: «Благолживый Авва, литературный древокол». Во сне бредит убоиной, а наяву, пропустив стаканчик и закусив ветчиною, пишет фельетон для журнала «Опресноки».
— Не Россию вы изображали, а себя. — Буренин мгновенно переходил в состояние кипучей злобы, так он и писал. — Россия живёт весело. Беллетристы роскошный обед закатили в «Малом Ярославце» на семнадцать персон. До одиннадцати веселились, а Чехов отчего-то вдруг растерял свой юмор и стал хмурым и скучным. Отчего бы это? Что произошло с вами, Антон Павлович?
— Денег не хватает, Виктор Петрович. Все говорят, что «Новому времени» за Панамский канал полмиллиона отвалили. Пойду к хозяину просить. Кстати, вы сколько получили?..
Не нашёлся Буренин с ответом — сообщения французских газет о том, что сотрудники «Нового времени» участвовали в расхищении средств, предназначенных для строительства канала, были свежей сенсацией. Суворин даже послал в Париж сына для разбирательства.
— Вам «Русская мысль» поможет. У них еврейских денег много...
Самый любимый их ответ на все вопросы. Этого слушать не надо, и он не слушал — направился в кабинет хозяина.
Тот сидел в обычной позе чтения — спина колесом, борода в бумагах. Всё здесь как всегда: бюст Пушкина, портреты Шекспира, Пушкина, Тургенева и Толстого, везде книги, много томиков Шекспира. Встретил, по обыкновению, радушно, усадил, расспрашивал о семье, о здоровье.
Вспомнили Свободина, и Суворин рассказал, как уходил артист. Он играл Оброщенова в «Шутниках» Островского. Третий акт, когда он возвращается с деньгами к дочерям, провёл блестяще. Вызывали несколько раз, аплодисменты не стихали. Радостный, довольный успехом, вошёл он в свою уборную, сел в кресло перед зеркалом и... умер.
Когда-то Чехонте написал рассказ «О бренности»: «...он положил на блины самый жирный кусок сёмги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот... Но тут его хватил апоплексический удар». Чехов такое не написал бы.
Конечно, обратились к «Палате № 6», продолжая заочный разговор в письмах:
— Я к вам отнёсся более снисходительно, милый Антон Павлович, чем Сазонова. Мне показалось, что Чехов сошёл с ума, написав эту повесть, а затем письмо с разъяснениями. Она же решила, что вы, отвечая на мою критику, в своём письме неискренни. Не поверила она вам, что пишете повести и рассказы, не имея серьёзной цели.
— Цель у меня есть, Алексей Сергеевич. Вы её знаете — мне надо заработать деньги. Вы сами убедились, что в моём мелиховском доме слишком тесно. Брат говорит, что надо жиница, и вы советовали, а куда я бы сунул свою законную семью, если бы таковая была? Где я её помещу? На чердаке? Или в кабинете? Мечтаю построить ещё один дом. Вот вам и цель.
— Здесь я всегда рад вам помочь. Сделаем сборник, включим туда «Палату», другие вещи — будут хорошо покупать. Но не об этих же целях мы говорим. Вы же сами мне писали, что у хороших писателей всегда была цель, к которой они звали общественность: отмена крепостного права, счастье человечества или просто водка, как у Дениса Давыдова. А у вас?
— Я вам в том письме заметил, что большие писатели, кроме жизни, какая есть, всегда чувствуют ещё ту жизнь, какая должна быть. Они верят сами и внушают свою веру читателям. Например, веру в то, что после отмены крепостного права все станут счастливы, или веру в революцию, которая каким-то образом сделает людей счастливыми. А мне во что прикажете верить? В конституцию как в залог счастья человечества?
— Ваши нынешние приятели из «Русской мысли» так и думают. Помните, как Победоносцев сказал о Гольцеве? «Он хороший человек, но только у него и в ши конституция, и в кашу конституция».
— А я верю в человека. Только сам он может изменить свою жизнь к лучшему. Только сам поймёт он, как это надо сделать. Но для этого ему нужно показать, какой он есть, чтобы он узнал правду о себе. Высшая правда о человеке — это художественная литература. По-настоящему художественная. Моя цель — создавать такую литературу. Писать, и чтобы меня читали. Я готов печататься хоть на подоконнике. Помните, какие подоконники были у меня в Богимове?
— Как писателя я за то вас и люблю, что вы пишете, как птица поёт, и радуетесь своей песне. В конституцию и я не верю. Русскому человеку конституция не нужна. У него прав на всё хватает. Равноправие и конституция требуются евреям. Они тогда все университеты заполнят — учатся-то они лучше и достигают в науках быстрее. Вот уж русскому мужику придётся на них поработать. Говорят, что я жидомор, погромщик, евреев ненавижу, но это не так. Я люблю русских и выступаю против евреев, поскольку они хотят закабалить русского человека. Я вам даже скажу, что в России есть только один искренний элемент — евреи. А русский народ — это бабы, ждущие Спартака. Наше среднее сословие развращено и лишено патриотической искренности. Царь — старый больной человек. Наследник — пустой и недалёкий, битый в Японии палкой по голове. Пьёт коньяк и е... балерину Кшесинскую. Пропадает у неё целыми сутками...
Суворин и подобные ему давно вызывали у него своими монологами чисто медицинское любопытство: наверное, какая-то патология заставляет их от, в общем, верных посылок приходить к фантастически нелепым выводам и с одинаковой убеждённостью высказывать совершенно противоположные умозаключения. Только что представил катастрофическое положение России, но вот вспомнил Пушкина — «полная правда, всё знал и всё понимал», потом Толстого — «Война и мир» — святыня», и Россия вновь велика и несокрушима:
— Я согласен с вами, Антон Павлович, что не надо никуда тащить Россию. Мы все относительны в сравнении с Россией. Наше дело служить ей, а не господствовать. Мы можем предлагать, но не навязывать. Русь как стоит, пусть так и стоит.
Было в этих речах не только патологическое в медицинском смысле, но нечто роковое в политическом. Какая Русь должна стоять? Где всё плохо и ничего нельзя сделать? В литературе не надо ничего навязывать, иначе это будет не литература, но в политике если не навяжешь ты — навяжут другие.
Покинув суворинский кабинет, в приёмной он был задержан незнакомцем, принадлежащим, по-видимому, к его поколению и увлечённым писанием и раздумьями: высокий лысеющий лоб, упорный взгляд, рукопись в руках. С искренним восхищением начал говорить о рассказе «Бабы»:
— Этот рассказ должен быть введён целиком в «Историю русской семьи». Не понимаю, почему никто не застонал над рассказом, никто не выбежал на улицу, не закричал...
Пришлось поговорить с таким благодарным читателем. Тот представился скороговоркой, неразборчиво — не то Владимир Васильевич, не то Василий Васильевич. Переспрашивать показалось неудобным и особенно ненужным. Рассказал, что прислал статью, которая понравилась Суворину, но оказалась слишком обширной для газеты. Вообще он хотел написать статью об особенностях русской души, о том, что без веры нет идеализма, а идеализму предопределено спасти Европу и указать человечеству настоящий путь.
— От чего надо спасать Европу? — спросил он исследователя русской души.
— Это понятно само собой.
Незнакомый литератор-мыслитель был схвачен цепким авторским глазом: для романа о вырождающемся купеческом семействе не хватало сумасшедшего. В семье Чеховых таковых не оказалось, а незнакомец теперь поможет замкнуть ещё одну сюжетную линию.
Вернувшись к себе, он достал записную книжку, начатую два года назад за этим же письменным столом в доме Суворина. Уже заполняется двадцать девятая страница, и почти все записи пригодятся для романа. Вот эта неплохая: «В средине, после смерти ребёнка, глядя на неё, вялую, молчаливую, думает: женишься по любви или не по любви — результат один».
Далее записал:
«Он пишет о «русской душе». Этой душе присущ идеализм в высшей степени. Пусть западник не верит в чудо, сверхъестественное, но он не должен дерзать разрушать веру в русской душе, так как это идеализм, которому предопределено спасти Европу.
— Но тут ты не пишешь, от чего надо спасать Европу.
— Понятно само собой».
Далее он покажет симптомы душевного заболевания Фёдора:
«Фёдор стал жадно пить, но вдруг укусил кружку, послышался скрежет, потом рыдание. Вода полилась на шубу, на сюртук. И Лаптев, никогда раньше не видавший плачущих мужчин, в смущении и испуге стоял и не знал, что делать...»
Когда литературная работа идёт с некоторым успехом, возникают маленькие писательские радости. Например, перечитывать эти записи или лучше ещё раз перечитать «Палату № 6», а ещё лучше рецензии на неё. Даже Скабичевский признал, что повесть «производит на читателя потрясающее, неотразимое впечатление». А во втором номере «Русской мысли» выйдет «Рассказ неизвестного человека», и Суворин издаст сборник. А там и роман подойдёт листов на восемь...
Он достал газету с рецензией Скабичевского, «Книжку недели» с рецензией Меньшикова, удобно устроился в кресле, но... Всегда это «но» из рассказа «О бренности». Сначала в пачке листов с газетной сыпью высветились белые с нежно-синими чернильными строчками листы: последние письма Лики. В одном буквы слишком велики и раскачиваются по неровным строчкам — чернила пахнут вином и истерикой: «...я гибну, гибну день ото дня и всё par dépit». А это самое последнее: «Замуж par dépit я решила не выходить. Par dépit я теперь прожигаю жизнь».
Если тоже с досады думать о женитьбе, то кроме неё нет для него женщины, но... Но теперь о бренности пришлось вспомнить основательно: ударила болезнь. Не чахотка, которая всегда наготове, всегда при нём, а другая. Не такая опасная, но весьма неприятная. Непристойно неприятная.
И как насмешка — суворинский лакей принёс приглашение на обед от милой дамы, с которой не виделись шесть лет.
XXII
Она сидела на балконе, погружаясь в густую сладость июльского дня, рассматривая новый для неё пейзаж — только что приехала в имение к сестре, но искупаться в холодной и чистой Истре уже успела. Справа — золотые блестки куполов Нового Иерусалима, левее — сосновая прохлада Дарагановского леса, перед ним, на косогоре, расставлены избы села, и широкой дугой через поля — пушистая тёмно-зелёная полоса ракитника, и по нему голубые осколки речки. Надя и хозяйка имения Маша только что вернулись из купальни и грелись на балконе, усевшись на низких табуреточках и накинув лишь лёгкие белые платьица. Солнце напекло Наде голову, и она повернулась спиной к пейзажу. Внизу возникло движение, Маша спросила кого-то невидимого:
— Что вы там делаете, Антон Павлович?
— Червей копаю, Марья Владимировна. Собираюсь поудить на закате.
Он возился в земле, то и дело поднимая взгляд.
— Это наш дачник, Антон Чехов, — сказала Маша. — Известный писатель.
Надя оглянулась и увидела под балконом русоволосого красавца. Он ушёл, но вскоре появился другой молодой человек и тоже сказал, что пришёл накопать червей для рыбной ловли.
— А это Николай Чехов, — объяснила Маша. — Известный художник.
Завершил эпизод подросток, третий Чехов. Он тоже копал червей и робко поглядывал вверх, где ветерок колыхал белые платья. Сёстры переглянулись, рассмеялись и пошли переодеваться.
Вечером в честь приезжей состоялся бал с угощением: торты, варенье, конфеты, бывший тенор Большого театра с ариями Ленского, хозяйка с романсом «Мне грустно потому, что весело тебе», «Лунная соната» с погашенной лампой и луной в окне...
Шесть лет промчались не по-пушкински, как мечтанье, а просто промчались, и по приглашению Надежды Владимировны в её петербургскую квартиру с опозданием явился усталый грустный мужчина. Вместо шапки вьющихся волос она увидела поредевшую гладкую причёску над большим голым лбом. Лишь один завиток вырвался из причёски и напомнил прежнего Антона.
Её удивили новые неожиданные манеры, странная застенчивость. Он явно обрадовался тому, что мужа нет дома, что обедать будут вдвоём. За столом нервно вертел салфетку, крутился в кресле, почему-то сунул салфетку за спину и вдруг сказал:
— Извините, Надежда Владимировна, я не привык сидеть за обедом, я всегда ем на ходу.
Она вежливо согласилась:
— Пожалуйста, не стесняйтесь, гуляйте, я забыла про ату вашу привычку.
— Вас я не стесняюсь, а вот ваш лакей меня стесняет.
— Он сейчас уйдёт.
Так и прохаживался весь обед, подходил к столу, садился на минутку, торопливо ел и вновь ходил. После обеда в гостиной у камина сел в удобное кресло и говорил о литературе. Чувствовал себя, по-видимому, не очень хорошо и говорил строго. О рассказе самой Надежды Владимировны сказал:
— Хвалили ваш рассказ. Это нашего брата, работающего из-за куска хлеба, поносят. Вы ведь пишете так, «пурселепетан». Для препровождения времени.
— Вы так думаете? — обиделась хозяйка.
— Уверен. Вы и ваша сестра, вы обе брызжете талантами, но, простите, из вас никогда ничего не выйдет, потому что вы сыты и не нуждаетесь. Вы никогда не переступали порога редакции, куда наш брат ходит как на пытку, стоит, как нищий, с протянутой рукой, держа плод своих трудов. Чаще всего в его руку кладут камень, а не деньги.
— Простите, — удивилась Надежда Владимировна, — ведь так страдают бездарности, но не таланты.
— Таланты? В том, чтобы вас признали талантом, чтобы напечатали и поставили на путь славы, случай играет гораздо большую роль, чем талант. Были писатели совершенно без таланта, которые сначала сумели попасть в тон, работали без устали, не смущаясь тем, что их произведения беспощадно им возвращали; упорным трудом научились писать по-литературному, и такие добивались цели и становились писателями не первоклассными, может быть, но заслуживающими внимания публики. С талантом без труда и поддержки ничего сделать нельзя...
Наверное, так и не поняла старая знакомая, чем он болен. По-видимому, посчитала нервным расстройством. Не догадалась, что болезнь генеральская.
XXIII
Долгий путь прошло человечество от первобытных пещер до поэзии Пушкина, до поездов и телефонов, но останавливаться нельзя; ещё идти и идти, чтобы избавиться от лжи и ненависти, от животного отношения к женщине, от рабского состояния души. Беда или болезнь Суворина и ему подобных, наверное, в том и состоит, что они не хотят идти дальше: довольны своим состоянием, своими якобы литературными произведениями, и пусть Русь стоит как стояла.
Хорош бы он был, если б остановился на рассказиках Чехонте. Жаль, что никто не идёт рядом, но лучше идти вперёд одному, чем оставаться без движения вместе со всеми. И неприятно сознавать, что читательское большинство, подписчики «Нового времени», скорее понимают и принимают Суворина, Буренина, либеральствующего Потапенко, чем автора «Палаты № 6».
Потапенко вообще удивлял. Все читали и хвалили его повесть «На действительной службе», где автор превозносил священника Обновленского, который выбрал не карьеру высокопоставленного духовного лица, а «действительную службу» бедным и тёмным людям, нуждающимся в религиозной опоре, освободил свою паству от высоких церковных поборов. Всё равно что с восторгом написать о человеке, решившем не воровать, а жить честно. Впрочем, для читателей Потапенко отказ от воровства, наверное, подвиг, на который нелегко решиться. А его повесть «Здравые понятия» вообще показалась пародией — о «здравых понятиях» влюблённой пары, собирающейся вступить в законный брак. Узнав, что в невесту влюблён престарелый миллионер, они решают вполне здраво: невеста выходит за миллионера с условием, что он кладёт в банк на её имя три миллиона и пишет завещание в её пользу. В результате все довольны: насладившийся молодой женой миллионер умирает, влюблённые соединяются, читатели в восторге — они имеют здравые понятия о семье и браке.
Но известному всей России Чехову не к лицу испытывать неприязнь к человеку, не совершавшему ничего дурного и тоже известному русским читателям. Встретившись с Потапенко в редакции «Русской мысли», старался быть с ним особенно дружелюбным.
В зеркальные окна особняка в Леонтьевском переулке, известного всей либеральной Москве, щедро лился весенний свет, и разговоры велись просторные, светлые, вольные. Здесь любили собираться в большой редакционной комнате и говорить обо всём. Гольцев, Саблин, Ремизов — темпераментные бородачи, осколки народничества, — громко восхищались экономическим учением Карла Маркса, но не соглашались с его революционными выводами.
— Нельзя видеть в человеке только автомат для исполнения экономических законов, — горячился Гольцев, потрясая большим облысевшим лбом. — Есть же разум, психика, стремление к добру и красоте. Нетрудно поднять на революцию рабочих, страдающих от эксплуатации, гораздо труднее нести тем же рабочим свет знания и культуры, а это единственный правильный путь к освобождению.
— Марксисты хотят залить Россию кровью, — сказал угрюмый Ремизов.
— Вспомните Пушкина, — поддержал Саблин. — Он знал, что русский бунт всегда бессмысленный и беспощадный.
И здесь довлела злоба дня: с особенным интересом обсуждались события, в которых участвовали и «Русская мысль», и «Новое время», — панамская авантюра и выставка Антокольского.
— Они радовались тому, что во Франции судят министров — думали, что это опорочит свободную республику, — говорил Гольцев. — Не понимают недалёкие тупые ретрограды, что такие действия, наоборот, делают честь государству, где царит конституция и основанные на конституции законы. Министр Байо хапнул триста тысяч и получил своё. Даже Клемансо оказался замешанным, и поделом.
— Суворин сынка послал в Париж отмываться, — напомнил Ремизов. — Читали, Антон Павлович, Протопопова?
— Каюсь: не успел. Недосуг.
Статья Протопопова, украсившая вместе с «Рассказом неизвестного человека» второй номер «Русской мысли», в общем, показалась справедливой, но этот бездарный критик не заслуживает, чтобы о нём говорил Чехов, тем более говорил что-то положительное.
— Вот я вам прочитаю кусочек: «Не господин Суворин-отец интересует нас — это давно определённая литературная величина, и не самозванство господина Суворина-сына возмущает нас — слишком много чести было бы для него возмущаться теми или другими его поступками. Нас удивляет и в некотором смысле даже тревожит спокойствие, с каким наша печать смотрит на то, как чисто частное дело одной газеты на виду у всех, ловким движением опытных рук, было превращено в общее дело всей печати и притом — подумать только! — в дело чести...» И вот ещё здесь: «Если бы газета действительно получила из панамских капиталов 500 тысяч франков, этот факт был бы не более как последним штрихом, дорисовывающим её физиономию, только и всего...» Или ещё вот здесь: «С которых это пор мы, русские писатели, должны разделять с «Новым временем» ответственность за его действия? Разве мораль этой откровенной газеты — наша мораль, разве её консервативно-либерально-прогрессивно-реакционное направление не есть её исключительное достояние, поддерживаемое только двумя-тремя ничтожными листками? Наоборот, одной из первых забот всякого чистого органа было до сих пор ревнивое отгораживание себя от всякого соседства с «Новым временем», открещивание от всякой с ним солидарности — нравственной в особенности...»
Лавров отличался от своих редакторов тем, что бородку имел поменьше, посовременнее, не был таким разговорчивым и, главное, лишь частично присутствовал там, где находился в данный момент. Он постоянно жил в какой-нибудь литературной мечте, рассматривал её подобревшим взглядом и даже слегка улыбался, удивляя собеседников. Однако назойливость Ремизова, пытавшегося ткнуть Чехова носом в «Новое время», вернула его в действительность:
— Развращает Россию не только сам Суворин, — сказал он, — но главным образом безнравственные, бессовестные люди, которым он позволяет печататься в газете. Антокольский — прекрасный скульптор, признанный в Европе, а что о нём написал этот озлобленный Житель? Оказывается, Антокольский не скульптор, а еврей! Собачий бржех в газете. Не могут простить еврею, что он талантливее многих русских, что именно он создал замечательные русские вещи: «Пётр», «Ермак». Разве для России, для русского народа есть какая-нибудь польза в том, чтобы оскорблять и отторгать от себя талантливых людей других наций, честно работающих на благо России? Так же непристойно и оскорбительно относятся они и к польской литературе...
Потапенко, сидевший рядом с Чеховым, незаметно толкнул соседа локтем: мол, сел на любимого конька переводчик с польского. Он ответил ему понимающим кивком. Вообще Потапенко был угрюмо-задумчив, и если Лавров говорил мало, то Игнатий ещё меньше. Наверно, переживал резкую критику на свои повести в какой-то петербургской газете. Напомнил ему чудесный одесский борщ, сказал, что в семье Чеховых его читают, — в основном читал Фрол вслух для горничных, — но так и не смог разговорить, пока не сели обедать.
Давал обед Лавров. Кормили икрой, сельдью под шубой, солянкой, кулебяками и прочими русскими яствами.
Он постарался сесть рядом с Потапенко, пытался развеселить, сказал, что он совсем не читает критику на себя, что критики — это импотенты, рассуждающие о любви, но Игнатий лишь вздохнул и улыбнулся невесело. Тосты были длинные и либеральные — здесь все умели говорить долго и складно. Гольцев был в ударе и, конечно, предложил тост за конституцию:
— Только идеалом красна жизнь, — говорил он. — С самых первых детских впечатлений моим идеалом стала свобода. Я грезил подвигами Гарибальди и мечтал, что, подобно ему, освободившему Италию, я буду освобождать Россию от тиранов. И сейчас я ношу в сердце идеал свободы, но опыт жизни, опыт революционной борьбы, — наверное, все знают, что царские жандармы дважды меня арестовывали, — опыт общения с единомышленниками, с вами, друзья, привёл меня к твёрдому убеждению, что путь к моему идеалу лежит не через кровь. Как бы ни были хороши солдаты Гарибальди, благороднее и величественнее всех революций и гражданских войн — справедливый закон, дающий свободу всем. Этот закон — конституция! За конституцию, друзья!
— К девкам любит ходить, — сказал Потапенко вполголоса, опорожнив бокал и кивнув на чернобородого Гольцева. — И этот тоже. — И указал на сидевшего напротив сердобольного Саблина.
— А вас приглашают, Игнатий Николаевич?
— Не до этого, — тяжело вздохнул Потапенко.
Третьим писателем, присутствовавшим на обеде, был Эртель[50], по годам ненамного старше Потапенко и Чехова, но, как бывший заключённый Петропавловки, он чувствовал своё превосходство над всеми присутствовавшими. За кофе он говорил комплименты Чехову:
— Я почему-то долго не ценил вас, Антон Павлович. В «Степи» показалось несоразмерное нагромождение описаний, да и ваши связи с разбойничьей артелью «Нового времени» как-то отталкивали. Но «Палата № 6»! Эта такая глубина! После Мопассана вы для меня самый крупный современный писатель.
Комплименты настолько сомнительные, что хотелось ответить резко. Потапенко заметил это опасное намерение, осторожно взял за локоть и сказал:
— Хиба ж Мопассан письменник? Вин же хранцуз.
И все трое рассмеялись.
С Игнатием перешли на «ты». Он сказал:
— Ты, Антон, самолюбив. Отзываешься на каждый бржех, как скажет Лавров.
— Надоело, Игнатий. То было: «Короленко и Чехов», теперь: «Мопассан и Чехов». А я просто Чехов. Да ты и сам переживаешь критику.
— Откуда ты взял?
— Целый день вздыхаешь из-за какой-то статейки.
— Что? Из-за той газетки? Да я и не чихнул. Грошей нема — вот что мучает. У Вукола авансов набрал — больше не даёт. Тебе Суворин платит? Мне Павленков даёт пятьсот рублей за пятнадцать листов и печатает пять тысяч экземпляров. Прожился начисто. А у меня жена и две девочки: три годика и семь лет. И ещё одна жена в Одессе. Где на них набраться? К Суворину хочу подъехать. Как думаешь, даст?
Потапенко показался скучным.
XXIV
Вскоре в редакцию «Русской мысли» явился нервный Суворин-младший. Долго бранился с Гольцевым и Ремизовым, после чего был принят Лавровым. Вукол Михайлович сидел в кабинете за столом, устремив мечтательный взгляд в пространство, где мучился герой Сенкевича Плошовский, решившийся на самоубийство после смерти возлюбленной. Для нового издания романа «Без догмата» хотелось улучшить перевод финала: «И чем сильнее я боюсь, тем больше не ведаю, что ждёт нас там, за гробом, тем мне яснее, что не могу я отпустить тебя туда одну, моя Анелька, — я пойду за тобой...»
В это мерцающее пространство вкатился Гольцев, за ним впрыгнул напряжённый Алексей Алексеевич Суворин. Отказался сесть, начал говорить громко, не останавливаясь, не теряя логики речи — подготовился, заучил. Выступал от имени истинно русской журналистики и всё требовал, требовал.
— Мы требуем, — восклицал он, — чтобы в журнале «Русская мысль» было напечатано извинение за оскорбительные высказывания по адресу «Нового времени», газеты, которая честно исполняет свой патриотический долг. В тексте, который вы обязаны опубликовать, должны быть опровергнуты лживые утверждения, будто взятка в пятьсот тысяч франков дорисовывает физиономию нашей газеты и ещё будто всякий чистый орган ревниво отгораживается от «Нового времени»...
— Опровержение утверждения об отгораживании, — мечтательно проговорил Лавров. — Так я не понял, чего вы хотите?
— Мы требуем, чтобы в журнале «Русская мысль» была напечатана статья, опровергающая...
— Виктор Александрович, кто от нас чего-то требует?
— Я вам представлял — сын Алексея Сергеевича Суворина.
— Ах да... «Новое время». Но почему чего-то требуют от нас? В журнале «Русская мысль» требования какого-то Суворина никого не интересуют.
— Я приготовил текст. — Из кармана пиджака Суворин достал сложенную бумагу. — Мы обсуждали текст с господином Гольцевым, и я считаю необходимым, я требую...
Он протянул свой текст через стол, но Лавров сделал отстраняющее движение рукой, и его пальцы встретились с пальцами Суворина, сжимающими бумагу.
— Мы не будем ничего смотреть, — сказал Лавров.
— Вы... Так? Тогда получайте.
Выронив бумагу, Суворин размахнулся, пытаясь ударить Лаврова по лицу, но тот успел отстраниться. Однако пальцы Суворина-младшего всё же коснулись шеи Лаврова. Вскочил Гольцев и схватил Суворина за руки.
— Ничтожество, — презрительно сказал Лавров. — Отпустите его, Виктор Александрович, — он неопасен. Я же тебя застрелю, как поросёнка.
— Стреляйте! — истерически кричал Суворин. — Неужели вы думаете, что в деле чести я отступлю перед револьвером?
— Дело чести? Ты знаешь такие слова? Я дворянин и вопросы чести могу решать только с дворянином. А Суворины кто? Вы не знаете, Виктор Александрович? Не знаете, кто у нас издаёт «Новое время»? Я вам скажу: сын кухарки и сеченного розгами солдата.
XXV
О пощёчине, полученной Лавровым от Суворина, долго говорили в так называемых литературных кругах. Вспомнили об этом и с Потапенко, когда он впервые приехал в Мелихово и окунулся в июльский праздник зелени и солнца. Приехавший с ним вечный сопровождающий и организующий встречи Сергеенко окунулся ещё и в ближний малый пруд, под окнами дома, уже покрывающийся зеленью.
— Грех не искупаться в такую жару, — сказал он и начал раздеваться.
Его отговаривали, объясняли, что есть другой пруд, чистый, надо лишь немного пройти, но он разделся донага и полез в воду, разгребая ряску.
— Тебя же видят из дома и с дороги, — стыдил его Потапенко.
— Пускай не смотрят. А ты сам давай раздевайся и лезь сюда.
— Не буду я купаться в этой грязной луже.
— Но ведь в химии грязи не существует. Взгляни оком профессора. Сделай Антону одолжение. Невежливо приехать к новому землевладельцу и не выкупаться в его помойной яме.
Вылез из воды и долго растирался на солнце, к весёлому удивлению горничных Маши и Анюты, то и дело пробегавших из дома в кухню и обратно.
Когда гуляли по саду, Сергеенко с той же назойливостью, с какой уговаривал Потапенко лезть в воду, начал уговаривать хозяина ехать к Толстому:
— Антон, едем завтра же. Лев Николаевич тебя ждёт. Ему понравилась твоя «Палата». Он мне так и сказал: «Палата № 6» очень хорошая вещь».
Кому же ещё, как не Сергеенко, мог высказывать Лев Толстой своё мнение? Потому и неприятен этот земляк. Потому и не поедет он с ним к Толстому. Он встретится с ним без посредников.
— Сейчас не могу ехать — нездоровится.
— Ты же врач. Вылечись — и поехали. Прими порошок с водкой...
— У меня к тебе просьба, Игнатий. Будешь ехать обратно — захватишь письмо Суворину. Отправишь из Москвы.
— Ради Бога, Антон, конечно, захвачу. Как он там? Воюет со своими?
— Только что вернулся из-за границы. А уехал ещё тогда, после скандала с «Русской мыслью».
— Этому сынку я бы просто харю набил, — заявил Потапенко.
— После эпизода с пощёчиной я выразил своё возмущение в письме и хотел вообще порвать с ним, но он прислал покаянное письмо. Старик меня любит, а на любовь надо отвечать.
Разумеется, и Суворин не мог обойтись без Сергеенко: последовал рассказ земляка об авансе, взятом в «Новом времени», о том, как он его отрабатывал в Одессе в судебном деле Суворина с французско-еврейской фирмой...
— А это мой колодец, — перебил его хозяин. — Вода чистейшая и вкуснейшая.
— Моё хохлацкое сердце обливается кровью, — сказал Потапенко. Почему нет журавля, Антон?
— Я тебя понимаю. Хотели сделать, но место не позволило. Пришлось поставить это дурацкое колесо.
В листве старых яблонь сверкали шарики плодов, но некоторые деревья не только не плодоносили, но и в отчаянии тянули к небу голые подсохшие сучья.
— Молодые надо сажать. Хозяин всё пишет, про сад забыл.
— Не забыл, Игнатий. Осенью всю эту сторону засадил яблонями. Такие были хорошие саженцы, а зимой все их погрызли зайцы. Сугробы — выше забора, и они спокойно прыгали в сад. Видишь, там ещё палки торчат. А вот здесь поспели яблоки. Московская грушовка.
Он тряхнул ветку, несколько яблок упали в траву. Подобрали, сели на скамейку, захрустели жёлтыми с розовополосатыми бочками кисло-сладкими, с приятной горчинкой плодами; Умиротворяющее дыхание вечной жизни исходило от наливавшейся зелени, звучало шелестом, жужжанием, чьим-то дальним голосом, кого-то окликающим. Сад жил всегда, и люди живут и будут жить всегда, и их простые человеческие радости и горести казались здесь важнее литературы, политики и прочей суеты. Даже Сергеенко на время забыл о Толстом и расспрашивал о свадьбе Ивана, состоявшейся недавно в Мелихове, и о свадьбе Миши, не состоявшейся из-за измены Мамуны.
— Местный священник венчал?
— Местный и умный. Я попросил его, чтобы покороче всё сделал, думал, что он обидится, а он отнёсся понимающе. Сказал, что его часто просят служить подольше и он этого не любит.
Однако Потапенко терзала одна и та же мысль:
— Как бы мне у Суворина аванс вымаклачить? Чёрт его знает как к нему подъехать. Вукол понятен — либерал. А этот... Умный, а газету ведёт глупо. Ты, Антон, его понимаешь?
— На этом свете ничего понять невозможно. Знаю, что старик считает, во всяком случае, раньше считал, что газету ведёт очень умно. Был бы либералом, как все порядочные люди шестидесятых, но война за братьев славян ударила ему в голову. Все эти победы всегда испытание для мыслящего человека.
— Победы там были сомнительные, — заметил Потапенко.
— Конечно, сомнительные. Столько русских мужиков полегло, а Турция-то — развалившаяся страна. И ничего не получили — Бисмарк перехитрил и царя, и пушкинского друга Горчакова. Но Суворин хоть и умный, а слабохарактерный. Легко поддаётся влияниям. Вообще слабохарактерный человек опаснее волевого, потому что никогда не знаешь, куда он повернёт. Сомнительные победы на него повлияли. Ему показалось, что наша империя несокрушима и будущее её прекрасно. Настроил газету на этот лад, увидел, что её охотно читают — дураков ведь всегда больше, — подписка растёт, и решил, что угадал. Потом, конечно, понял, что всё не так, что российское неустройство увеличивается и империя только кажется могучей, что с этой властью ничего хорошего страна не дождётся. Вот и заволновался Алексей Сергеевич. То власть покритикует, то евреев во всём обвинит. Либеральная печать выступит против мерзостей его газеты — он нервничает, сомневается, боится революции, но изменить ничего не может. Ренегатом становятся только раз. Теперь ему до конца дней быть с Бурениным и прочими негодяями. Иногда мне его жалко.
А Потапенко всё о своём:
— Если я ему скажу, что его сын был прав, когда дал пощёчину Лаврову?
— Больше всего Суворин не любит неискренности. Меня несколько раз пытался поймать, когда я хвалил его статьи.
Со своим преклонением перед авансами Потапенко показался богом скуки, но вечером предстал перед Чеховым певцом и музыкантом. Маша села за рояль, он взял скрипку Павла Егоровича, и зазвучал вальс из «Евгения Онегина». Потом он пел хорошо и много — хохол есть хохол. Пели и все вместе. Игнатий же запевал раскатистым баритоном старую украинскую о забытых временах, о родной степи, исхоженной, истоптанной неведомыми героями прошлого:
Ой, на ropi та женцi жнуть, А по-пiд горою По-пiд високою Козаки йдуть! Попе, попереду Дорошенько Вийде своё вийско, Вийско Запорiжско Хорошенько!XXVI
Не существует ничего сверхъестественного: ни чудес, ни волшебников, ни колдунов, ни предсказателей, — только писатель Чехов, автор полумистического рассказа «Чёрный монах», обладает пророческим чувством. Это его тайна, которую он никому не откроет, тем более что никто не поверит.
Был в Москве в редакции и зашёл к сестре, снявшей квартиру в Садово-Каретном; сентябрь уже шуршал на московских тротуарах, и в гимназии начались занятия. Маша усадила за стол, покрытый стерильно чистой скатертью, угощала чаем с калачами, а он напомнил ей случай из своего абхазского путешествия 1888-го года:
— Помнишь, я писал вам, как плавал на пароходе «Дир» и едва не попал в кораблекрушение?
— Да, о чём-то страшном ты писал.
— Я ещё им повредил машинный телеграф: схватился за него, когда показалось, что сейчас столкнёмся с другим пароходом, сдвинул его с места, а обратно подвинуть не смог.
— Это ужасно! Но, кажется, пароходы не столкнулись? Да?
— Да. Но я вспомнил странную вещь. Когда другой пароход сумел отвернуть и проплывал мимо, я смотрел на нашего капитана — такой он был маленький, толстенький, жалкий. И я подумал, что он когда-нибудь обязательно пойдёт ко дну и захлебнётся солёной водой. Так и произошло. «Дир» потерпел кораблекрушение возле берегов Алупки, и тот самый капитан утонул.
— Какой ужас! Бывают же совпадения. Хорошо, что ты зашёл, — волнуюсь за наши томаты. Когда я уезжала, говорила, чтобы срочно убирали, — утренники начинаются. Успели убрать?..
Маше присущ рациональный взгляд на мир даже в большей степени, чем ему, а капитан всё-таки утонул. И о смерти Свободина он знал заранее, и зимой в Петербурге напугал врача, лечащего Лескова, предупредив, что Николай Семёнович проживёт ещё всего лишь два года. Так и произойдёт. Конечно, здесь проявился талант медицинский, но тем не менее.
Вот и Потапенко при всём своём хохлацком певучем обаянии, при самых добрых отношениях с ним почему-то тревожит. С первой встречи в Одессе возникла непонятная неприязнь к нему. Пророческое чувство предупреждало, что произойдёт нечто дурное в жизни писателя Чехова по вине Игнатия. Может быть, даже случится нечто роковое. Может быть, уже сейчас и начнётся это «нечто». Вот уже слышны шаги, стук в дверь квартиры...
— Это к тебе, Марья?
— Не знаю. Наверное. Хозяйка откроет.
Звук открываемой двери, голоса, «нечто» уже на пороге. Вот оно и вошло. Не оно, а она — сама юность в светлом платьице, с удивлёнными глазами, капризными губками, растрёпанными светлыми кудряшками.
— Таня Щепкина-Куперник, — представила Маша гостью. — Я тебе о ней говорила, Антон. Пишет пьесы и стихи. Её пьесу взял Малый театр.
— Наконец-то я встретил человека, который научит меня писать пьесы!
— Ой, что вы, Антон Павлович, — мило засюсюкала Танечка и затрепетала всем своим тоненьким нежным тельцем. — Я ничего не умею. Пьесу взяли так, по знакомству. Я правнучка Михаила Семёновича Щепкина.
Глаза у юности глубокие, откровенные, затягивающие.
— Вообще пьесы писать легко, — говорил он девушке, улыбаясь по-мужски. — Слева пишешь, кто говорит, справа — что говорит.
Таня восторженно смеялась.
— Мне Лидия Стахиевна рассказывала о вас, — произнесла она. — Мы подруги.
— Представляю, что может сказать обо мне Лика. Увидев меня живого, вы теперь убедились, что я не такой злодей, каким она меня нарисовала?
— Ой, что вы! Она о вас такого высокого мнения! Предупреждала только, что вы опасный юморист — всё вышучиваете.
Пророческий дар в случае с юной девицей, разумеется, уже не девицей, не мог подвести опытного писателя Чехова. Таня жила в гостинице «Мадрид» и пригласила его к себе. Ей всего девятнадцать лет, и о таких барышнях он пророчески написал в рассказе «Жена»: «Все современные, так называемые интеллигентные женщины, выпущенные из-под надзора семьи, представляют из себя стадо, которое наполовину состоит из любительниц драматического искусства, а наполовину из кокоток».
XXVII
Пророческий дар не обманул, но произошло большее, чем он ожидал. В доме на Тверской, растянувшемся от Леонтьевского переулка до улицы Чернышевского, помещались две гостиницы: на главную улицу смотрел фешенебельный «Лувр», а на Леонтьевской — второсортный «Мадрид».
Он постучал, Танин голос разрешил войти, но в комнате на диване рядом с юной хозяйкой сидела незнакомка и смотрела на него, как смотрят на человека, который пришёл не вовремя. Этой женщине с прямым и выразительным взглядом хотелось беспрекословно подчиняться. Недовольство и настороженность в её говорящих светлых глазах сменились восхищением, когда Таня назвала гостя. Она лёгким красивым движением поднялась и представилась:
— Яворская Лидия Борисовна.
Взгляд повелительницы оказался лишь слабым выражением сущности этой молодой женщины с темно-золотистой театральной причёской — её низкий голос, пронизанный интимной, как бы спросонья, хрипотцой, не просто тревожил, а требовал забыть всё и слушать только её, слушать и слушаться.
— Лида играет у Корша, — объясняла Танечка. — Вы, наверное, ещё не знаете, Антон Павлович, — она только первый сезон.
— В Ревеле я играла в вашем «Медведе», — сказала Яворская. — Был успех. А здесь Федя понял меня с первого взгляда.
Она поднялась и прошлась по комнате короткими артистическими шагами. Повернулась, и он увидел всю её голую спину, открытую широким и глубоким, до талии, разрезом платья. Гибкая, живая, скользяще извивающаяся спина была предназначена для его рук, для его пальцев, для того, чтобы гладить её, сжимать, ласкать, играть на позвоночках и при этом слушать и слушать соблазнительно хрипящий голос.
Яворская рассказала, как приехала летом в Москву, пришла к Фёдору Алексеевичу Коршу и потребовала для себя роль Маргерит в «Даме с камелиями» — у Корша пьеса называлась «под Островского» «Как поживёшь, так и прослывёшь». Молодая неизвестная актриса из провинции, впервые в Москве, и ей — главную роль в классической пьесе!
— «Рискните», — сказала я Феде и прочитала немного из финала. Помните, вот это: «Ты видишь, я улыбаюсь, я сильная... Жизнь идёт!..»
Слова умирающей героини она произнесла так, что даже Чехов был готов дать ей главную роль в своей великой пьесе, которая ещё не написана.
XXVIII
Он, как Данте, земную жизнь пройдя до половины, очутился в сумрачном лесу, с той лишь разницей, что Данте был слишком оптимистичен: даже «весь Петербург», если поверить Сашечкину письму, говорил о том, что Чехов опасно болен чахоткой. И лес не сумрачный — старый лесопарк, разбежавшийся над Москвой-рекой от Филей до Мазилова, доцветал: красное и жёлтое линяло, подсыхало, подгнивало, превращалось в поджаристо-бурое, и штиблеты по щиколотку тонули в хрустящих ворохах листьев.
— О чём задумался, Антон? — крикнул Гиляровский, не любивший тишину. — Ещё одну «Палату № 6» хочешь написать? Не надо больше. Лучше портвейн номер семь.
— Виктор всегда думает о конституции, — сказал Потапенко, — а Антон... Рифма есть, но я ею не воспользуюсь ввиду присутствия милых дам.
Он вёл под руки сразу двух милых дам: Лику и её подругу по урокам пения рыжую Варвару Эберле. Неразлучные Таня и Яворская шли отдельной парой.
Он думал, конечно, не в рифму, а о своей счастливой жизни. Болезни прошли, а нервным срывом и ночными видениями даже воспользовался — написал мистико-медицинский рассказ «Чёрный монах». У него собственное имение и большой дом, в котором ему негде жить. Если бы он решил жениться, то молодую жену можно было бы привести только в кабинет, а в качестве брачного ложа использовать письменный стол. Надо строить ещё один дом, но для этого есть пока только пять тысяч... долга Суворину.
Задумавшись, он вышел вперёд. В этом октябре 1893 года с дружеским визитом в честь укрепления союза между Россией и Францией в Тулон прибыла эскадра русских военных кораблей под командованием контр-адмирала Авелана, и фамилия командира эскадры стала самым часто упоминаемым словом во всех русских газетах. Заметив, что Чехов оказался впереди гуляющих, Потапенко воскликнул:
— Антон! Ты ведёшь нас, как Авелан свою эскадру.
Общий смех дробью рассыпался и исчез в торжественной тишине леса, но отдельным взвившимся тоном, скрипичным крещендо, прозвучали знакомые переливы голоса Лики. Она всегда смеялась от души, а теперь услышалось что-то манерное, вызывающее. Он остановился и, поправив пенсне, обратился к весёлой компании с краткой речью:
— Милсдарыни и милсдари! Я принимаю на себя командование эскадрой при условии полного повиновения и полного наполнения бокалов в наших плаваниях к европейским дворцам и столицам.
— В «Лувр»! В «Лувр»! Вперёд! — поддержала эскадра командира.
Он вглядывался в Лику: наверное, что-то узнала или догадывается. По обыкновению, сам вёл себя осторожно, скрытно, но на женщину полагаться в этих делах опасно. Может сама всё открыть только для того, чтобы досадить сопернице. А он для маскировки открыто оказывал знаки внимания Танечке, и по этому поводу Виктор Гольцев даже сочинил сказку в стихах, но без рифм.
В «Лувре», в роскошном номере Яворской, пили шампанское, закусывая виноградом, пели «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Запевал, конечно, Потапенко. Таня сидела рядом с Чеховым и ластилась к нему. Гольцев потребовал стакан красного вина, без которого не мог жить, но с ним легко мог умереть, поскольку вино расшатывало его больное сердце. Осушив стакан, он попросил слова:
— Разрешите мне, лысому российскому либералу, потерявшему волосы, но не надежды в борьбе за идеалы правды и красоты, выступить на сей раз в роли лаптя народнического направления с весьма серьёзной политико-лирической поэмой в прозе, посвящённой юной прекрасной птичке малиновке. — Он поклонился Танечке. — Над ней нависла страшная беда в виде хищного орла со стеклянными глазами. — Ораторским жестом он указал на Чехова. — Он готов съесть её и пустить по ветру прекрасные её пёрышки...
— Умереть не страшно, — сказал Чехов. — Страшно, что на твоей могиле Гольцев будет речь говорить.
Роль соперника играл седобородый Саблин — на него как на сотрудника «Русских ведомостей» возлагались надежды на публикацию рассказа «Володя большой и Володя маленький». Михаил Алексеевич был специалистом по части еды, беспокоился о здоровье Танечки, кормил её обедами в «Эрмитаже» и никак не мог уговорить её позавтракать с ним у Тестова — юное дарование вставало лишь к обеду.
— Танечка, вам надо лучше питаться, — убеждал он её. — Давайте завтра утром пойдём к Тестову. Там подают на закуску изумительную грудинку, вынутую из щей...
— Дедушка, но я не хочу грудинку, — капризничала Таня. — У меня в номере есть вкусненькое печенье. Если бы вы принесли...
— Мы тоже хотим вкусненького печенья, — заявил Потапенко.
— А ещё у меня в «Мадриде» есть французское вино, — добавила Таня для соблазна. — Мне подарили несколько бутылок как ровеснице этого вина — урожая тысяча восемьсот семьдесят четвёртого года.
— В «Мадрид»! — воскликнул Гиляровский.
— Что скажет адмирал? — спросила Лика, и опять в её голосе он услышал некий вызов.
— В «Мадрид»! — скомандовал он. — Нет больше Пиренеев!
Все радостно собирались, только Яворская отказалась от прогулки по длинным переходам.
— У меня завтра спектакль, — сказала она. — Я лягу.
Белый луч её взгляда скользнул по его лицу, обласкал и слегка царапнул.
В демократической простоте «Мадрида» снова пили, пели и ели. Таня рассказала, как познакомилась с Яворской:
— Один знакомый из Киева спросил меня о ней — она же дочь киевского полицеймейстера. Её фамилия Гюббенет — французское происхождение. Я её не знала и рассказала то, что слышала: живёт в роскошном номере, принимает гостей, веселится. Будто бы пошли сплетни об её образе жизни, и обвинили в этом меня. Я возмутилась, пришла к ней сама объясниться. Лида хорошо меня приняла и пообещала зайти. Случилось так, что в тот день я поссорилась с одним человеком — не с вами, Михаил Алексеевич. Навсегда поссорилась. Лежала на этом диване и ревела. И тут пришла Лида. Увидела, в каком я состоянии, и начала успокаивать. Целовала, утешала. Так мы подружились.
Когда пришло время расходиться, он попрощался с Таней, вышел вместе со всеми в осеннюю холодную ночь. На Тверской посадил Лику на извозчика, сказал, что в «Лоскутную», где снял номер, прогуляется пешком — всего два квартала, подождал, пока все разъедутся, и вошёл через главный вход в «Лувр». Поднявшись на второй этаж, оглядел пустой коридор и постучал в номер Яворской.
Она встретила его в чёрном полупрозрачном пеньюаре, под ним — белое кружево белья, тёмные с золотом волосы слегка распущены. Не такие, конечно, кудри, как у той...
— О, дуся моя! — воскликнула Лидия, и ломкий звон её голоса, перебиваемый волнующей хрипотцой, вызвал у него уже знакомое гипнотическое возбуждение. — Какое счастье, что ты вновь со мной! Ты мой великий, гениальный, единственный, любимый. Я твоя вечная рабыня...
Конечно, это был спектакль, но ему нравилась в нём своя роль.
Он сидел в кресле, отдыхая, она суетилась, подавая ему чай, вино, конфеты.
— Ты устал, дуся? Я уложу тебя отдыхать. Я раздену тебя...
Она сбросила пеньюар и полуголая упала перед ним на колени.
— Ты мой... Ты мой! — восклицала Лидия, поднимая на него молитвенный взгляд. — И этот лоб мой, и глаза мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа, люди у тебя как живые. О, тебя нельзя читать без восторга! Ты думаешь, это фимиам? Я льщу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгунью? Я умею ценить тебя. Говорю тебе правду, мой милый, чудный. Ты напишешь мне пьесу для бенефиса. Это будет великая пьеса. Она прославит нас обоих. Иди ко мне, дуся...
Она упала на кровать перед ним, и лишь кружева панталон закрывали её тело.
— Твои кружева похожи на змеиную чешую, — сказал он, подойдя.
— Я сбрасываю чешую! Смотри, какая я сама. Ты говорил, что у меня спина как у змейки. Смотри, как я умею извиваться. Иди ко мне, дуся...
С ней легко было быть мужчиной, но он не испытывал к Лидии никаких особенных чувств. Если бы она сейчас вдруг умерла, он опечалился бы не более, чем по поводу смерти любого другого знакомого человека. Думать об этом было неприятно. Конечно, женщина есть женщина и мужчина есть мужчина, но неужели всё это так же просто в наше время, как было до потопа, и неужели он, культурный человек, одарённый сложной духовной организацией, должен объяснять своё сильное влечение к женщине только тем, что формы тела у неё иные, чем у него?
Ночью он пообещал ей написать пьесу для бенефиса и даже придумал эпизод:
— Ты будешь играть юную девушку, влюблённую в писателя, у которого связь с другой женщиной. В финале второго акта он наконец объясняется тебе в любви. «Вы так прекрасны, — говорит он. — О, какое счастье думать о вас, о том, что скоро мы будем вместе. Со мной всегда будут эти чудные глаза, невыразимо прекрасная улыбка, эти черты, выражающие страсть и чистоту...» Они целуются, он уходит, она подходит к рампе и после некоторого раздумья произносит: «Сон!»
— Это прекрасно! Сон! Дуся мой, дай я тебя поцелую. Так и ещё так... Скажи, а что у тебя было с Ликой?
— Сказала она после некоторого раздумья, — усмехнулся он.
— Ты же сам говорил, что всех твоих милых знакомых женщин почему-то зовут Лидиями.
— Всех — это слишком сильно сказано. Лика Мизинова, Лидия Алексеевна Авилова — петербургская знакомая, писательница, и третья ты. Но близости, любви у меня с ними не было.
— Значит, я не третья, а Лидия Первая!
— Утром завтракали с Лидией в её номере по-французски — кофе и булочки, лакей принёс газеты. На первых страницах: «Смерть Петра Чайковского».
— Несчастье для России, — сказал он.
— Вы были знакомы?
— Одно время я собирался писать для него либретто.
— Почему же не написали?
— Потому что... По разным причинам. Мы с ним как-то разошлись.
— Я знаю эти причины. Вас напугали сплетни о нём. Жалкие бездарности всегда пытаются опорочить талантливых людей.
Его удивила странная горячность Лидии.
XXIX
В Мелихове он стал получать другие неприятные известия. От Лики. По письму в неделю, и в каждом что-нибудь раздражающее:
«Вы, конечно, не знаете и не можете понять, что значит желать чего-нибудь страшно и не мочь — Вы этого не испытали!
Я нахожусь в данное время в таком состоянии. Мне так хочется Вас видеть, так страшно хочется этого, и вот и только — я знаю, что это желанием и останется! Может быть, это глупо, даже неприлично писать, но так как Вы и без этого знаете, что это так, то не станете судить меня за это. Мне надо — понимаете, надо знать, приедете ли Вы и когда или нет. Всё равно, только бы знать. Ведь мне осталось только три-четыре месяца Вас видеть, а потом, может быть, никогда...»
«Вот что хочу я просить Вас. Вы отлично знаете, как я отношусь к Вам, а потому я нисколько не стыжусь и писать об этом. Знаю я также и Ваше отношение — или снисходительная жалость — или полное игнорирование. Самое горячее желание моё — вылечиться от этого ужасного состояния, в котором нахожусь, но это так трудно самой — умоляю Вас, помогите мне — не зовите меня к себе, — не видайтесь со мной! — для Вас это не так важно, а мне, может быть, поможет это Вас забыть. Я не могу уехать раньше декабря или января — я бы уехала сейчас! В Москве это так легко не видаться, а в Мелихово я не заеду — что мне до того, что могут подумать, да, наконец, давно уже и думают. Простите меня, что заставляю читать весь этот вздор, но, право, так тяжело. Пользуюсь минутой, в которую имею силы написать всё это — а то опять не решусь. Вы не будете смеяться над этим письмом? Нет? Это было бы слишком!
Всё это не нужно! Слушайте, это не фразы — это просьба — единственный исход, и я умоляю: отнеситесь к ней без смеха и помогите мне».
«...М-me Яворская была тоже с нами, она говорила, что Чехов прелесть и что она непременно хочет выйти за него замуж, просила у меня содействия, и я обещала всё возможное для Вашего общего счастья. Вы так милы и послушны, что я думала, мне не будет трудно Вас уговорить на это...»
Он заставлял себя не замечать своего раздражения, редкие письма Лике писал так, словно не читал её волнующих пассажей, но временами в груди возникала тупая боль и начинались приступы кашля.
XXX
На встречу нового, 1894 года он пригласил и Лику, и Гольцева с дочерью, и Потапенко. Гольцев сообщил, что не сможет приехать, а от Лики пришло письмо. Тоже раздражающее:
«Дорогой Антон Павлович, я всё еду, еду и никак не доеду до Мелихова. Морозы так страшны, что я решаюсь умолять Вас, конечно, если это письмо дойдёт, чтобы Вы прислали чего-нибудь тёплого для меня и Потапенко, который по Вашей просьбе и из дружбы к Вам будет меня сопровождать. Бедный он!
Но, помня, как Вы всегда настаивали на этом, я и на этот раз хочу угодить Вам! Приедем мы 28-го курьерским — во вторник, а уедем к Троице, — надеемся, что Вы не обидитесь, что мы пробудем так мало? Впрочем, если Вы очень попросите, то мы можем остаться и до Успенья! В Москве продают малину, которая уже поспела. В Эрмитаже половые спрашивают, отчего Вас давно не видно. Я отвечала, что Вы заняты — пишете для Яворской драму к её бенефису. Кончаю, страшно перечесть и т. д.
Ваша Л. Мизинова».
Далее — приписка Потапенко:
«Милостивый государь Антон Павлович,
Как уже упомянуто вышеназванной Л. С. Мизиновой, я и на сей раз воспользуюсь высоким правом провожать её не только до Арбата, но даже и до Мелихова. Надеюсь, что Вы будете терпеть меня в качестве провожатого...»
В Лопасню послали Фрола с шубами, и когда зазвенел колокольчик, выбежали встречать. Холодное оранжевое солнце не могло выбраться из сетей голых ветвей рощи, лучи его скользили по сугробам, разбрасывая светящиеся чешуйки. Сани остановились у крыльца, Потапенко лихо выпрыгнул на снег и принял в объятия запутавшуюся в длинной рыжей шубе Лику. Болезненная писательская память на мгновение превратила снежно-солнечную синеву в майскую зелень над Окой и в подбирающийся к ней туманный август.
— У вас чудесная привычка, милая канталупка, привозить ко мне своих кавалеров.
— Антон! Это же был твой приказ, переданный мне её высокоблагородием Лидией Стахиевной, — оправдывался Игнатий.
— Сволочной мороз, чёрт его задави, — пожаловалась Лика. — Не хватало мне простудиться. В Париж я должна привезти сопрано, а не мужицкий хрип, которым разговаривают некоторые драматические актрисы.
Голос она начала пробовать сразу после обеда и небольшого отдыха. Он попросил её спеть серенаду Брага:
— Я ввёл её в свой новый рассказ. Хочу проверить впечатление.
— Впечатление о ком? — спросила Лика с тем же вызовом, с той же затаённой обидой, к которым в последнее время он уже начал привыкать.
— Впечатление о девушке, которая пела мне эту серенаду здесь летом.
— Теперь здесь другая девушка. Для той скрипичную партию исполнял Иваненко, а мне будет играть Игнатий. Давайте скрипку, Антон Павлович.
Ему нравилась эта модная вещь, мелодичностью напоминавшая Чайковского. Текст серенады совпадал с мистической темой рассказа «Чёрный монах», написанного летом в болезненном состоянии, вызывавшем бессонницу и бред. Серенада — валашская легенда о больной девушке, которая слышит в бреду доносящуюся до неё с неба песнь ангелов и просит мать узнать, откуда доносятся эти прекрасные и странные звуки, но мать не слышит их, и разочарованная девушка засыпает. В рассказе молодой учёный в приступе безумия видит призрак чёрного монаха и беседует с ним. Острый внешний сюжет с душевнобольным героем, с любовью, смертью был хорош тем, что в нём легко скрывался истинный смысл тяжёлых раздумий писателя Чехова.
Заболевший манией величия учёный Коврин, беседовавший с призраком, после излечения потерял способность к научным исследованиям, стал рассудительной посредственностью. Писатель Чехов тоже болен, если и не психозом, не манией величия, то маниакальным влечением к сочинению пьес и рассказов, ради которого он отказывается от всего, чем живут обыкновенные люди: от любви, от семьи, от друзей, от простых человеческих радостей. Каждая его мысль, каждый поступок, каждая встреча с другими людьми — всё подчинено одной цели: писать и печататься.
Слушая пение Лики, он иногда мысленно соглашался выздороветь: любить её, вить гнездо, нянчить детей... Но это были только мгновения. Счастливы Будда и Магомет или Шекспир — добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения. Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов добьются того, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет. В рассказе так рассуждает его герой, а что думает автор, вряд ли кто-нибудь сможет догадаться.
Лика пела:
О, что за звуки слышу я, Сердце они пленяют И на крыльях зефира к нам сюда Как бы с небес долетают...И вновь становилось непонятно, как надо жить в этом мире, и охватывали предчувствия неясного печального будущего. Она уедет за границу, и, может быть, они больше никогда не увидятся. Или встретятся совсем чужими, окружёнными другими людьми, опутанными новыми привязанностями.
Перед ужином в доме затихло. Маша увела Лику к себе. Он печей исходило сонное тепло, но когда знаешь, что за чёрными окнами ярится жестокий мороз, на душе неспокойно, думаешь о тех, кто остался без крова, кто замерзает в пустынном поле, да и твой дом представляется ненадёжным, непрочным перед равнодушно-злой силой вселенского холода, и вообще жизнь видится как мелькнувшая случайность, подобная робкому пламени свечи на письменном столе, которое так легко погасить.
Он вновь сидел над романом о купеческом семействе. Достал записную книжку, нашёл одну из последних записей — её надлежало использовать там, где он застрял. Шёл разговор героини с друзьями мужа. Рукопись обрывалась фразой:
«— Чай пить! — сказала Юлия Сергеевна, поднимаясь...»
Подумал о Лике, о том, какой она стала, и начал дальше:
«Она в последнее время пополнела, и походка у неё была уже дамская, немножко ленивая».
Игнатий собирался до ужина зайти о чём-то поговорить и зашёл как раз теперь, когда хотелось писать. Сел на диван, посетовал на мороз, потом поднялся, ходил, рассматривая книги, взял фотопортрет Чайковского с письменного стола, повертел, поставил обратно, вернулся на диван и, наконец, как будто начал разговор:
— Хочу я сказать тебе, Антон... Знаешь, я хочу тебя спросить, что у тебя всё время торчит здесь этот приживала с усами Иваненко?
— Он друг покойного Коли, старый друг семьи. Здесь я его устраивал секретарём к своему соседу и земскому начальнику князю Шаховскому. Он даже рассказики пишет.
И с ним всё время что-нибудь случается. На днях вместо водки выпил уксус.
— А ты сейчас работаешь? Новый рассказ?
— Пожалуй, повесть.
— Слушай, Антон, можно я тоже здесь присяду за столик и поработаю? По дороге появились мысли.
— Я тебе завидую. Ко мне сюда мысли не приходят. Только больные идут и днём и ночью. Молодой фабрикант женился, ничего не смог сделать с молодой женой — бежит ко мне. Старик, тоже фабрикант, наоборот: ему семьдесят пять, он женился, «понатужил себя», по его собственному выражению, и тоже ко мне: «ядрышки болят». Девочка с червями в ухе, поносы, рвоты, сифилис. Хочу нанять доктора, чтобы заменял меня. А сам буду писать. Что тебе? Бумагу, чернила?
— Я карандашом — быстрее.
Потапенко сел как-то не очень удобно, на краешек стула, согнулся над бумагой и начал быстро строчить, словно откуда-то переписывал.
В своей рукописи хотелось использовать из записной книжки неплохую, кажется, запись:
«Любовь есть благо. Недаром в самом деле во все времена почти у всех культурных народов любовь в широком смысле и любовь мужа и жены называются одинаково любовью. Если любовь часто бывает жестокой и разрушительной, то причина тут не в ней самой, а в неравенстве людей.
Когда одни сыты, умны и добры, а другие голодны, глупы и злы, то всякое благо ведёт только к раздору, увеличивая неравенство людей».
Ввести этот пассаж в текст следовало естественным образом, и он написал:
«— А всё-таки без любви нехорошо, — сказал Ярцев, идя за ней. — ...»
Переход к тексту записи не получался, и он задумался. Тем временем Потапенко исписывал уже третий лист. Он почти не отрывал карандаш от бумаги, ни разу не остановился, ничего не поправил.
Слова Ярцева решил продолжить так:
«Положительно не понимаю, господа, что вы все имеете против любви? Ведь как ни философствуйте, а в конце концов она всё-таки благо. Если подчас она бывает жестокой и разрушительной, то причина ведь не в ней, а в нас самих...»
Он написал несколько строчек, а на столике у Игнатия лежала уже целая стопка исписанных листов.
— Скажи, пожалуйста, Игнатий Николаевич, как это ты ухитряешься так скоро писать? — спросил он. — Ведь я написал всего только десять строк, а ты накатал уже целые пол-листа.
— Есть бабы, — отвечал Потапенко, продолжая писать, — которые не могут разрешиться от бремени в течение целых двух суток, а есть и такие, которые рожают в один час.
— Можно посмотреть, что ты там родил?
— Ради Бога, Антон.
Поразило полное отсутствие каких-либо поправок: ничего не зачёркнуто, ничего не вписано.
— Правишь, когда перечитываешь?
— Я никогда ничего не перечитываю и не правлю. Зачем править? Разве я плохо пишу?
— Здесь бы я поправил: «лицо, обрамленное как бы ещё молодой растительностью». Или здесь: «сердце его обливалось кровью, и холод сковывал всё его тело». Это же не твоё. Эту глупость написал кто-то ещё лет тысячу назад.
— Не будь занудой, Антон. То, что ты заметил — пустяк, не мешающий читающей публике понять мои мысли. Какой-нибудь Протопопов, может быть, заметит и обругает. Он и тебя ругает. А Толстой мои рассказы любит. Мне передавали.
Он сгрёб написанное, сложил и сунул в карман пиджака.
— Твоя «Жизнь», Игнатий, в Малом прошла хорошо. Вся наша эскадра была в восторге.
— Теперь пойдёт в Александринке. Давыдов будет играть[51].
— М-да... Как это там у тебя?.. Да. «Факел истины обжигает руку, его несущую».
— Ещё как обжигает, Антон.
Как будто собрался уйти, но остановился, замялся и сказал, не глядя в глаза:
— Знаешь, Антон, что... Такое случилось. Не дюже гарно.
— Что случилось?
— Я влюблён в Лиду.
— М-да... Она ведь уезжает в Париж.
— Не завтра же уезжает.
Помолчали. В тёмных итальянских окнах колыхались языки горящих свечей.
— Мороз крепчает, — сказал Чехов. — А в Африке, наверное, жарища сейчас. Как твои девочки?
— Хорошо. Здоровы. Старшую хочу учить танцам.
— Споем после ужина?
— А як же.
— Нашу хохлацкую:
Променял вiн жiнку На тютюн да люльку, Необачный...Новый год в Мелихове, как и во всей России, встретили, по обыкновению, пьяными застольями, пожеланиями и надеждами, а проснувшись в 1894-м, с похмельным пессимизмом почувствовали предстоящие перемены — ведь в России происходят лишь перемены к худшему.
XXXI
Она знала, что если не выиграет его, не сделает своим, то окончательно погибнет. Если бы знать, что надо сделать, как вернуть его милую мягкую улыбку, предназначавшуюся только ей и сменявшуюся напускной строгостью старшего, скрывавшую его естественное мужское чувство к юной чистой девушке, какой она была тогда?
Узнала от одной старушки, навещавшей бабушку, что есть некая мудрая дама, и известны случаи, когда она сумела помочь. Разузнала адрес и всю ночь ворочалась в одинокой постели в квартире, снятой на Арбате. Надеялась, сомневалась, смеялась над надеждами и вновь надеялась. Поднялась затемно, одевалась при свечах — синенький январский рассвет робко напоминал, что ещё будет лето и, может быть, будет счастье. Уходя, помолилась перед иконой Богородицы. Напротив образа, на другой стене — картина «Осень»: группы берёз на ветру, ещё в жёлто-зелёной растрёпанной листве; не лес и не роща, а какой-то луг весь в рытвинах на склоне, косой плоскостью занявшем полкартины. Неясно, грустно, неуютно, как в её жизни. Надпись: «И. Левитан — Л. Мизиновой на добрую память. 1892».
Пришла к мудрой даме на Басманную к назначенному часу. Окна её комнаты уже светились утренней синевой, но над столом горела большая лампа-люстра, повешенная так, чтобы свет падал на стол, покрытый белой клеёнкой, и на посетительницу. Хозяйка сидела в тени, и Лика видела лишь её большие внимательные глаза с искорками света и широкий подбородок. Присмотревшись, разглядела крупное лицо в мягких морщинах, спокойное и понимающее.
— Всё вижу, всё знаю, — сказала дама. — Без карт знаю, но для чина спросим и у карт. Вот он, твой король бубновый. А вот и дамы вокруг. Не одна. Но на сердце у него они не лежат. Видишь? Правду карты говорят?
— Правду, — вздохнула Лика.
— А вот и ты — бубновая дама. Ты к нему ближе, чем они. Но мешают тебе многие. И короли, и валет какой-то. Дай теперь мне руку твою и рассказывай. Отдала ему свою любовь? Познал он тебя как женщину?
— Нет. Я хотела, но...
— А пиковая дама его любовница?
— Да.
— Верно знаешь?
— Да, — всхлипнула Лика. — Сама мне рассказывала.
— Любовная линия у тебя слабая. Трудно тебе с ним, милая?
— Ох трудно.
— Давно с ним мучаешься?
— Пятый год пошёл.
— Не гадалка тебе нужна, не ворожея, а советчица. Чтобы научила, как это сделать.
— А что надо делать?
— Руками надо взять крепко-крепко и держать со всей силой, чтобы другие не отняли.
— Это вы в переносном смысле? Не могу же я человека руками...
— Не человека, а его любовный орган. Возьмёшь в руки — и весь он твой. Только ты не сможешь — любовная линия слабая.
— Что же делать? Если он не будет моим, я погибну.
— Есть для тебя способ, — сказала дама, подумав. — Добавишь ещё пять рублей.
— Конечно. Пожалуйста.
— Он у тебя православный?
— Да.
— Сделаешь так: снимешь свой нательный крестик и наденешь на него. Пусть поносит твой крест. Почувствует его как свой.
— Как же?.. А долго он должен ходить с моим крестиком?
— Чем дольше, тем сильнее почувствует, сильнее привяжется. Пусть хоть день, хоть полдня.
— Но как это сделать? Смогу ли я его уговорить?
— Исхитрись, милая.
XXXII
«Л. Мизинова — А. Чехову. 22 января 1894 г.
Глубокоуважаемый Антон Павлович. У меня к Вам большая просьба. Когда я была в Мелихове, то забыла свой крест и без него чувствую себя очень скверно. Я говорила Маше, но боюсь, что она забудет. Я его повесила на край Машиной кровати около умывальника. Ради Бога, велите поискать и наденьте его на себя и привезите. Непременно наденьте его, а то Вы или потеряете, или забудете иначе. Приезжайте, дядя, и не забудьте обо мне.
Ваша Лика».
Он сидел над романом, листал записную книжку, выбирая подходящие записи. Задумался над страницей, отмеченной рукой Танечки Щепкиной-Куперник, — через всю страницу, поверх записей, красными чернилами: «Антоша, мы вас обожаем».
Прочитав письмо Лики, решил, что есть повод поговорить с Машей. Нашёл сестру в её комнате за мольбертом — писала зимний пейзаж. Похвалил — пейзаж действительно получался, жаль только, что получался похожим на тысячи других пейзажей, написанных тысячами художников.
— Лика говорила тебе, что забыла у нас свой крестик?
— Нет, но я его нашла. Он там, на столике.
— Поедешь в Москву — не забудь захватить.
— Хорошо.
И потом, будто случайно вспомнив:
— Кстати, я забыл спросить, Таня и Яворская тогда ночевали в твоей квартире?
— Ты же сам передал мне записку. Потом как-то ещё раз ночевали, когда меня не было.
Вернулся к себе, сел в кресло и подумал, что надо срочно уехать за границу или в Крым, чтобы освободиться от странных отношений со странными людьми. Недавно в Москве он получил записку от своих луврских сирен:
«Немедленно, прошу Вас, заезжайте на квартиру Марьи Павловны или как бы то ни было предупредите тех, кто там находится (находится ли там кто-нибудь?), что Лидия Борисовна проведёт там сегодняшнюю ночь.
Татьяна и Лидия».
Всего на несколько дней приезжала Таня в Мелихово, и чуть ли не на второй день после её приезда пришло письмо от Лидии:
«Дуся моя, пора!.. С пера больше не капают стихи, а писать Вам в прозе по чувствам моим совершенно не в состоянии, поэтому пришлите мою Таню. Пусть лучше погибну, но Вам буду писать в стихах! Серьёзно, пожалуйста, уговорите её приехать...»
В Москве, в редакции «Русской мысли», встретил Гольцева, вышли вместе, сильно мело, спешили в разные стороны, однако Виктор нашёл закоулок без ветра, остановил и спросил шутливо, но с осторожностью, как рассказывают острые анекдоты в незнакомой компании:
— Как адмирал относится к этим сплетням о наших сиренах? Может быть, пора пресечь или высечь?
— Кого будем сечь?
— Или сплетников, или грешников, то есть грешниц, хотя и сплетня тоже грех. Что молчишь, Антон? Неужели ничего не знаешь?
— Я ведь живу отшельником в пустыне.
— Начитались наши сирены Мопассана или, скорее, Золя. Помнишь «Нана»? Она тоже этим занималась. Уже чужие люди говорят, что у Таньки роман с Лидией...
Писатель Чехов никого не судит — он не хочет участвовать. Даже не хочет знать. Поэтому он и не продолжил знакомства с Мережковским[52], с которым встретились в Италии во время путешествия с Сувориным. Зинаида Гиппиус тогда слишком горячо убеждала его о преимуществах брака втроём, а не получив ожидаемого ответа, сказала: «Никогда не станете большим писателем — вы слишком нормальны».
XXXIII
Небо душило мутной гущей облаков, задымивших Аюдаг, они опускались до крыш Ялты, стаивали белым туманом над стеклянно-сизым морем. Истерически кричали невидимые чайки, мучил кашель, сердце давало перебои. Хотелось телеграфировать Суворину, чтобы выслал в долг тысячу, и уехать в Париж.
Он знал, что Лика и Варя Эберле едут туда и что там живёт супруга Потапенко, но срочный отъезд Игнатия, сразу следом за Ликой и Варей, вызвал, казалось бы, забытую, не совсем понятую тоску: не то ревность, не то сожаление о несостоявшемся, не то неприличную игру раненого самолюбия. Кашель не прекращался, и приходили унылые мысли о том, что он прозевал и Лику, и здоровье.
Яворская тоже уехала за границу от московского Великого поста, но телеграмма с дороги в Ялту неожиданно была подписана двоими: «Ждём в Париже. Любим, целуем. Таня, Лида. Варшава. 6 марта». Не совсем, конечно, неожиданно, тем не менее и это неприятно раздражало.
Но вскоре море заиграло золотистыми гребешками, на подсохших тротуарах появились гуляющие в летних пальто, сердце успокоилось, и ялтинские девицы на набережной даже показались похожими на римских черноглазок. Он знал только одно итальянское слово, когда путешествовали с Сувориным, и неустанно пользовался им, задавая каждой встречной одинокой барышне вопрос: «Guanto?[53]» Они удивлялись, возмущались, смеялись, и лишь одна ответила: «Cinguo»[54]. Суворин был страшно доволен.
Ялта, как и он сам, конечно, изменилась за пять лет — другие ветры, другие люди. Мадам Яхненко, пообещавшая как-то купить «всю эту поганую Ялту со всеми татарами, хохлами и шмулями», разъезжала по столицам. Дача Стрепетовой в Аутке пустовала — знаменитая актриса, учившая его, как правильно писать пьесы, стала героиней жизненной драмы: застрелился её новый муж. Был в два раза моложе её, ревновал супругу, терпел насмешки, но терпения не хватило. Гурлянд служил в Ярославле. Леночка тщательно пытается стать актрисой в обществе, которым руководят Немирович-Данченко и Костя Алексеев, собиралась на лето в харьковское имение, жаловалась на мать, потребовавшую от неё «определиться», что означало выйти замуж.
Изменился не только он сам, писатель Чехов, но изменилось и представление других людей о нём. Он стал писателем, которого знает Россия. В первый его приезд сюда о нём слышали, кое-кто читал его рассказы в «Новом времени». Тогда тоже встречали, но знали немногие. Теперь его узнавала вся набережная, и гулять одному было неприятно. Спутники, разумеется, нашлись. Главный бас Большого театра Миров жил в той же гостинице «Россия» и сам пришёл с визитом, «как поклонник таланта и пациент» — жаловался на лёгкие. Конечно, и во время прогулок с ним узнавали, но теперь узнавали двоих. Знакомые говорили, что люди на набережной специально собираются глазеть на знаменитостей.
Миров дал концерт — пришлось, конечно, пойти. Зал — битком, певец получил чистых сто пятьдесят рублей, а местный журналист объяснил, что пришли не на Мирова, а на Чехова. Возможно, так и было — он сам слышал в фойе со всех сторон: «Чехов! Вон он стоит! Вон он пошёл!»
Если ты признанный русский писатель, то от тебя ожидают новых слов, новых образов, новых серьёзных мыслей — русские читатели привыкли получать это от Гоголя, Пушкина, Тургенева... Он должен был написать хотя бы один рассказ, поднимающий человека над суетой его короткой жизни, чаще всего бестолковой и неудачной, напомнить о высших ценностях бытия, о том, что и он идёт в непрерывном ряду тех, кто вёл человечество из первобытных пещер к благам цивилизации. Он должен показать, что свет правды и красоты освещает жизнь каждого даже самого тёмного, замученного нищетой и работой крестьянина, тупой, неграмотной, забитой русской бабы.
Он знал, какими словами можно взволновать душу необразованной, неграмотной женщины, как знали это великие основатели христианского учения. Он видел героя, молодого студента, думающего о несчастной нищей жизни своих земляков, верящего в силу слова добра и правды.
В страстную пятницу, в холодный ветреный вечер, студент рассказывает у костра евангельскую притчу о Петре двум женщинам-вдовам — матери и дочери:
« — ...Он третий раз отрёкся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Пётр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошёл со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, тёмный-тёмный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...
Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слёзы, крупные, изобильные, потекли у неё по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня...»
Работа над этим рассказом занимала его больше, чем обычно. Он поспешно пообедал, отказался и от отдыха, и от прогулки. Его гостиничный номер, выходивший окнами на море, был так наполнен светом, что хотелось немного пригасить. Незаконченная рукопись звала к работе, посетителей он не ждал и, когда постучали, намеревался встретить резким отказом, но... На пороге стояла милая молодая блондинка и смотрела на него робко и в то же время настойчиво, словно забыла здесь что-то и просит, чтобы ей отдали.
Он пригласил её в комнату, помог снять пальто, усадил в кресло. Дама молчала, несмело глядя на него.
— Чем могу служить?
— Извините... Простите меня! Я хотела... на вас посмотреть. Я никогда не видела писателя...
После её ухода он закончил рассказ:
«И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.
А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».
XXXIV
Он знал, что рассказ удался. Написать его он смог, только оказавшись в одиночестве — но и среди людей, как в Риме, в толпе у Ватикана, как во время поездки в Европу. Двигался вместе со всеми без всякой цели, сливался с толпой психически, чувствовал её настроение, но оставался самим собой, со своими мыслями, с собственными оценками происходящего. Подобное чувство испытал он теперь и в Ялте: толпы гуляющих на набережной, множество добрых знакомых, с которыми можно беседовать, пить вино, лакомиться чебуреками, но ты не связан ни с кем ни единой ниточкой. Одиночество в толпе — лучшее место для писателя.
Рассказ назвал просто: «Студент». Вернувшись домой, немедленно повёз рукопись Саблину для «Русских ведомостей». С дедушкой надо, разумеется, обедать, и они сидели в «Эрмитаже». По случаю поста ели уху, осетрину по-монастырски, икру и прочее рыбное.
Рассказ Саблин бегло просмотрел, сказал, что «пойдёт», и начал рассказывать о лекции, прочитанной Гольцевым на тему «Писатель Чехов», успевая одновременно оценивать качество блюд. Затем расспрашивал о Ялте, об общих знакомых. Узнав, что он там общался с критиком Оболенским, сказал:
— Он о вас писал давно и очень добро. Году так в восемьдесят пятом или восемьдесят шестом. Я помню его статью: «Молодые таланты: Чехов и Короленко».
— М-да... Чехов и Короленко, Чехов и Мопассан.
Писателя Чехова теперь знали и в ресторанах, и, разливая уху, половой спросил:
— Долго не бывали у нас, Антон Павлович, уезжать изволили? Господин Потапенко с Лидией Стахиевной зимой частенько заходили.
— Писал, братец, много. Семья большая — зарабатывать надо.
Пожаловался Саблину:
— Видите, как меня воспринимают? Чехов и Потапенко.
— Виктор в лекции тоже ставил вас рядом.
— Почему Игнатий так быстро уехал?
— Жена в Париже. У неё чахотка.
— И ваша любимая внучка неожиданно укатила.
— Я ей и помог. Лидочка уезжала, а Таня так грустила, так грустила, так не хотела расставаться. Она не могла ехать — не было денег. Я ей дал, и они уехали вместе. О них пошли всякие сплетни, но вы, разумеется, не верите?
— Разумеется.
Рассказ «Студент» был опубликован в газете «Русские ведомости» 15 апреля.
Семнадцатого апреля, в пасхальное воскресенье, во время высочайшего выхода, в тот момент, когда император и императрица вышли из своих покоев, отказало электричество, и Зимний дворец погрузился во тьму. Россия зашептала о грядущих бедах.
XXXV
Яворская была на несколько лет старше Татьяны и в несколько раз её наивнее: сама написала ему из Милана о порочащих её сплетнях, из-за которых с ней порвал киевский жених, и даже процитировала письмо бывшего жениха к её родителям:
«Вчера я получил известие из Москвы, что Ваша дочь уехала в Италию с г-жой Щ. К., с этим отъездом я, естественно, принуждён сжечь свои корабли и ни одним словом упрёка не коснусь Вашей дочери. Дело не во мне, но Ваша дочь летит в ужасную пропасть. Её связь с Щ. К. стала скверной басней Москвы, да оно и не удивительно — эта госпожа известная M-lle Giro ma femme[55], и прикосновение к ней не проходит бесследно. Я знаю, что огорчу Вас, но всё же считаю долгом объяснить Вам это обстоятельство...»
А письмо другой Лидии с дороги, из Берлина, показалось обыкновенным:
«Когда я завтра буду в Париже, то почувствую уже совершенную весну. Я всё-таки скучаю иногда, дядя! Здесь в несколько часов немецкий язык привёл меня в исступление, мои познания в нём оказались вполне удовлетворительными, и меня понимают. Сейчас я зашла обедать в ресторан гостиницы, поела какой-то немецкой гадости и пишу Вам. Хочется поскорей добраться до места и хочется также и Берлин посмотреть, ведь я скоро умру и больше ничего не увижу. Напишите мне, голубчик, по старой памяти и не забывайте, что дали честное слово приехать в Париж в июне. Я буду Вас ждать, и если напишете, то приду Вас встретить. У меня Вы можете рассчитывать на помещение, стол и все удобства, так что только дорога будет Вам стоить. Пишу Вам свой адрес на случай, если Вы раскачаетесь мне написать. Ну до свидания, слышите, непременно. До свидания в Париже.
Не забывайте отвергнутую Вами, но…………..
Где вы, дядя? Я по крайней мере уже в Берлине и отправляюсь дальше сегодня! Хотя Вы и не хотели меня знать последнее время, но я всё-таки хочу Вам написать. Воображаю, сколько телеграмм и писем получили Вы уже от Ваших дам из Италии. Ведь Таня тоже уехала. Здесь совсем весна — я приехала сегодня и поразилась: все ходят в одних платьях — значит, Вы не важничайте и не думайте, что только у Вас в Крыму тепло».
Ответил ей в обычном стиле:
«...Хотя Вы и пугаете в письме, что скоро умрёте, хотя и дразните, что отвергнуты мной, но всё-таки спасибо. Я отлично знаю, что Вы не умрёте и что никто Вас не отвергал...»
Но в её письме из Парижа он узнал знакомую режущую фальшь:
«Потапенко почти не вижу, а не то чтобы ехать с ним в Россию! Он заходит иногда утром на 1/2 часа и, должно быть, потихоньку от жены. Она угощает его каждый день сценами, причём истерика и слёзы через полчаса».
Подобное она ему уже писала:
«...ещё и Левитан, на которого, впрочем, мне приходится только облизываться, так как ко мне близко он подойти не может, а вдвоём нас ни на минуту не оставляют...»
XXXVI
В сентябре направились с Сувориным за границу и по дороге на несколько дней заехали в Ялту. Вечером в саду покровитель дал роскошный ужин человек на пятьдесят. Собрались в основном местные чиновники и люди Чехову или неизвестные, или неприятные. По-южному быстро темнело, духовой оркестр играл вальс «Воспоминание», из подступавшей совсем близко к столикам чужой равнодушной ночи в сердце проникала необъяснимая тоска.
Невысокая молодая дама в роскошном платье и модной парижской шляпке несколько раз обошла веранду ресторана, где неразборчиво-монотонно говорились длинные тосты, бегали половые, разнося по столикам горы винограда, и как бы в одиночестве сидел задумчивый Чехов. Она так хотела подойти к нему, вызвать милую добрую улыбку, успокоить, утешить, но правила приличия не позволили это сделать.
Дама покинула сад, вышла на набережную и смешалась с толпой. Здесь, как и всегда в Ялте, было много генералов и пожилых женщин, одетых как молодые. Многие с букетами шли к пристани встречать пароход. По морю от луны шла трепещущая золотая полоса. Дама прошла мимо павильона Верне, где ярко горел свет и за столиками сидели молодые люди и чему-то смеялись. Здесь она повернула от моря к домам и прошла в Черноморский переулок.
Остановившись напротив дачи Фарберштейна, дама немного поплакала, вспоминая счастливое утро, когда на этом уголке под сафорой ждала писателя Чехова исполненная надеждами юная Леночка Шаврова, ныне госпожа Юст, супруга высокопоставленного чиновника, близкого к императорскому двору.
Тем временем ужин в саду продолжался. Суворин сидел в окружении местной знати. В самый разгар тостов и разговоров он вдруг поднялся, подошёл к Чехову, отозвал его в сторону и тихо сказал:
— Человек из Ливадии конфиденциально сообщил: император умирает. Послали за наследником — будут срочно венчать с немкой прямо здесь. Пропадает Россия, голубчик.
Александр III умер 20 октября.
В те же октябрьские дни скончался и неоконченный роман о купеческом семействе, или роман из московской жизни, как он объяснял Лаврову. Судьба вновь не позволила стать романистом, потому что он предназначен быть великим драматургом, причём действовала судьба теми же руками, что и прежде.
В Ницце он получил письмо от Лики: «...Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте! От неё не осталось и помину! Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь, не оставив, как говорится, камня на камне! Впрочем, я не думаю, чтобы Вы бросили в меня камнем! Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и к их недостаткам и слабостям!..»
Она перебралась из Парижа в Швейцарию, в Монтре, и теперь стало понятно, по какой причине. О его равнодушии к людям эта женщина могла бы не упоминать.
В Богимове он скомкал «Дуэль», теперь на половине бросал рукопись романа. Тогда написал «Попрыгунью» и сейчас не мог преодолеть неистового желания написать злой рассказ.
Возвращаясь в Россию, думал о новом рассказе, листал записную книжку, выискивая подходящие записи и делая новые. Со злой иронией представлял себя сильным и лёгким хищником, готовящимся к прыжку.
Москва плакала навзрыд осенним дождём, и на вокзале его встречали три зонтика: Маша, Гольцев и Саблин. Лобызались, дождь смывал поцелуи, Гольцев оставался верным себе при любой погоде и сказал короткую речь из-под зонтика:
— Господа, позвольте мне, лысому российскому либералу, поприветствовать великого русского писателя Чехова...
— И Потапенко, — дополнил великий русский писатель. — Я привык к тому, что нас всегда упоминают вместе.
— Потапенко тоже... хороший русский писатель, — согласился Гольцев, — но его здесь нет, и мы не должны его приветствовать.
— Мы должны поздравить его с тем, что он в скором времени ещё раз станет отцом.
— Ты знаешь? — спросила Маша. — Ты был у неё?
— Нет, ехать в Швейцарию мне было не с руки.
Мужчины не удивились: по-видимому, уже знали.
— Антон, в Мелихово нам не доехать: дожди уже несколько дней и дороги совсем нет.
— Он и не собирается в Мелихово, — убеждённо сказал Гольцев. — Адмирал не бросит свою эскадру.
— Обе мои внучки здесь! — радостно объявил Саблин. — И ждут Авелана.
— В том же «Мадриде»?
— И в том же «Лувре».
Его проводили в «Большую Московскую», и в номере он написал на гостиничной голубой бумаге, приготовленной специально для него, своё первое после возвращения сочинение:
«Т. Л. Щепкиной-Куперник.
Наконец волны выбросили безумца на берег……………..
и простирал руки к двум белым чайкам »
XXXVII
Александр Павлович Чехов смирился с участью мужа Натальи Александровны, давно потерявшей очарование молодости... не только потому, что не было выбора, не только за её прекрасное отношение к детям, но, может быть, самое главное, за её безупречное поведение в моменты, которые доктор Антон Чехов назвал приступами амбулантного тифа.
Очередной приступ начался с дождём, залившим Петербург с тупой аккуратностью механической пожарной машины, которую забыли выключить. Над тротуарами поднимался пар и, смешиваясь с низкими облаками, заволакивал окна туманом. Жить было невозможно, и, глядя не на жену, а в страшное окно, за которым дымился ад, он угрюмо сказал:
— Мать, пошли за пивом.
Молча вышла, распорядилась, и вскоре появились три бутылки портера: другого горничная не нашла.
Он залпом выпил два стакана, налил Наташе, открыл вторую бутылку, почувствовал некоторый прилив оптимизма и заметил, что туман в окнах изменил окраску — появились летние сумерки.
— Поедем, Наташ, летом в Мелихово. Мишку возьмём — Антон его полюбил. Как там наши ребята, не обижают его?
Наташа послушно пошла в детскую, вернулась, сказала, что дети спокойно играют.
— Тогда пора бы и закусить.
— Придётся самой идти за водкой. — Нюра ушла.
— Ты не в лавку, а в подвал.
Наташа почему-то задержалась. В груди его невыносимо жгло, и появилась блестящая мысль: выйти встретить жену и там, на улице, сразу выпить. Быстро оделся, вышел, зашагал к трактиру, спустился в подвал. В тёплом сумраке Наталью не нашёл. Сунув руку в карман, почувствовал приятную плотность смятых денег. Рубль, пятирублёвка, ещё рубль, ещё... Дышать стало легче, и он сел за столик, напротив некоего измятого человека, рассматривающего его с пьяным недоумением. Заказал две рюмки и килечки.
Сосед, направив на него водянистый взгляд, сказал с каким-то неясным намёком:
— Нынче монополия. Вы согласны?
Не получив ответа, подождал, когда половой принёс заказ Александру, и попросил себе рюмку. Залпом опустошив обе свои рюмки, Александр потребовал повторить и предупредил медлительного полового:
— Чтобы всё было отчётливо.
Когда принесли водку, сосед сказал:
— Монополию Витте вводит[56]. Немец.
И вдруг, словно чего-то испугавшись, сказал совсем другим, пустым голосом:
— Выпьем за здоровье молодого государя, его величество Николая Александровича!
Александр согласился — он считал, что интеллигенция, общаясь с народом, должна уважать политические убеждения младшего брата.
После нескольких рюмок у него возникла ещё одна блестящая мысль: зачем ждать лета, если в Мелихово можно уехать прямо сейчас и оттуда телеграммой вызвать Наталью с детьми. Его организм давно приспособился выполнять задуманное при полностью выключенном сознании, и через два дня он с удивлением увидел себя на станции Лопасня, в зале возле буфетной стойки. Грязный, небритый, без шапки стоял он перед буфетчицей — дебелой француженкой, у которой обычно выпивал бокал финь-шампани. Она смотрела на него с ужасом, а он бормотал:
— Ма chére... Mon ange... Vous comprene...[57] Я потерял деньги...
— О-о!.. Вы есть Александр Павлович?..
XXXVIII
Днём пришло письмо из Петербурга от Наташи: «Дорогой Антон Павлович. Очень прошу Вас написать мне, не у Вас ли мой муж? Этот странный человек уехал, когда меня не было дома. Я измучилась, где он и что с ним?..»
Вечером со станции привезли Александра. На следующее утро, когда шла работа по превращению половинки незаконченного романа в нечто такое, что можно считать законченным, брат пришёл каяться. Он его сразу перебил:
— Перестань, о бедный, но благородный брат! Я как присяжный заседатель Серпуховского суда объявляю твой приговор: виновен, но заслуживает снисхождения. Всё. Заседание окончено. У меня много работы.
— Прости, Антон, я ещё хотел узнать... Маша говорила, что-то с Ликой...
— Восьмого ноября сего тысяча восемьсот девяносто четвёртого года госпожа Мизинова родила дочь от господина Потапенко. Нарекли Христиной.
Александр ушёл, и оказалось, что полромана вполне можно напечатать, как отдельную вещь. Требуется лишь сделать какой-то конец, придумать название и определить жанр.
Конец так и пришлось взять «какой-то». Вместо развития действия, которое намечалось в романе с возникновением любовного треугольника, пришлось закончить вопросом:
«...Ярцев как-то радостно и застенчиво улыбался и всё смотрел на Юлию, на её красивую шею. Лаптев следил за ним невольно и думал о том, что, быть может, придётся жить ещё тринадцать, тридцать лет... и что придётся пережить за это время? Что ожидает нас в будущем? И спрашивал себя: что, если Ярцев полюбит его жену?
И думал: «Поживём — увидим».
С названием часто возникали трудности, а теперь не захотелось мудрствовать: примерно три года сидел над рукописью, пусть так и называется: «Три года». Жанр... Например, «Сцены из семейной жизни» или просто рассказ.
XXXIX
Игнатий, конечно, заслужил место в злом рассказе своей поразительной, наглой безнравственностью: зная о её беременности, приехал к нему просить денег и ни слова не сказал о случившемся. Как близкие друзья ездили с ним на Волгу, откровенничали. Вернее, он как бы откровенничал о своих двух жёнах, ничего не говоря о любовнице. Даже сделал его доверенным лицом: уезжая в Париж, просил держать это в секрете и говорить всем, что уехал на Украину к отцу.
Но в такой рассказ его не возьмёшь: ловко прикрылся мужской дружбой, духовной связью, которую не могут разрушить никакие внешние обстоятельства. Даже намекал на возможность самоубийства. Собственно, он и не очень виноват: обыкновенный слабохарактерный мужчина, женолюбивый и безответственный. Любовник героини рассказа ничем не должен быть похож на него, разве только тем, что имеет жену и не имеет денег.
Чтобы высказаться резко и прямо, но не от имени писателя Чехова, избрал форму беседы автора с героем, который и является рассказчиком. Он и высказывается:
«Едва мы женимся или сходимся с женщиной, проходит каких-нибудь два-три года, как мы уже чувствуем себя разочарованными, обманутыми; сходимся с другими, и опять разочарование, опять ужас, и в конце концов убеждаемся, что женщины лживы, мелочны, суетны, несправедливы, неразвиты, жестоки, — одним словом, не только не выше, но даже неизмеримо ниже нас, мужчин...»
Героиню назвал Ариадной, по имени одной таганрогской дамы, с которой случилось подобное происшедшему в рассказе. Сделал её не полной блондинкой, а худой брюнеткой, что, разумеется, вызовет улыбку у некоторых читателей.
«Она покорила меня в первый же день знакомства — и не могло быть иначе. Первые впечатления были так властны, что я не расстаюсь с иллюзиями, мне всё ещё хочется думать, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой-то широкий, изумительный замысел...»
О неприглядных отношениях Ариадны с любовником и с рассказчиком написал жестоко, но при очередной правке исключил беременность героини — что бы там ни случилось, а женщина, ожидающая ребёнка, вызывает сочувствие, а он хотел возбудить у читателей другие чувства.
«Она просыпалась каждое утро с единственной мыслью: «нравиться!» И это было целью и смыслом её жизни... Ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. То, что я был в её власти и перед её чарами обращался в совершенное ничтожество, доставляло ей то самое наслаждение, какое победители испытывали когда-то на турнирах. Моего унижения было недостаточно, и она ещё по ночам, развалившись, как тигрица, неукрытая, — ей всегда бывало жарко, — читала письма, которые присылал ей Лубков; он умолял её вернуться в Россию, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть денег и приехать к ней...»
Возможно, в этих строчках Игнатий узнает себя. В истерических письмах к Маше Лика писала: «Супруга выражала желание отнять у меня ребёнка и взять его к себе, чтобы он не мог привязать Игнатия ко мне ещё сильнее. Как тебе это нравится?! Ах, всё отвратительно, и когда я тебе расскажу всё, ты удивишься, как Игнатий до сих пор ещё не застрелился, мне так его жаль, так мучительно я его люблю!»
Ариадну показал читателю определённым образом: «Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая в Волочиске сердилась на таможенных чиновников, остановилась перед Шамохиным и сказала ему с выражением капризного избалованного ребёнка:
— Жан, твою птичку укачало!»
Ещё не закончив рассказ, он уже видел его излишнюю злую резкость и долго не хотел печатать. Когда Лавров его уговорил и рассказ был опубликован, она узнала себя и одно не очень приятное письмо ему подписала так: «Отвергнутая Вами два раза Ар., т. е. Л. Мизинова».
ЧАЙКА 1895
I
кажут: опять Чехов изобразил своих знакомых и даже раскрыл эпизод из тайных похождений одной московской дамы. Литераторы, и в их числе, конечно, так называемые критики, ухмыльнутся, молча соглашаясь с мнением общественности, но будут вещать о неких веяниях и настроениях, которые уловил и показал в интересной, но спорной пьесе талантливый, но не имеющий чёткого мировоззрения писатель. Кто-нибудь, любуясь собственным красноречием, выразится афористически: «Жизнь сочинила пьесу — автор её записал». Произошло же обратное: сначала он придумал драму, потом жизнь разыграла её в лицах, и теперь, когда близится развязка, автор, понаблюдав развитие действия и оценив игру, создаст окончательный текст.
Он придумал эту историю ещё в Ялте, в свой первый приезд туда. Может быть, даже ещё раньше, во времена гимназии и Таганрогского театра, когда в мечты подростка начала являться героиня, прекрасная и несчастная.
Она должна без памяти любить театр.
Она должна стремиться на сцену, подобно мотыльку на огонь.
Она должна потерпеть неудачу на сцене.
Она полюбит недостойного и родит от него ребёнка.
Никому не расскажешь о том, как создаётся такая пьеса. Ни с кем не поговоришь о возможных вариантах развития сюжета, разве что с этой молчаливой собеседницей, появившейся перед его итальянскими окнами на второй день нового года, — ласку чистейшей белизны он заметил по её лёгкому и быстрому, как ветерок, движению. Она была белее снега, подсинённого январём, и не бежала по сугробу, не прыгала, не ползла, а плыла. Остановившись, исчезла — сделалась невидимой. Пришлось напрягать своё несовершенное зрение, чтобы найти на холмике под старой яблоней пару блестяще чёрных точек: ласочка смотрела на него с любопытством и сочувствием. Наверное, знала, как одинок он среди множества людей, топчущих землю и мешающих ей жить. Нет никого, кому он мог бы открыться, рассказать, какое тяжёлое и огромное сердце в его груди, как трудно жить, непрестанно ощущая эту тяжесть и боль, и при этом улыбаться, шутить, быть не только жизнерадостным участником развлечений с дамами и друзьями, но даже их организатором, адмиралом.
Фразу о сердце, большом и тяжёлом, он отдаст одному из главных персонажей пьесы — художнику, который обольстит героиню пейзажами и фразами и станет отцом её ребёнка. Скажут, что это опять Левитан, а вся пьеса — вариант «Попрыгуньи». Но автор не волен выбирать — хозяйничает сама пьеса. Для героини требуется человек искусства. Если он сделает его писателем, скажут, что это Потапенко.
Сверкание чёрных глазок зверька выражало некоторое осуждение: надо сидеть за столом и писать пьесу, а не пялиться в окно. Он объяснил, что великую пьесу можно написать лишь в том занесённом снегом домике, который для этого и построен — придётся ждать лета. Ласка, по-видимому, согласилась и легко и гибко поплыла по мягкому снегу.
Снег быстро начал синеть, и вскоре пришлось зажечь лампу. В литературном труде время сгорает подобно сухим берёзовым дровам, но разница в том, что тепла не остаётся. Продумал эпизод пьесы, сочинил две реплики, и кто-то черно-фиолетовый уже шлёпает бледными холодными губами и шепчет ночную страшную сказку. Прислушивайся и сочиняй свою старую сказку, которая вечно нова. Об этом и в письме от Лики из Парижа:
«То, что люди называют хорошими отношениями, по-видимому, не существует, ибо стоит человеку уйти с глаз долой, они забываются! Начинаю с философии, дядя, потому что более, чем когда-нибудь, думаю по этому поводу. Вот уж скоро два месяца, как я в Париже, а от Вас ни слуху! Неужели и Вы тоже отвернетесь от меня? Скучно, грустно, скверно. Париж всё более располагает ко всему этому! Сыро, холодно, чуждо! Без Вари я совсем чувствую себя забытой и отвергнутой! Кажется, отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на Вашем диване, поговорить с Вами 10 минут, поужинать и вообще представить себе, что всего этого года не существовало, что я никогда не уезжала из России и что вообще всё и все остались по-старому! Впрочем, надеюсь хоть немного всё это осуществить, и очень скоро. Всё зависит от того, когда накоплю денег настолько, чтоб хватило доехать и вернуться обратно! Думаю это сделать не позже февраля или начала марта! Напишите, что Вы думаете делать, не собираетесь ли путешествовать и вообще будете ли в это время дома. Впрочем, всё это я пишу по старой памяти, а если и не получу ответа, не удивлюсь. Я пою, учусь английскому языку, старею, худею! С января буду учиться еще массажу, для того, чтобы иметь некоторые шансы на будущее. Вообще жизнь не стоит ни гроша! И я теперь никогда не скажу, как Мусина-Пушкина: «Ах, прекрасна жизнь!»
Скоро у меня будет чахотка, так говорят все, кто меня видит! Перед концом, если хотите, завещаю Вам свой дневник, из которого Вы можете заимствовать многое для юмористического рассказа. «Das ist eine alte Geschichte, daß bleibt für immer neu!»[58]
Познакомилась с русской колонией! Всё люди, думающие, что совершают великие дела, а на самом деле не знающие, как убить время! Собираюсь завести салон и сделать из себя что-нибудь наподобие m-me Adam. Если приедете, напишите, хотя Вы двадцать раз собирались и ни разу не исполнили. Адрес мой Rue Boissi — ere Villa Michon 6. Если захотите остановиться у меня, то у Вас будет комната, общество интересной женщины, какой сделалась я, и все удобства! Прощайте, сделайте доброе дело и напишите.
Ваша Лика».
Он прошёл по засыпающему дому. Отец ещё не лёг. Постучал в его дверь, Павел Егорович пригласил войти. Встретил сына быстрым внимательным взглядом — часто так смотрел, словно ожидал чего-то неприятного.
— На нынешний день читаю, Антоша, — сказал он, указывая на раскрытую Библию.
— Какая служба на сегодня?
— Преподобных и Христа ради юродивых. Читаю вот:
«Если мы живём духом, то по духу и поступать должны.
Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
Братия! Если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым.
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните завет Христов».
— Дальше что идёт?
— Читается лишь до сих, Антоша.
— Дайте, я сам прочитаю.
— Это есть чтение не по уставу, и следует производить чтение про себя.
Прочитал про себя: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя».
— Если ты, Антоша, закончил своё чтение, то я хочу тебя спросить о положении в связи с войной японцев с китайцами. Японцы взяли Порт-Артур. Были на островах, теперь на земле. И наши границы рядом. Как ты понимаешь политику нашего правительства?
— У меня там знакомый моряк. Он мне обещал не отдавать японцам Дальний Восток.
— А война с японцами будет? В народе идёт такой слух, что ежели царя побили в Японии палкой, то он за эту обиду обязательно объявит им войну. И что будет?
— Пойду на войну врачом. Потом буду писать рассказы и воспоминания.
Долго бродил по дому, размышляя о странностях русского человека. В курсе мировой политики, рассуждает о возможностях войны с какой-то Японией, Писание читает вслух и не просто, а по обряду. Кто-нибудь ещё сочтёт его истинно религиозным, а он так далёк от христианского учения, как самый дикий африканский негр. Зверь в пиджаке, умеющий читать и играть на скрипке. Тиран в семье с жестоко сжатыми губами. Погубил жизнь матери и сыновей растил рабами. Он и убил веру в детях. Нет у писателя Чехова религии, нет веры, которая помогала бы ему жить и, может быть, сделала бы немножко лучше жизнь тех, кто его окружает.
В гостиной Маша не отдыхала в кресле от хозяйских забот, а продолжала считать и рассчитывать — он видел это по её усталому лицу, становящемуся в такие моменты неприятно мужеподобным, совсем не похожим на лицо девочки, заливавшейся слезами в ответ на предложение Левитана выйти за него замуж.
Звон дорожного колокольчика робко проник в мелиховскую ночь, потеснив отдалённый собачий лай, затем, осмелев, стал быстро приближаться.
— К кому бы это? — удивилась Маша. — Наверное, к Шаховским.
Но звон стремился к их дому и прекратился лишь у ворот. Визгливо залаяли таксы, загрохотал запорами Иван, Маша накинула платок и выбежала на крыльцо. Он не имел права простужаться, не дописав пьесу, и искал какую-нибудь одежду потеплее. Вышла мать в халате, он набросился на неё с упрёками, что никогда ничего не найдёшь в доме, когда что-то срочно требуется. Мать сразу прошла к старому шкафу в углу коридора и достала какое-то длинное поношенное пальто.
— Бери и не зявкай, — сказала она.
Когда, закутавшись в пальто и шарф, он вышел наконец из дома, то сразу увидел стоявшего перед Машей Левитана в большой меховой шапке, делавшей его смешным и похожим на маленького казачонка. Скрипела сапожками по снегу Татьяна Щепкина-Куперник в белом широком манто, под которым, наверное, ещё много всякой одежды, что делало её полной, напоминающей другую женщину, тоже приезжавшую к нему в сопровождении мужчин.
— Муся, — кричала Татьяна, — я привезла красное вино, о котором ты говорила, и сыр. Вели забирать из саней.
Исаак и он, взглянув друг на друга, почувствовали одинаковые импульсы встречи старых друзей и оба одновременно сделали движение навстречу друг другу. Ещё мгновение — и дружеские объятия, но он сдержал эмоциональный порыв и остановился на расстоянии рукопожатия. Руки художника, приготовившиеся к объятиям, упали, Чехов их подхватил, как бы производя двойное рукопожатие. Очень приветливо улыбнулся и сказал с хозяйской заботой:
— Наверное, устали, замёрзли? Маша, прикажи всё приготовить.
II
Жизнь постепенно втягивала в работу над пьесой: героиня писала письма, герой приехал сам. Ночью после ужина происходила долгая беседа, похожая на дружескую, но старательно обходящая некоторые темы. Кабинет был натоплен хорошо, но в разговоре холодало.
Он похвалил «Над вечным покоем», порадовался тому, что картину купил Третьяков, поинтересовался новыми работами.
— Чёрт его знает, — говорил Левитан. — В будущем году по случаю коронации пройдёт грандиозная Всероссийская выставка в Нижнем. Витте поручил Мамонтову строить павильон. Тот — самодур, чёрт его возьми... Берёт Коровина, Врубеля... Меня, конечно, не признает. Да чёрт с ним. Наше с тобой дело — работать.
— Хотелось бы побывать у тебя. Где сейчас твоя мастерская?
— В Трёхсвятительском. Пожалуйста, Антоша, в любое время. А ты сейчас над чем работаешь?
— Я как раз должен срочно ехать в Москву. Сегодня или завтра.
Левитан понял, помолчал и сказал грустно:
— Знаешь, Антоша, я хочу завтра уехать пораньше.
Разговор окончательно застывал, но появилась Татьяна. Её разочаровал холодный приём Левитана: хотелось видеть трогательный эпизод примирения со слезами и поцелуями. Раздражала высокомерная уверенность этой юной женщины в том, что всё всегда происходит так, как ей хочется. Хотелось сделать именно не так.
— Исаак боялся ехать, — сказала она. — Еле уговорила. «Вдруг, — говорит, — приедем некстати. Вдруг он не поймёт. Вдруг мы глупость делаем...»
Говорила и завораживала юным голоском и сложным взглядом, где открытость и наивность играли в жёстких рамках определённой цели, чаще всего мелкой, нелепой, недостойной, однако всегда достигаемой любой ценой. Написать плохую пьесу или плохие стихи, добиться постановки твоей плохой пьесы, перевести с французского пустую комедию — всё это ещё можно, как говорится, понять и простить, но с истерическим упорством добиваться, чтобы он сделал подарок на бенефис Яворской, причём тот, который она придумала для артистки, или, как теперь, добиваться, чтобы по её прихоти вдруг вновь сошлись поссорившиеся мужчины, и, главное, влюблять в себя всех мужчин и женщин — этого он не принимает. Ей требуется не любовь, а обязательное исполнение её каприза. Она в любви не отдаётся, а покоряет.
— Я ему сказала, — продолжала Татьяна, — что всё беру на себя.
— Вы приехали очень кстати, Танечка, — отвечал он шуткой, но с трудом скрывая раздражение, самому не очень понятное. — У нас ещё с Рождества сохнет недоеденный пирог. Не знали, кому скормить.
— О вашей жадности меня предупреждала Лика.
И смотрела в глаза с наивностью девочки, будто не понимая, отчего застыли, заледенели лица мужчин.
— Антоша, — нервно вскинулся Левитан, — а от новогодия не остался пирог? Я мечтал съесть гривенник. Наверное, уже съели? Кому досталась монета?
— Новый год — это заблуждение. Тридцать первого я лёг спать в десять часов, как обычно. Пирог ели за ужином, гривенник достался маме. Ещё одно массовое заблуждение — фен де съекль, конец века. Если кто-то придумал обозначать циклы оборота Земли вокруг Солнца теми или другими цифрами, то почему вдруг некоторые цифры могут вызывать у людей приступы пьянства и меланхолии или желание писать плохие стихи?
— Но вы же не будете отрицать, Антон Павлович, новые веяния в искусстве? — оживилась Таня. — Именно сейчас, в конце века, возникает искусство будущего! Происходит переоценка...
И заиграли, замелькали блестки слов: импрессионизм, идеализм, темперамент, символизм, декаданс... Фамилии, разумеется, иностранные вбивались как гвозди: Верлен, Ростан, Ибсен, Бьернсон, Сарду, Метерлинк, Золя, Бурже, Гауптман, Зудерман[59]...
Двадцатилетней женщине, сочиняющей плохие стихи, можно простить заблуждение — она верит, что всё это серьёзно, что это необходимо людям и влияет на их жизнь. Так происходит всегда. В его двадцать лет барышни декламировали «И блеснёт в небесах над усталой землёй золотая заря идеала», ломились на спектакли молодой Ермоловой, призывавшей к революции, читали листки «Народной воли», шли на тайные сходки, а некоторые шли дальше, вплоть до виселицы. Какой-то там Толстой или речь Достоевского о Пушкине не имели к ним отношения. Правда, были тогда и другие. Например, студент Антон Чехов, написавший великую, но непризнанную пьесу.
— Я же вам показывала книжку «Русские символисты», — продолжала Таня. — Разве это плохо? Настоящая русская современная поэзия.
— Это где заглядывают в дамские купальни?
— Не будьте неостроумным занудой, Антон Павлович. Хорошие стихи о красоте.
— А что там о купальнях? — заинтересовался Левитан.
— Совсем не то, что вам хотелось бы, Исаак Ильич. Я всё не помню, конечно, есть там: «Влюблённых наяд серебристые всплески! Где ревнивые доски вам путь преградят?»
— А что, Антон? Это же совсем неплохо.
— Или ещё: «И вспыхнули трепетно взоры, и губы слились в одно. Вот старая сказка, которой быть юной всегда суждено». Я сегодня вспоминал подлинник, а это плохой перевод. Русские символисты — это плохие поэты, которые были всегда. Раньше их выручали золотые идеалы и страдающие братья. Теперь это не идёт, а очень хочется, чтобы в стихах было что-нибудь, кроме рифм. Придумали символ. Раньше Татьяна просто оставалась верна старому мужу... Не эта Татьяна, Исаак, а другая. Теперь же это не просто верность в браке, а символ чего-то высшего. Татьяну они не могут написать — пишут про доски купальни. Эту книжечку издал какой-то купчишка Брюсов. Должно быть, богатый. Вся эта литература символистов, декадентов и прочих может существовать только за счёт богатых и недалёких людей.
— Но театр... — напомнила Таня.
— С театром совсем плохо — все великие драматурги живут в Париже. Говорят, они вас с Лидией Борисовной хорошо встречали?
— Очень хорошо, Антон Павлович. Почти так же, как вы нас с Исааком Ильичом.
— И кто же пишет пьесу для госпожи Яворской? Ростан или Дюма-сын?
— Ростан пишет для Сары Бернар на средневековый сюжет — «Принцесса Грёза». Но представьте себе, Антон Павлович, мы условились с ним, что я сразу перевожу, Корш ставит, Лида играет. Что делать? Вы же не написали для неё пьесу, хотя и обещали.
— Я не умею писать предсмертные монологи на десять минут, заканчивающиеся словами: «Пробил последний час моих страданий!» И у меня никак не получаются эпизоды, где героиня должна всё время стоять спиной к залу.
— Вы сегодня просто неостроумны, Антон Павлович. Благодарите Бога и меня за то, что Лида не узнает об этих ваших выпадах. Пойду к Мусе жаловаться на вас.
Без Татьяны вновь похолодало.
— За что ты на неё так? — спросил Левитан.
— Посвящаешь делу жизнь, пишешь буквально кровью, а для них это лишь удобный случай продемонстрировать на сцене свою голую спину. Видел Яворскую у Корша?
— Видел. И спину тоже видел.
Они посмеялись, но не очень весело. Встреча заканчивалась не начавшись. Левитан пытался найти здесь то, что когда-то потерял, но у хозяина Мелихова этого уже не было. Автор будущей пьесы, выполненной в новых формах, примеривал героя, и он, кажется, не подходил. Тот должен говорить увлекательно и современно. А художник всё ещё пытался что-то найти. Смотрел в окна на сугробы, угрожающие своей непреклонностью никогда не растаять.
— Антон, а что это за домик там, в саду? Весь занесён снегом, и тропинки к нему нет. Я не помню, чтобы он был здесь раньше.
— Я его построил этим летом.
— Зачем такой маленький дом?
— Летом я напишу там пьесу, которую давно задумал, но не мог над ней работать, потому что не было этого дома. Пьеса о декадентах. Наша милая Танечка думает, что она и её друзья только сейчас открывают декаданс, а это началось, когда она ещё только училась читать. Первым декадентом был мой приятель Бибиков, писатель, киевский мещанин. Весь декаданс он придумал, когда лечился в Кирилловке — это сумасшедший дом под Киевом. Умер несколько лет назад. По-моему, ещё и тридцати ему не было.
Левитан бродил по кабинету, продолжая что-то искать. Смотрел книги на полках, указал на одну из самых новых: первый том пятитомника Мопассана с предисловием Толстого:
— У меня тоже есть. Прочитал предисловие? Мне вот это нравится: «Мопассан был талант, то есть видел вещи в их сущности и потому невольно открывал истину».
— М-да... Он как Виктор Гольцев, тот о чём ни начнёт — обязательно приходит к конституции, а он — к христианству.
— А что ты думаешь о Мопассане?
— Одна фраза у него мне нравится. Я её украду и начну с неё мою пьесу: «Я всегда хожу в чёрном — это траур по моей жизни».
Утром Чехов нашёл на письменном столе записку: «Сожалею, что не увижу тебя сегодня. Заглянешь ли ты ко мне 28-го? Рад несказанно, что вновь здесь, у Чеховых. Вернулся опять, к тому, что было дорого и что на самом деле не переставало быть дорогим...» Чехов отбросил эту записку, не дочитав.
III
Она полюбила недостойного, имевшего двух жён, родила от него, он её бросил, она несчастна и т. п. Далее можно придумать какую-нибудь развязку — и вот вам сюжет пьесы. Такие пишутся, ставятся, нравятся. Автора не интересуют причины событий, изображаемых им в пьесе, но в процессе сочинения реплик может появиться и какое-то обобщение, объяснение. Лучше, если с намёком на царящее в стране беззаконие, на невежество и нищету народа, бездействие властей и т. п. И чтобы героиня стояла спиной к зрителям.
У него теперь был «свой» номер в «Большой Московской» — пятый. На письменном столе приготовлена пачка любимой голубой бумаги, но начинать пьесу ещё рано: ещё неизвестно, почему должно произойти то, что произошло. В хорошей пьесе не допускается придумывание причин происходящего — их надо искать в жизни. Нельзя давать волю эмоциям и наказывать не нравящихся тебе персонажей только за то, что они тебе не нравятся, как он это сделал в «Попрыгунье» и в «Ариадне».
Однако жизнь пока ничего не подсказывала. Принесли записку от Яворской: «Буду в 3 ч.». В «Русской мысли» дали текст петиции, подготовленной литераторами для подачи молодому императору. Надо прочитать и решить: подпишет ли её писатель Чехов. Наверное, подпишет:
«...в составе Ваших подданных есть целая профессия, стоящая вне правосудия — профессия литературная. Мы, писатели, или совсем лишены возможности путём печати служить своему обществу, как нам велит совесть и долг, или же вне законного обвинения и законной защиты, без следствия и суда, претерпеваем кары, доходящие даже до прекращения целых изданий. Простыми распоряжениями администрации изъемлются из круга печатного обсуждения вопросы нашей общественной жизни, наиболее нуждающиеся в правильном и всестороннем освещении; простыми распоряжениями администрации изъемлются из публичных библиотек и кабинетов книги, вообще цензурою не запрещённые и находящиеся в продаже...»
Гольцев по поводу петиции, конечно, произнёс за обедом речь и заключил её восклицанием: «Пусть это будет ещё одним небольшим, но твёрдым шагом к российской конституции!» Потом в разговоре сообщил, что в Петербурге подписывают все, кроме Суворина. И присовокупил по-дружески:
— Ты, Антон, очень мудро ведёшь себя с этим негодяем. Пусть он издаёт твои книги — каждая твоя строчка бьёт по нему и по его банде. Кто читает Чехова, никогда не станет холуём у Суворина.
И для полного разнообразия пришло письмо от Анны Ивановны Сувориной:
«Антон Павлович! У меня опять к Вам просьба повеселить нашего Алексея Сергеевича! Вы, говорят, теперь в Москве. Соблазните его приехать хоть на несколько дней туда, пока Вы там. Он очень пеняет, что Вы ему ничего, кроме деловых каких-то писем, не пишете! Напишите ему что-нибудь хорошее и интересное и повеселите немножко его. Всё-таки, кроме Вас, он никого не любит и не ценит. Он очень хандрит и, главное, по ночам не спит. Заниматься совсем не может, как прежде, и это его ужасно удручает».
Хорошо быть слабым, бесхарактерным, поддающимся влияниям: кто-то придёт, успокоит, посоветует, а ты, волевой, твёрдый, целеустремлённый, верящий только в себя, в свой ум и талант, обречён на одиночество в этой толпе слабых и бездарных. Когда у тебя болит сердце, а вокруг лёд непонимания, зависти и вражды, никто не поддержит, не успокоит, и приходится надевать пенсне и мягко улыбаться. Только всё туже напрягаются нервы, и приступы кашля всё сильнее и мучительнее, и никак не остановишь разговоры о том, что Чехов смертельно болен.
Однако пьеса не о том. Ближе к сюжету актриса с милой хрипотцой в голосе. Она пришла вовремя с восклицаниями и поцелуями:
— О, моя дуся! Я так соскучилась. Но за что ты обидел мою Таню? Она даже плакала, когда рассказывала мне о том, как ты с ней говорил. Она хорошая. Полюби её. Прости, если она виновата. А у меня так всё неясно с бенефисом. Хотела взять Ренана — «Жуарскую аббатису», но неизвестно, как с цензурой. Есть интересная итальянская вещь — посмотри её... Почему ты такой грустный? Тебе надо развлечься. Не думай о неприятном... Мне сказали, что Суворин собирается открыть какой-то театр. Ты не знаешь?
— Хочет создать литературно-артистический кружок наподобие нашего Общества литературы и искусства. Наши играют неплохо. «Последняя жертва» вообще хорошо. Алексеев-Станиславский, кажется, понимает театр. Почему это интересует примадонну театра Корша?
— Все они хотят меня съесть — и актёры, и газетчики. Я же вкусная? Да? А у Суворина дело только начинается, и можно сразу всё поставить на место.
Увидев на столе книгу, удивилась:
— Мопассан. «На воде». Это я не читала. Интересно? О любви?
Открыв наугад, прочитала: «И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лабазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений...»
— Ну, это у французов, — сказала Лидия, отложив книгу. — У них это может быть, но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполонить писателя, сама уже влюблена по уши, сделайте милость. Недалеко ходить — я так люблю тебя, о мой несравненный, талантливейший...
Он понимал, что она его любит и что она счастлива. В этом что-то было для пьесы.
IV
В настроении будущей пьесы приходили письма.
От Лики:
«Что значит, что Вы не хотите мне отвечать, Антон Павлович! Неужели потому, что моё письмо было написано под довольно глупым настроением! Или Вы просто не хотите меня знать? Так или иначе одинаково нехорошо! Мечтаю о поездке в Москву, как — впрочем, не могу подыскать подходящего сравнения, потому что желаю так сильно, как никогда никто ничего не желал. Напишите, дядя, мне ласковое письмо! Право, я его стою! Где Маша? Что выдумаете делать и куда ехать? Слышала, что Вы часто бываете в Москве! Что, Таня поселилась в Мелихове и заняла моё место на Вашем диване? Скоро ли Ваша свадьба с Лидией Борисовной? Позовите тогда меня, чтобы я могла её расстроить, устроивши скандал в церкви! Ну, я пишу слишком много глупостей! Если бы я писала умнее, то было бы ещё хуже. Это моё последнее письмо, и я заранее извиняюсь за то, что пишу ещё раз, если Вы действительно ответите мне презрением. Прощайте, и пусть на Вас обрушатся все громы небесные, если Вы не ответите.
Ваша Лика».
От Кундасовой:
«Спасибо Вам за всё, а в частности затон Вашего письма. Он пришёлся как раз кстати моему угрюмому настроению. Кончаю к 16-му. Будет жаль, если не застану Вас в Москве. Поэтому будьте уж до конца джентльменом, напишите, когда уедете? Ведь 17-го Ваши именины: желала бы лично поздравить такого патентованного Дон-Жуанишку, как Вы. Прилагаю марку для ответа. Если Вы хоть сколько-нибудь искренно расположены ко мне, чему трудно ещё верится после 12-летних мытарств моих с Вами, то никогда не откровенничайте с Вл. Ив. Яковенко обо мне и моих делах[60].
О. Кундасова».
От Татьяны Щепкиной-Куперник:
«Очень рада, милый Антон Павлович, что Ваше более чем странное настроение вас покинуло. Мой ум отказывался понимать, что Вы можете быть похожи на прочих — простите за выражение и согласитесь с ним — людей... неостроумных. Это производило маленькую революцию во всём моём взгляде на вещи.
Если это искренно, я, конечно, с удовольствием приеду в Мелихово, как только смогу.
Татьяна Щ.-К».
V
Петербургская Масленица помогла успешному лечению Суворина, и покровитель вновь гнулся над столом, исписывая пачки бумаги, а подняв бороду, говорил громко и убедительно:
— Я не подписал петицию, потому что её составили за моей спиной. Она идёт только от либералов. Кто такой Градовский[61]? Его раздавил и уничтожил Достоевский. Фёдор Михайлович так прямо и написал, что России не дают устроиться такие, как он, русские европейцы, пытающиеся наделать из русских людей таких же, как сами, либеральных европейских человечков, оторванных от почвы. И этот Градовский ожил и сочинил петицию, а я, представитель целой корпорации, хозяин самой распространённой газеты, должен подписывать. С нами не посоветовались, нас обошли. Почему ко мне не приехал Григорович? Или Михайловский?
— Я, как врач, заявляю, что ваше здоровье полностью восстановлено — память такая же прекрасная, как и всегда. Помните Достоевского почти дословно.
— Вы же тоже это читали: «Дневник писателя» за восьмидесятый год.
— У него много хорошего, но в целом очень уж длинно и нескромно. Много претензий. По-моему, Градовский не участвовал в петиции. Он писал записку-приложение. Но согласитесь, Алексей Сергеевич, петиция-то правильная. Если бы я был здесь, то уговорил бы вас подписать. Не оттого ли у вас появилась меланхолия, что вы расстроились из-за этой бумаги?
— Да что, голубчик, петиция — всё плохо. Знаете, как получилось на высочайшем приёме? Ему написали текст, где были слова о том, что привлечение земства к управлению страной — это «беспочвенные мечтания». Записку с текстом он положил в шапку перед собой и, читая, ошибся: вместо «беспочвенные» сказал «бессмысленные».
— Талантливо усилил мысль.
— Талантливый молодой человек. Думаете, он будет разбираться с петицией? Даже не вникнет. Тупые чиновники сочинят резолюцию, а он соизволит начертать: «Согласен». А вы знаете, что они ему подсунут? Я знаю, потому и не подписал. Если бы там увидели мою подпись, «Новое время» было бы закрыто.
— Неужели закроют все газеты и журналы, чьи сотрудники подписались?
— Либералов не тронут — к их фрондёрству привыкли. А мою газету читает вся Россия, и они не допустят с моей стороны какой-то оппозиционности.
— А может быть, ваша подпись повлияла бы на решение вопроса? Может быть, какой-нибудь смягчающий закон был бы принят?
— Что вы, голубчик? Разве у нас может выйти хороший закон? Кто его напишет? Победоносцев?..
И забурлило, полилось привычное жидкое месиво, состоящее из слов, правильно связанных грамматически, но не связанных никакой определённой мыслью. Сначала — всё у нас плохо, но ничего сделать нельзя, затем восторженно-слезливо о великом предназначении России, которая найдёт свой путь, а мы все должны служить ей, а не руководить. Вслушавшись и вдумавшись, поймёшь нечто вроде главной мысли: если нам хорошо, то пусть всё так и остаётся. И ещё уловишь страх перед теми, кто хочет что-то сделать, что-то изменить, и даже горечь понимания, что изменять русскую жизнь необходимо и что он в молодости был с теми, кто пытался что-то сделать, но поверил не столько в мудрость, сколько в силу толпы, черни, пристроился к ней, и не оторваться ему от этой страшной невежественной массы.
Первые номера «Русской мысли» с повестью «Три года» лежали у него на столе, разрезанные и, по-видимому, читанные. Неужели не тронуло его, что о загадках русской души там рассуждает сумасшедший? Тронуло, однако, другое:
— Замечаю, замечаю ваш нетерпеливый взгляд. Прочитал. Хорошо, но где-то не закончено. По первой половинке я вам уже писал и сейчас скажу: не пожалели Ольгу Петровну. Рассудина — это Кундасова.
— Случайно, может быть, что-то взял. Вы же сами беллетрист. Знаете, что нельзя придумать человека, который ни на кого не похож.
— Я-то знаю подробности. Она же свечи гасит. И отношение к деньгам. Её щепетильность, гордость пролетария. Кстати, о её деньгах. То есть об Ольге Петровне, разумеется. Пока она верит, что деньги, которые мы ей даём, — это её аванс от Сытина. Сама она уже не может зарабатывать.
— Да, у неё что-то вроде паралича воли. Считает, что она прогорела дотла, потеряла блага жизни. Направил её к психиатру. Расскажите лучше о своём театре.
— Пока кружок. Первый вечер с отрывками из пьес прошёл неплохо. Вы, наверное, знаете из газет. Теперь делаем настоящий спектакль: «Ганнеле» Гауптмана.
— У Корша появилась молодая интересная актриса Яворская. На Святой они будут у вас в Питере, и у меня к вам просьба: посмотрите её.
— Не унимаетесь, Антон Павлович?
— Любовь к театру не проходит.
— А нынче вечером куда? Масленая ещё идёт.
— Пятница — тёщины вечерки. У меня в Питере одна тёща — Прасковья Никифоровна Лейкина.
VI
Собрались, конечно, литераторы, и Чехова встретили хмельными восторгами. Хозяин — маленький, толстый, лысый — после первых приветствий зашлёпал мокрыми пухлыми губами и сказал:
— Жаль, Антон, что ты со мной не посоветовался, когда писал «Три года». Хорошо написал, но я бы написал лучше...
Это «я бы» он слышал от Лейкина с первых дней знакомства. Раньше раздражало, а теперь вызывало юмористический интерес. Потапенко ещё не привык и спорил:
— Ты бы не мог написать лучше. Ты даже мне говорил, что «На действительной службе» написал бы лучше. Но это же невозможно, Николай. Скажи ему, Антон. Дай я тебя поцелую, Антоша. Ты мой единственный настоящий друг. У меня такое несчастье: жена требует одиннадцать тысяч! Где я возьму?
— Какая жена?
— Которая в Феодосии. Дай я тебя поцелую.
— Не травмируй: у меня зубы болят.
Напротив сидела Лидия Алексеевна Авилова и гипнотизировала его взглядом, который он понял ещё при первой встрече.
— Я знаю, отчего у тебя зубы болят, Антон, — вмешался Лейкин. — Потому что ты их чистишь. Я никогда не чищу зубы, и они у меня никогда не болят. Один раз почистил и едва не околел.
— Может, ты и руки не моешь? — спросил Потапенко.
— И не моет, — радостно подтвердила Прасковья Никифоровна. — С огорода приходит в земле, в навозе — и за стол.
— А чего мыть? Навоз — не грязь. Навоз — прелесть. Запах — лучше духов.
Авилова брезгливо вздёрнула пухлую губку и сказала:
— А облысели вы, наверное, потому, что голову мыли?
— Нет, Лидочка, от литературы. Я, когда пишу, накручиваю волосы на палец и выдёргиваю.
— Тогда бросай писать, Коля! — воскликнул Потапенко. — Волос уже не осталось.
При первом знакомстве с Авиловой, уловив её взгляд, он подумал о ней как о женщине, для которой брак — ширма для любовных похождений. На каждого приглянувшегося мужчину смотрит с вопросом, можно ли с ним это сделать. А один из принципов писателя Чехова: не желать жены ни ближнего, ни дальнего — в мире достаточно незамужних женщин.
Когда выходили в сырую оттепельную ночь, она оказалась рядом с ним. Извозчики стояли рядком у тротуара. Она была в ротонде, руки заняты — шлейф платья, сумочка, бинокль, с которым приехала из театра. Остановилась и смотрела на него с ожиданием.
— Кавалер, помогай даме! — крикнул Потапенко, отъезжая.
Он усадил Авилову, застегнул полость, немного поспорили, куда сначала ехать, решили — к ней.
По дороге излагала ему сюжет рассказа, который хотела написать. Разумеется, о любви.
— Интересно? — спросила она.
— Нет. Не интересно, матушка.
Она хохотала, посчитав его слова за милую шутку, а сама в ротонде с круглым пухлым лицом и впрямь напоминала попадью.
Прощаясь у своего дома, вдруг сказала:
— Приезжайте завтра вечером ко мне.
— К вам? У вас будет много гостей?
— Никого. Муж на Кавказе. Будем вдвоём.
— Меня могут увлечь в другое место. Я здесь у Суворина и от себя не завишу.
— Всё равно буду вас ждать. В девять часов.
VII
Всё же поехал — в ней что-то было для пьесы. И не только — от принципов отступаться нельзя, но иногда возможны исключения. Однако у Авиловой оказались незваные гости, и, встречая его, она смотрела виновато и растерянно. Незнакомая пара набросилась на известного писателя с вопросами о его отношении к Мопассану, Потапенко, винной монополии, японо-китайской войне, избранию Фора президентом Франции и почему-то даже спрашивала о каких-то электрических чайниках. Пришлось много говорить, он устал и хотел уйти вместе с этими гостями, но хозяйка уговорила остаться.
Усадила на диван возле маленького столика, подала вино, пиво, сама села в кресло напротив. Он предпочёл пиво. Говорили, конечно, о литературе. Он возмутился тем, что она носила рассказ Буренину.
— Я сама поняла, что ошиблась. Он сказал мне, что если я сама буду приносить ему свои рассказы... Понимаете? Ему и сама... Тогда он будет их печатать.
— Хороших людей гораздо больше, чем дурных. Хотелось бы уберечь вас от дурных.
Она придвинулась ближе, её колени коснулись его, он услышал её учащённое дыхание. Потянувшись к стакану, как бы случайно отодвинулся и спросил строго:
— Вы счастливы?
— Но что такое счастье? — растерялась она, не ожидая такого вопроса. — У меня хороший муж, хорошие дети. Любимая семья. Но разве это всё для счастья? Я чувствую, что сама по себе, как человек, со своими особыми желаниями и чувствами, постепенно перестаю существовать. Вы понимаете меня?
И вновь тронула его коленями.
Он поднялся и продолжил разговор, шагая по комнате:
— Если бы я женился, я бы предложил жене... Вообразите, я бы предложил ей не жить вместе. Чтобы не было ни халатов, ни всей этой российской распущенности... и возмутительной бесцеремонности...
Прощаясь, она смотрела на него с недоумением и едва ли не со злостью. Она любит, и она несчастна.
VIII
Да, хорошо быть слабым, бесхарактерным, безвольным или, вернее, хорошо считать себя таким. Наверное, все в чём-то слабы, никто не может управлять собой механически точно, как машиной, но одни сами с мучениями и трудом выбираются из душевных катастроф, а считающие себя слабыми ищут помощи у других. Некоторым действительно нужна помощь, но от врача, пусть даже от доктора Чехова, а они обращаются к писателю Чехову, утешителю, советчику, другу и т. п.
Лика, растолстевшая и бледная, как бумага, приехала из Парижа на два дня в мае, когда он расположился в летнем домике, разложил листы бумаги, начал слева писать, кто говорит, а справа — что говорит:
«Медведенко. Отчего вы всегда ходите в чёрном?
Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна».
При встрече Лика шепнула: «Помогите мне, дядя», а он мягко улыбнулся и делал всё, чтобы не оставаться с ней наедине.
Затем приехала Ольга Кундасова, действительно нуждающаяся в медицинской помощи, и до её отъезда он почти не работал.
Едва она уехала, как одно за другим пришли два письма из Тверской губернии. Сначала от Левитана:
«Ради Бога, если только возможно, приезжай ко мне хоть на несколько дней. Мне ужасно тяжело, как никогда. Приехал бы сам к тебе, но совершенно сил нет. Не откажи мне в этом. К твоим услугам будет большая комната в доме, где я живу, в лесу, на берегу озера. Все удобства будут к твоим услугам: прекрасная рыбная ловля, лодка. Если почему-либо стеснён в деньгах теперь, то не задумывайся, займёшь у меня. Ехать надо с поездом, уходящим в 8 часов по Николаевской ж. д., до станции...»
Следующее письмо — от помещицы Турчаниновой:
«Я не знакома с Вами, многоуважаемый Антон Васильевич, обращаяюсь к Вам с большой просьбой по настоянию врача, пользующего Исаака Ильича. Левитан страдает сильнейшей меланхолией, доводящей его до самого ужасного состояния. В минуту отчаяния он желал покончить с жизнью, 21 июня. К счастью, его удалось спасти. Теперь рана уже не опасна, но за Левитаном необходим тщательный, сердечный и дружеский уход. Зная из разговоров, что Вы дружны и близки Левитану, я решилась написать Вам, прося немедленно приехать к больному. От Вашего приезда зависит жизнь человека. Вы, один Вы можете спасти его и вывести из полного равнодушия к жизни, а временами бешеного решения покончить с собою.
Исаак Ильич писал Вам, но не получил ответа.
Пожалуйста, не говорите никому о случившемся. Пожалейте несчастного».
Назвала «Васильевичем» — значит, писала сама, без Исаака. Его письмо — от 23 июня. Приглашал на рыбную ловлю через два дня после самоубийства. Стрелял и промахнулся.
IX
Пришлось ехать в самые жаркие и длинные дни. На станции Бологое — пересадка на рыбинский поезд, и ещё часа три вагонной пыли. В Троицкое за ним выслали экипаж, к середине дня был в Горках. Перед барским домом весь огромный цветник застелен шелковисто-бугорчатым покрывалом цветущих флоксов, разноцветными пятнами рассыпавшихся по нежно-белому. Возле цветника стоял Исаак с чёрной повязкой на голове.
Предыстория была известна из рассказов Татьяны: предыдущим летом Левитан отдыхал в соседнем имении всё с той же Кувшинниковой, но, как выразилась Таня, Софья Петровна дочитывала последние страницы своего романа. Появилась хозяйка Горок Анна Николаевна Турчанинова, и художник обрёл новое счастье, тем более что оно, то есть она была всего лишь на десять лет старше его.
— Я не виноват, что остался жив, — начал он свои путаные объяснения. — Я хотел умереть, чтобы не быть причиной несчастья ни Анны, ни её дочери. Но поверь мне, Антон, Варя полюбила меня искренней чистой любовью, и я не мог на неё не ответить...
— И мать вас поймала?
— Что ты, Антон! Разве я мог себе это позволить? Я сам рассказал Анне... Правда, она уже знала. Я её просил, чтобы она отпустила меня и позволила остаться с Варей. Я говорил, что эта любовь может дать счастье и мне и Варе. Такой любви я не испытывал ещё... В молодости было некогда, я писал и писал, боролся с нуждой. Теперь вот она, эта любовь, пришла наконец, манит...
— И, к твоему удивлению, Анна вместо того, чтобы расчувствоваться и благословить вас, благословила одного тебя хорошей пощёчиной.
— Нет... Да. Ты понимаешь, Антон, она оказалась совершенно бесчувственной и грубой. Она столько наговорила мне оскорблений, что я почти потерял рассудок. Пошёл, взял ружьё и вот... — Он указал на свою повязку.
Прежде чем знакомиться с хозяевами, заглянули в дом на берегу озера. Чистота и прибранность говорили о чьих-то женских руках, недавно хозяйничавших здесь.
— Кто из них убирал? Мама или Варя?
— Нет. Это Люлю. Младшая дочь.
— Значит, есть ещё одна и у тебя опять всё впереди?
— Не смейся, Антон. — А сам уже смеялся.
— Вот ты и выздоровел, и я могу ехать домой. И вообще, я приехал сюда только для того, чтобы вручить тебе очень хорошую и, главное, очень нужную тебе книгу. Открываю саквояж и...
Он вручил художнику книгу «Остров Сахалин» с надписью на титульном листе:
«Милому Левиташе даю сию книгу на случай, если он совершит убийство из ревности и попадёт на оный остров.
А. Чехов».
Знакомство с дамами произошло на большой веранде, обвитой диким виноградом. Анна Николаевна милым русским лицом напоминала Авилову, но светлые спокойные её глаза смотрели на мир по-другому, как бы говоря, что всё происходящее естественно, не надо ничему удивляться и ничем возмущаться. Посмотрев на Исаака, сказала с усмешкой взрослой женщины над проказами мальчишки:
— Вы как в чалме, Исаак Ильич. Вчера на кухне спрашивали, какой вы национальности.
— Вам не нравится? — резко спросил Левитан. — Пожалуйста!
Сорвал повязку и бросил её на пол.
— Повязку можно уже не носить, — сказал доктор Чехов, — но старайся не занести инфекцию.
— Где моё ружьё? — с той же угрожающей резкостью спросил Исаак. — Куда вы его спрятали? Я хочу пострелять перед обедом.
— Никто не прятал ваше ружьё, — успокаивала его хозяйка. — Оно под лестницей. Идите и стреляйте. Только недолго. Мы будем вас ждать к обеду.
Исаак торопливо спустился с крыльца. Люлю, тоненькая, нервная, взволнованно обратилась к матери:
— Мама, я пойду за ним. Вдруг он опять...
— Ничего вдруг больше не случится.
Облик Люлю с её нежностью, большими испуганными глазами, с исходящей от неё любовью ко всем, кто с ней рядом, вызывал неясные воспоминания о чём-то хорошем, но забытом, хотелось смотреть на девушку и улыбаться или написать очень хороший рассказ, такой, какого у него ещё не было.
Варя сидела молча, устремив угрюмый взгляд на свои туфельки. Когда Левитан ушёл, она подождала некоторое время и, подняв глаза, решительно сказала:
— Мы здесь больше не нужны. Пойдём, Люлю.
— Идите, девочки, — согласилась Анна Николаевна. — Скоро будем обедать.
Вскоре где-то близко прогремел выстрел, и он не столько заметил, сколько почувствовал, как нервно вздрогнула Турчанинова, не изменив при этом спокойно-приветливого выражения лица.
— Вам понравился наш сад? — спросила она так, словно и не было никакого выстрела.
— Замечательный сад. Я никогда не видел так много цветущих флоксов.
— Исаак Ильич очень любит эти цветы.
— Может быть, ему лучше уехать?
— Зачем? — И посмотрела с таким искренним удивлением, что он мог бы даже устыдиться своего вопроса. — Наверное, Варя на днях уедет.
Левитан вошёл с видом человека, решившегося на отчаянный поступок. За плечами — ружьё, в руке — убитая птица: жалкое светлое брюшко, поникшая головка, волочащееся по полу обвисшее крыло.
— Вместо себя я имел подлость убить чайку, — сказал он, обращаясь к Турчаниновой. — Кладу её у ваших ног.
Красивая птица, беспечно летавшая над озером, встречавшая людей приветливым криком, лежала под ногами ненужной грудкой перьев.
Теперь о будущей пьесе он знал всё, даже название: «Чайка».
X
Когда-то он слепо поклонялся Толстому, великому писателю и учителю жизни. Позже пришло то самое понимание, что в паре и электричестве любви к человеку больше, чем в отказе от мяса и целомудрии, но оставалось сознание собственной литературной ничтожности рядом с автором «Войны и мира». Теперь, подъезжая к Ясной Поляне на закате погожего августовского дня, он точно знал, что «Послесловие» к «Крейцеровой сонате» глупее и душнее, чем гоголевские «Письма к губернаторше», не верил, что Наполеон глуп и что восторгаться следует совершенно ничтожным Николаем Ростовым. Но знал он и главное: если есть в России истинный властитель душ и умов, бесстрашно выступающий против зла и насилия, то это Лев Толстой, а Ясная Поляна, его широкий светлый дом на пригорке над унылыми оврагами и разбитыми дорогами, есть центр страны.
Коляска обгоняла идущих к Толстому за помощью и правдой, бьющих сапоги и лапти о засохшую придорожную грязь, покорно сторонящихся к обочине, обдаваемых душной пылью из-под колёс и копыт.
Его с аристократической приветливостью встретили три дамы в белых платьях: Софья Андреевна и две её дочери. Молодая стройная Мария была холодно-любезна, а тридцатилетняя девушка Татьяна, высоколобая, бесхитростно улыбающаяся большим ртом с пухлой нижней губой, смутилась и даже немного покраснела. Сказала, что ей очень понравилась «Дуэль».
Самому графу нездоровилось. Его не было и за вечерним чаем, где кроме хозяев оказались двое знакомых деятелей издательства «Посредник» — Чертков и Горбунов, и незнакомый — композитор Танеев. Всё здесь происходило как при дворе великого императора. «Лев Николаевич говорил», «Лев Николаевич писал» произносилось как «его величество повелеть соизволил». Из разговора за чаем он узнал, что Страхов неизлечимо болен раком. «Лев Николаевич его очень любит и ценит».
— Вы знакомы со Страховым, Антон Павлович? — спросил Горбунов.
— Нет, но я слышал о нём много хорошего. Я знаком с его сестрой, писательницей Лидией Алексеевной Авиловой.
Как собака в большой семье выбирает одного хозяина для себя, так и он выбрал Татьяну Львовну. Они переглядывались через стол, улыбались друг другу, а после чая гуляли в парке. Он рассказал ей, как трудно жить на писательский заработок, содержать большую семью. Объяснил, что в этом одна из причин затянувшегося холостяцкого существования.
— Если бы я решил жениться, — говорил он, — то мне некуда было бы привести жену.
В ответ он получил взрыв девичьей откровенности:
— Я решила навсегда остаться с отцом. Он против этого. Говорит, что я ещё молода и привлекательна, что меня будут любить, но мне это не нужно. Помогать ему в его трудах, успокаивать, когда тяжело, всегда быть рядом — за такое счастье я готова отдать жизнь. Ведь ему очень тяжело. Мама́ не всегда его понимает. Недавно была ужасная сцена. Мама́ хотела переписать его новый рассказ «Хозяин и работник», он ей почему-то не разрешил. Она стала кричать, что будто его обворожила еврейка Гуревич из «Северного вестника», что она ему дороже семьи. Папа́ тоже стал кричать. Она выбежала на улицу в халате, он совсем раздетый за ней... Это ужасно. Как она не может понять его!..
Следующим утром он ждал выхода Толстого со всеми: с семьёй, с приезжими гостями, с довольно большой группой просителей, собравшихся под старым вязом у крыльца. Лев Николаевич вышел в известной всему миру холщовой блузе, подпоясанный широким ремнём, и оглядел ожидающих пытливым колючим взглядом из-под так же известных всему миру косматых бровей. Здороваясь с Чеховым, оглядел его, одобрительно кивнул и сказал:
— Вас я особенно прошу с вниманием прослушать чтение моей повести и высказаться. Ваше мнение ценно: по технике прозы вы в России первый. В литературном произведении надо отличать три элемента. Самый главный — это содержание, затем любовь автора к своему предмету и, наконец, техника. Я ставлю технику на третье место, но это не значит, что она менее важна, чем другие элементы. Наоборот. Без техники невозможно создать произведение. Но полноту даёт гармония содержания и любви. У Тургенева, в сущности, немного содержания, но большая любовь к своему предмету и великолепная техника. Наоборот, у Достоевского огромное содержание, но никакой техники, а у Некрасова есть содержание и техника, но нет элемента действительной любви. Да... Целый бы день говорил о литературе, если бы не ужасная жизнь вокруг. Вот оно, народное горе, ждёт нас. Пойдёмте, Антон Павлович, к ним, послушаем, поучимся у народа.
Сидел на скамейке под вязом, каждого просителя встречал, ободряя голосом, но вглядывался пытливо, с сомнением: не врёт ли. Молодой человек в оборванной одежде, с воспалёнными глазами очень убедительно говорил о страданиях, перенесённых в тюрьме, куда его посадили за найденные у него брошюры Толстого «О голоде».
— Сам прочитал? Понял, что ты должен делать, чему я учу?
— Верить в нашего Спасителя Христа, жить по любви...
— Антон Павлович, есть у вас мелкие монеты? Дайте ему копеек тридцать на дорогу. Иди, ищи работу. Сейчас уборка, второй покос — везде руки нужны...
Осторожно переступая лаптями, подошёл старый человек с котомкой за спиной. Водянистые глаза его слезились, но стоял он прямо и говорил твёрдо:
— Милостыней живу, ваше сиятельство. Работать ничего не могу вследствие слепоты на оба глаза. Уже десять лет почти ничего не вижу. Вот на солнце только кой-что разбираю. Бороду вашу вижу, а так — тёмная ночь.
— Сам откуда?
— Отставной солдат Сергей Никифоров Киреев. В турецкий поход ходил. Под Плевной в шестьдесят четвёртом пехотном полку сражался. Теперь живу в Кашире. Кормиться нечем, ваше сиятельство. Я бы работал, но не вижу ничего. Дочеря замужем, сами нищенствуют. Вследствие зрения не могу заработать на кусок хлеба. Народ советовал к вам прийти, может, лечение какое сделаете. Окажите милость.
— Это, брат, Иисус Христос превращал слепых в зрячих. И не доктор я. Вот рядом со мной — это доктор.
— Видишь меня? Какой на мне пиджак?
— Вроде тёмный, ваше превосходительство.
— А рубашка?
— Будто белая.
— По-моему, Лев Николаевич, лечение возможно. Я запишу, братец, где ты живёшь, узнаю, где тебя могут полечить, и сообщу тебе или твоим родным. Помогу, конечно, добраться до больницы.
Толстой дал больному рубль и поблагодарил доктора Чехова.
— Не ради барской забавы Бог вас ко мне привёл, — сказал он ему, — не для того, чтобы слушать глупую повесть, которую написал грешный старик, а чтобы помочь старому солдату.
За обедом посадил рядом, но сказать то, что было намечено, не удалось: великий человек говорил сам, зная, что его слушают все — для того и приезжают в Ясную Поляну. Вспомнил недавно умершего Лескова:
— Хороший был писатель. Некоторые места превосходны. Однако искусственность в сюжетах, в языке, особенные словечки — всё это ему мешало. В разговоре с ним я осмелился ему высказать эти замечания, но он сказал, что иначе писать не умеет.
На осторожный вопрос о петиции литераторов, которую он так и не подписал, ответил подробно:
— Все эти петиции и собрания общественности напрасны и даже вредны, потому что парализуют силу частного человека, отвлекают от своего громадного дела, данного ему Богом — заниматься своей собственной душой. Хотел я написать что-то и по поводу глупых слов о бессмысленных мечтаниях, которые позволил себе этот недалёкий молодой человек, возомнивший, будто он управляет Россией. Начал даже писать, но чувствую, что это моё слово лишнее: не от Бога, а от гордыни.
Чехов попытался осторожно возразить:
— Я согласен с вами, Лев Николаевич, что обращения к российской высшей власти бесполезны, однако ваше слово, направленное к мыслящим людям, к литераторам, поможет им избавиться от ошибок в своей деятельности, найти правильные цели.
— Очищайте свою душу от грязи и мерзости, что наросла на ней, и Бог откроет вам, что надо делать.
Накануне Татьяна Львовна, рассказывая о своей трудной работе с отцом, о переписывании по нескольку раз каждой страницы, о бесконечных перестановках строчек и целых абзацев, говорила и о повести, которую Толстой решил прочитать собравшимся. В основу сюжета взят действительный случай. Некая Розалия Онни, по-видимому петербургская чухонка, оставшись круглой сиротой, была взята на воспитание в аристократическую семью. В шестнадцать лет её соблазнил молодой родственник хозяйки. Она забеременела, была изгнана на улицу, стала проституткой, попала в тюрьму. Её соблазнитель во искупление вины надумал жениться на ней, сделал официальное заявление. Розалия, находившаяся в тюрьме, согласилась и с радостью принимала подарки от жениха. Жизнь придумала свою развязку сюжета: пока власти решали вопрос о возможности брака с арестанткой, Розалия умерла.
Чехов не стал бы разрабатывать такой сюжет, а если бы и взялся, то показал бы гибельность поступков, основанных не на искренних и естественных человеческих чувствах, а на выведенных из книжной морали, вымученных, выдуманных решениях.
Чтение состоялось после обеда в садовой беседке. К приезжим гостям присоединились ещё крестьянский писатель Семёнов и Сергей Львович Толстой. Автор не только не читал сам, но и не присутствовал.
Сначала читал Чертков. Эпиграфы из Евангелия, наверное, произвели бы впечатление на Павла Егоровича, но и он бы усомнился: к какому дню? к какому празднику?
А проза... Это не Потапенко и даже не Чехов. Это проза Льва Толстого:
«Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как не счищали всякую пробивавшуюся травку, как ни дымили каменным углём и нефтью, как ни обрезывали деревья и не выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною даже и в городе...»
В одной фразе не просто указал место и время действия, но высказал чуть ли не всё своё философское кредо!
Чтение проходило спокойно до тех страниц, где возникли картины офицерской жизни Нехлюдова:
«Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в неё в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с другой — рабскую покорность высшим себя начальникам».
— Неужели это так? — возмутился Толстой-сын. — Офицеры — первые защитники отечества. Их служба почётна и необходима...
На следующей странице последовал новый взрыв негодования.
«...считалось хорошим и важным, швыряя невидимо откуда-то получаемые деньги, сходиться есть, в особенности пить, в офицерских клубах или в самых дорогих трактирах; потом театры, балы, женщины, и потом опять езда на лошадях, маханье саблями, скаканье и опять швырянье денег и вино, карты, женщины...»
Сергей Львович перебил чтеца вопросом:
— Скажите, Владимир Григорьевич, как бывший гвардейский офицер, неужели большинство офицеров такие?
— Такой замечательный писатель, как ваш отец, ищет самую суть явления и показывает её, а не меряет на большинство и меньшинство.
Заканчивал чтение Горбунов. Оранжевый закат пылал над лесом, когда слушающие узнали, как подправил жизнь автор: Катюша Маслова не умерла, Нехлюдов женился на ней, и раскаявшиеся грешник и грешница воскресли для новой чистой жизни, угодной Богу.
После чтения собрались в кабинете Толстого. Он сидел за письменным столом в свободной белой рубашке с открытым воротом и всех выслушивал внимательно. Кое-что записывал. Показалось, что более всего ему понравилось возмущение сына изображением офицерской среды.
— Я знал, Серёжа, что ты будешь бранить, — сказал Толстой. — Но писал, как мне подсказывала совесть.
Все выступали, разумеется, с восторженными похвалами. Чехов, много лет общаясь с Сувориным, привык решать нерешаемую задачу: не лгать и не бранить. Здесь было легче: плохая повесть написана великолепной прозой, и великий автор высказал здесь свои глубокие мысли о жизни.
— Повесть написана очень хорошо, — сказал он. — Точно, правдиво, жизненно показана сцена суда. Я сам недавно отбывал обязанности присяжного заседателя и видел своими глазами отношение судей к делу: все были заняты побочными интересами, а не тем, что им приходилось рассматривать. В одном деле даже вместо выступления по существу прокурор начал дифирамбы в мой адрес. Очень верно, что купца отравили, а не прикончили иным способом. Я был на Сахалине и знаю, что большинство женщин-каторжанок сосланы именно за отравление. Но, по-моему, неверно, что Маслову приговорили к двум годам каторги. На такой малый срок к каторге не приговаривают...
Толстой записал многое из его замечаний — больше, чем слушая других участников обсуждения. В заключение автор поблагодарил всех и сказал, что намеревается ещё много работать над повестью, наверное, полностью переработает вторую часть, но вообще занятия такой литературой считает пустым делом и пишет подобную прозу, потакая своим человеческим слабостям.
— Нужна только такая литература, — говорил он, — только такое искусство, которое служит народу. Не мы с вами в этих уютных кабинетах, а народ должен судить, принять или не принять произведение искусства. В каждой избе есть образа, картины, каждый мужик, каждая баба поют; у многих есть гармонии, и все рассказывают истории, стихи; и читают многие. И мы, сочинители, должны бросить свои поэмы и романы, а сочинять песенники, истории, сказки, понятные народу...
Говорил он и о том, что каждый должен сам работать на себя, кормиться, одеваться, отапливаться, жить своим трудом на земле. Мужчине закон труда, женщине закон рождения детей... Одна знакомая писателя Чехова сей закон исполнила.
Хотелось немедленно написать повесть и в ней спокойно, по пунктам опровергнуть всё, что говорил великий человек. Наверное, интуиция помогла хозяину почувствовать настроение гостя, он сказал, что плохо себя чувствует, и удалился. Не участвовал в чаепитии, не выходил, так и не удалось поговорить с ним на некоторые темы, представлявшиеся важными. Пришлось вновь довольствоваться обществом Татьяны Львовны и хоть ей высказать кое-что из того, что предназначалось её отцу. В частности, о Суворине:
— Он человек умный, талантливый, но совершенно бесхарактерный. Я знаю его много лет, откровенно говорю ему о его ошибках, он всё понимает, соглашается, но завтра, поговорив с другим человеком, всё забывает и делает те же промахи. Его газета самая читаемая, а он в течение многих лет разрешает печататься на её страницах Буренину — злейшему врагу всего талантливого в литературе и искусстве. Я понял, какое зло приносит этот человек, ещё десять лет назад, когда он своим газетным ядом убил Надсона. Написал об умирающем поэте, что тот «негодующий паразит, представляющийся больным, калекой, умирающим, чтобы жить за счёт благотворительности». Скульптора Антокольского, европейскую знаменитость, Буренин травил, потому что Антокольский еврей. А сам Суворин дружен со скульптором, встречается, беседует. Незадолго до смерти Лескова грубо высмеял его за вегетарианство, утверждал, что на самом деле писатель поедает бифштексы. Если это прочитаем мы с вами, никакого вреда не будет: не станем же мы верить Буренину. Но газету читают люди малообразованные, для которых любое печатное слово — истина. Суворин глубоко уважает Льва Николаевича, и если бы ваш отец посоветовал ему убрать из газеты людей, развращающих народ, он бы послушался.
— Папа не читает газет. А Суворина знает давно, ещё с шестидесятых годов. Даже его любит. Я тоже не люблю читать газеты. Вот ваши рассказы... Иногда они так меня волнуют, вызывают такие грешные мысли, что стыдно признаться. Почему-то вам я не боюсь сказать. Когда я читала «Дуэль», я поняла Надежду Фёдоровну и мне тоже хотелось так любить. Это плохо?
— Нет. Желание любви естественно для человека. Нет в любви никакого греха. Лев Николаевич в этом вопросе слишком категоричен. Может быть, из-за своего возраста. Любить надо, Татьяна Львовна. И вы, наверное, уже любите кого-то или обязательно полюбите.
— А что вы сейчас пишете? О любви?
— Я пишу пьесу, и именно о любви. Боюсь, пьеса окажется неудачной и вам не понравится.
— Почему?
— Любовь не приносит моим героям счастья.
XI
Садовый домик он приказал выкрасить под цвет бумаги, на которой пишется пьеса в новых формах, и его бледно-голубой фасад со скромным изяществом выступал из тянувшейся к нему завистливой зелени. Подошли с Машей к высокой двери — через такие двери входят в храм. Он стал часто шутить и теперь сказал сестре:
— Не забудь, милсдарыня, приготовь сюда надпись: «В сей хижине Чехов написал «Чайку».
— Ты же ещё не закончил.
— Давно закончил, но ещё не успел записать.
— Ты так и не сказал, говорили ли о пьесе с Толстым?
— Великий человек не теряет времени на пустые пьесы, написанные для развлечения бездельников интеллигентов.
— Но ты вернулся из Ясной Поляны в таком бодром настроении и сразу набросился на пьесу. Я подумала, что он говорил с тобой о ней, что-то советовал.
— Если следовать его советам, то надо бросить и пьесы и рассказы и сочинять только сказочки, чтобы Фрол читал их кухаркам.
— Ты опять не придёшь пить чай? Прислать сюда?
— Нет. Я приду в столовую. Здесь толпятся мои герои. Они не дадут спокойно попить чайку. Такие все нервные, и все влюблены.
Лишь вспоминая, вдруг открываешь, что в жизни было время счастья, и с досадой удивляешься, что не заметил этих счастливых дней. Сидел за письменным столом у окна, открытого в звенящее бабье лето, на бумагу точно ложились реплики персонажей, из них складывалось нечто большее, чем сумма разговоров, эпизодов, актов, подобно тому как при вышивании из узелков ниток создаются не линии, не контуры, не пятна, а прекрасный рисунок, любуясь которым забываешь и о нитках, и об узелках.
Конечно, поездка к Толстому подействовала возбуждающе: он увидел человека в полном смысле слова и вспомнил, что и сам человек. Граф Л. Н. Толстой очень далёк от пьесы, от новых форм и даже вообще от литературы: осталась только техника, которую он ставит на третье место и использует для объяснения людям, как они должны жить. Но Толстой — единственный человек в России, а то и во всём мире — пишет не ради славы или денег, не во имя успеха у читателей или зрителей, а исполняя то, для чего предназначен, для чего родился и живёт. «Исполняя волю пославшего меня», — говорит он сам.
Когда-то и великому человеку было тридцать пять, и он писал: «То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой. «Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых слёз улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея». Жаль, что тебе не дожить до возраста, когда пишут рассказ «Хозяин и работник», а ночью ссорятся со своей постаревшей Наташей, и она выбегает на улицу в одном халате, а ты бежишь за ней в кальсонах. Интересно было бы узнать, что написал бы в этом возрасте автор «Чайки».
Он предназначен для создания этой пьесы в новых формах драматургии. Однажды поняв театр и испытав в нём необъяснимое наслаждение, стремишься испытывать его вновь и вновь и наконец понимаешь, что тебе мало существующего театра, что ты можешь и должен создать свой.
Может быть, он и не стал бы писать свою пьесу, если бы её написал кто-то другой. Такую пьесу, где зрителя волнуют не убийства, не дуэли, не какие-то невероятные события, а драмы, происходящие в душе человеческой. Как-то спросил у Феди Корша, какая современная пьеса пользуется самым большим успехом. Тот ответил не задумываясь:
— «Вторая молодость» Невежина. По всей России идёт вот уже десять лет и будет идти ещё лет двадцать.
«М-да... «Вторая молодость»... Глава семьи влюбляется в гувернантку, его взрослый сын убил её. Если б не было гувернантки, персонажи не знали бы, что делать, потому что они не существуют. Есть лишь слова, придуманные для них.
Вот ты, мой друг Тригорин, существуешь. Я даже тебя побаиваюсь, потому что не совсем понимаю. Любишь ты Нину или это лишь мужская настойчивость?»
Тригорин, высокий, подтянутый, модно одетый, хорошо причёсанный, с аккуратной бородкой, держался независимо, однако с некоторым умело скрываемым напряжением, как человек, вышедший из самых низов и добившийся видного положения в обществе лишь благодаря себе, своему труду и таланту.
«Конечно, я люблю Нину, — сказал он убеждённо. — Только такая любовь, юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грёз, только она одна может дать счастье! Такой любви я не испытал ещё... В молодости было некогда...»
«Это я уже слышал от Левитана. Кстати, сначала я его хотел вывести на сцену, но здесь нужен писатель, чтобы заворожить девушку правильными красивыми речами о литературе. Но, может быть, ты всё-таки любишь знаменитую актрису, которая падает перед тобой на колени и называет тебя единственной надеждой России? Лучше не отвечай, а то испортишь пьесу».
И героиня непонятна. Она возникла из мечты, из утреннего тумана над озером. Вбежала и внесла с собой надежду и тревогу, вечную радость жизни и вечную тоску о несбывшемся счастье.
«Я опоздала? — спросила она, задыхаясь от волнения. — Ещё не закончили? Я буду играть? Я стану великой актрисой?»
«Не знаю. Вы такая красивая, Нина, столько в вас чувства и огня, но... Ведь я не придумываю пьесу про убитых гувернанток. Эта пьеса существует помимо меня, помимо моих желаний, пристрастий. Когда я писал «Попрыгунью» или «Ариадну», то позволил себе вмешаться в естественный ход вещей, подправлял судьбу персонажей, но теперь я следую только логике искусства».
«Она любит театр, но терпит неудачу на сцене. Она полюбит недостойного, родит от него ребёнка, ребёнок умрёт... М-да... Ребёнок умрёт».
За чаем Маша, внимательно посмотрев на него, вдруг спросила:
— Ты знаешь, что Лика скоро возвращается в Москву?
Страшная интуиция близкого человека, постоянно думающего о тебе, пытающегося проникнуть в твои тайные мысли. Неужели могла по лицу догадаться, что он думает о Лике?
— Совсем возвращается?
— Да. С девочкой.
— И как она?
— Кто? Девочка?
— И девочка.
— Пишет, что всё хорошо. Очень счастлива, что имеет ребёнка.
— А я счастлив, что закончил «Чайку».
МИСЮСЬ 1895-1896
I
ень открывался такими нищенскими, разбавленными чернилами холодного бесснежного рассвета, что от встречи он не ждал ничего хорошего. Однако, отправляя лошадей на станцию и передавая Фролу пакет с корректурой «Анны на шее», наглотался сухого подмороженного воздуха, почувствовал неожиданную бодрость, и захотелось новых встреч, поездок, разговоров, свиданий — захотелось жить. А когда зазвенел колокольчик экипажа, возвращающегося со станции, появилось солнце из черно-фиолетовых туч над лесом и отчаянно ударило косыми лучами по закаменевшей земле.
Он с Машей вышел навстречу приезжей, солнце светило ей в лицо, она прикрывала чувствительные светлые глаза, прищуривалась, улыбалась, говорила что-то приветливое. Она оказалась совсем не такой толстой и унылой, какой он ожидал её увидеть. Помогая ей выйти из экипажа, полуобняв, он почувствовал и прежнюю нежную мягкость её тела, и новую играющую женственность.
— Надеюсь, вы прогнали с дивана моих соперниц, Антон Павлович? — спросила Лика почти серьёзно.
— Лежать на моём диване разрешается только любимой таксе и вам, кукуруза души моей.
— Такса не хрипит, как та, которая уехала в Петербург?
— О чём ты, Лика? — удивилась Маша.
— Не понимаешь ты, Марья, тонкий парижский юмор. Они намекают-с на госпожу Яворскую.
— Это, Маша, был подарок Антона Павловича к моему приезду. Он её отправил туда ради меня. Без него Суворин бы не взял в свой театр эту навсегда простуженную даму. Он хоть и негодяй, но в театре кое-что понимает.
— Сознаюсь: грешен. Торгую живым товаром. На рассказики не проживёшь, а за женщин старик хорошо платит. Кстати, он берёт и певиц из Парижа.
— Маша, он у тебя неисправим. Ехала и боялась, что сразу меня прогонит и даже обедом не накормит.
— Даром здесь не кормят, милсдарыня. За обед берём концерт французского сопрано.
Концерт был обещан, и обед состоялся. Лика расспрашивала о семейных новостях, порадовалась за Мишу, получившего хорошую должность в Ярославле, поинтересовалась, конечно, творчеством хозяина.
— Написал пьеску, — ответил он. — Только вряд ли она будет иметь успех.
— Великий Чехов, конечно, написал что-то гениальное и, как всегда, боится искушать судьбу. Почему вы такой трусливый и суеверный, Антон Павлович? — язвила Лика, терзая его взглядом, потерявшим былую наивность, посверкивающим страстной злостью.
— Все великие драматурги живут на Западе. Дюма-фис умер, но появился Метерлинк. В Париже вы, наверное, смотрели что-нибудь из его пьес?
— У меня, Антон Павлович, не было времени на театры.
Евгения Яковлевна горестно вздохнула и наклонилась над своей тарелкой — было приказано ни слова о ребёнке.
— Лика брала уроки пения, — пришла на помощь Маша, — и ещё приходилось зарабатывать на жизнь.
— Я училась у Амброзелли. Он нашёл у меня сопрано необыкновенно красивого тембра. А что за пьесы у Метерлинка?
— Он бельгиец, пишущий по-французски. «Принцесса Мален», «Непрошеная», «Слепые». В «Непрошеной» на сцене сидит большая семья, все разговаривают о болезни матери и ждут родственницу, а приходит Смерть, и мать умирает. Или, представьте, на сцене в каком-то необыкновенном полумраке, в каком-то вечном лесу сидят двенадцать слепых. Поводырь-священник умер, а они этого не знают и не могут понять, что происходит. Говорят между собой, волнуются, возмущаются, надеются... В этом вся пьеса. Разве я смогу так написать? Но если бы у меня был театр, я бы поставил. Это интересно. Второй раз на этот спектакль вряд ли захочется пойти. Это не «Гамлет» и даже не... М-да...
Хотел сказать: даже не «Чайка».
— А новые рассказы? — спросила Лика.
— В понедельник, милсдарыня, читайте «Русские ведомости». Рассказ Чехова «Анна на шее».
— Что за странное название?
— Надо знать правила ношения российских орденов, медалей и прочих знаков отличия. Одна моя знакомая писательница вышла замуж за придворного чиновника. Новый император сделал его камергером и наградил орденом Святой Анны второй степени, а этот орден носится в виде креста на шее.
— Я знаю эту писательницу, — сказала Лика неприязненно. — Мадам Шаврова. Она у вас кривобокая.
Неожиданно в столовую робко протиснулся Фрол.
— Вы меня простите, что, значит, вот, должен определённо...
— Ты куда прёшь? — возмутился Павел Егорович. — Не видишь, господа обедают?
— Папа, давайте узнаем, что нужно человеку. Говори, в чём дело, Фрол.
— Лошадей готовить на станцию к вечернему поезду? А то я было поить надумал...
— Кто тебе сказал, что надо к вечернему поезду?
— Вот они, когда, значит, ехали. — Он кивнул в сторону Лики.
— Лидия Стахиевна, вы приехали к нам только пообедать?
— Я бы и поужинала, Антон Павлович, но ваше отношение ко мне...
— Наши отношения только начинаются. К вечернему поезду, Фрол, никто не поедет. Можешь лошадей поить, кормить и спать укладывать.
— Их чего укладывать? Они же стоя спят. Лошадь, её, значит, нельзя, чтобы ложилась...
— Иди, иди, — грозно приказал Павел Егорович. — Нечего тут болтать. Господа обедают.
II
Встреча с Ликой растопила в душе что-то, казавшееся навсегда каменно заледеневшим, а заодно рассеяла, размыла, вымела то застрявшее в памяти неприятное, что представлялось прочной вечной преградой между ними. Вдруг открылась простая истина: её отношения с другими мужчинами не должны его интересовать, не должны мешать его чувству к ней. Появились новые, ещё не оформленные точным словом, мысли о любви, и он даже пожалел, что закончил пьесу, — теперь, после встречи с, так сказать, героиней, он написал бы иначе, лучше.
Заставила улыбнуться и вновь задуматься о «Чайке» и любви открытка:
«Cher maitre, проезжаю Лопасню и делаю Вам визит. Сыро, холодно, брр. Поезд идёт тихо. Ялта улыбнулась в этом году. Как поживаете? Что поделываете? Как здоровье? Пишите в Москву, дом Милованской. Преданный Вам ученик Е. Шавров. Написала большой рассказ».
Писала карандашом, спешила, чтобы успеть, пока камергер не вернулся из уборной, даже забыла указать улицу, где находится этот дом Милованской.
В Москве пришлось идти на Большую Никитскую. Дожди размыли тротуары, дворники и ветры вымели опавшие листья, и улица, чистая и светлая, не только напоминала с грустью об ушедшем лете, но и обещала, что зимой будут свои радости. Особнячок Батюшкова, где помещалась Школа драматического искусства, был похож на руководителя школы: невысокий, устойчивый, без лишних украшений, но есть всё необходимое. Немирович-Данченко и его кабинет на первый взгляд более уместны в официальном учреждении, чем в сомнительном искусстве театра: строго, просто, мрачновато. Сам не актёр, а писатель, режиссёр, точно знающий, как надо писать пьесы, как надо их ставить, что и как надо делать с актрисами, он умело носил маску непреклонного начальника. При встречах с Чеховым маска сбрасывалась.
— О-о! Антон! Принёс новую пьесу? Весь театральный мир взбудоражен слухами.
— Пьеса, как всегда, не получилась. Вопреки всем правилам. Поправлю, перепишу и... выброшу. Театральный мир всегда чем-то взбудоражен. Вот Суворин...
Они обменялись мнениями о театральных новостях. Согласились, что Костя Алексеев-Станиславский хорошо поставил в своём Обществе «Самоуправцев» Писемского, что «Ганнеле» у Суворина имеет успех только благодаря микроскопическому тельцу Озеровой, легко сыгравшей пятнадцатилетнюю замученную девочку, а вообще такие пьесы ни ставить, ни смотреть не надо, что Метерлинк интересен, а вялая риторика Ростана — позавчерашний день драматургии... Возникло лишь одно разногласие: Немирович сказал, что единственная надежда русской драматургии — Чехов, а Чехов возразил, напротив, что есть и другая надежда — Немирович-Данченко.
— Если надежда только на меня, то русский театр надо закрывать. И твою Школу тоже. Таланты здесь попадаются?
— Таланты надо открывать ключом.
— Ты подразумеваешь открытие актрис?
— Открывать в женщине актрису, а в актрисе женщину — дело святое, — усмехнулся руководитель Школы. — Некоторые темпераментные мужчины поступают в мою Школу только для этих открытий. Один ученичок мне признался. «Зачем вы поступили в Школу? — спросил я его. — Вы же ничего не хотите делать». А он говорит: «Средства у меня есть, делать мне всё равно нечего, а здесь такие женщины, такие доступные, и всё бесплатно». Приходится выгонять очень доступных. Но таланты есть. Москвин последний год учится[62] — большой будет артист. Сейчас, осенью, пришла одна дама в слезах — Ольга Книппер. Из Школы Малого театра прогнали из-за отсутствия способностей. А посмотрел — настоящий талант.
— Открыл?
— Ну... Открыл талант.
— А Ольга Шаврова?
— Что Ольга?
— Нет. Я о способностях.
— Способности есть.
— Кстати, мне нужен её адрес. Хочу увидеться с её сестрой, а адреса нет.
— Канцелярия у меня в порядке. Шаврова Ольга Михайловна...
III
Лену он уже не застал — уехала к мужу в Петербург, но встреча с Ольгой, двадцатилетней красивой девушкой, уже научившейся держаться и в жизни и на сцене, и с пятнадцатилетней хорошенькой Анечкой стала продолжением всё того же рассказа, ещё не написанного и даже ещё не задуманного. Пока он только знал, что пьесу переписывать не надо, а для новых мыслей будет написан новый рассказ.
Мелиховский осенний день был ненастен, и в кабинете горела лампа, но радость жизни, возникшая, как он думал, с окончанием «Чайки», не покидала его. Ранние сумерки так же подсинили окна, как в доме-комоде на Кудринской, когда впервые пришла она. Потом на Амуре в огне заката духовой оркестр играл вальс «Воспоминание», и он назвал её невестой. Тогда и появилось в душе необъяснимое чувство счастья жизни.
Мечты о ней, о встречах, о любви, тёмные богимовские аллеи, по которым он бродил, взволнованный и печальный, Верочка с большими требовательными глазами и томиком Мопассана, звук его шагов, раздававшихся в поле ночью, когда он, влюблённый, возвращался домой — это и было счастье.
Почему-то начал с письма её высокоблагородию Елене Михайловне Юст:
«...Теперь пишу маленький рассказ: «Моя невеста». У меня когда-то была невеста... Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я её очень любил. Об этом я пишу...»
IV
— Почему ты не пригласил Лику на чтение пьесы? — спросила Маша, когда они подъезжали на извозчике к «Лувру».
— Прослушаешь пьесу и поймёшь. Однако мороз.
Чёрное небо над Тверской было неумолимо, жестоко и холодно, как публика в театре, недовольная зрелищем. Он знал, что первая встреча его героев с теми, кто считает себя театральным миром, будет для них тяжёлым испытанием: приглашены уверенные в собственной талантливости, убеждённые, что только они знают, как правильно писать пьесы. Разумеется, они ошибаются. Они знают, как писали пьесы раньше, а как действительно надо писать, знает лишь тот, кто пишет.
Актриса театра Петербургского литературно-артистического кружка Яворская специально приехала в Москву прослушать новую пьесу и, наверное, специально для злой критики. В «Лувре» она потребовала, чтобы ей предоставили её прежние апартаменты, и чтение состоялось в той же Синей гостиной, где прежде собиралась «эскадра».
Театральный мир был представлен широко. Фёдор Адамович Корш умел угадывать, что понравится публике, и нелепо гордился показными знаками внимания Яворской, выдававшей его для удобства за своего любовника. Она усадила его рядом со своим королевским креслом и что-то зашептала, наклонившись и повернувшись, демонстрируя присутствующим свою красивую голую спину. Татьяна Щепкина-Куперник, по-видимому ещё не зная пьесы, точно знала, нравится она ей или нет. Скорее всего — нет. Гольцев и другие бывшие участники «эскадры» тоже ещё до чтения пьесы знали своё мнение: пьеса хороша, потому что её написал Антон.
М-да... Однако читать надо не в расчёте на восторги, а для хладнокровного исследования уровня своих читателей и зрителей. Он поймёт их истинные впечатления независимо от того, что они будут говорить. Хотелось бы, конечно, чтобы пьесу поняли. Жаль, если не поймут. Жаль, разумеется, их, непонятливых. Сам он убеждён, что пьеса хороша и нет равных ей во всей современной драматургии, и никакая Ермолова теперь его не переубедит.
Но всё же и Чехов — человек.
Читая, он предполагал, что Яворская не простит ему финал второго действия:
«Нина (подходит к рампе; после некоторого раздумья). Сон!
Занавес».
И она передёрнулась в кресле, нервно извиваясь спиной.
Юная талантливая поэтесса, драматургесса и переводчица кое-что понимала и кое-что чувствовала. По её умным выразительным глазам он догадывался, что до неё «Чайка» долетела. Такие глаза он хотел бы видеть у своих зрителей в театре.
Корш был потрясён финалом: Треплев рвёт рукописи и уходит; общество играет в лото, вспоминает убитую чайку.
«Шамраев (подводит Тригорина к шкапу). Вот вещь, о которой я давеча говорил... (Достаёт из шкапа чучело чайки.) Ваш заказ.
Тригорин (глядя на чайку). Не помню! (Подумав.) Не помню!
Направо за спиной выстрел; все вздрагивают».
И Корш вздрогнул.
Он прочитал последние слова Дорна, последние слова пьесы:
«...Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...
Занавес».
И Татьяна вздохнула коротко, как всхлипнула.
Он бы отнёсся с холодной иронией, если бы Яворская разнесла пьесу и обозвала автора нехорошими словами, но она вспомнила свою профессию и сыграла роль дамы, которой пьеса не нравится, но она её хвалит из приличия. Причём роль была задумана тонко, чтобы автор поверил в её искренность, а присутствующие поняли, что она над автором смеётся. Но она забыла о своей бездарности и самовлюблённости. Вместо задуманного, вибрируя пикантной хрипотцой, произнесла нечто обидное и нелепое:
— Это гениально! Какая жалость, что я не могу взять «Чайку» в бенефис. Мы уже готовим Ростана. Его гениальную «Принцессу Грёзу». Костюмы те же, что у Сары Бернар. К спектаклю Алексей Сергеевич выписывает из Парижа красные розы и белые лилии. Как в «Гамлете» не напрасно является призрак отца, так и здесь не напрасно является призрак Шекспира. В первом, кажется, действии эта актриса, как её... Она говорит из «Гамлета»: «Мой сын...» Я поняла, зачем здесь призрак Шекспира: Чехов — это Шекспир. Или тень Шекспира...
Возмутила и Татьяна: холодно и складно объяснила, что новаторство — это хорошо, но нельзя под видом новаторства рассказывать истории, старые как мир. Вот Метерлинк... Вот Ростан... Вот Ибсен...
Кто-то из Малого театра говорил не столько о Чехове, который пишет плохо, сколько об Островском, который писал хорошо, и чуть ли не каждую фразу заключал словом «декадентство», употребляя его в качестве слова неприличного.
Откровеннее и понятнее всех был Корш.
— Вы хорошо всё это сочинили, Антон Павлович, — говорил он с заминкой, стараясь не очень обижать автора, — но о театре вы не думаете. Об актёре не думаете. Голуба, это же несценично. Герой в конце застреливается, а вы не даёте ему поговорить перед смертью. Даже отправляете стреляться за сцену. Разве такое кто-нибудь поставит?
В гостиную подали шампанское, Татьяна засуетилась, по-видимому осуществляя какой-то план. Как опытный режиссёр, поставила мизансцену: она с Яворской и он с Машей оказались за столиком отдельно от других.
— Вы меня простите, Антон Павлович, — начала Татьяна, — что я говорила излишне резко, но мы с Лидой решили, что должны помочь вам поправить пьесу. Мы — представители нового поколения молодёжи, нового поколения женщин. То, что говорим мы, говорит современная молодёжь, интересующаяся искусством. Раньше в России было два вида женщин: добродетельные супруги и кокотки. Мужчины метались между ними. Теперь появились ещё и мы — свободные, независимые женщины. К нашему мнению прислушиваются люди искусства. В Париже я говорила и с Ростаном, и с Дюма — мы с Лидой ещё застали его. Мы говорили о новых формах...
— Я очень рад, Лидия Борисовна, что в ваш бенефис идёт Ростан, — перебил он Татьяну. — Я убеждён, что будет успех: всё-таки платья от Сары Бернар... Обязательно поднесут что-нибудь от учащейся молодёжи. Танечка, наверное, выступит со стихами. Таня пишет чудные стихи всего из двадцати пяти слов, которые она знает: упоенье, моленье, трепет, лепет, слёзы, грёзы...
Чехов тоже человек и тоже иногда теряет самообладание.
Снова ехали с Машей под чёрным небом, но теперь сыпались редкие медленные снежинки и мороз казался не таким крепким.
— Всё, что они говорили, — пустое, — сказал он. — Ты поняла, почему я не пригласил Лику?
— Да. И хорошо, что Потапенко в Петербурге.
— Игнатий неопасен. Он очень много декламировал мне о крепкой мужской дружбе, не зависящей от внешних причин. Ради этой крепкой мужской дружбы я попрошу его провести «Чайку» через цензуру. Он всё сделает и ни слова не скажет о некоем, скажем так, сходстве сюжета с кое-какими его приключениями. Может быть, даже возгордится в душе, представив себя Тригориным.
— Но... Нет, не буду спрашивать: я знаю, что ты, когда пишешь, всё обдумываешь очень тщательно.
— Я знаю, что ты хочешь спросить, и отвечу. Искусство требует, чтобы ты отдал ему всего себя. Любовь, семья, дружеские привязанности, сложные личные отношения, личные пристрастия — ты всем должен пожертвовать, если это требуется для создания настоящего произведения искусства. Только всю правду о человеке — и о твоей матери, и о твоём друге, и о твоей любимой женщине, а правда часто неприятна, даже страшна. Но если утаишь хоть самую малость, приукрасишь совсем немного — и нет произведения. Получается сладенькая чепуха. Я не писал пьесу о Лике — с ней случилось то, о чём я давно хотел написать.
— Ты был так резок с Таней сегодня.
— С новой молодёжью? Эти просвещённые б... обитают в России ещё со времён Петра. А Лидия Борисовна провалилась в Петербурге в ибсеновской «Норе» — роль не для спины, а для мозгов. И не говори мне больше об этой лесбосской паре. Напрасно я Лику не пригласил — она бы поняла.
V
На этот раз остановился в «Англетере» — госпожу Юст к Суворину не приведёшь. Лежали с ней в сумерках, заменяющих в зимнем Петербурге дневной свет, рассматривали шпиль Исаакия в туманном окне и обсуждали те единственные темы, которые интересно обсуждать: искусство и любовь. Говорили и об искусстве любви, и о любви к искусству. Она не была на бенефисе Яворской в «Принцессе Грёзе», расспрашивала, и он без особой охоты делился впечатлениями:
— Яворская пыталась изобразить принцессу, а получилась прачка, увитая гирляндами цветов, кстати, доставленных из Парижа. Да и сама пьеса дребедень: романтизм, битые стёкла, крестовые походы. Некий трубадур влюблён в прекрасную Мелиссанду, собирает своих рыцарей, плывёт к ней куда-то в Африку и там от какой-то болезни умирает у её ног. После его смерти по призыву Мелиссанды рыцари дружно идут в крестовый поход. Зачем это написано? Да ещё какими-то трескучими стихами.
— Но какой успех. Во всех газетах только восторги.
— Пушкин говорил, что наша публика не обладает вкусом, но и добавлял, что у публики есть здравый смысл. Потому и получается, что плохая пьеса иногда может иметь успех, но настоящее искусство всегда будет рано или поздно признано. Лучше бы, конечно, пораньше.
— А вы знаете, что я теперь оказалась почти в родстве с Пушкиным? Мать моего мужа Юлия Николаевна Гартунг — родная сестра мужа Марии Александровны, дочери Пушкина. У них в семье есть вещи и документы, связанные с Пушкиным.
— У меня была... одна знакомая, тоже некоторым образом почти родственница Пушкина.
— Ваша невеста? Мисюсь? Какое прелестное имя. — Однако в голосе Леночки слышалась горечь ревности. — Меня так радует, что cher maitre когда-то любил, значит, это земное чувство ему было доступно и понятно. Мне всегда казалось, что вы слишком тонко анализируете всё и всё для того, чтобы полюбить, то есть чтобы хоть на время быть ослеплённым.
— Ослепнув, я не смогу писать и отвечать на ваши письма, господин Е. Шавров.
Она печально вздохнула.
— А мой муж занимает какие-то высокие должности, может быть, он честный и хороший человек, я не знаю, что он делает там, как служит, я знаю только, что он лакей... Cher maitre, а вы не вернётесь к ней?
— К кому?
— К Мисюсь. Не надо. К прошлому нельзя возвращаться. Его уже нет.
VI
По-своему предупредил его и великий человек — приехав с Сувориным в Москву, они были приняты Толстым в его доме в Хамовниках. Сначала других гостей не было, Софья Андреевна, Татьяна и Мария встретили радушно, он заметил, что Татьяна Львовна даже несколько смутилась. Лев Николаевич расспрашивал о литературных и театральных делах, Суворин рассказал о постановке «Принцессы Грёзы»:
— Успех был, но он меня не радует — дурацкая пьеса. Представьте, Лев Николаевич: какой-то дурак на каком-то дурацком корабле ищет какую-то дуру, от которой ему ничего не надо — лишь умереть у её ног...
Толстой смеялся, Чехов серьёзно сказал:
— Много читал я ваших, Алексей Сергеевич, статей о театре и рецензий, но эта рецензия, которую мы сейчас услышали, — самая блестящая.
Далее Толстой резко обругал декадентов, а заодно и всю интеллигенцию.
— Это паразитная вошь на народном теле, — сказал он, — и её ещё утешают литературой. Да и литература такая, что и хорошего слова не найдёшь. Вот умер Верлен. О мёртвом плохо не говорят, но что можно сказать хорошего о человеке, который всегда был пьян, писал стихи в пьяном состоянии для таких же пьяных и умер от пьянства.
— О твоём друге, покойном Ге[63], тоже ничего хорошего не скажешь, — вдруг высказалась Софья Андреевна. — Написал ужасное «Распятие». Христос, наш Спаситель, изображён так, что вызывает страх и отвращение.
— Ты не права, Соня, — возразил Толстой. — Художник — человек своего времени, и Николай написал такого Христа, который нужен нам всем сегодня. Его картина напоминает, что все мы своими мерзкими делами снова и снова распинаем Христа.
Как раз к этому разговору пришёл профессор Чичерин, такой же старый и такой же упрямый, как Лев Николаевич, и немедленно поддержал Софью Андреевну.
— А вот Рафаэль... — сказала она.
— Да, Рафаэль, — подтвердил профессор, и возник горячий спор, заставивший Толстого весьма сильно раздражиться.
Суворин внимательно слушал спорящих, разумеется, для того, чтобы записать для истории в свой дневник. Татьяна и Мария раскладывали пасьянс и занимали Чехова литературным разговором.
— Мы читали и «Убийство», и «Ариадну», и «Анну на шее», — говорила Мария. — Всё очень интересно. А большие вещи вы пишете? Роман?
— Роман у меня не получается. Есть собаки большие и есть маленькие, каждая лает по-своему. Я маленькая собака.
— Лучше вас никого нет в литературе, — сказала Татьяна и вновь несколько смутилась. — Я всё ваше перечитываю по нескольку раз. И «Ариадну» перечитывала...
Она замолчала и посмотрела на сестру — та заинтересовалась громкими голосами спорящих.
— Да пойми ты наконец, — громогласно возмущался Лев Николаевич непонятливостью жены, — что нельзя сегодня изображать исторических лиц так, как их изображали триста лет назад...
— Вам понравилась «Ариадна»? — заинтересовался автор злого рассказа.
— Да, — вполголоса сказала Татьяна, словно созналась в нехорошем поступке. — Наверное, это стыдно, но я... я представляла себя Ариадной. Конечно, это на мгновение, но мне хотелось стать такой женщиной. Как вы умеете проникать в женскую душу! Вы у меня вызвали то, чего я ещё не знала в своей душе.
— Вы настоящая женщина, Татьяна Львовна, и у вас в жизни будет счастливая любовь.
— Таня, попросим Антона Павловича, чтобы он нам погадал, — сказала Мария. — Я возьму новую колоду.
— Но я же не умею гадать.
— У нас простое гаданье, — успокоила Татьяна. — Вы снимите колоду и откроете карту. Мне и Маше.
— Сначала мне, — сказала Мария.
Показалось, что электрический свет странно мигнул и неслышимый порыв ветра холодом ударил в лицо. Посмотрел на сестёр — они спокойно ждали его гаданья. Конечно, показалось.
— Итак, открываю карту Марии Львовне, — сказал он нарочито низким басом, заставив Софью Андреевну прервать свою длинную очередную реплику в споре и обратить внимание на карты.
Он открыл туза пик.
— Ну вот, — разочаровалась Мария. — Лучше бы ты, Таня, первая загадала. — И взяла свой туз из колоды.
— Твоя карта всё равно тебя найдёт, — возразила Татьяна. — Теперь мне. Я уже что-то загадала.
Он вновь перетасовал колоду, снял, открыл карту, и...
— Это ужасно! — воскликнула Татьяна.
Перед ней лежал туз пик.
— Как же так? — поразилась Мария. — Вот мой туз.
— Вы ещё меня на старости лет спиритом сделаете, — сказал Толстой. — Дайте-ка сюда колоду.
Проверили карты, и оказалось, что в колоде действительно была лишняя карта — туз пик.
— Вы, Антон Павлович, роковой человек, — сказал Толстой. — Хочу вас что-то спросить по секрету.
Пригласил в кабинет, усадил и сказал:
— Жалею, что давал вам читать «Воскресение».
— Почему?
— Да потому, что теперь там не осталось камня на камне. Всё переделал.
— Дадите прочитать?
— Закончу — дам.
— Вы хотели что-то спросить.
— Да. Вот с тузами и королями. Вы — бубновый король, а в лице что-то печальное. Молодой мужчина, неженатый. Как у вас с женщинами? Сильно распутничаете?
— Да... Нет... Знаете... — забормотал, не зная, что отвечать.
— Я был неутомим. Из опыта вам скажу: не та баба опасна, которая за ... держит, а та, которая за душу.
VII
Старик был прав, предупреждая об опасности, но вся жизнь опасна, и, может быть, более опасна жизнь писателя, пытающегося вникнуть в тайны той самой души. Известное наслаждение любви доступно одинаково и писателю и дикарю, тонкие душевные переживания может испытывать лишь цивилизованный человек с высокой нервной организацией. Он почувствовал этот чудесный свет любви, остающийся в душе навсегда, и как настоящий писатель должен был открыть его другим людям. Великий человек прав: такая любовь опасна, потому что держит за душу. Но, может быть, она-то и даёт истинное счастье?
И он написал рассказ о любви. Как это часто бывало, первое название оказалось неудачным, и, вспомнив Богимово, прогулки через поле к еловой аллее, назвал рассказ «Дом с мезонином». Строки ложились легко, быстро и точно: он не сочинял, а вспоминал.
«Это было 6—7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддёвке, по вечерам пил пиво и всё жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия».
Там не было двух сестёр, но во время прогулок он уже тогда мечтал поселить их в доме с мезонином.
«...Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем ещё молоденькая — ей было 17—18 лет, не больше, — тоже тонкая и бледная, с большим ртом и большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон».
В финале попытался передать светлое и печальное чувство несбывшейся любви, остающееся в душе на всю жизнь:
«Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того, ни с сего припомнится мне то зелёный огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюблённый, возвращался домой и потирал руки от холода. А ещё реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...
Мисюсь, где ты?»
VIII
Рассказ был уже в «Русской мысли» и шёл в апрельский номер, но Лика должна была прочесть его немедленно. Она приехала из Покровского в дни маслянисто-серой власьевской оттепели, он ждал её в «Лувре», сняв два номера на втором этаже. Прочитав рассказ, она зашла к нему вместе с солнцем, расстелившем для неё яркие ковры. За окном — весёлая капель, в её глазах — весна.
Сказала, что рассказ её поразил, что всё замечательно, что Лида чем-то напоминает Машу, но вот художник... И посмотрела на автора с тревогой. Понимая, что её беспокоит, улыбнулся, сказал как можно ласковее:
— Милая Лика, забудем всё плохое. Я уже забыл, и передо мной та Лика, которая провожала меня на Сахалин.
— Не надо было уезжать тогда.
— Надо. Теперь есть о чём вспоминать. Я с радостью вспоминаю то не очень приятное путешествие, потому что всю дорогу думал о вас, представлял ваш облик, ваше голубое платье. И сейчас вы в голубом. Как будто знали...
— Вы вспоминали меня в путешествии?
— Я же писал. Маша вам передавала.
— Маша?..
— А художник... Это — почти автор. Почти я. В то время я был близок к взглядам Толстого. Все рассуждения художника взяты из работ Льва Николаевича: «О голоде», «Так что же нам делать»... Теперь я пишу повесть, в которой по пунктам буду опровергать идеи великого человека. Конечно, не я, Чехов, буду опровергать, а жизнь, которую я изображу.
Лика нервничала, сидела неспокойно, смотрела на него с непониманием и тревогой, не знала, о чём говорить. Спросила о женитьбе Миши. Он рассказал:
— Михаил Павлович — большой человек в Ярославле. Получает сто сорок семь рублей в месяц, и некая бедная, но честная гувернантка сочла за честь вступить с ним в законный брак. Венчали у нас в васькинской церкви. Я был посажёным отцом...
Напрашивалась шутка в прежнем стиле о том, что теперь и у него есть дочь, но на этот раз хотелось быть добрым и серьёзным.
— Я рада за Мишу. Жена будет с ним счастлива. У него лёгкий характер. Не то что у вас.
— Мой характер вы должны были увидеть из рассказа. Ведь вы хорошо поняли, о чём я написал.
— Конечно, поняла. Это о любви, которая... которая...
— Которая остаётся навсегда.
Он взял её за руку.
— Не надо, Антон Павлович, а то я разревусь. Лучше я уйду.
— Подождите.
— Нет.
— Тогда я сейчас сам приду к вам и останусь навсегда.
Она была уже у двери, но, услышав его последние слова, остановилась, посмотрела на него, засмеялась и сказала:
— Не очень спешите. Я дам вам знать.
Он шагал по комнате в некотором волнении, когда в дверь постучали. Коридорный принёс записку — на небрежно вырванной половинке тетрадной страницы в линейку торопливым бесформенным почерком крупными буквами нацарапано, по-видимому, на стене или на неровной поверхности стола: «Приходите, но через 10—15 минут. Очень щислива».
Пришёл через двадцать, и повторилось то же, что когда-то произошло в меблированных комнатах.
IX
Чехов — обыкновенный человек, и у него случаются минуты слабости; когда пришла такая минута, когда весь построенный им в себе мир зашатался и рухнул, он вдруг понял, что в одиночестве, на которое он обречён, только она одна может поддержать, успокоить, утешить.
Хладнокровно оценивая увиденное на репетициях, он предполагал возможность некоторой неудачи «Чайки», надеясь всё же на талант Комиссаржевской[64], но произошёл такой позорный провал, какого ещё не видел Александрийский театр. Его хорошую юношескую пьесу несправедливо отвергла Ермолова, нынешняя участница ходынских торжеств, — вместе с Музилем приветствовала царя в Петровском дворце, мимо которого уже тянулись телеги с трупами раздавленных. Он пережил тот первый удар. Та пьеса была хорошая, эта — прекрасная. Лучше не может написать никто. Если это не так, значит, его уверенность в своём таланте драматурга ошибочна. Он бездарен, и не только новых форм, но и обыкновенную пьесу не может создать.
Он ушёл из театра ещё до конца третьего действия, так и не понаблюдав, как намеревался, за Ликой во время одной из финальных сцен. Она сидела в ложе рядом с Машей, и он хотел незаметно смотреть на неё, когда Дорн спросит о Нине:
«Дорн. Мне говорили, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чём дело?
Треплев. Это, доктор, длинная история.
Дорн. А вы покороче.
Пауза.
Треплев. Она убежала из дому и сошлась с Тригориным. Это вам известно?
Дорн. Знаю.
Треплев. Был у неё ребёнок. Ребёнок умер...»
Он не увидел, как вспыхнула и потупилась Лика, затем воровато взглянула на Машу и долго покачивала головой, словно решала какую-то задачу.
«Дорн. А сцена?
Треплев. Кажется, ещё хуже...»
Не увидел, как взволнованно что-то шептала Маше, а та отстранялась и останавливала подругу.
Он бродил по городу, забивая лёгкие октябрьской сыростью и кашляя, поужинал в трактире на Обводном канале, не чувствуя вкуса блюд и крепости водки. В суворинский дом, где, по обыкновению, остановился, пришёл в третьем часу ночи и тихо прошёл к себе. Однако хозяин не спал и пришёл к нему.
— А я переделываю статью о вашей прекрасной пьесе, — сказал он. — У меня была готова рецензия на отличный спектакль, но теперь приходится писать иначе. А где вы были?
— Ходил по улицам. Не мог же я плюнуть на это представление. Если я проживу ещё семьсот лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача.
— Конечно, в пьесе есть недостатки, но не в них дело — исполнение посредственное. Карпов показал себя человеком торопливым, безвкусным. Пьесой овладел плохо и плохо репетировал. Думаю, что в Москве её сыграют лучше.
Слушать всё это было невыносимо, и он сказал:
— Уеду утренним поездом.
— Я запамятовал: у нас же Марья Павловна. Искала вас везде и приехала сюда. Они с Аней в гостиной.
— Я к ним не выйду. Устал. Попробую соснуть.
Почти не спал. Поднявшись, написал письмо Михаилу в Ярославль, записку Суворину и записку Маше:
«Маша, я уезжаю в Мелихово; буду там завтра во втором часу дня. Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня, потому что я уже был подготовлен к нему репетициями, — и чувствую я себя не особенно скверно...»
Следовало на этом закончить, но Чехов — обыкновенный человек, и у него случаются минуты слабости:
«...Когда приедешь в Мелихово, привези с собой Лику.
Твой Я. Чехов».
X
У Чехова могут возникнуть минуты слабости, но именно минуты, и приехавших следом за ним Машу и Лику он встретил страшным рассказом о том, как за ним с самого Петербурга гнались критики с отточенными перьями и критическим дубинками, крича: «Убить «Чайку» и Чехова!»
— Ясинский выкрикивал, что это не чайка, а дичь, — рассказывал он, — а Кугель возрадовался: «Тем лучше! Мы её зажарим и съедим». Мне пришлось спасаться от них. Я всю дорогу прятался в вагоне под нижней полкой, в Лопасне тайно сошёл с поезда, а вещи пришлось бросить. Не смейся, Марья: узел, который ты завернула в одеяло, остался в вагоне. Потом, когда опасность миновала, я написал оберу поезда, чтобы вещи сняли и прислали мне.
— Не храбритесь, Антон Павлович, — сказала проницательная Лика. — Мы знаем, что вам тяжело, и будем вас развлекать. Привезли вино, ваше любимое пиво, всякие вкусные вещи. Будем пировать. Потом я вам спою. Бесплатно спою, Антон Павлович, учитывая ваши стеснённые средства и неимоверную жадность.
Она находилась в том состоянии, которое всегда было ему неприятно в женщинах: упоение сознанием собственной необходимости для мужчины. Женщина счастлива, когда видит мужчину в беде, нуждающегося в её ласке и внимании, и готова быть и доброй, и нежной, и любящей, и понимающей — лишь бы он признал свою слабость, то есть её превосходство. Лучше уж действительно бить камни на мостовой.
— Знаю я ваши бесплатные концерты, — сказал он. — Споёте на копейку, а нашей картошки съедите на рубль.
И он не изменил свой режим: целый день в кабинете и лишь вечером прогулки, пение и разговоры. Радости и покоя не было. Снег ещё не выпал, и от земли поднимался режущий холод. В воздухе чувствовался неслышимый гул приближающихся несчастий. Поезд ещё не виден и не слышен, а рельсы предупреждающе подрагивают. Темнело рано, и дом обступала глухая чёрная ночь, бесцеремонно приникающая к окнам и вздрагивающая с угрозой.
В один из вечеров Лика, начав петь его любимый романс, вдруг смешалась, сбилась и отказалась продолжать.
— Не могу, — пожаловалась она. — Мне всё время кажется, что кто-то страшный смотрит на меня в окно.
— Страшнее меня здесь никого нет, — пытался он успокоить её шуткой. — Вы же певица, канталупка. Вы должны спокойно петь, когда на вас смотрят со всех сторон. Ведь на концертах собираются сотни человек.
Маша возмутилась:
— Перестань ломаться. Или пой, или я пойду по хозяйству.
— Я устала.
Маша оставила их вдвоём. Сидели на диване под картиной Николая «Дама в голубом».
— Вы помните, мы летом назначили срок наступления нашего блаженства? — спросила она.
— Если речь шла о премьере «Чайки», то блаженство уже наступило.
— Вы знаете, о чём шла речь. Я каждый день вычёркиваю в календаре и считаю, сколько остаётся.
— А я придумал проект жетона, который хочу преподнести вам.
— Конечно, какая-нибудь гадкая шутка?
— Чудесный жетон. Я подарю его вам лишь с условием, что вы за это будете петь мне целый день.
— Я, наверное, никогда не смогу петь на сцене. Когда много незнакомых людей, я теряю голос. Так было уже несколько раз. Я даже обращалась к врачу. Конечно, не к вам.
— Это не моя область медицины. Может быть, вам лучше обратиться к ветеринару?
— Здесь вы шутите, а в пьесе? Личная жизнь не удалась, а на сцене ещё хуже! Все поняли, что это обо мне. А почему у вашей героини умер ребёнок? Вы хотите, чтобы умерла моя Христинка?
Он поднялся с дивана и подошёл к окну, из которого глядела ночь, неумолимая, как смерть.
— В деревне собаки воют, — сказал он.
— Я сейчас же уеду! — воскликнула Лика.
— Если вы уедете, то завоют и лошади.
— Софья Петровна считает вас импотентом. Наверное, она права.
И Лика ушла, исполненная гнева.
Ночью выпал первый снег, и она уехала в печально-голубоватом свете наступающей зимы.
XI
Провал пьесы его удивил, как и злобный лай рецензентов, в том числе и некоторых так называемых друзей. Но его совсем не удивило начавшееся сразу после второго представления признание «Чайки». Он знал, что это великая пьеса, что он создан для того, чтобы писать такие пьесы, и на его столе уже лежал исчёрканный «Леший», переделываемый в «Дядю Ваню».
Вспомнил знаменитую суворинскую газетную фразу: «Кто изменяет жене, тот изменит и отечеству» — пригодится для одного из самых ничтожных персонажей новой пьесы. В этой фразе хорошо виден её автор, придумывающий ложь, распространяющий ложь, понимающий, что это ложь, но пытающийся убедить всех, в том числе и себя, что это не ложь, а если и не совсем правда, то всё же нечто очень полезное для народа. Нечто вроде водки.
Его статья о «Чайке» раздражала больше, чем самые злобные рецензии. Можно понять старика в желании дать отповедь несправедливым критикам:
«...О, сочинители и судьи! Кто вы? Какие ваши имена и заслуги? По-моему, Ан. Чехов может спать спокойно и работать. Все эти восторженные глашатаи его сценического неуспеха, всё это литературное жидовство, поносящее, завидующее, шантажирующее, — неужели это судьи? Он останется в русской литературе с своим ярким талантом, а они пожужжат, пожужжат и исчезнут...»
М-да... Если за пьесу только «Новое время», то что же это за пьеса? Не особенно возмутили чванливые поучения:
«...Яркие литературные достоинства пьесы, новость на сцене некоторых характеров, прекрасные детали, по-видимому, ручались за успех, но для сценического успеха необходима и ремесленность, от которой автор бежал...»
В общем, надо исправлять, как подскажет покровитель, то есть убрать новые формы, убрать главное, ради чего написана пьеса.
Параллельно с чтением любопытных рецензий («пьеса производит впечатление какой-то творческой беспомощности, литературного бессилия лягушки, раздутой в вола») он читал и отчасти писал ещё один маленький роман в письмах.
«Л. Мизинова — А. Чехову. 25 октября 1896 г. Москва.
А марки мне всё-таки жаль. Приезжайте в Москву с скорым поездом — в нём есть ресторан и можно всю дорогу есть! В Москве начинает быть хорошо! Вероятно, завтра поедем на санках. Без Вас скучно. Не с кем побраниться, никто не говорит намёками. Видела Гольцева, он мне торжественно объявил, что у него родился незаконный сын — Борис! Он счастлив, по-видимому, что ещё может быть отцом только что появившегося младенца! Хотя и ломается немного, говоря, что он уже стар м т. д. Вот бы «некоторым» поучиться! Между прочим, он просил Вам написать, что они очень просят Вас напечатать «Чайку» в декабрьской книжке! Он Вам об этом давно писал, но ответа не получил! Просит, чтобы Вы поскорей прислали пьесу! Не ручаюсь, что Вы ещё в Мелихове! Почему-то мне кажется, что Вы уехали в Петербург. У Вас там так много друзей!
Видела Сумбатова, который спрашивал про Вас и говорил, что непременно надо поставить «Чайку» в Москве. Она страшно нравится Лешковской и Правдину. Между прочим, ещё не наверно, пьеса Гославского будет поставлена в бенефис Лешковской! Ну вот и все новости! Да ещё Коновицер признался мне, под секретом, что написал пьесу! Значит, Вы правы. Приезжайте скорее есть пирожки с грибами. Я каждый день вычёркиваю в календаре, и до моего блаженства остаётся 310 дней! Прощайте, дядя!
Напишите три строчки.
Ваша Л. Мизинова».
«А. Чехов — Л. Мизиновой. Конец октября 1896 г. Мелихово.
Милая Лика, Вы пишете, что час нашего блаженства наступит через 310 дней... Очень рад, но нельзя ли это блаженство отсрочить ещё на два-три года? Мне так страшно!
При сем посылаю Вам проект жетона, который я хочу поднести Вам. Если понравится, то напишите, и я тогда закажу у Хлебникова.
Приеду я в начале ноября и остановлюсь у Вас — с условием, что Вы не будете позволять себе вольностей.
Ваш А. Чехов.
Пишите!
Жетон
КАТАЛОГ
ПИСЕМ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА РУССКИХ ДРАМАТ. ПИСАТЕЛЕЙ изд. 1890 г.
Страница 73-я
Строка 1-я
В Каталоге на 73-й странице в 1-й строке стоит: «Игнаша-дурачок, или Нечаянное сумасшествие», п. в 1 д., соч. кн. Г. Кугушева».
«Л. Мизинова — А. Чехову. 1 ноября 1896 г. Покровское. Как Вы, однако, испугались блаженства! Я так подозреваю, что просто Вы боитесь, что Софья Петровна окажется права, поэтому Вы надеетесь, что у меня не хватит терпения дожидаться Вас три года, и предлагаете это. Я, по не зависящим от меня обстоятельствам, застряла в Тверской губернии и раньше середины будущей недели не надеюсь быть в Москве. Здесь настоящая зима, но, несмотря на это, 100 таксов не замёрзли и шлют Вам свой поклон.
Жетон мне нравится, но я думаю, что по свойственной Вам жадности Вы никогда мне его не подарите. Он мне нравится во всех отношениях и по своей назидательности, а главное, меня умиляет Ваше расположение и любовь к «Вашим друзьям». Это прямо трогательно. Бабушка Вам кланяется, она Вас помнит и всё читает Ваши произведения. Вы пишете возмутительные письма в три строчки — это эгоизм и лень отвратительные! Точно Вы не знаете, что Ваши письма я собираю, чтобы потом продать и этим обеспечить себе старость!
Напишете мне в Москву, когда приедете? Мне надо Вас видеть по делу, и я Вас долго не задержу. Остановиться можете у меня без страха. Я уже потому не позволю себе вольностей, что боюсь убедиться в том, что блаженству не бывать никогда. А так всё-таки существует маленькая надежда.
До свиданья. Отвергнутая Вами два раза Ар., то есть
Л. Мизинова.
Вот Вам повод назвать меня лгуньей!
Да, здесь все говорят, что и «Чайка» тоже заимствована из моей жизни, и ещё что Вы хорошо отделали ещё кого-то!»
XII
ИЗ ДНЕВНИКА С. М. ИОГАНСОН ЗА 1896 ГОД
«9 ноября, суббота. Христинка очень плоха. Хрипит, мокроты полная грудь.
10 ноября, воскресенье. Доктор приехал, слава Богу, осмотрел её, и есть надежда, что поможет.
12 ноября, вторник. Лидюша уехала в Москву с вечерним поездом. Миша, двоюродный брат Лики, провожал. Христинка всё хрипит.
13 ноября, среда. Лидюша вернулась из Москвы. Христинка опасно больна. У неё круп. Послали телеграмму Лидии, мать Лики, чтобы приехала. Наш доктор был, надежды на выздоровление нет. Да будет Его святая воля Господня.
14 ноября, четверг. Скончалась наша дорогая Христинка в 4-м часу утра. Бедная Лидюша, какого ангела девочки лишилась, да утешит её Господь и вразумит на всё хорошее — вести жизнь разумную».
XIII
На другой день после похорон девочки долго и старательно шёл снег, и хотелось, чтобы под таким же холодным, как смерть, покрывалом исчезло то нелепое и печальное, что закончилось теперь смертью ни в чём не повинного ребёнка. Он был вынужден встретиться с приехавшей в Москву Ликой и не знал, как её утешать, о чём с ней говорить.
Пригласил её пообедать в «Большой Московской», где, по обыкновению, остановился. В зале рано зажгли свет, и было бы весьма уютно сидеть здесь в тепле за вином и бифштексом, наблюдая голубую метель, но какой там уют, если женщина ничего не может есть и смотрит на тебя сухими безумными глазами, не то взывая о помощи, не то в чём-то обвиняя.
Подошёл знакомый официант Бычков со спокойным умным лицом и хитрыми живыми глазами, вежливо поздоровался:
— Здравствуйте, барыня; здравствуйте, Антон Павлович. Прикажете обед?
— Здравствуй, Семён Ильич. Не получается обед. Я сейчас на поезд. Лидия Стахиевна тоже торопится, и настроение не для обеда. Так что-нибудь. Омлет с ветчиной. Согласны, Лика? И вина хорошего.
— Вы сейчас едете?
— Да. Очень плохо себя чувствую. Всю ночь не спал. И кашель.
— Я не могу ни спать, ни есть... Я не могу ничего!
— Лекарство, которое я вам дал, принимайте почаще. Можно каждый час по десять капель. У меня есть ещё один хороший рецепт, но он у меня дома. Я сразу вам его вышлю. Вы будете в Покровском?
Он знал, что она ждёт приглашения в Мелихово, и старался помешать ей самой сказать об этом.
— А вот и Семён с омлетом. Почти что мой герой из новой повести. Если вы прямо сейчас на вокзал, то я вас провожу.
Кажется, она больше не сказала ни слова до самого поезда. Ковыряла в тарелке, думая о своём; на улице не замечала снегопада, забелившего её шляпку и шубу, и снега, тающего на лице; механически шла по перрону, ничего и никого не видя. И только на ступеньках вагона, когда он, взглянув на часы, пожелал ей скорее успокоиться, она сказала с неожиданной ненавистью:
— Я вам никогда это не прощу! — и поспешила уйти в вагон.
XIV
Он торопился обратно в «Большую Московскую», куда к семи часам обещала прийти госпожа Юст.
Лена, конечно, не опоздала, и в пятом номере они сидели и разговаривали, лежали и разговаривали, пили вино, и она несколько раз напоминала о часах, которые надо завести, — недавно впервые прочитала «Тристрама Шенди».
— Сегодня такой снег, cher maitre, как, помните, в ту ночь в «Славянском базаре»? Как я была счастлива тогда! И сейчас я счастлива. Но я пришла к вам на деловое свидание... Подождите...
Нашли время поговорить и о делах.
— Моё дело — «Чайка», — сказала Лена. — Она так хороша, так трогательна, так правдива и жизненна, так нова по форме...
— Это не дело, уважаемая коллега, а неискренние похвалы.
— О-о! Cher maitre! Почему же неискренние? Вы сами знаете цену своей пьесы. Она гениальна.
— Но спектакль-то не получился. Играли плохо, режиссёр ничего не понял. Комиссаржевская растерялась...
— Ну и что? Я всё это знаю. Впереди меня сидел Конради из «Нового времени» и даже не смотрел на сцену, а строил рожи своим приятелям. Эти идиоты смеялись в финале, когда доктор сказал, что взорвалась склянка с эфиром. Но при чём здесь «Чайка»? При чём Чехов? Актёры, декорации, репетиции — всё это, конечно, очень важно, но Шекспир, разыгрываемый даже самыми бездарными лицедеями в деревянном сарае, остаётся всё-таки Шекспиром. И моё дело — говорить как раз о таком любительском спектакле. Мы с Олей решили поставить «Чайку». Оля очень талантлива — она сыграет Нину. Вообще вы должны устроить Олю к Суворину.
— Где вы хотите играть?
— Где-нибудь под Москвой. Например, в Кусково или где-нибудь поближе к вам.
— Например, в Серпухове.
— Давайте в Серпухове.
— Оля тоже за новые формы?
— Конечно. И Анечка тоже. Вся наша семья за новую драматургию, которую создаёт Чехов!
— Рассказали бы мне, что это за новая драматургия.
— Это — «Чайка»! Искренность, душевность, лиричность...
— М-да... Всё понятно.
Одни считают, что ты вообще не умеешь писать, другие — что ты пишешь о случаях со своими знакомыми, а третьи просто не понимают. Но чувствуют.
— Cher maitre, не пора ли завести часы?
Когда включили свет, оказалось, что часы, на которые они за весь вечер так и не взглянули, показывают полночь.
— О-о!.. — испугалась Лена. — Меня ждали к десяти часам.
Она одевалась очень быстро и ловко — женщины, умеющие любить, всё делают быстро и ловко. Застёгивая перед зеркалом платье, вдруг остановилась обеспокоенно.
— Лена, что-то случилось?
— Случилось. — Она улыбнулась. — Вы меня так страстно раздевали, что сломали брошку. Это, конечно, мне льстит, но...
— Я разрешаю вам сломать за это мою жизнь.
— За вашу жизнь я отдала бы все свои жизни, если бы у меня их было несколько. А эта моя и сейчас принадлежит вам. В «Чайке» на медальоне мои слова: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её».
XV
Двадцать третьего марта — день святого мученика Филита и жены его Лидии. В марте 1897-го, разбухшем от сырости и скучных мыслей, наконец стало понятно, что он и есть мученик Филит.
Ещё в новогоднем застолье она заявила с хмельной категоричностью:
— Именины праздную в Мелихове. В кои веки мне выпало воскресенье на именины. Хоть раз в год забудьте свою жадность, Антон Павлович, не пожалейте картошки.
Тогда, на Новый год, приехал из Ярославля Миша с женой, а из гостей, кроме Лики, была смешливая землячка Шурочка, так сказать, подруга детства, и художник Серегин — новый Машин поклонник. Шурочка, разумеется, залилась хохотом, а он решил уточнить:
— И это будет Прощёное воскресенье?
— Нет, Антон, не совпадает, — разочаровала Маша.
— Маша, не будь занудой, — упрекнула её Лика. — Антон Павлович так перед всеми виноват, особенно передо мной, что ему одного воскресенья не хватит.
Молодая Мишина жена Оля любила переодеваться в мужское. Доктор Чехов не стал объяснять, что означает сия привычка, а решил использовать её для праздничного веселья. На следующий день Олю нарядили в старые брюки и пиджак, натянули на женскую причёску большой картуз и поехали с ней в Васькино, в гости к инженеру Семенковичу. Когда гостей приняли, Ольга постучала в окошко, к ней вышел хозяин, она с жалобным видом подала записку, которую сочинил Антон Павлович:
«Ваше Высокоблагородие! Будучи преследуем в жизни многочисленными врагами и пострадав за правду, потерял место, а также жена моя больна чревовещанием, а на детях сыпь, потому покорнейше прошу пожаловать мне от щедрот Ваших сколько-нибудь благородному человеку.
Василий Спиридонов Сволачев».
Семенкович поверил, и общество много смеялось.
Было замечено, что Маша уделяла внимание Серегину меньше, чем брату и Лике, пытаясь понять, что происходит. А понимать было нечего, потому что ничего не происходило.
Всё произошло в марте, когда пришлось дышать не воздухом, а густым холодным паром, забивающим натруженные лёгкие. Ночами подолгу кашлял, а однажды утром увидел на подушке кровь. Началось кровохарканье, и главной целью жизни стало сокрытие новых страшных симптомов болезни от родных. Он был один на один с болезнью, и если что-то приближалось к нему, то лишь нечто требующее от него действий. Со всех сторон обступили жёсткие, давящие, неподатливые. Совсем не давали дышать и усиливали кашель. Так, наверное, доски гроба скоро будут сдавливать его.
Давили со всех сторон: в доме нет денег; в «Русской мысли» ждёт корректура «Мужиков»; не выдают ссуду на строительство школы в Новосёлках; художник Браз в Петербурге хочет писать портрет Чехова; в Ярославле любители собираются ставить нового «Лешего», то есть «Дядю Ваню», а он не готов; в Таганрогской библиотеке ждут новую партию книг; Авилова настаивает на встрече в Москве; надо решать с проектом Шехтеля[65] о строительстве народного театра; съезд театральных деятелей в Москве...
Приехала из Москвы Маша и рассказала о встрече с Ликой: та просила передать, что приедет на именины с Гольцевым. Пришлось ещё покашлять, прячась от сестры, и написать Виктору короткое письмо: «...Правда ли, что ты имел намерение приехать к нам, чтобы вместе отпраздновать именины Лики? Вот ежели бы!»
Приезжала с Левитаном, с Потапенко, теперь — с Гольцевым. Не секрет, что она давно имеет виды на Виктора, но зачем выбирать местом действия Мелихово? Потому что «Я вам никогда это не прощу»?
В пятницу стало известно, что она вообще не приедет, и, прокашлявши почти всю ночь, в субботу 22-го он поднялся затемно и решил ехать в Москву.
Маша стерегла его и, когда он собирался, пришла в кабинет в халате, непричёсанная, сонная. Она всё чаще стала выглядеть старше своего бальзаковского возраста: на её лице не играли любовные страсти, а темнели заботы о хозяйстве.
— Ты всё-таки едешь? Как мне быть с деньгами? Ты же вернёшься из Петербурга, наверное, не раньше Пасхи?
— Я в Москву и обратно. Прочитаю корректуру, побуду на съезде. На днях Саша получит за «Чайку» и вышлет.
— А если она приедет?
Женщины становились отвратительно проницательными.
— Кто? — спросил он, озабоченно ища в столе какую-то бумагу.
— Ну Лика, конечно. Именины в воскресенье.
— Ах, именины... Если приедет — празднуйте.
— Праздновать не придётся. Она не приедет. Я была у них. Бабушка жаловалась, что Лика закружилась. Кстати, почему ты не пригласил Лику на спектакль в Серпухове? Она обиделась.
— Ей там было бы неинтересно. «Чайку» же не стали ставить. А откуда она узнала о спектакле? Я ей ничего не говорил. Ты сказала?
— Н-нет. Какой у тебя ужасный кашель последнее время! Это что? Кровь?
— Нет. Просто грязный платок.
На станцию вёз новый работник Александр, знаток лошадей. Объяснил, как надо ковать лошадь и почему теперь зимний путь порушен:
— Если за неделю до Благовещения на санях не проедешь — выворачивай из них оглобли и телегу выкатывай. А другой раз бывало, что и после Благовещения неделю зимний путь держится...
В Лопасне у станции встретил мужика, которого лечил от туберкулёза.
— Не снимай шапку, братец, — сказал ему, здороваясь. — Тебе беречься надо.
— Чего беречься, барин? Отжил я своё. С вешней водой уйду.
В поезде сел у окна справа, надеясь на утреннее солнце, но всю дорогу за окном плыл мутный туман над грязной землёй. Когда колеса вагона гулко грохотали на мостах, он вглядывался в грязно-синий лёд внизу: не пошла ли вешняя вода.
В Москве его ждал привычный № 5 «Большой Московской». На столе — стопка любимой бумаги, из окна вид на строящееся здание в лесах. Новая гостиница. Снаружи стену украсит панно Врубеля «Принцесса Грёза».
Сразу же написал записку:
«Л. А. Авиловой.
Я приехал в Москву раньше, чем предполагал. Когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома! Не найдёте ли Вы возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к Вам? Желаю Вам всего хорошего.
Ваш А. Чехов».
Отправив записку с посыльным, спустился в ресторан. Его встретил Бычков:
— С приездом, Антон Павлович, очень вам рады-с. Прикажете омлет с ветчиной?
— Нет, Семён Ильич, давай пост соблюдать. Какой-нибудь рыбки, что ли.
— Стерлядку кольчиком не желаете ли?
— Давай, братец, стерлядку. Скоро выйдет моя новая повесть. Называется «Мужики». Там я пишу об одном официанте. Ты своими разговорами помог мне писать.
— Очень даже хорошо, Антон Павлович. Не могу даже объяснить, какое для меня удовольствие.
Сразу после завтрака посыльный принёс ответ:
«Благодарю за приглашение. Обязательно буду в 8 часов. Я так много должна Вам сказать.
Ваша Л. А.»
Съезд театральных деятелей проходил в Малом театре, и он успел прослушать последние выступления. Заключил заседание секретарь съезда. Он говорил о необходимости поднять уровень, принять меры к упорядочению и исключить всё, что не соответствует художественным принципам.
Потом с Сувориным стояли в фойе, раскланиваясь со знакомыми. Подошёл Немирович-Данченко, подтянутый, серьёзный, сосредоточенный.
— Много лишних слов, — сказал он, — но возникает хорошая атмосфера вокруг театрального дела. Мы с Костей Станиславским кое-что задумываем. Может быть, новый театр.
— Он в своей речи напустил столько воды, что только Христос мог бы превратить её в вино, — сказал Суворин.
— У него и в спектаклях это есть, — заметил Немирович. — Нетвёрдость, водянистость внутренних линий, неясность психологических пружин. Однако...
Он посмотрел на часы и попрощался.
С Сувориным обсуждали, где пообедать. Хотелось уговорить его на «Большую Московскую»:
— Совсем рядом, Алексей Сергеевич. Познакомлю вас, так сказать, с прототипом новой повести: очень хороший официант.
— Правильно решили с прототипом, Антон Павлович. Лучше об официантах, чем о своих знакомых. Но обедать — в «Эрмитаж». Ваша «Большая Московская» — это же трактир.
До восьми вечера ещё было много, и он согласился. Наверное, лучше бы не соглашался.
С того неприятного вечера с Ликой прошло семь лет, и много раз приходилось здесь и обедать и ужинать, но именно в этот сырой мартовский вечер он оказался за тем же столиком. Он узнал его по настенной лепке напротив: белая обезьяна смотрела прямо на него, как и тогда. Наверное, говорила: «Я никогда вам это не прощу».
Суворин расспрашивал о переписи.
— Великое дело, сударь мой, — вспомнил он о своей недавней работе. — Из ста двадцати шести миллионов населения Российской империи ваш покорный слуга переписал почти двадцать тысяч. Мои счётчики работали прекрасно. А вот земские начальники вообще ничего не делали. Мой начальник только сообщал мне иногда, что он болен. Я и сам ходил переписывал. Бился головой о притолоки — наши мужики экономят дерево, когда строят избы...
Принесли водку, икру, рыбу, салаты. Заметив, что он посмотрел на часы, Суворин сказал с соответствующей улыбкой:
— На рандеву торопитесь, голубчик? Старых фавориток не вспоминаете? С глаз долой — из сердца вон? Кстати, Лидия Борисовна Яворская, то бишь княгиня Барятинская, завтра именинница. День святой Лидии. Князь влюблён в неё по уши. При дворе уговаривали, но он пренебрёг всем: наследством, карьерой.
— Она всегда мечтала о титуле. Как моя Ариадна.
— Ариадна, Мисюсь... Ваши героини уже живут.
Обезьяна на стене дразнила мокрым извивающимся языком, и в её оскале обнаруживалось сходство с той сверкающей улыбкой, что казалась когда-то наивно-смущённой, прячущей тайну юной чистой женственности, а теперь открыла ему свою сущность природной маски, подобной яркому оперению для привлечения самцов.
— Мисюсь, где ты? — прошептал он, закашлялся и почувствовал во рту тёплую тошнотворную кислоту.
Он прижал к губам платок, и кровь сразу запятнала его белизну, закапала на руки, на рукава, на стол.
— Антон Павлович! Голубчик! Что с вами? — кричал Суворин. — Эй, человек! Неси лёд!..
СЁСТРЫ 1897-1901
I
акануне прошёл первый весенний дождь, от просыхающей под утренним солнцем земли исходил могучий дух вечной жизни, и хотелось верить советам профессора Остроумова и остаться в Мелихове. Маша выбежала навстречу, сияя улыбкой и пряча слёзы. Ей — первые слова благодарности: ни отец, ни мать так и не узнали, что он всё это время пролежал в клинике.
— Антон, я не могла поступить иначе. Ты же знаешь, что для тебя я сделаю всё. Я и живу ради тебя. У меня больше никого нет.
— Марья, а я тебе не брат? — возмутился Иван, сопровождавший его от Москвы. — Целуй и меня, а то...
— Поставишь три с минусом за поведение, — засмеялась Маша.
Вышли встречать и родители. Мать возмущалась:
— Приехал, непоседа. Ждали, ждали. Неужто, думаю, и на Пасху не приедет.
— Нынче страстная пятница, — строго напомнил Павел Егорович, — но мать там чего-то тебе наготовила. Постное, но хорошее.
Возвращение в свой дом, в свой кабинет, конечно, радовало — хотя бы потому, что наконец освободишься от обязательного общения с озабоченными докторами, с сочувствующими, а то и просто любопытствующими посетителями и с братом Иваном, который успевает надоесть за несколько минут, а он с ним уже второй день. У Ивана в жизни, в семье, в доме всё правильно, всё прилично, всё на месте, нет ничего лишнего — как в плохих стихах. Смотришь на всё это правильное и приличное и видишь пустоту — человек не может жить без того, что кажется лишним, а на деле и есть самое главное человеческое. Вот и сестра...
С Машей был долгий разговор в саду, на скамейке, под нежарким ещё солнцем. Он говорил мягко, стараясь не очень её обидеть:
— В клинике у меня было много времени для размышлений. Я думал и о тебе. Я знаю, как ты любишь Мелихово, но ты любишь не место на земле, не сад, не дом, не пруд — всё это для тебя лишь имущество, богатство, и твоя цель — быть хозяйкой богатства. Ты не вышла замуж за Сашу Смагина, которого любила, потому что не хотела быть женой хозяина. Здесь ты хозяйка, пока я не женат, и твоя цель — остаться хозяйкой — означает, что я должен навсегда остаться холостяком. И ты добиваешься этого уже много лет настойчиво и умно. Знакомила меня с подругами, поощряла мои ухаживания за ними. Тебя радовало, когда они становились моими любовницами, потому что на любовницах не женятся. Ты всегда внимательно следила за моими отношениями с твоими подругами, и, когда появилась Лика, ты забеспокоилась. С ней было не так, как с Ольгой, с Дуней Эфрос, с Дришкой и прочими. Ты почувствовала опасность и начала действовать. Провожая меня на Сахалин, ты очень горько плакала — истинное горе выражается не так; это знает каждый психиатр. Ты радовалась, надеясь, что моё путешествие помешает сближению с Ликой. В каждом письме тебе я передавал тогда приветы ей, какие-то поручения, какие-то слова, но ты ей не говорила об этом ничего! В письмах я просил тебя взять Лику летом на Истру — ты этого не сделала. Ты поощряла начавшиеся тогда ухаживания Левитана за ней. В то несчастное лето в Богимове ты поняла, что мы снова сближаемся с Ликой, что она любит меня. И ты действовала решительно. Я не знаю, что ты ей сказала, как ты её уговорила ехать не к нам в Богимово, а в Покровское, но без тебя здесь не обошлось. И слежку за Ликой и Левитаном устроила ты. Когда у них возник роман, ты сразу сообщила мне. Зачем? Ведь я мог и не знать. И в первое мелиховское лето ты почувствовала, что опять между нами что-то начинается, и очень боялась, что я куда-то уеду. Ты правильно почувствовала — мы собирались в тайное путешествие на юг. И Танечку ты нашла для меня, чтобы я, не дай Бог, снова не вернулся к Лике. Это был твой умный ход: если бы не та весёлая осень девяносто третьего, если бы не «эскадра», Лика не уехала в Париж с Потапенко. Танечка была для тебя неопасна, потому что на таких не женятся. Даже после того, что произошло у Лики с Игнатием, ты не успокоилась. Даже после смерти её ребёнка ты продолжала действовать: рассказала ей о спектакле в Серпухове с сёстрами Шавровыми, чтобы она обиделась и не приехала на свои именины. И меня настраивала против неё, придумав, будто она собиралась приехать с Гольцевым. Ты добилась своего: с Ликой всё кончено. Но главной своей цели ты не достигла: я ещё не умер, у меня будут новые встречи, новые планы, и ты мне не помешаешь. Ты будешь делать лишь то, что будет необходимо мне. Твоё благополучие зависит от меня. Ты хозяйка здесь, пока я жив, а после смерти ещё неизвестно, кто будет хозяином. Теперь твои интересы — это мои интересы.
Разговор мог быть очень долгим, но он его сократил и сказал только:
— Я знаю, как ты любишь Мелихово, но здесь мне жить нельзя.
Больше он не сказал ни слова, но лицо у сестры было таким напряжённым и хмурым, будто она услышала всё, что он задумал.
«Многоуважаемая коллега, я приеду в среду в 12 часов дня. С вокзала прямо в «Славянский базар» завтракать. Давайте позавтракаем вместе. Встретиться мы можем в книжном магазине Сытина, в том самом, который имеет общее entree с рестораном «Славянского базара». Будьте в магазине в 12 1/2 часов не позже, войдите и спросите: «Не был ли здесь Чехов?» Если Вам ответят отрицательно, то благоволите сесть и подождать, я приеду не позже 12 1/2 часов. Из ресторана отправлюсь добывать денег. Если бы Вы умели делать фальшивые бумажки, то я на коленях умолял бы Вас развестись с мужем и выйти за меня. Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов».
II
Лена жила в Москве, ожидая встречи с ним, и прислала записку с просьбой назначить время и место. В конце мая он написал ей:
Однако в магазине он её не дождался и, не особенно расстроившись, направился в Леонтьевский, в «Русскую мысль». Московский май, ещё не пыльный и не жаркий, с ярко-лаковой листвой тополей и вдруг выглянувшей из-за решётки особняка сиренью всегда вселял нелепые надежды. Даже теперь он надеялся добыть тысячи две, поехать за границу и начать новую пьесу в форме «Чайки», но совсем о другом, о великом, о чём он хотел сказать позже, в конце жизни, набравшись опыта, но теперь ждать нельзя.
В редакции Гольцев с виноватым лицом рассказал о цензурных приключениях «Мужиков»: вырезали почти целую страницу в конце повести, а там, может быть, самые главные строчки:
«...они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджёг, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но всё же они люди, они страдают и плачут как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит всё тело, жестокие зимы, скудный урожай, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать её...»
— И власть в лице цензуры против того, что я пишу о мужиках, и революционер Михайловский против. Ты не объяснишь мне, Виктор, что сей сон значит?
— Власть знает, что это правда, и боится, а Михайловский... тоже боится правды. Страшно признаться, что всю жизнь ошибался.
— Значит, если произойдёт революция...
— Обязательно произойдёт, Антон.
— К власти придут михайловские и тоже будут душить цензурой беллетриста Чехова.
— Если в стране будет настоящая конституция...
— Если Виктор заговорил о конституции, то надо у него просить денег взаймы.
— Сколько тебе?
— Тысячи две хватит.
— Я серьёзно. Рублей двести я найду. Аванс можно у Вукола вымаклачить, как выражается Игнатий.
— Чтобы поправить здоровье по-настоящему, мне нужен отдых. Так, чтобы я мог отдохнуть в течение года. Хотя бы год прожить в покое, без забот о деньгах, без срочной работы. Пожить на юге, за границей.
— Только за границей, Антон. Здесь скоро начнётся что-то страшное. Слышал о Ветровой? Она народоволка, сидела в Петропавловке. Не выдержала издевательств, облила себя керосином и сожглась! Общественность возмущена. То, что началось Ходынкой, закончится чем-то страшным. Народ поднимается.
— Витя, какой народ? Ты читал мою повесть? Это и есть наш народ. Курсистки, вроде этой Ветровой, и студенты всегда за перемены, всегда против насилия и произвола властей. Пока они молоды, они все очень хорошие люди, а потом почему-то становятся такими же душителями-чиновниками, как и все. Как эти цензоры, которые отрезали хвост у повести. Наверное, мою протеже Шаврову тоже цензура задушит. Название «Жена цезаря» они не пропустят.
— Мы говорили с Вуколом — его название не беспокоит. Да и сам рассказ спокойный. Не о конституции, не о революции.
— Я поверю в революцию только тогда, когда её станут делать люди не моложе сорока лет. Учти, что мне ещё нет сорока. Кстати, меня не спрашивала сегодня дама?
— Антон! Поздравляю: ты выздоровел! Не спрашивала, но обязательно спросит.
В Мелихове его ожидало письмо от Лены: «Ваше письмо запоздало, я получила его в 2 1/2 часа вечера, в среду. Затем я послала три телеграммы, затем в 7 часов вечера я поехала на Курский вокзал...»
III
— Французы не знают, почему над Ниццей вдруг сегодня солнце, — сказала художница Хотяинцева, глядя в окно на узкую невзрачную улицу, вдруг расширившуюся чуть ли не вдвое и засверкавшую лужами.
— Туземцы из-за дождей не видели вашего приезда, Сашенька, и, разумеется, теперь удивлены такому сиянию, не зная его причины.
— Туземцы не знают, что сегодня по-русски первый день нового года и Антон Павлович сменяет гнев на милость.
— Если вы вчера обиделись, Саша, то виноват не я, моя болезнь. Было так сыро целый день, я чувствовал себя скверно, потому и прервал так рано наш новогодний праздник. Почти всю ночь прокашлял.
— А я всю ночь проплакала. Ведь вы меня просто выгнали.
— Простите великодушно. Чтобы загладить свою вину, я встречаю вас цветами. А посмотрите, какое вино.
Розы и фиалки прислали ему неизвестные почитатели, бутылку вина урожая 1811 года — русский консул в Монако, поздравительное письмо — Маша. Хотяинцева предложила начать праздник с прогулки по средиземноморскому солнцу.
— Русский пансион уже весь на улице, — сказала она, глядя в окно. — Все ваши знакомые дамы: и Трущоба, и Рыба Хвостом Кверху, и Дорогая Кукла... А эту как вы назвали? В шляпе с чёрными перьями?
— Эту я назвал так: Дама, Которая Думает, Что Ещё Может Нравиться. Мы с ней похожи: я тоже думаю, что ещё могу нравиться. Не женщинам, конечно, а читателям. О том, чтобы нравиться женщинам, я уже и не мечтаю.
— Антон Павлович, если вы будете таким пессимистом, я пожалуюсь Маше. Она поручила мне смотреть за вами, чтобы вы были в хорошем настроении.
— Тогда вперёд, на солнце, за хорошим настроением. На Английский бульвар.
Толпа здесь не сливалась в единое живое существо, как в Генуе, не дышала и не волновалась одним чувством, а распадалась, рассеивалась, растекалась по аллеям. На набережной возникли две нестройные толпы, идущие навстречу друг другу, сталкивающиеся, но не смешивающиеся, разделённые, как и вся Франция в эти дни. Газетчики кричали: «I’Aurore!» Dreyfus! Z’ola! I’accuse!»[66]
— Я, наверное, шокирую вас, Антон Павлович, — беспокоилась художница. — У меня никаких туалетов. Как в Мелихово ходила, так и в Ницце. А вчера, когда вы меня прогнали...
— Саша!
— Когда я от вас выходила, одна дама так на меня посмотрела, что я чуть не упала. Я вас шокирую?
— Меня шокирует дело Дрейфуса. Франция сошла с ума. Давайте сядем и прочитаем «Аврору». Золя пишет президенту: «Я обвиняю![67]»
— Я ещё не видела вас таким взволнованным.
— Вы, кажется, читали «Мою жизнь»? Помните, я пишу там о русском мужике? О том, что мужик верит: главное на земле — правда и спасение всего народа в одной лишь правде. А я из мужиков, и если осуждён невинный, я на его стороне. И Золя понимает, что главное в жизни — правда и справедливость. Дело ведь не в личности Дрейфуса, хотя и в нём тоже. Он — еврей, и в этом его вина. И это в конце девятнадцатого века, во Франции, которую мир чтит как родину свободы! Когда у нас в России плохо, мы ищем причин вне нас и скоро находим: «Это француз гадит, это жиды, это Вильгельм...» Капитал, жупел, масоны, синдикат, иезуиты — многое можно придумать для самоуспокоения. А если французы заговорили о жидах, о синдикате, то это значит, что они чувствуют себя неладно, что в них завёлся червь, что они нуждаются в этих призраках, чтобы успокоить свою взбаламученную совесть. Золя правильно пишет — газетный текст я хорошо понимаю: «...Одурманивают сознание простых бедных людей, поощряют мракобесие и нетерпимость, пользуясь разгулом отвратительного антисемитизма...» Да и мы с вами тоже...
— А мы-то что, Антон Павлович?
— Вчера встречали Новый год с доктором Вальтером, а утром вы сказали: «Какой приятный жид». Это же оскорбительно.
— Но и вы сами.
— Да, и я такой. Хамская привычка. Внутренне, кажется, уже чувствую себя свободным человеком, а привычки раба остались. Хочется идти в одной толпе со всеми и быть похожим на них. Попал в стаю — лай не лай, а хвостиком виляй. Надеюсь, вы не слышали пьяных мужицких разговоров? Там каждое второе слово нецензурное. Сквернословят без нужды, по привычке. Вот и я по привычке человека толпы сквернословлю: жиды, шмули... А человек даже в толпе должен оставаться самим собой. Оставаться одиноким в толпе.
— И ваш Суворин.
— Я много раз говорил с ним и теперь писал и ещё напишу по пунктам о деле Дрейфуса и о гнусных выпадах его газеты. Это, конечно, бесполезно. Он во всём согласится со мной, а через пять минут Буренин убедит его, что дело Дрейфуса — происки всемирного еврейского синдиката, Чехов тоже подкуплен синдикатом, и Алексей Сергеевич сядет сочинять «маленькое письмо» о великой борьбе между христианством и иудейством. Эти события — испытания для него и его газеты. Ренегаты любят прикрывать своё трусливое предательство стремлением к объективности, но приходит момент, когда требуется сказать: да или нет, и им приходится сбрасывать маски.
После обеда, состоявшего из щей, пирогов, мяса, рыбы, соуса, зелени и фруктов, следовало бы отдохнуть и посидеть над рассказом, который ждут в Петербурге, но художница обдала женским взглядом, и пришлось пригласить её к себе — всё-таки она приехала только к нему.
В соседней комнате, доселе пустовавшей, через стену слышались голоса: мужской и женский.
— Я так радовался, что моя комната угловая, а соседняя пуста — и вдруг.
— Я их видела — молодая пара. По-моему, из Москвы.
Мужской голос звучал странно монотонно и долго не прерывался. Приникнув к стене, он разобрал фразу: «Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс стоял голый мальчик». Женщина засмеялась.
— Послушайте, они читают мой рассказ «Злой мальчик»!
— Поздравляю автора. Однако молодожёны, наверное, будут не только читать Чехова.
— М-да... Не только Чехова. Но мы не будем прислушиваться, а выпьем вина, которое пил сам Бонапарт.
Письмо на столе мешало, и он убрал его в выдвижной ящик. С печальным вздохом посмотрел на рукопись, готовящуюся к отправке, и на ворох неразобранных писем. Больше всего писем от сестры. Издалека он видел её такой же хитрой и целеустремлённой, но думал о ней теперь, помня известное: «Comprendre — pardonner!»[68] Этот девиз украшал почтовую бумагу Анны Ивановны Сувориной.
— Если бы не был указан год, мы бы не знали, что вино такое вкусное, — сказала Саша. — Садитесь удобнее, Антон Павлович, отдыхайте, а я набросаю ваш портрет.
В столе много писем и от Лики: вновь, как после провала «Чайки», почувствовала слабость мужчины и немедленно кинулась за ним, чтобы помочь, вылечить, взбодрить, то есть затянуть наконец аркан. Взялась собирать для него деньги и привлекла к этой затее неуправляемую Кундасову и верного друга Левитана, который сам уже одной ногой в могиле. Следовало сразу же пресечь, но он тогда действительно был слаб и без денег. Но в Ниццу уехал, получив свои тысячу семьсот рублей, никем не подаренные, а заработанные выпуском книг. Левитан и женщины неожиданно оказались шустрыми и прислали ему ещё две тысячи рублей, выбитые у миллионера Сергея Морозова. Теперь Лика разочаровалась в этой своей деятельности:
«...Вы не даёте мне покоя во сне. Сегодня всю ночь я не могла отделаться от Вас. Но успокойтесь, Вы были холодны и приличны, как всегда...»
«...Как Вы там живете? Тепло ли у Вас и есть ли дамы в Вашем вкусе (следует понимать «кривобокие»)? Я недавно размышляла о Вашем романе с писательницей и додумалась вот до чего: ел, ел человек вкусные и тонкие блюда и надоело ему всё, захотелось редьки!.. Танька приехала в Москву, похорошела, и в лице у неё стало больше той Reinheit, которую Вы так цените в женщинах и которой так много в лице m-me Юст... Я всегда рада, когда моим друзьям хорошо. Вот и за Вас я порадовалась, что наконец-то Вы взялись за ум и завели себе для практики француженку. Надеюсь, что моя приятельница Кувшинникова оказалась неправой относительно Вас и Вы не осрамились! Надеюсь! Пусть она Вас расшевелит хорошенько и разбудит в Вас те качества, которые находились в долгой спячке. Вдруг Вы вернётесь в Россию не кислятиной, а живым человеком-мужчиной!.. В сыре Вы ничего не понимаете и, даже когда голодны, любите на него смотреть только издали, а не кушать — помните эту Вашу теорию! Если и относительно своей Марго Вы держитесь того же, то мне её очень жаль, тогда скажите, что ей кланяется её собрат по несчастью! Я когда-то глупо сыграла роль сыра, который Вы не захотели скушать...»
«...я уже почувствовала себя хорошо, похудела, похорошела (извините!) и сделалась, говорят, похожей на прежнюю Лику, ту, которая столько лет безнадёжно любила Вас...»
Всё это читалось с интересом и вызывало здоровую улыбку, однако в пьесу, которую он должен написать, не ложилось. Россия не олицетворяется убитой чайкой или неудавшейся актрисой.
— Портретисты любят разговаривать с позирующим, — сказала художница.
— Сказать вам что-нибудь умное?
— Неужели от вас можно услышать что-нибудь глупое?
— Говорить глупости — привилегия умных людей. Когда я лежал в клинике, ко мне приходил Лев Толстой и доказывал, что все мы будем жить после смерти в некоем начале.
Что за начало, как его понять — это тайна. Какой вам представляется мысль великого человека?
— Не знаю, что и сказать. Смотрите не на меня, а на ту стену. Они, кажется, там ещё читают Чехова.
— Да. Я прислушался — «Свадьбу». А мне это начало, в которое я должен погрузиться после смерти, представляется в виде бесформенной студенистой массы; моё «я» — моя индивидуальность, моё сознание — сольётся с этой массой. Такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешиться тем, что сольюсь с червяками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже цели этой не знаю.
— Смотрите мой шедевр. Третьяков, наверное, не купит, но Чехов угостит меня наполеоновским вином.
— Лучше, чем у Браза. Кстати, он приедет сюда делать новый портрет. А вам особенно удались усы. Точно как у таракана. В молодости такие усы у нас были в моде. Вино вы заслужили.
Соседи закончили чтение, и возникли звуки, вызывающие у Саши смущённо-игривую улыбку.
— Это лучше, чем говорить о смерти, — сказала она.
— Тем более что у нас кровать стоит у другой стены, — согласился он...
Потом она рассказывала о своей недавней поездке в Богимово:
— В зале с колоннами стоит ваш диван, и на нём Мишины стихи: «На этом просторном диване...» Я ездила после того, как прочитала «Дом с мезонином», и всё узнавала. Только вы написали, что в зале десять окон, а их всего пять.
— А хозяин? Читал?
— Обиделся. Он там у вас и скучный, и ни в ком не встречает сочувствия. Всё у него в имении плохо — собирается продавать. Наверное, уже продал.
— Чтобы сделать в литературе что-нибудь стоящее, приходится не жалеть ни себя, ни родных, ни друзей. А куда исчезла рыжая Анимаиса?
— Поссорилась с хозяином и куда-то уехала. Наверное, все у вас спрашивают, и я хочу спросить...
— Мисюсь, где ты?
— Да. Где она?
— Я её придумал.
— Не стану вас допрашивать, но Евгений Дмитриевич рассказывал мне о вас.
— Были там, конечно, девушки, но таких отношений, как у художника и Мисюсь, не возникало. Может быть, какая-то девушка оказалась похожей на Мисюсь. Нельзя придумать человека, который ни на кого не похож. Вы — художница и знаете это лучше меня. Это естественно. Тяжело писать горькую правду, обижающую людей. Для русского писателя самое трудное — это писать правду о России. Моя повесть «Мужики» — это та самая правда, которая всем не нравится. Мне передавали, что Лев Николаевич выразился о моей повести с присущими ему гениальностью и категоричностью: «Это грех перед народом». И теперь я заканчиваю рассказ, в котором пришлось говорить горькую правду о своих истринских знакомых. Я его так и назвал: «У знакомых». Вы, наверное, ещё не видели декабрьской книжки «Русской мысли». Маша написала мне, что там есть рассказ моей знакомой писательницы «Жена цезаря». Очень хороший, правдивый и очень женский рассказ. Об узах светского петербургского брака. Она знает, о чём пишет, — сама жена высокопоставленного чиновника. Я знаю эту писательницу с тех времён, когда она была ещё гимназисткой, и убеждён, что в своём рассказе она написала о себе.
— А почему... Почему она так вышла замуж?
— Вы хотели спросить, почему я на ней не женился? Для её матери я — парвеню: она аристократка, вдова тайного советника. А её дочь не вызывала у меня чувств, необходимых для женитьбы.
«Потому что Чехов не хочет жениться, тем более на некрасивой», — продолжил он мысленно. Старая сказка, ей тысячу лет: она его любит — он её нет. Когда-нибудь поймут, что его «Чайка» — продолжение этой сказки, и будут её смотреть и читать ещё много лет, когда пройдут и забудутся все процессы, революции и войны.
Русский пансион в Ницце далеко от моря, и вместо поэтического шума прибоя по ночам всегда в одно и то же время раздавался крик осла, и они с Александрой просыпались. Когда она уехала, осёл, наверное, не зная об этом, продолжал кричать.
IV
В Париже Хотяинцева устроилась с подругам и художницами на какой-то дальней окраине — он назвал место парижским Ваганьковом, и ездить туда не хотелось. Появилась и мужская компания старых приятелей.
В парижском уличном кафе под весенним солнцем понимаешь, откуда появились импрессионисты, Мопассан, Бизе и много другой человеческой красоты, созданной не для спасения мира, а для радости, и кажется, проживи здесь год — и сам сочинишь какого-нибудь «Милого друга». Однако ещё непонятнее становится, почему эти быстрые, разговорчивые, хорошо одетые люди взбудоражили не только свою страну, но и чуть ли не весь мир простым вопросом: можно ли посылать на каторгу невинного? Или так: можно ли человека за то, что он еврей, объявить виновным в преступлении, которое он не совершал? Об этом говорили с Потапенко и Иваном Павловским, земляком-таганрожцем, но принадлежащим к предыдущему поколению: бывший народоволец, «красный», ныне — парижский корреспондент «Нового времени», но «розовый» — не соглашающийся с хозяином.
— Долго нет, Иван, твоего генерала, — сказал Потапенко. — Пишет «Маленькое письмо» в защиту Дрейфуса.
— Если бы... — Павловский был расстроен и возбуждён. — Обещал, что в этом номере пойдёт моя статья с доказательством, что Эстергази — шпион. Открываю газету и... «победа христианства над иудейским синдикатом».
— Заметьте, друзья, — сказал Чехов. — Он никогда не высказывается по существу, например, справедлив приговор или нет, достаточно ли доказательств предъявили суду — об этом он не пишет, но прекрасно знает, как старый журналист, что без этого о суде нельзя писать.
— Он не знает таких слов, Антон, — сказал Потапенко убеждённо.
— Я вам расскажу занятную историю, — оживился Павловский, вспомнив что-то интересное. — При Александре Третьем одно время начались еврейские погромы где-то в Одессе или в Кишинёве, не помню точно, и император пригласил Витте поговорить об этих делах — вы же знаете: он его очень любил. Спросил его мнение, а тот сам задал вопрос, с разрешения, конечно, Александра. «Ваше императорское величество, — спрашивает Витте, — вы можете утопить всех евреев в Черном море?» Тот, разумеется, отвечает, что не может. «Тогда, ваше императорское величество, вам надо смириться с их существованием и постепенно уравнять в правах со всеми остальными вашими подданными. Лишение прав такой активной части населения, — говорит Витте, — может привести к большим потрясениям». Александр заинтересовался сказанным и обещал подумать. Но самое интересное — это откуда я узнал о такой беседе императора. Вы будете страшно удивлены. Мне рассказал Суворин! Он же дружит с Витте. Генерал выложил мне всё это в тот день, когда я показал ему статью с разоблачением Эстергази. Он сказал мне: «Ты победил; будем освещать по-другому».
— Он столько раз обманывал меня подобными обещаниями, — вспомнил Чехов, — что когда теперь начинает обещать, я просто прекращаю разговор.
— Русскому человеку не понять азиата, — вздохнул Потапенко. — Мы все трое южане, почти хохлы, мы и есть настоящие русские, потомки киевских славян, а все эти псковские, воронежские и прочие — все татарва. У них нет понятий «правда» или «ложь», виновен или невиновен. У них всё построено на полном повиновении какому-нибудь Тамерлану. И гонения на евреев они устраивают, чтобы самим в стране править.
— Вы, милсдарь, заразились от французов. Писание забываете: «несть ни эллина, ни иудея». Дай вам волю — вы всех черноглазых объявите шпионами и загоните на Чёртов остров. Алексей Сергеевич — добрый русский человек. Особенно добрый к негодяям, но иногда и порядочным людям делает добро. Сколько, Игнатий, ты у него вымаклачил?
— Чего считать? Всё в Монте-Карло оставил. Эх, рулеточка, рулетка! Ты ж мене, молодого, с ума-разума свела!
— Сколько ж ты спустил? Когда мы вместе играли, по моим подсчётам, ты оставил там семь тысяч франков.
— Больше, Антон. Больше. Лучше б жене послал.
— Какой? Которая в Керчи?
— Которая в Москве. Но ты меня поразил, Антон. Веришь, Иван, мы играли по системе, выиграли, и он перестал ставить. Это ж какую волю надо иметь. Правда, выиграл он много. Не говорит сколько.
— Боюсь умереть под забором, как предрекал один выдающийся критик. Коплю на всякий случай. Вдруг доживу до старости.
Игнатия удивила его воля на рулетке. Не знает, что вся его жизнь состоит из таких поступков. Заставить себя ехать на Сахалин. Заставить себя писать настоящую прозу вместо того, чтобы строчить лёгкие рассказы для лёгкого смеха. Заставить себя отказаться от весёлых возлияний с друзьями, а желание не слабее, чем у Сашечки. Заставить себя бросить курить. Заставить себя писать сомнительную повесть о революционере вместо того, чтобы ехать с Ликой на юг... Вся жизнь состоит из усилий, и каждое такое преодоление оседает в груди, в лёгких, давит, разрывает, и ты кашляешь кровью.
— Идёт генерал, — сказал Павловский.
В тёмном длинном плаще, чужой и ненужный среди яркого разноцветного потока парижан, с тростью, похожей на дубину, согнувшись вопросительным знаком, Суворин щурился на солнце, прикрывал глаза ладонью, разыскивая их.
— Пойду приведу старика, — сказал Потапенко.
— Старайтесь, молодой человек, аванс получите.
— С вами получишь. Заведёте свою дрейфуссиаду — старик и копейки не выложит.
Один из способов избежать неприятных нападок — это вызвать к себе жалость, и Суворин сел к ним за столик измученный, со слезящимися глазами и начал с жалоб на бессонницу, ломоту в ногах, на слабость.
— Всю ночь глаз не сомкнул, — жаловался он. — Посоветуйте, голубчик Антон Павлович.
— Пользуйтесь моим старым рецептом. Бром и валерьянка. А в дополнение читайте на ночь что-нибудь длинное и скучное. Например, романы Боборыкина или газету «Новое время».
— Последний номер, — уточнил Павловский.
— Почему последний? — Суворин спросил с убедительной искренностью, но, заметив возмущение Павловского и иронию Чехова, как бы вспомнил. — Ах, то... Но, голубчик, я же в газете не один. Это мой новый сотрудник Амфитеатров. Очень способный.
— Способный на всё, — заметил Чехов.
— Но ведь вы согласились, что вина Эстергази полностью доказана, — продолжал возмущаться Павловский, — и, значит, Дрейфус невиновен.
— Ну что доказательства? И тот... Завтра будут другие доказательства. Всё это ничто перед нашей Россией.
— А помните, Алексей Сергеевич, свой роман «Всякие»? — спросил Чехов. — Революционные сходки, молодёжь, стремящаяся облегчить жизнь народа, гражданская казнь Чернышевского. Вы же пострадали за этот роман.
— Посидел немного на гауптвахте. Но теперь же всё иначе, голубчик. Другая теперь Россия.
— Россия та же — изменились вы.
— Я издаю газету. Это такое большое дело. Нельзя, чтобы все были согласны. И читателя надо чувствовать. Читатель — это и есть Россия. Да и вы, Антон Павлович, сняли своё интервью. И правильно сделали. Всё сомнительно с этим Дрейфусом.
— К сожалению, журналист всё переврал и написал от себя такое, с чем я не могу связать своё имя.
— Я видел этот текст и согласен с Антоном Павловичем, — подтвердил Павловский. — Лазар больше половины написал от себя. Но почему вы, Алексей Сергеевич, не напечатали мою статью?
— Голубчик, это же можно поправить. Напишите ещё. И вы бы, Антон Павлович, дали что-нибудь. Читатель давно ждёт Чехова...
— Давайте прекратим этот разговор. — Иногда и у Чехова не хватает выдержки.
— А я пройдусь по лавкам, — сказал Суворин, поднимаясь. — Здесь попадается старинный фарфор.
И пошёл, согнувшись, опираясь на трость, похожую на дубину.
— Злякался, — сказал Потапенко.
— Посмотрите, какая у него виноватая спина, — заметил Чехов.
— Но ты, Антон, со своим интервью тоже что-то смухлевал, — вспомнил Потапенко. — И ты злякался?
— Этот Лазар сделал интервью не со мной, писателем Чеховым, а с членом какой-то партии. Я ни в каких партиях не состою. Высказываюсь за оправдание невинного, а не во имя победы какой-то партии.
Потапенко не поверил:
— Хитришь, Антон, хитришь. С нами говоришь прямо и открыто, а всему свету сказать не хочешь. У старика научился. С кем поведёшься — от того и наберёшься.
V
Он не хитрит, а создаёт новую драматургию, и времени остаётся всё меньше и меньше. Крыша мелиховского дома гудела ранними сентябрьскими дождями, а пьеса не только не была начата, но даже и не задумана. Даже ещё не найдено, не приготовлено место, где он сможет её написать. И приходилось торопиться, и ехать в Москву, и вновь встречаться с Сувориным.
В Москве солнце временами пробивалось сквозь свинцовую гущу, вспыхивали мокрые булыжники мостовой, светились лужи, и хотелось на что-то надеяться. Однако погода была непредсказуема, как и оставшаяся жизнь, и они с Сувориным взяли одноконный фаэтон, хотя до Воздвиженки можно было дойти и пешком. А ещё лучше — совсем не появляться там с издателем газеты, объявившей, что «обвинительный приговор, вынесенный французским судом Золя, вызывает невыразимый восторг. После него почувствовалось общее облегчение и успокоение».
Ехали мимо университета; у решётки ворот стоял студент с поднятым башлыком пальто.
— А что, Антон Павлович, нынче в этом здании через улицу? Тоже университетское помещение?
— Да, Алексей Сергеевич. Его называют Старый университет. В Москве два университета: старый и новый.
Свернули на Воздвиженку, остановились у Шереметьевского дома, где помещался Охотничий клуб, и начался назойливый дождь. Начался с мороси, но быстро разогнался в ливень. Не солнцу же освещать постыдную встречу с людьми, ожидавшими автора «Чайки», а увидевшими приятеля Суворина.
— Теперь я понимаю, Алексей Сергеевич, почему вас называют генералом, — сказал он, когда, открыв двери, увидел встречающего их Немировича-Данченко в длинном визитном сюртуке, с непроницаемо-респектабельным лицом и толпящихся за ним актёров.
Почему-то запотели стёкла пенсне, и он никого не мог разглядеть, а присутствие покровителя настолько раздражало и стесняло, что он чувствовал себя как робкий приятель важного лица. А Суворин держался именно генералом, инспектирующим воинскую часть: надменно вскидывал бороду, расспрашивал и внимательно оглядывал и актёров, и помещение, и реквизит, особенно интересуясь старинной посудой, приготовленной для «Царя Фёдора Иоанновича». Немирович представлял актёров, но Чехов только слышал незапоминающиеся фамилии и почти не различал незнакомые лица, за исключением, конечно, земляка-таганрожца Вишневского, который кончил гимназию на год позже, вместе с братом Иваном.
— Давайте начнём репетицию, — попросил он режиссёра.
— Мы приготовили прогон первого действия и ещё половину второго действия. Не возражаете, господа?
Они, конечно, не возражали, и все направились в небольшой зрительный зал, снятый для репетиций. Здесь Немирович усадил гостей рядом с собой и достал из режиссёрского столика жёлтую книжку пьес Чехова, но не обычную, а разросшуюся в ширину шелестящими листами бумаги, приклеенными к страницам и исписанными мелким почерком.
— Это режиссёрская партитура, — объяснил Владимир Иванович. — Станиславский работал над ней в имении под Харьковом. Хотите ознакомиться?
— Давайте сначала посмотрим.
Немирович дал знак, в зале выключили свет, и на сцену справа вошли Медведенко и Маша. Он курил, она грызла орехи. У него в руках дубина. У автора «Чайки» не было в тексте ни дубины, ни папиросы, ни орехов, а выходили слева, что, конечно, не самое важное.
Актёры исправно проговаривали текст, старательно делали то, что придумал Станиславский, а расстроенный автор никак не мог сосредоточиться. Всё видел, слышал и понимал, но состояние было такое, словно он спит с открытыми глазами. Пробуждение началось, когда появился актёр, играющий Треплева, — высокий, красивый и грустный, с крупным орлиным носом, придававшим его лицу особый аристократизм. Понравился его выразительный голос и печальные глаза, но мизансцена, придуманная в харьковском имении, разочаровала. Зритель должен увидеть развязку драмы уже в первой встрече Треплева и Нины: он её любит — она его нет. Автор надеялся, что его поймут, когда решил ограничиться одной репликой Нины после поцелуя: «Это какое дерево?» Ей неприятен поцелуй, она отстраняется от Константина, но, чтобы тот не обиделся, притворяется, будто её интересует дерево. Здесь же долгий настоящий поцелуй, какая-то истерическая беготня девушки по сцене...
Если эту мизансцену он смотрел спокойно, не выдавая своего впечатления, то эпизод «пьеса Треплева» вызвал некоторое даже потрясение, которое не скроешь. Зрители пьесы сели на скамейку спиной в залу! Суворин даже воскликнул: «Так же нельзя!» Автор ограничился своим «м-да...» и улыбкой.
После прогона сидели в длинной узкой комнате, заваленной средневековыми сверкающими костюмами и бутафорскими шпагами. Немирович усадил гостей за стол, отодвинул книги и бумаги, в том числе и последние номера «Русской мысли». В августовской книжке журнала — закладка.
— Работаю до одури, до нервной одышки, а для чтения твоих рассказов, Антон, всегда нахожу время. Сейчас дочитываю «Крыжовник». Замечательно. «Человек в футляре» — вообще шедевр.
— Пятнадцать лет я работал не покладая пера, чтобы умилостивить Скабичевского, приговорившего меня когда-то к смерти под забором. Наконец свершилось: он похвалил «Человека в футляре» и даже поставил его в ряд с Обломовым и Чичиковым. Теперь можно умирать спокойно. Однако вы напрасно надеетесь, милсдарь, что ваша грубая лесть спасёт вас от нашей критики харьковской партитуры.
— Это же несценично, голубчик Владимир Иванович, — немедленно подтвердил Суворин решительность их намерений. — Нельзя же сажать спиной к публике всех актёров и так надолго. Вас же засмеют.
— Мне тоже это показалось странным.
Немирович резко поднялся и стоял перед ними напряжённый, решительный, готовый к борьбе.
— Здесь я с вами никогда не соглашусь, — сказал он взволнованно. — Нужны новые формы! Так говорит ваш герой, Антон Павлович. И ваша «Чайка» — это новые формы драматургии. К сожалению, новое не сразу понимается и принимается всеми. Я понял, а Карпов не понял и провалил спектакль в Александринке. Не всё понял и Константин Сергеевич — я едва уговорил его ставить «Чайку». Но и в режиссуре нужны новые формы, и мы их создаём. У нас нет публики, нет зала. У нас на сцене — четвёртая стена, и актёры сидят к ней спиной.
— Это интересно, — сказал Суворин, — но поймите, голубчик, публика хочет видеть лица актёров. Вот когда я ставил «Принцессу Грёзу»...
— То разрешали поворачиваться спиной к залу только Лидии Борисовне, — сказал Чехов, заставив собеседников улыбнуться.
Суворин ещё долго объяснял Немировичу-Данченко, как надо правильно ставить спектакли, а Чехов листал партитуру Станиславского. В эпизоде поцелуя, который ему не понравился, прочитал:
«Нина смотрит за куст в глубь сцены, где оранжереи. Треплев встаёт, проходит за куст и возвращается, говоря «никого». Треплев садится по другую сторону Нины. Пауза, во время которой Треплев тянет Нину к себе. Продолжительный (секунд 5) поцелуй, — после которого Нина вырывается и бежит к дереву на авансцену — налево от зрителя...»
Прочитал режиссёрские указания к сцене монолога Нины в спектакле Треплева:
«Монолог идёт под аккомпанемент лягушачьего крика — и крика коростеля».
— Послушайте! — прервал он беседующих. — Это же нельзя допустить. Какие лягушки? Какой ещё коростель? Я же не пишу о лягушках. У вас театр или зоопарк? Вы хотите устроить ещё один провал?
— Не горячись, Антон, — сказал Немирович успокаивающе. — Мы не всё принимаем из партитуры. Эта мизансцена нас тоже озадачила. Уверяю тебя, что монолог пойдёт в тишине. Смотри: я беру карандаш и зачёркиваю и лягушек и коростеля. Синим карандашом.
Немирович пытался уговорить гостей на беседу с актёрами, но Чехов запротестовал и согласился лишь на короткую встречу в момент отъезда.
В комнате за кулисами, где стояли какие-то древние вазы, актёры робко смотрели на прощавшихся гостей, и лишь некоторые осмеливались что-то спрашивать. Чехов заметил, что актёр, играющий Треплева, бросил на Суворина взгляд, полный открытой недоброжелательной иронии, и опять возникло чувство неловкости перед этими молодыми людьми. Поэтому он очень заинтересовался вазами. Подошёл земляк Вишневский.
— Этрусские вазы, Антон Павлович, для «Антигоны», — сказал он. — А помните Таганрогский театр? Вы, кажется, были красногалстучником? Поклонником Зингери? А я был беллатистом.
— Дорна вы хорошо поняли, Александр Леонидович. Скажите, а что за актёр играет Треплева?
— Мейерхольд. Приехал откуда-то из провинции и учился у Немировича.
Их уже обступили, и кто-то спросил, как надо правильно играть Тригорина. Что он за человек? Какие у него взгляды? Такие вопросы могут задавать люди, не понимающие драматургию, где образ создаётся всей пьесой: репликами, поступками, костюмами, обликом. Если бы можно было сказать всё о герое несколькими фразами, то незачем было бы писать пьесу. И он, делая вид, что говорит нечто весьма значительное, наклонился к спросившему и ответил, понизив голос:
— Он же носит клетчатые панталоны.
Девица, совершенно бездарно играющая Нину, вдруг спросила:
— Антон Павлович, как понять мой монолог в первом акте? Что он означает с исторической точки зрения?
Такой вопрос обескуражил автора великой, но ещё не понятой пьесы. Смотрел на этрусскую вазу и теребил усы. Выручил Немирович:
— Мария Людомировна, я вам потом поясню, — сухо сказал он.
Всё происходило лишь потому, что времени оставалось мало: и репетиция с Сувориным, и долгий обед в ресторане, и длинные разговоры, когда приходилось чаще соглашаться, чем возражать, и посещение Нового театра, созданного бывшим приятелем Сашечкой Ленским под покровительством дирекции императорских театров. Новый театр только что открылся, шёл «Термидор» Сарду, в котором ничего не было, кроме костюмов, стрельбы и трескучих фраз. До конца не досмотрели, но пришлось ещё долго бродить по Театральной площади, провожать Суворина в гостиницу и вновь выслушивать его рассуждения о том, какой театр сегодня нужен.
Всё происходило как будто не напрасно. Суворин сказал:
— Голубчик, издадим ваше собрание сочинений немедленно. Сколько томов получится, столько и выпустим. Пять, десять. Присылайте первый том, и он сразу пойдёт в типографию.
VI
В воскресенье обедали в «Эрмитаже», и он развлекал старика рассказами о приключениях с француженками. Дымчато-золотистый день постепенно растворялся в синеве сумерек. Закончив о некоей восемнадцатилетней Кло, знающей и умеющей больше, чем любая русская проститутка с многолетним опытом, он посмотрел на часы и сказал:
— Однако и в России есть женщины. Давайте пригласим Сашеньку. Возьмём её в цирк и так далее. Заодно поговорим и о рисунках для «Каштанки».
— Думаете, придёт?
— И всё-то вы сомневаетесь, Алексей Сергеевич.
Суворин сделал движение не рукой, не кистью руки, не пальцами, а одним лишь пальцем, и мгновенно возник официант. Ещё мгновение — и на столе оказалось всё необходимое для письма. Написав записку, Чехов передал её для одобрения Суворину со словами:
— Для последнего тома — «Разное».
Суворин одобрил.
«Великая художница, я и Суворин идём сегодня в цирк Соломенского. Не пойдёте ли Вы с нами? В цирке так хорошо. Много материала для карикатур, а главное — можете сделать наброски для «Каштанки». Письмо это посылается из ресторана «Эрмитаж», где мы будем ждать ответа до 8 час. вечера. Приезжайте, внизу у швейцара скажите, чтобы доложили Чехову — и мы спустимся, чтобы продолжить путь вместе в цирк. Всего хорошего.
Ваш А. Чехов.
Кланяюсь Вашим.
В цирке возьмём ложу: в кассе будет известно, где мы. Пишу это на случай, если Вы не пожелаете приехать в «Эрмитаж».
— Этот вид прозы вам удаётся, Антон Павлович.
— Люблю малые формы. Краткость — сестра таланта.
Ещё одно движение суворинского пальца, и письмо было отправлено с приказом «три креста».
— Жан Щеглов был у меня в Мелихово прошлой весной, когда я вышел из клиники, и я у него спрашивал, что сии три креста означают. Оказывается, в артиллерии такой порядок при отправке донесений с конным посыльным: на конверте ставятся пометки в виде крестов. Один крест — рысь, два — галоп, три — как можно быстрее.
Суворин заметил, что Щеглов от плохих рассказов перешёл к очень плохим пьесам.
— Это обо мне, Алексей Сергеевич. Может быть, с некоторой поправкой: от неплохих рассказов к плохим пьесам.
— Что вы, голубчик! «Чайка», при некоторой её несценичности, весьма незаурядная вещь.
— Теперь я думаю о новой пьесе. Чтобы её написать, мне требуется значительная сумма. Тысяч двадцать — тридцать. Если вы будете мне платить по мере продажи томов, то я никогда не соберу деньги на дом. Почему вы не хотите купить у меня права и сразу расплатиться?
— Голубчик, нет у меня таких денег. «Новое время» — моя газета, я кормлю бездельников редакторов, которые позорят меня своими писаниями, но из кассы не могу взять ни копейки. Мне никто не может запретить, но я просто не могу. Мне это представляется каким-то казнокрадством. Имею большие доходы с других дел, но иногда просто сижу без денег и мечтаю выиграть двести тысяч. Для вас я могу, конечно, найти. Тысяч двадцать устроит? Взаймы или в виде аванса за собрание сочинений.
— Надо подумать. Однако Саша, судя по времени, сюда не придёт. Наверное, уже ждёт у цирка.
— Думаете, ждёт?
— И всё-то вы мне не верите.
Они покидали ресторан, когда в зале уже появились дамы с модными причёсками и неспокойными взглядами, а в мужской компании за соседним столиком всё громче стали звучать слова: «Дрейфус», «Витте» и «золотой рубль».
Трубная лежала тихим тёмным озером. Бесконечно высокое звёздное небо выражало что-то очень мудрое, печальное, недоступное человеческому пониманию, а на Цветном бульваре, под деревьями, подпалёнными огнём фонарей, двигалась толпа гуляющих, и над ней взлетали невидимые счастливые бабочки женского смеха.
Вход в цирк пылал множеством лампочек, над ним сияли разноцветные огни слов: «Экстра-гала-представление. Наездники, акробаты, клоуны, дрессированные обезьяны. Сцена из испанской жизни с боем быков». Музыка охватывала и вовлекала в свой ритм, как темпераментная партнёрша в танце.
— Я чувствую себя как персонаж оперы «Кармен».
— Считаете, Антон Павлович, что «Кармен» хорошая опера?
Этот драматург, беллетрист, критик и прочая, прочая, прочая, никогда не знал сам, что хорошо и что плохо. В Петербурге узнавал у Буренина, здесь — у него.
— Гениальная, Алексей Сергеевич.
— А вот поди ж ты, премьера провалилась.
— Такое случается не только с посредственными пьесами вашего покорного слуги, но и с самыми значительными произведениями.
— Ваша «Чайка», Антон Павлович, я повторяю, при её некоторой несценичности, очень незаурядная вещь.
— А вот и Александра Александровна.
Она хотела стать нарядной, но не умела быть таковой, а, почувствовав его испытующий взгляд, заволновалась, неловко споткнулась и сказала ему, что он похож на карикатуру, нарисованную ею на выставке, где он рассматривал свой портрет. Он поблагодарил её и, чтобы несколько успокоить, сказал, что осёл в Ницце так его и будил по ночам, а просыпаясь, он вспоминал о ней. Хотяинцева улыбнулась понимающе.
В ложе они были втроём, но слишком близко от оркестра, мешавшего разговаривать. Прекрасные наездницы скакали по кругу арены и становились ещё прекраснее, кувыркаясь в сёдлах, показывая ноги, обтянутые трико. Оркестр играл марш-галоп, с арены поднимался запах конского пота. Художница сказала, что ей душно и она хочет уйти. Решили уйти все вместе.
Тишина и тёмная прохлада улицы успокаивали и что-то обещали.
— Какие чудесные звёзды, — сказала Саша.
Он посмотрел, как восторженно она смотрит вверх, подставляя лицо сияющему небу, и сказал:
— Так легко, наверное, дышится человеку, который только что развёлся с женой.
— Неужели, Антон Павлович, такая прекрасная ночь вызывает у вас только эти мысли? Не понимаю... Или вы...
Она обиженно замолчала.
— Я живу новой пьесой и опять спорю с великим человеком. В пьесе я как бы продолжаю «Войну и мир». Показываю, что произошло бы, если бы Андрей не умер, а женился на Наташе. Получается очень неприглядная картина. Берём извозчика? Александра Александровна плохо себя чувствует, и её надо отвезти домой.
Суворин посмотрел на него удивлённо, однако промолчал. Когда выехали на Садовую и впереди открылось звёздное небо, естественно, вспомнили Лермонтова, и мудрый Суворин поделился своими глубокими знаниями литературы:
— А знаете, вот эти стихи: «Жизнь пустая и глупая шутка» — Лермонтов взял у Байрона.
Когда попрощались с Хотяинцевой и ехали к «Славянскому базару», где, по обыкновению, остановился Суворин, он спросил:
— Почему, Антон Павлович, вы домой её отправили?
— Она плохо себя чувствует.
— Она теперь себя плохо чувствует, а когда сидела рядом с вами, чувствовала себя прекрасно. Ждала, что вы её пригласите.
— Потому и отправил домой, что она слишком много от меня ждёт. Вы заметили, как она обиделась, когда я сказал о счастье развестись с женой? Я это сказал, чтоб её проверить, не участвует ли она сама в планах некоторых моих близких родственников поженить нас с ней. Судя по тому, как она отнеслась к моему пассажу о счастье развода, участвует вместе с моим трезвейшим из трезвейших старшим братцем.
— Он прочит вам в жёны Хотяинцеву?
— Или её, или Наталью Линтвареву.
— А вы по-прежнему как скала?
— Не я, а мои пьесы, рвущиеся из меня. Они требуют полнейшей свободы. Если появится кто-то, имеющий право на моё время, всё пойдёт к чёрту. Не помогут и сто тысяч.
— Вы действительно пишете пьесу об Андрее и Наташе?
— Нет. Это я только что придумал. Однако придумано неплохо. Я найду им место в пьесе.
— А я, знаете, надумал войти в их Товарищество Художественно-Общедоступного театра. Говорил с Немировичем. Он поддерживает. Суворин им нужен. Станиславский вошёл десятью тысячами, а я ещё думаю, чего они стоят. А как с вами, голубчик? Я переведу вам двадцать тысяч авансом.
— К сожалению, вынужден отказаться. Лучше совсем не иметь денег, чем иметь двадцать тысяч долга. Итак, я прощаюсь. Послезавтра в Ялту. До отъезда не увидимся — много дел.
Они все помогают, пекутся о здоровье, некоторые, может быть, даже искренне, и душат его в объятиях лживой любви и лицемерной дружбы, пытаясь превратить в измученного мужа, волокущего семейный воз, и в послушного холуя «Нового времени».
Суворин, конечно, любит его, как свою честную молодость. И ненавидит, как ту свою молодость, которую сам предал и продал.
VII
Утром не было ни предчувствий, ни сомнений, кроме известной приметы — ничего не начинать в понедельник. Спокойное осознание неудачи с деньгами, серенькая незаметная погода и омлет с ветчиной на завтрак — с этого начался исторический день. Вместе с омлетом Бычков подал своё стихотворение, посвящённое А. П. Чехову:
Наверно, взял меня как типа В своих недурных мужиках. Я помню старосту Антипа Да Кирьяка знал в лесниках. Меня назвал ты Николаем, Жене Ольгуша имя дал. Мы лето жили под сараем, Зимой отрада был подвал.Стихи были переписаны лихими завитушками.
Поговорили с ним о его семье, пообещал ему подарить «Каштанку» с рисунками, чтобы дети читали. Семён пожелал здоровья и приятного времяпрепровождения на юге.
Он ничего не собирался начинать в понедельник — просто хотел по-дружески предупредить наивного Немировича. Тот репетировал «Царя Фёдора» вечером, и не на Воздвиженке, а в Каретном, в здании театра «Эрмитаж», где и предполагалось открыть первый сезон. Здание срочно ремонтировалось, и, войдя, он оказался в кромешной тьме, споткнулся и едва не упал — вот и примета. Прислушиваясь к доносившимся голосам, нашёл комнату, в которой репетировали.
Здесь вдоль стен стояли свечи и бутылки с коптящими фитилями. Немирович-Данченко в пальто сидел спиной к двери и в чём-то убеждал стоящих перед ним актёров. Он узнал Вишневского. Рядом стояла дама в длинном пальто и в повязанном по-бабьи платке. На Вишневском был напялен какой-то мохнатый ергак, и вообще все были одеты во что-то тёплое. Женщина стояла так, что свет падал только на её лицо, и он во всей этой комнате не видел ничего, кроме её светящегося лица.
Чехову, конечно, обрадовались. Немирович объявил перерыв и увёл его в свой кабинет, где тоже было холодно, темно и неуютно. Зажёг свечу, усадил в кресло, спросил:
— Хочешь посмотреть? Или попрощаться пришёл?
— Хочу тебя поздравить: ты действительно гениальный режиссёр.
— Начало страшное. Не томи, говори дальше.
— Гениальность проявляется и в ошибках.
— Нашёл ещё в партитуре «Чайки»?
— В партитуре. Только не «Чайки». Ты совершенно неправильно трактуешь образ Суворина, если собираешься принять его пайщиком в Товарищество.
— Не я его принимаю, а он хочет вступить, я же не вижу препятствий.
— Ты их увидишь, когда будет поздно...
В дверь постучали, хозяин разрешил войти, и появились двое: один стройный, изящный, с лицом человека, захваченного великой идеей, с каким-то чертежом в руках; другой — маленький, с лицом, даже в полумраке выделяющимся смуглостью, с большим носом. Немирович представил изящного:
— Александр Акимович, бывший адвокат Шенберг, ныне режиссёр Художественно-Общедоступного театра Санин.
Смуглого:
— Михаил Егорович Псарьян, ныне Дарский. Держал антрепризу в Ярославле. Армянин, а мы из него делаем замечательного еврея в «Венецианском купце».
— У нас с вами, Антон Павлович, есть общая знакомая, — сказал Псарьян-Дарский. — Ольга Михайловна Шаврова. Она играла у меня в Ярославле.
— Умная, талантливая девушка, — сказал Чехов.
— Какие вопросы возникли? — спросил Немирович, забирая у Шенберга-Санина чертёж. — Вы будете потрясены, Антон Павлович, когда увидите, какую прекрасную революцию устраивает на сцене Александр Акимович.
— Бунт, Владимир Иванович, — поправил Санин.
— Других революций не бывает, — сказал Чехов.
— Мы с Михаилом Егоровичем немного поспорили, — объяснил Санин руководителю. — Он же у нас Третий мужик. Из какой кулисы должны выходить четыре мужика и где будет стоять Третий мужик?
— По-моему, у левой кулисы, — сказал Дарский.
— Подождите, — остановил его Немирович, взглянул и ответил уверенно и даже ткнул карандашом в чертёж: — Мужики отсюда, из правой кулисы, Третий стоит здесь;
Прежде чем уйти, Санин со странной обещающей улыбкой взглянул на Чехова, писатель кивнул ему одобрительно, словно что-то понял.
— Кого этот Псарьян будет играть в «Купце»? — спросил Чехов, когда вновь остались одни.
— Шейлока, конечно.
— У Шекспира — Шейлок, а в «Царе Фёдоре» Третий мужик?
— Принцип нашего театра: сегодня герой — завтра статист. Так расскажи мне об ошибке.
— Ты, Владимир Иванович, действительно гениальный рассеянный профессор из какой-то комедии. Ничего не видишь, кроме своей партитуры. Неужели ты до сих пор не понял Суворина? Алексей Сергеевич очень мягкий и бесхарактерный человек. Его можно убедить в чём угодно, а через пять минут убедить в обратном. С ним хорошо за столом. Даже Лев Толстой его любит. Но там, где денежный вопрос или престиж, Суворин твёрже стали и хитрее змия-искусителя. Сейчас он делает свой театр в Петербурге и «Царя Фёдора» ставит. Если он войдёт в Товарищество, да ещё с большим паем, то лишь для того, чтобы расстроить все ваши планы и развалить ваш театр. Он продаст вас на другой день после того, как вы его примете.
— Спасибо, Антон, что предупредил. Я скажу Косте. Суворина мы не возьмём.
— Он и театрал никакой. В рецензиях — банальности. Пьесы его бездарны. Ты же не будешь «Татьяну Репину» ставить?
— И речи не может быть.
— А что за дама у тебя сегодня репетирует? Вчера я её не видел.
— Как не видел? Она играет твою обворожительную пошлячку Аркадину.
— М-да... Она по харьковской партитуре храпела во время пьесы Треплева. Поэтому я её не увидел. И чувствовал себя скверно.
— Ольга Книппер. Я тебе о ней рассказывал, ещё когда ты приходил ко мне на Никитскую. По-моему, неплохая Ирина у неё. Останься, посмотри. Идёт сцена примирения Годунова с Шуйским.
И он остался.
Собрались в той же холодной комнате, освещаемой бутылками с дымящими огарками. Появилась книжка А. К. Толстого с веером приклеенных листов бумаги. Немирович подал знак, царица Ирина, то есть Ольга Книппер, села справа от стола, царь Фёдор слева, Шуйский стал между ними. Начал Фёдор: «Зачем не верить, надо верить, князь», но Немирович сразу его остановил и начал объяснять, что Фёдор очень рад, что он должен вскочить с трона, делать знаки Ирине...
Актёр, играющий царя, не понравился: изображал недалёкого мужичка из Мелихова или Васькина. Да и Шуйский ничего не показал. Он видел только её.
Он видел умные, проницательные глаза, сжатые в сложную полуулыбку губы, благородно-бледное лицо — такие пишут на иконах Богородицы. Платочек на голове делал её по-домашнему близкой. В голосе, исполненном женской взволнованности, тревоги за мужа, было столько понимания и мудрой недосказанности, что хотелось слушать целый вечер только её. Она говорила Шуйскому:
Не верится мне вправду, Что долго так князь Шуйский заставляет Себя просить о том, что государь Ему велеть единым может словом. Скажи мне, князь, когда бы ты теперь Не пред царём Феодором стоял, Но пред отцом его, царём Иваном, Раздумывал бы столько ты?Немирович остановил и сказал по-светски любезно:
— Ольга Леонардовна, вы играете эпизод блестяще, но можно сделать лучше. Помните партитуру? Здесь подчёркивается: очень вкрадчиво, прямо смотря Шуйскому в душу. Сделайте это посильнее. Посмотрите в душу. Вы умеете.
И она посмотрела прямо в душу Чехову.
VIII
«Раздумывал бы столько ты, если б это была обыкновенная девица вроде той, что спрашивала об историческом значении монолога, а не тридцатилетняя дама из респектабельной немецкой семьи, близкой ко двору?» Отец, правда, умер, но мать — профессор филармонии по пению, её знают великие княгини. Один брат матери — врач, но два других — военные, причём один из них моряк.
Моряк ждал его и в «Большой Московской» — возмужавший, приобретший уверенность в себе Азарьев.
— Докладываю, Антон Павлович, — сказал он. — Еду в Петербург по службе. Узнав, что вы здесь, счёл своим долгом сделать визит. Слышал о вашей болезни, очень беспокоился. Читал всё ваше, что было в «Русской мысли», и не нахожу слов...
Пригласил его в пятый номер, заказал вино, чай.
— Хорошо, что вы едете в Ялту, на море. Лучший отдых. Один англичанин выразился так: «Что такое жизнь? Три дня на берегу моря».
— Кто же так хорошо сказал?
— Сесил Родс[69]. Он сейчас занимается колонизацией Африки. Ещё одно его выражение: «От Капштадта до Каира». То есть на всю Африку английская колония. Нам, морским офицерам, приходится читать английские газеты. На Дальнем Востоке англичане действуют против нас. Поддерживают японцев, а японцы теперь наши открытые враги. Не простят нам Порт-Артур. Они его взяли с боя, а Китай отдал его нам.
— Но китайцы отдали Порт-Артур в аренду.
— Эта аренда должна быть вечной. Россия никогда не расстанется с незамерзающим портом на Тихом океане. Это же замечательная база для нашего флота и мощная военная крепость.
— А японцы?
— С ними можно было бы разделить сферы влияния, но теперь, после смерти государя Александра Третьего, пришли новые люди с новыми планами. Положение усложняется.
— Витте?
— Не знаю, Антон Павлович. У нас, флотских офицеров, есть твёрдое правило: наша политика — это морские театры военных действий и военно-морские силы иностранных государств. Внутри страны для нас политики нет. В кают-компании никогда ни слова. Случается, что молодые офицеры пытаются обсуждать некоторые события, происходящие в стране, — их немедленно пресекают. А меня вы можете поздравить: делали съёмку берегов и один мыс назвали моим именем. По поводу съёмки с отчётами и картами еду в Главный Морской штаб.
— Когда-то вы обещали, что Дальний Восток останется русским. А теперь?
— Останется, если... Понимаете, Антон Павлович, у нас там нет войск. Сибирская железная дорога не закончена: за Байкалом пути ещё нет. А Япония рядом, с большой армией, получившей боевой опыт в войне с Китаем. Закончить железную дорогу, перебросить достаточное количество войск — и Дальний Восток неприступен.
— А флот?
— Наш флот сильнее японского, но...
— Что-то много «но» на Дальнем Востоке.
— Понимаете, Антон Павлович, в России есть талантливые адмиралы. Например, Макаров — я когда-то говорил вам. А у нас командует Старк.
— М-да... Мужики говорят, что когда император выезжал из Спасских ворот на коронацию, его конь споткнулся.
— Не знаю. Не слышал.
Проводив моряка, отметил, что в пьесу он не годится. «Не знаю, не слышал» — это не тот офицер, который должен войти на сцену и рассказать о России. Более близки ему артиллеристы батареи Маевского, с которыми он дружил на Истре.
IX
Безмолвно-гордые шпили Петербурга, возносящиеся к тучам, противостоят ненастьям и стихиям — они символы великой империи. Однако под их каменной защитой оказались люди совсем не те, которых ожидаешь здесь увидеть. Строители и хозяева дворцов умерли, а их покои заняли ловкие мелкие жулики.
После служебного отчёта Азарьева в Главном Морском штабе капитан, принимавший его, неожиданно сообщил, что его приглашает для конфиденциальной беседы особый уполномоченный его императорского величества по Дальнему Востоку действительный статский советник Александр Михайлович Безобразов.
Его ждали в обычной квартире высокопоставленного чиновника на Невском, в холодной официальности тёмной мебели, высоких потолков и зашторенных окон. В кабинете — трое мужчин в штатском. Похоже на преферанс: дымят сигарами и рассматривают исчёрканный лист бумаги, лежащий на середине стола.
Хозяин, вместо того чтобы представить прибывшего и присутствующих, развязно воскликнул:
— Друзья! Вот он, истинный русский моряк. Третьего дня я и государь говорили о привлечении молодых, истинно русских офицеров к нашемуделу, и он согласился. Садитесь. Будем работать.
Двое других — явно бывшие военные: выправка, строгость манер, спокойная речь. Один из них остановил Безобразова:
— Александр Михайлович, сначала представь нас.
— Ты, тёзка, и представляй.
— Изволь. Ваш покорный слуга полковник в отставке Вонлярлярский Александр Михайлович. Мой лицейский товарищ Матюнин Николай Григорьевич, поверенный в делах нашего посольства в Сеуле...
Тем временем Азарьев успел рассмотреть схему, лежащую на столе: знакомые очертания корейского берега возле устья реки Ялу. Заметив его взгляд, Вонлярлярский сказал:
— Место вам известное.
— Так точно. Участвовал в секретной съёмке.
— Вот и прекрасно, — вновь начались восклицания Безобразова. — Нам нужен честный русский моряк, хорошо знающий этот берег, чтобы мы спокойно могли высадить тысяч двадцать наших людей. Это великое политическое учреждение, направляемое державною волей государя для проведения в Корее русского начала. Вполне конфиденциальная цель для участия лиц, безусловно преданных правительству и готовых сослужить службу государю...
Далее многословно, с авторским самолюбованием, Безобразов рассказал, что по его блестящему замыслу пять тысяч квадратных вёрст лесной концессии на реке Ялу были куплены у купца Бринера императорским кабинетом. Теперь же, по его ещё более блестящей идее, концессия фиктивно продаётся Матюнину, а на самом деле хозяином остаётся императорский двор. И наконец, самая гениальная часть плана: двадцать тысяч русских стражников, солдат, служащих переодеваются в платье лесных рабочих и захватывают эту территорию.
Отпуская Азарьева, ему сказали, что в ближайшее время к нему в Порт-Артур приедут и он должен будет помочь произвести высадку в устье реки Ялу.
Вонлярлярский вышел проводить лейтенанта, остановил в пустом коридоре и сказал доверительно:
— В освободительной войне я был адъютантом великого князя Николая Николаевича, бывал с ним в таких делах, о которых лучше не вспоминать, и во имя победы русского дела не остановлюсь ни перед чем. Государь с нами, но он со всех сторон опутан предателями. Ноздря Витте продаёт Россию иностранцам и евреям и выпрашивает за это заем у Ротшильда. Его денежная реформа сводится к тому, чтобы русское золото в виде золотых рублей перешло к евреям. Наш план поможет государю укрепить свою власть, и, кроме того, мы получаем своё золото помимо Витте и прочих предателей. По самым осторожным расчётам, концессия на Ялу даст не меньше десяти миллионов чистой прибыли. Все участники бесплатно получают паи. Разумеется, и вы...
Дотошный лейтенант попросил свою мудрую тётушку Софью Карловну узнать по каналам «Нового времени» подробности о Вонлярлярском. Узнал следующее: крупный новгородский помещик, имеет две бумагопрядильни в Петербурге, получил, как истинно русский человек, в подарок от царя концессию на чукотский золотой прииск и немедленно продал её американцам.
X
На солнечной набережной Ялты его вновь узнавали, показывали друг другу издали, некоторые даже подходили. Один офицер подошёл, сказал, что восхищается его книгами, особенно повестью «Моя жизнь», покраснел и попросил разрешения пожать руку. Смелая молодёжь подходила со смелыми вопросами, больше политическими. И о Дрейфусе, и о винной монополии, и о земстве — он отвечал достаточно уверенно, а две взбалмошные девицы поразили:
— Антон Павлович, вы марксист?
— Гм... — смешался он. — Я, знаете, далёк от политики...
Так и не нашёлся. На всякий случай придумал ответ: я пока не марксист, но, возможно, буду издавать свои книги у Адольфа Фёдоровича Маркса. К сожалению, больше никто не спросил о марксизме.
С изданием собрания сочинений пока всё было неясно: Суворину верить нельзя. Возможно, старик все эти годы ждал, чтобы наконец поймать его в сеть долгов. Иначе почему не хочет купить право на издание и сразу выплатить сумму, достаточную для постройки дома? Немирович уже убедился в предательстве генерала — написал в Ялту: «Суворин, как ты и предсказывал, оказался... Сувориным. Продал нас через неделю. На твоих глазах он восхищался нами, а приехал в Петербург и махнул подлую заметку. Не могу себе простить, что говорил с ним о вступлении в Товарищество».
Приходилось маневрировать в толпе и делать странные движения, чтобы избегать назойливых почитателей. Конечно, следовало бы кого-то взять с собой, но эта прогулка требовала одиночества.
Сцена случайной встречи с супругами Юст была разыграна успешно, хотя и не так гениально, как можно было бы поставить по харьковской партитуре, — не было ни лузгания семечек, ни лягушек, ни выбегания на авансцену. Чайки, правда, кричали...
Столкнулись, удивились, обрадовались, засмеялись. Лена представила камергера Максимилиана Николаевича Юста. Конечно, он лакей, а может быть, и вообще никто. Лицо светлое, гладкое, пустое, как доска.
Разговор о Том, что в прошлом году в это время было значительно холоднее, а в поза... поза... И ещё о назначении Куропаткина военным министром.
Лена спросила о московских новостях, он рассказал о репетициях Художественного театра.
— Олю они не взяли, — грустно сказала она. — И Суворин не взял.
— Оля талантлива, — успокаивал он. — Настоящий талант раскрывается не сразу. Это способности быстро бросаются в глаза, потому что способности — это всего лишь приспособление к обстоятельствам. А талант индивидуален. Он сам создаёт себе обстоятельства, но требует время. Передайте ей, чтобы не падала духом.
— Элен, ты же говорила, что Ольга Михайловна имеет особенные планы.
— Да. Она собирается стать m-me Дарской. Вы знаете такого актёра у Немировича?
— Немного знаю. По-моему, умный и талантливый человек.
— Я хочу пожаловаться вам, Антон Павлович, — сказала Лена, выразительно глядя на него. — Максимилиан Николаевич оставляет меня одну и уезжает за море. Представляете? В Турцию.
— Долг службы, — сказал камергер. — Необходимо встретиться с одной дамой, принадлежащей к императорской фамилии. Но ты же не будешь здесь скучать, Элен. Наконец, тебе есть с кем поговорить о литературе.
Проходили мимо фотографии, и Чехов сказал, что супруги должны сфотографироваться на прощание.
— Вы оба так чудесно выглядите, — говорил он. — Послушайте, вы просто обязаны сфотографироваться. А я буду режиссёром. Усажу вас...
Супруги сели перед фотоаппаратом, и Чехов действительно указывал им, как сидеть, куда смотреть, как Лене держать зонтик. Юст отошёл расплачиваться, и Лена быстро шепнула:
— Найдите квартиру, чтобы я приходила незаметно. Как только он уедет, я буду у вас. — И продолжила громко: — Мы гуляем каждый день в это время.
— И в любую погоду, — добавил камергер. — Его императорское величество подаёт нам всем пример: он гуляет и в дождь и в ненастье в солдатской шинели.
XI
Через несколько дней после отъезда Лены в Москву он пришёл в «Русскую избушку» Синани перед вечером и удивился необычному поведению Исаака Абрамовича: прятал взгляд, руки держал за спиной, вздыхал... Наконец, пробормотал:
— Уж, знаете, и не знаю, как сказать...
— Так и скажите, как знаете.
— Вот. Я глубоко сожалею.
И подал телеграмму:
«Из Москвы 12.10.98. Ялта книжный магазин Синани. Не откажите сообщить как принял Антон Павлович Чехов известие о кончине его отца. Как его здоровье. Телеграфируйте Москва Сухаревская Садовая дом Кирхгоф Марии Чеховой».
Как он мог перенести известие, которое не получал? Умная Маша сделала так для того, чтобы он имел предлог не ехать на похороны. Напрасно. Он бы и так не поехал.
XII
Вскоре произошло ещё одно прощание: письмо из Парижа с двумя фотографиями полной дамы. На фотографиях подписи:
«Дорогому Антону Павловичу на добрую память о воспоминании хороших отношений. Лика.
Будут ли дни мои ясны, унылы, Скоро ли сгину я, жизнь погубя, Знаю одно, что до самой могилы Помыслы, чувства и песни и силы Всё для тебя!!! Чайковский — Апухтин.Пусть эта надпись Вас скомпрометирует, я буду рада.
Париж, 11 октября 1898 г.
Я могла написать это восемь лет тому назад, а пишу сейчас и напишу через 10 лет».
«А. П. Чехову. Не думайте, что на самом деле я такая старая ведьма. Приезжайте скорей. Вы видите, что делает с женщиной только один год разлуки с Вами. 11/23 октября 1898 г.».
Эта растолстевшая неудавшаяся певица больше его не интересовала.
XIII
Его интересовало, что делать, если времени остаётся всё меньше и кашель с кровью иногда тревожит по ночам, а ещё ничего не начато.
Голый виноградник на склоне пологого холма, спускавшегося к тёмной полоске речки Учан-Су в Верхней Аутке — это и было место, где всё должно состояться. Наличные пока не требовались — всего пять процентов по закладной, а заботливый Исаак Абрамович свёл с архитектором, пообещавшим построить быстро и то, что надо.
Хозяйка пансиона Омюр, где он жил, Капитолина Михайловна Иловайская, — он прозвал её Екатериной Великой, — старая воронежская знакомая по голоду девяносто второго, когда в ходе помощи голодающим крестьянам Чехов и Суворин объедались у Иловайских. Хозяйка называла Чехова «мой жилец трезвый и не буйный». Ему — лучшие комнаты, лучшее место в столовой, а соседи за столом — чуть ли не родственники: сама m-me Шаврова и младшая из трёх сестёр, юная Ашенька, Анна Михайловна, привезённая сюда с подозрением на чахотку, но заражённая сценой и литературой. Она смотрела на него как гимназистка на обожаемого учителя и, скрывая робость, великосветски равнодушно говорила, что прочитала рассказы Горького и кое-что её озадачило. Иногда он приглашал её к себе. Елена Константиновна, конечно, не возражала.
Сидели за круглым столиком у вазы с краснобокими поздними яблоками, рядом, на маленьком письменном столе, где никогда не было ничего лишнего, лежал исписанный наполовину лист, исчёрканный поправками. Аша, конечно, не спросила, как это сделала бы на её месте другая, и он сам сказал:
— Пишу рассказ об очень доброй и хорошей женщине.
— Я поздравляю вас, Антон Павлович. В ваших рассказах так мало хороших женщин.
— Подождите поздравлять. Прочитаете — разочаруетесь. А что Горький?
— Двухтомник, который вы мне дали, я ещё не весь прочитала. С дарственной надписью от автора. Вы знакомы?
— Не встречались. Наверное, встретимся. О нём заговорили. Я тоже просмотрел книги. Кое-что прочитал внимательно. А что же вас озадачило?
— Чувствую, что литература, но как-то feroge, сумбурно. И всё это далеко от меня. Когда вы пишете о мужиках, я понимаю и чувствую, а у него — нет.
— М-да... И сумбурно, и далеко. Это у него есть. И море смеётся, и степь нежится, и природа шепчет... Но у него ещё есть и талант. Грубый, рудиментарный, но большой талант. Не скудеет талантами земля русская. Вот ещё как-то в Москве ко мне в гостиницу пришли двое молодых: Бунин и Бальмонт. У Бунина в очерке, помню, я что-то увидел. Да... Там была старая дева, сошедшая с ума от несчастной любви. Она всё читала какие-то французские стихи и играла на рояле «Полонез» Огинского. А Бальмонт — поэт. У него там что-то: «Чуждый чарам чёрный чёлн». Может быть, это и хорошо. Не знаю.
— Сейчас много символистской поэзии.
— О, закрой свои бледные ноги. Нет, Ашенька, это не о ваших ногах.
— Я читала. Это Брюсов. «Русские символисты».
— А знаете, как я назову рассказ о хорошей женщине? Рассказ юмористический, и название легкомысленное: «Душечка».
Прежде Чем уснуть, если не мучил кашель, он думал об Ольге Книппер. Семья, приближённая ко двору. Один из братьев матери — контр-адмирал Зальца, начальник Кронштадтского порта. Придётся начинать с официального визита. Или болезнь, или возраст, или эта женщина предназначена природой для него, но, даже не познакомившись с ней, увидев её на какие-то полчаса, он проникся к ней таким сильным чувством, какого не испытывал ни к одной из прежних подруг. Мужская страсть переходила в восхищение и вновь возникала. Он чувствовал ещё и какое-то притяжение, какое испытываешь в трудную минуту к кому-то, кто может помочь, и уважение к женщине — не беззащитной самочке, а к равному себе мыслящему человеку.
XIV
Семнадцатого декабря он знал, что «Чайка» в Москве пройдёт хорошо, и вполне мог лечь спать вовремя, и, наверное, спал бы спокойным сном, но все ялтинские знакомые волновались, ждали телеграмм и, конечно, пришли бы к нему среди ночи. Екатерина Великая устроила поздний ужин с вином у себя в гостиной. Пришла начальница гимназии Харкевич, улыбающаяся двадцать четыре часа в сутки, с сестрой; доктор Средин, мадам Яхненко, некоторые из живущих в пансионе и сам главный гость, которого надо побаиваться, — высокий, стройный, с лихими усами, с профессорским пенсне на шнурке, находящийся в постоянной готовности сделать решительный шаг доктор Альтшуллер.
— Фонендоскоп взяли, Исаак Наумович?
— Сегодня он нам не понадобится, Антон Павлович. — Асам смотрел внимательным диагностическим взглядом. — Если и возникнет лёгкое недомогание, то из-за неумеренного употребления понте-кано. Будет много поздравительных тостов.
— А потом Толстой опять скажет, что я согрешил перед народом и пьесы писать не надо, потому что мужики в театр не ходят.
— Но сам же он пишет, — возразила Харкевич. — И «Власть тьмы», и «Плоды просвещения».
— Он — великий человек, Варвара Константиновна. Ему можно.
— Лучше скажите за свою постройку. — Практичная Яхненко интересовалась главными делами. — А то ж я ехала через Аутку, а у вас там будто все поумирали. Только сторож под дождём мокнет.
— Так погода же, Мария Яковлевна.
— Надо грошей не жалеть, тогда и погода будет хорошая.
— Всё никак не придумаю, где их взять. У русского человека одна надежда — выиграть двести тысяч.
— Суворин же издаёт ваше собрание сочинений, — напомнила Иловайская.
— Сочинения мои, а деньги — его.
— Не поминайте нечистого в такой вечер, — сказала улыбающаяся Харкевич. — Пусть лучше Антон Павлович расскажет нам что-нибудь интересное.
— Обо всём интересном, что я знаю, я пишу, и на разговоры ничего не остаётся. Потому я такой скучный.
— Женить вас надо — вот и станет весело, — заявила Харкевич, улыбаясь счастливее обычного.
— Не поддаётся, — вздохнула Иловайская. — Такую невесту нашла. Молоденькая, здоровая — кровь с молоком.
— Помилуйте, государыня Екатерина, она же поповна, а я не верю ни в Бога, ни в чёрта. В детстве розгами из меня веру выбили.
— А крестик носите.
— Это — чтобы вопросов не задавали.
— Господа, кушайте, а то вино остынет.
— Не упивайтеся вином, в нём же есть блуд.
Вновь говорили о литературе, и все посматривали на часы и на двери, ожидая, что вот-вот придёт радость, и он постепенно начал волноваться — вдруг эти милые люди будут разочарованы. Даже закашлялся. Альтшуллер, внимательно наблюдавший за ним, сказал:
— Осторожнее кушайте рыбу, Антон Павлович: косточки попадаются.
Самая длинная ялтинская ночь обступила их чёрной безмолвной пустыней. После полуночи уже не верилось, что оттуда, из тёмного холодного мира, может прийти хорошая весть.
— Театр состоит из случайностей, — рассказывал Чехов. — Как режиссёр построит мизансцены, в каком настроении будут актёры, какая публика в театре. В Петербурге «Чайку» играли лучшие столичные актёры — и провал.
И наконец, застучали внизу, захлопали двери, послышались шаги, и радость появилась в виде усталого бледного человека в почтовой фуражке.
«Из Москвы 18.12.98. в 0.50. Ялта, Чехову. Только что сыграли Чайку, успех колоссальный. С первого акта пьеса так захватила, что потом последовал ряд триумфов. Вызовы бесконечные. На моё заявление после третьего акта, что автора в театре нет, публика потребовала послать тебе от неё телеграмму. Мы сумасшедшие от счастья. Все тебя крепко целуем. Напишу подробно. Немирович-Данченко, Алексеев, Мейерхольд, Вишневский, Калужский, Артем, Тихомиров, Фессинг, Книппер, Роксанова, Алексеева, Раевская, Николаева и Екатерина Немирович-Данченко».
Альтшуллер своим холодным докторским взглядом заметил волнение Чехова. После возгласов, поздравлений, угощения посыльного Чехов сказал, что должен отправить телеграмму, и сочинил весьма неудачный текст — нервы подвели:
«Москва. Немировичу-Данченко. Передайте всем: бесконечной всей душой благодарен. Сижу в Ялте, как Дрейфус на острове Диавола. Тоскую, что не с вами. Ваша телеграмма сделала меня здоровым и счастливым. Чехов».
И ялтинцы потом негодовали.
Ещё бы не волноваться человеку, у которого распространённое поражение обоих лёгких, особенно правого, с явлениями распада лёгочной ткани, и значительно ослабленная сердечная мышца.
XV
Насладившись величественно-холодной атмосферой власти, её снисходительно-мягким обращением, сиянием её паркетов, зеркальным блеском шаров на телефонах, Суворин собирался откланяться, но министр финансов Российской империи милостиво задержал:
— Не спешите, Алексей Сергеевич, у меня ещё есть время. Вспомнил о том же Куропаткине. Как-то зашёл к нему вечером, накануне его доклада у государя. Хотел быстро уйти, чтобы не мешать подготовке, а он меня задержал и говорит: «Я знаю дела, которые буду докладывать, вот теперь читаю Тургенева, так как после доклада я всегда завтракаю у государя с императрицей, и всё хочу постепенно ознакомить государыню с типами русской женщины». Каково?
— Ему делает честь, что он знакомит государыню с Россией через Тургенева.
— А кто у нас ещё есть, Алексей Сергеевич? Недавно у жены собрались дамы, я зашёл, слышу: «Потапенко... Чехов...» А я не знаю. Вы-то всех новых знаете.
— Знаю, Сергей Юльевич. Потапенко критики называют «бодрый талант», но он недалёкий. Чехов — талантливый. Кремень-человек и жестокий талант по своей суровой объективности. Избалован, самолюбие огромное. Но он певец среднего сословия. Никогда большим писателем не был и не будет...
Вернувшись к себе, Суворин нашёл в приёмной ожидающего Сергеенко. Длинный, всегда неспокойный, многоречивый, в обязательном чёрном костюме — других не носил. Чехов его недолюбливал и прозвал «погребальные дроги стоймя».
— Заходи, голубчик. Здравствуй. Чем могу служить?
— Не мне, Алексей Сергеевич, а нашему дорогому Антону Павловичу. Я имею от него доверенность на заключение договора с Марксом. Договор готов, и я от вас еду к немцу подписывать. Если, конечно, вы не предложите Антону Павловичу своё. Условия с Марксом такие: семьдесят тысяч в рассрочку. Сразу — двадцать тысяч, остальные в течение двух лет.
— В рассрочку? Маркс... И тот... Немец доволен?
— Не очень. Антон Павлович в телеграмме напугал его: дал слово жить не более восьмидесяти лет. Он даже из-за стола вскочил и зашагал по кабинету, считая на ходу: «Fünf und zwanzig Jahre — Tausend fünf hundert... Dreiβig Jahre — ein Tausend...»[70] По договору он должен будет платить Антону Павловичу за всё, что тот напишет после подписания, и при этом плата за лист увеличивается.
— А пьесы?
— Право поспектакльной оплаты Антон Павлович оставил себе и наследникам.
— Не подписывайте, голубчик. Я ему вышлю двадцать тысяч немедля.
— В долг?
— Аванс, голубчик.
— Почему вы не хотите купить в рассрочку? Тысяч за восемьдесят? Больше двадцати тысяч вам всё равно же не придётся платить сразу.
— Нельзя так немедленно решить, голубчик. Надо подумать, посоветоваться... И тот...
— Сколько времени ждать?
— Я напишу Антону Павловичу.
— До свидания, Алексей Сергеевич. Еду подписывать.
— Поймите, голубчик: я не банкир. Все считают, что я богач. Это вздор. Главное же, понимаете, меня останавливает нравственная ответственность перед моими детьми и тот... Как я могу навязывать им в будущем различные обязательства и тот... А я дышу на ладан.
XVI
В марте кусочек аутской холмистой степи был припечатан фундаментом его дома и получил разительное отличие от остальной части земного шара — он стал его землёй. В эту землю он сажал черешни, шелковицы, миндаль. Несколько старых миндальных деревьев, остававшихся на участке, покрылись нежно-розовыми цветами, и захотелось ехать в Москву.
Писатель, врач, бывший народоволец и вообще очень хороший человек Сергей Яковлевич Елпатьевский возмущался и отговаривал:
— Теперь в Москве самое отвратительное время. Все хляби московские разверзнуты.
— Ялтинские хляби хуже московских.
— Какие же здесь хляби, Антон Павлович? Всё цветёт.
Ялта цвела, и солнце стояло над Ай-Тодором, и на кладбище, где они с Елпатьевским прогуливались, оглушительно кричали стаи перелётных птиц, устроивших себе здесь привал.
— Это мои мелиховские скворцы. Я по голосу узнал. И трясогусочки наши. А в Москве сейчас хорошо, как в Европе среди зимы: солнышко, мостовые мокрые светятся, в колокола звонят. Помните, как звонят у Николы Мокрого? А студенческие пирожки на Моховой помните, Сергей Яковлевич? С лучком, с перцем, с собачьим сердцем.
— Вы прекрасно знаете, Антон Павлович, что с вашими лёгкими сейчас нельзя в Москву. И что вас туда так тянет? В студенческой революции хотите участвовать?
О чём бы ни говорили теперь, а все разговоры обязательно сводились к студенческим беспорядкам.
— Русский студент — лодырь, — убеждённо сказал Чехов. — И не стоит на них возлагать надежды. Кончат учиться — станут теми же прокурорами.
— Больше среди них окажется подсудимых, чем прокуроров. И вы это знаете. И не к лицу вам, Антон Павлович, повторять суворинские гнусности о том, что студенты должны учиться. Скажите ещё, что надо благодарить государя за его милости, за то, что он не отправил их на каторгу, а всего лишь выгнал из университетов и теперь ещё в солдаты будет отдавать. Наконец-то общественность возмутилась и назначила над Сувориным суд чести...
— Смотрите, какие интересные надписи, Сергей Яковлевич...
Елпатьевский, конечно, во всём прав, и вообще он очень хороший человек, а с очень хорошими людьми трудно разговаривать. Когда-то Короленко, тоже очень хороший человек, пытался свести его с Михайловским и Глебом Успенским, и все трое смотрели на него, как учителя на двоечника. Очень хорошие люди почему-то всегда требуют, чтобы и ты был очень хорошим. Конечно, Суворин негодяй, и правильно, что над ним назначен суд чести, и с ним давно следовало бы порвать, но кто кормил бы семейство Чеховых? Издавал бы его книги по нескольку раз в год? Очень хорошие люди? И теперь...
С тех пор как Чехов признан первым после Толстого писателем, каждый его поступок, любое слово в разговоре или письме, вообще вся его видимая жизнь принадлежит именно этому писателю Чехову, а не Антону Павловичу с его болезнями и денежными проблемами. Сейчас ему Суворин совершенно не нужен, однако порвать с ним немедленно — это вызвать ухмылку друзей-литераторов: продался Марксу и предал старого приятеля, который столько для него сделал. Надо было рвать отношения, когда «Новое время» опозорилось в деле Дрейфуса, но тогда старик обещал издать собрание сочинений.
— О таком памятнике расскажешь — не поверят, — удивлённо сказал Елпатьевский.
Памятник трём девушкам — трём сёстрам: Верочке, Наденьке и Любочке.
— А знаете, кто они были?
— Но вы-то откуда знаете, Антон Павлович?
— Я — мистик. Проникаю в глубину мрака неизвестности. Верочка ушла в монастырь, оттуда сбежала в шантан и там погибла. Надежда была земской учительницей и умерла в нетоплёной избе, а Люба — её все называли Любкой — была женой акцизного чиновника.
— У вашей душечки более завидная судьба.
— Послушайте, что этот мой рассказ так понравился Толстому, что он всем читает его вслух? Я же написал карикатуру, а он считает героиню «Душечки» идеалом женщины. Ведь у меня же там в конце написано, что гимназист, которого воспитывает она, обязательно вырастет балбесом...
И всё чаще появлялось нечто не поддающееся оформлению словом, не мысль, не догадка, а настроение, фантазия, мечта, сказка, которую ему никто не рассказал. В центре сказки — женщина, лучше не одна. Может быть, именно три, как те несчастные девушки. Одна героиня — женщина, умеющая смотреть прямо в душу. Другая... ещё неизвестна.
Скульптор берёт глыбу мрамора, убирает лишнее, и возникает произведение искусства. Работа писателя похожа, но его дело труднее. Его глыба мрамора, то есть жизненный материал, образы людей, характеры, слова, разговоры, поступки, идеи — всё, что происходит с людьми, — нигде его это не ждёт. Он ищет и собирает свою глыбу по крупицам. Записная книжка лишь в малой степени помогает этой работе, но иногда найдёшь словечко или реплику для новой пьесы. Только надо не лениться и записывать. И он записывал — шла уже девяносто пятая страница той записной книжки:
«Жалоба: сын мой Степан слаб здоровьем, его поэтому я отдал учиться в Крыму, а там его выдрали виноградной лозой, от этого у него ниже спины завелась филоксера, и теперь доктора ничего не могут поделать.
Девица постоянно: дивно!
Действующее лицо: Солёный.
Писарь посылает жене из города фунт икры с запиской: «Посылаю Вам фунт икры для удовлетворения Вашей физической потребности».
Бедное многострадальное искусство».
XVII
Не думал ни о женитьбе, ни о болезни, ни о времени, которого оставалось всё меньше, а обыкновенным образом шёл к женщине, которая посмотрела ему в душу, и всё произошло удачно. Однако был понедельник, что могло предвещать недоброе в будущем, но понедельник-то не простой, а первый день Пасхи. Он шёл пешком от Малой Дмитровки, где Маша сняла квартиру, к Арбату; солнце било в глаза, и он жался к стенам, в тень. В открытых экипажах колыхались дамские шляпы с перьями и темнели пасхальные костюмы мужчин. Прохожие в большинстве были пьяны, однако ещё пьяны весело, добро.
Вдоль ограды университета, закрытого из-за беспорядков «впредь до особого распоряжения», стояли городовые в белых мундирах, с шашками. Он уже знал, что был не прав, называя студентов лодырями и осуждая сразу всю русскую интеллигенцию, — из Ялты не всё видно. И в письме доктору Орлову напрасно так зло писал об интеллигенции, которая будто бы и лицемерна, и фальшива, и истерична, и ленива. На кого же тогда надеяться России? На этого болвана с шашкой, у которой он так честно начистил медный наконечник ножен? Или на этого, гибнущего от пьянства, с мокрым, сжатым в кулачок лицом? «Вы, милсдарь, охаивая студентов-лодырей и интеллигентов-лицемеров, просто оправдываете своё положение между двух станов». Студенты сами приехали в Ялту и рассказали о происходящем, и сын Лаврова, студент, написал, что теперь у них есть новое оружие — марксизм, и Горький, приехавший в Ялту знакомиться, размахивал руками и восторженно декламировал о заре наступающей революции.
Но пока началась не революция, а Святая неделя, на Пречистенском бульваре оркестр, сверкая изворотами труб, играл марш «Тореадор, смелее в бой!», и Чехов шёл с визитом к Ольге Книппер, снимавшей квартиру у Никитских ворот.
Она встретила его так, словно давно ждала. Конечно, актриса, но если и играла, то пыталась изобразить женщину, которая не играет, искреннюю в каждом слове, каждом движении, каждой улыбке. Он сказал, что восхищен её талантом и женским обаянием и с первой встречи осенью мечтал вновь увидеться с ней, что наконец его здоровье поправилось и он позволил себе её навестить.
— Я так счастлива, — сказала она. — Только не смущайте меня комплиментами.
В чертах её лица проснулось что-то девичье, смущающееся, но глубокий женский взгляд выражал открытую готовность покориться, характерную для европейской женщины, для немки.
Она была в сиреневом шёлковом платье, на столе — куличи, вина, закуски, и не хотелось думать о том, что эта мизансцена поставлена Немировичем-Данченко... Требовалось немедленно изменить характер действия, и он пригласил актрису посетить мастерскую Левитана. Покровитель его С. Морозов создал художнику условия в особняке на Кривоколенном.
Левитан стал преподавателем знаменитой Школы живописи, ваяния и зодчества, академиком, что ему придало бодрости, хотя доктор Чехов уже знал, что художник вряд ли проживёт ещё год. Левитан осыпал Ольгу комплиментами, вспоминая «Чайку»:
— В вас влюбился весь зал, Ольга Леонардовна. Ты гордись, Антон, — перед тобой великая актриса и академик. Но пьеса у тебя хороша! От неё веет грустью, как от жизни, когда всматриваешься в жизнь...
Они восхищались пейзажем «Стога в лунном свете», художник рассказывал о новых веяниях, о журнале «Мир искусства», первый номер которого взбудоражил художественную общественность нападками на, передвижников, о работе Серова над портретом Николая Второго...
— Чёрт его знает, Антон, — говорил Левитан, — сплетничают, будто Серову дали из казны денег на поддержку дягилевского журнала, а Буренин уже его оплевал, назвал: «Мор искусства».
— Если Буренин бранит, значит, дело хорошее, — сказал Чехов, и Ольга Леонардовна на это улыбнулась одобрительно или даже восхищённо.
Позже все они встретились в Мелихове.
Маша вела себя почти безукоризненно: только радостное гостеприимство. Наверное, не ожидала опасности со стороны тридцатилетней актрисы. За праздничным обедом рассказывала весёлые мелиховские истории о зайцах, заглядывавших в окна, о траншеях-дорожках в огромных сугробах, о пожаре, который они проспали... Лишь раза два бросила на Ольгу холодный всепонимающий чеховский взгляд.
Время заморозков прошло, время комаров только ещё начиналось, и дымко-зеленый май уютно ласкал ветерком надежды и ароматами буйных свежих трав. Мелиховские девушки в светлых кофтах, с венками из одуванчиков шли по дороге к деревне, напевая: «Люблю я цветы полевые, люблю их в лугах собирать. Люблю я глаза голубые, люблю их всегда целовать...»
— Я тоже так могу, — сказала Ольга и запела. — Люблю-у я цветы полевы-ые...
Потом они увидели прогуливающуюся пару: он — в чесучовом костюме и соломенной шляпе, она — в тёмном платье.
— Здешний учитель.
— А с ним Маша, — уточнила актриса. — Сейчас скажет: «Это траур по моей жизни...»
— Идёмте, я покажу вам, где они все живут, — предложил он. — И Маша и Нина...
Они пришли в садовый домик, но героев «Чайки» здесь уже не было, только след лёгкой печали.
— Я тоже являлась вам здесь? То есть Аркадина?
— Для вас я напишу другую пьесу. Ваша героиня будет похожа на вас, и зрители будут не посмеиваться, как над Аркадиной, а восхищаться и влюбляться. Только писать буду уже не здесь, а в Ялте. И вы там явитесь мне.
— Как призрак?
— Нет. Как живая прекрасная женщина, которую можно любить и ласкать.
Он поцеловал её, и Ольга ответила на поцелуй. Потом спросила:
— Что у вас за странное кольцо?
— Осталось от отца.
Он снял кольцо и показал надпись: «Одинокому — мир пустыня».
— Вам нравится надпись?
— Да. Я очень одинок.
— Со мной вы не будете одиноким. Но я должна теперь ехать на Кавказ к брату.
— И мы там с вами где-нибудь случайно встретимся, и я увезу вас в Ялту.
— О чём будет пьеса?
— О Вере, Надежде и Любви.
XVIII
Недооценил он Машу — появление Ольги встревожило её сразу, ещё до приезда артистки в Мелихово, и сестра искала способы защиты от новой посягательницы на её права и использовала малейшие возможности. Об одном из её маленьких ударов он узнал только в Ялте, в самый, наверное, критический момент начинающегося романа с Ольгой, в тот момент, когда роман мог и не начаться.
А казалось, что всё по-родственному добро и спокойно: говорили с сестрой о том, какая прекрасная женщина Ольга Леонардовна, и Маша сама подсказала, что ему нужна такая подруга, писали Ольге на Кавказ письма вдвоём на одном листе, он называл Ольгу «великой артисткой земли русской, последней страницей своей жизни», и Маша добродушно смеялась. Провожала на юг, желала встречи с Ольгой — наверное, догадывалась, что они договорились.
Случайная встреча произошла точно по плану: он в Новороссийске сел на пароход, на котором Ольга Леонардовна ехала из Батума, и они вместе прибыли в Ялту. На солнце не было никаких пятен, она смотрела на него тем же взглядом любящей женщины, готовой повиноваться любимому, с женской увлечённостью рассказывала о своих племянниках Оленьке и Лёвушке[71] — детях старшего брата, у которого она гостила на Кавказе.
Ялта опять изменилась: ярко-праздничные привычные толпы потемнели, полиняли, разбавленные множеством больных, приехавших лечиться у Чехова. Неутомимая Софья Павловна Бонье в первый же день пришла к нему в гостиницу «Марино» с двумя подобными ей энтузиастками, взирающими на него со страхом и преданностью, и объявила, что будет ему помогать в устройстве больных в благотворительное общество.
— Помогайте отвечать на письма, — сказал он. — Послушайте, меня же завалили письмами. Больные — понятно, но пишут совершенно несообразные вещи. Посмотрите, вот... «Как образовать множественное число от слова «адрес»?» «Что представляет из себя Божья Матерь?» Пожалуйста, Софья Павловна, забирайте весь этот ворох и отвечайте. Обязательно напишите о Божьей Матери...
Актрису Художественно-Общедоступного театра, которую могли узнать отдыхающие москвичи, он поселил у доктора Средина, которому можно было доверить всё. День, когда она согласилась пойти к нему в гостиницу, оказался неопределённым: тонкий слой облаков закрыл солнце над морем, но плоские вершины Яйлы празднично сверкали, и никто не знал, пойдёт ли дождь или вновь море вспыхнет ослепительными гребешками. Возник момент, когда показалось, что и Ольга колеблется подобно погоде: идти к нему или вернуться.
Встретившаяся девушка в белом платье поклонилась ему, покраснела и быстро прошла мимо.
— Это тоже ваша антоновка? — спросила Ольга.
— Моя бывшая невеста Наденька Терновская. Поповна. Брак не состоялся по политическим причинам. Её отец протоиерей, оказывается, пишет доносы на преподавателей гимназии. А я, милсдарыня, убеждённый либерал и, как пострадавший за конституцию, убил любовь в своём сердце.
— А кто такая Лика? — спросила Ольга и остановилась.
Ему показалось, что она хочет вернуться.
— Почему вы остановились?
— Рассматриваю вашу гостиницу. Она похожа на корабль. Так что за Лика?
— Откуда возникло сие имя?
— Из вашего же письма, Антон Павлович. Помните, вы писали мне на Кавказ письмо с Машей? И там было: «Приехала Лика, ожидаем её в Мелихове».
Маша оказалась не такой простой — попыталась помешать, остановить, взорвать их любовь. Письмо они писали вместе: она свою часть, он свою, а после того, как он прочитал всё, она, прежде чем заклеить конверт, дописала фразу о Лике.
— Ах, Лика! Это старая Машина подруга — тоже была учительницей в гимназии. Вы правы, что гостиница похожа на корабль. Мы поплывём на нём к счастью. А этот арбуз мы обязательно должны купить.
И Ольга пришла к нему и осталась надолго, и они не спеша ели арбуз, нарезая его толстыми ломтями, упиваясь влажной сладкой мякотью, выбирая скользкие чёрные семечки.
XIX
Сколько бы ни оставалось времени, ты сам должен оставаться самим собой, бороться с болезнью, находить силы, действовать и добиваться своего. Он действовал и добивался: у него был дом в Ялте, деньги и, главное, любимая женщина, не докучающая ему ежедневной пошлой суетой, не появляющаяся каждую ночь, как луна на небосклоне, присылающая аккуратные письма с известиями о первых спектаклях «Дяди Вани», кажется, не очень удачных, но в дальнейшем будто бы имевших успех. Писала и о других театральных новостях, из которых можно догадаться, что возникает неизбежный разлад между Немировичем и Станиславским. Да и сам Владимир Иванович написал, что ему надоедают мелкие фокусы, из которых состоят партитуры Константина Сергеевича.
Приятель Горького Поссе воцарился в журнале «Жизнь», попросил поддержать журнал, и это совпало с желанием ещё раз высказаться о мелиховских мужиках, рассказать об отравлении людей и прекрасной среднерусской природы вонючими ситценабивными и кожевенными фабриками. Жаль только, что нельзя сказать всё, что знаешь об угрюмовских и крюковских фабричных. Их дети с восьми лет начинают пить водку и с детских же лет развратничают; они заразили сифилисом всю округу. Его природный вкус говорит, что писать об этом антихудожественно. Вот случай, о котором рассказал Бунин — дьячок съел два фунта икры на поминках, — это художественно, и в повести «В овраге» он оказался вполне уместным.
Из-под старых завалов памяти выбежал белый шпиц и затрусил по солнечной ялтинской набережной за своей хозяйкой — молодой дамой невысокого роста, блондинкой в берете. Получился рассказ о любви горькой и счастливой, необъяснимой, как всякая истинная любовь. Он написал этот рассказ легко и быстро, и Гольцев обещал поставить в декабрьский номер.
В ялтинском театре шла модная оперетта Сиднея Джонса «Гейша», где действовали три миленьких сестры и их непутёвый брат. Так было и в жизни знаменитых сестёр Бронте: спившийся погибший брат и три талантливых сестры-писательницы. Нечто существенное, жизненное проглатывается в этой ситуации. Надежда только на сестёр. Так будет и в его пьесе. Так он её и назовёт: «Три сестры».
Всё было готово для работы над пьесой: и дом, и покой, и любовь — не хватало пустяка: здоровья. Вновь он кашлял и днём и ночью и с тяжким чувством обречённости рассматривал пятна крови. И милая дама из истринского прошлого опять появилась именно в такой момент. Горничная Анна принесла визитную карточку: «Голубева Надежда Владимировна». Не стоило бы её принимать, а впрочем, всё равно.
— Пусть подождёт в гостиной, — сказал он Анне.
Долго прокашливался, стоял перед зеркалом, поправляя редеющие волосы, критически рассматривал пергаментно-жёлтые щёки. В гостиной увидел, как его лицо, постаревшее и пожелтевшее, отразилось во взгляде гостьи. Но и сама она постарела, подурнела и стала похожей на Ольгу Кундасову. Подошёл к ней, поклонился и сказал с печальной улыбкой:
— Ах, черви, милые черви! Ведь я не хотел вас принять. Но ради прекрасного прошлого... Вы мне напомнили счастливые дни в Бабкине.
— Антон Павлович, какие черви? Я не понимаю.
— Да, вы, наверное, тогда не поняли или теперь забыли. Это когда мы с братьями делали вам смотрины и лазили под балкон по очереди за червями.
XX
Вот и сорок лет. В Ялте — тоска, в почте — много интересного.
Маша написала: «На твои именины я водила Лику на «Чайку». Она плакала в театре, воспоминанья перед ней, должно быть, развернули свиток длинный».
Пришла и телеграмма:
«В день Антония Великого собрались в дружеском кругу по гостеприимному призыву хозяйки, пьём здоровье дорогого писателя и пушкинского академика. Маша. Книппер. Лаврова. Мизинова. Гольцев. Лавров. Левитан. Жорж».
Умная Маша расставила подписи по алфавиту.
Самое интересное письмо:
«Милостивый государь
Антон Павлович.
Отделение русского языка и словесности императорской Академии наук, в заседании 8 января 1900 года, избрало Вас в Почётные Академики по Разряду изящной словесности, учреждённому в ознаменование столетия со дня рождения А. С. Пушкина.
Сообщая об этом Вам, покорнейше прошу Вас принять уверения в отличном моём почтении и совершенной преданности.
М. Сухомлинов».
Огромное письмо от брата Миши оказалось ещё интереснее: читал и перечитывал, как плутовской роман. Брату надоел Ярославль, захотелось в столицу, и его, конечно, приютил добрейший Суворин. Михаил словно так и остался гимназистом, которого надо на каждом шагу поправлять и учить, — совершенно не понимает людей. Не увидел, что перед ним человек, скрывающий в себе все элементы преступника.
Читал, перечитывал и представлял, как Суворин с искренними слезами на глазах говорит брату о страданиях, которые он будто бы испытал из-за разрыва отношений с ним:
— Голубчик Миша, я знаю, отчего это случилось. Антоша не захотел простить моей газете её направление и тот... Но разве можно, чтобы в таком громадном деле, как наша газета и тот... могла существовать одна душа, и всё.
И Анна Ивановна, конечно, сокрушалась:
— Виноват, Алёша, ты один, потому что ты не книгопродавец. Упустил «Анну Каренину», когда сам Толстой продавал её тебе за двадцать тысяч, а теперь вот упустил Чехова. Когда Чехов прислал тебе телеграмму о том, что он продаёт Марксу за семьдесят пять тысяч, ты должен был бы телеграфировать ему в ответ: «Даю восемьдесят тысяч».
— Конечно, это так, Нюся... Я, правда, человек нерешительный, всегда мне нужно время пообдумать... Но я тотчас послал Чехову телеграмму, в которой умолял его не иметь дело с Марксом и не закабалять своего будущего, предлагал ему авансом в долг двадцать и даже двадцать пять тысяч. Очевидно, ему нужны были деньги. Но откуда же я мог взять сразу восемьдесят тысяч? Когда ты сама знаешь...
— Ведь продал же Чехов Марксу в рассрочку, почему ты не предложил ему рассрочку?
— Да Боже мой, разве ж я знал, что Чехов продаёт в рассрочку? Ведь в этом-то весь и ужас! Когда ко мне пришёл этот сукин сын Сергеенко и объявил о своём посредничестве, он ни слова не сказал о рассрочке...
Они прекрасно разыграли сцену, не хуже, чем в театре у Немировича, и наивный Миша поверил: «Антуан, милый, возврати им своё расположение! Я знаю, что я не имею права вмешиваться в ваши отношения, но Суворины были так со мной откровенны, так искренни, так трогательны были их уверения в симпатии к тебе, что я не имею ни малейшего сомнения в чистоте их отношения к тебе».
Брату он ответил по пунктам и заключил следующим: «О каком-либо примирении и речи быть не может, так как я и Суворин не ссорились, и опять мы переписываемся, как ни в чём не бывало. Анна Ивановна милая женщина, но очень хитра. В её расположение я верю, но когда разговариваю с ней, то не забываю ни на одну минуту, что она хитра и что А. С. очень добрый человек и издаёт «Новое время».
XXI
Мудрый Синани ещё в начале весны сказал, что «они сами приедут». Ялта пока по-зимнему пустовала, и они вдвоём с ним сидели на знаменитой литературной скамейке над затихшим туманным морем. Хозяин «Русской избушки» обо всём имел определённое мнение, иногда совершенно не совпадающее с мнением, так сказать, общественности. Например, все посетители его книжного магазина, шелестя газетами, дружно сочувствовали бурам, на которых навалилась мощь Британской империи, а Исаак Абрамович иронически помалкивал и только Чехову сказал, считая его одним из немногих понимающих:
— Они думают, что буры — это такой сахар. Они не знают, что эти буры делают с неграми.
Синани даже знал, почему в стране вдруг упали цены на акции и многие банки разорились, а это очень волновало Машу, предлагавшую вложить остаток денег, полученных от Маркса, в железнодорожные акции.
— Вы всё это знаете не хуже меня, Антон Павлович.
— Откуда же я могу знать?
— Я читал вашу прекрасную повесть «Три года», и там приказчик объясняет, что всё зависит от волнения кредита. Лучше не скажешь. Все кризисы возникают, потому что люди есть люди — они обязательно хотят иметь больше, чем у них есть. А чтобы сделать много, надо брать кредит. И все берут, и все что-то делают, и делают так много, что это уже никому не нужно. Никто не покупает, вложенные деньги не возвращаются, кредит нечем возмещать, банки не могут платить процент, и всё очень хорошо разваливается, а потом начинается сначала. Это именно волнение кредита.
В тумане лениво, словно отбывая повинность, прогудел пароход, и сразу же, будто очнувшись, закричали чайки.
— А в Москве сегодня идёт моя «Чайка». Потом все они поедут в ресторан. В «Эрмитаж», наверное...
— Они сами к вам приедут, Антон Павлович. Это я вам говорю. Приедут и покажут «Чайку», и всё, и наша Ялта будет радоваться. А вот он уже приехал!
Синани что-то почувствовал нервной спиной, оглянулся и первым увидел Бунина. Тот подходил к ним в элегантном светлом плаще и шляпе.
— Так редко сбываются мечты, — сказал Бунин, — и как прекрасна становится жизнь, когда они наконец сбываются.
— Напрасно радуетесь, милсдарь. Денег взаймы не дам: Исаак Абрамович предупредил о волнении кредита.
— Я же не в том смысле... Да вы же всё шутите...
— Я наймусь к вам сторожем, Антон Павлович, — говорил Бунин, счастливо улыбаясь.
— Я могу помочь вам небольшим гонорарчиком, Иван Алексеевич, — предложил Синани, — если вы напишете наконец в мою книгу свои стихи.
— Соглашайтесь, милсдарь, пока мы с Исааком Абрамовичем не раздумали.
Зашли в магазин, Синани достал свою знаменитую книгу — в такие толстые книги-тетради купцы обычно записывают получаемые товары, — и Бунин написал:
В Ялте зимнею порой Только море и Синани — Бродят тучки над горой, Остальное всё в тумане.— За это получите ужин, — сказал Чехов. — На большее не рассчитывайте, милсдарь.
Они шли по непривычно пустынной набережной над туманным морем, разговаривали и молчали — с Буниным легко было и говорить и молчать. Наконец-то посчастливилось встретить настоящего писателя, равного себе, в чём-то, может быть, даже превосходящего. Ему уже тридцать, всего одна тощая книжечка, но какая точная проза! И он сам проникнут спокойной уверенностью в себе, в своём умении владеть русским словом. Не просит помочь печататься, как все эти лазаревские, Щегловы, ежовы, не сует рассказики, ожидая похвал, — знает себе цену. Как прозаик Бунин, пожалуй, сильнее его, потому что... М-да... Потому что Чехов талантливее: может писать почти как Гоголь — «Степь», почти как Лермонтов — «Рассказ неизвестного человека», почти как Тургенев — «Дом с мезонином»... Трудновато найти рассказы, где он пишет как Чехов. Потому что он родился великим драматургом, и это уже начинают понимать.
— Любите вы море? — спросил Бунин.
— Да. Только очень уж оно пустынно.
— Это-то и хорошо.
— Не знаю. По-моему, хорошо быть молодым офицером, студентом... Очень трудно описывать море. Вот о таком море, как сейчас, что можно написать?
— Ну... Море дышит обильными предвесенними испарениями... Туман медленно возрастает, сливаясь с серым морем и серым небом...
— Три с минусом вам, молодой человек. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.
Бунин согласился и вспомнил, что у Горького «море смеялось», а затем вспомнил и самого автора и показал, как тот, ссутулившись, размахивает руками и с детской наивностью, со слезами на глазах рассказывает, как его нещадно драли.
— А какие у нас на Волге мужики-то, — изображал он Горького, окая и показывая руками. — Во! Бывалоча сядет баржа на мель, а он подойдёт, поднатужится, толкнёт, и она пошла-а... А водку только вёдрами. Опрокинет, бывалоча, ведро-то...
Чехов смеялся до слёз.
— Неплохо, милсдарь. На днях приедет Горький, вы с ним ещё порепетируете, и я порекомендую вас Немировичу на роль Пятого мужика.
XXII
По утрам он вспоминал, что у неё усики тонким светлым пушком над изящной верхней губой — они ощущались, когда она подолгу ласкала его, зацеловывала лицо, шею, грудь. Ждал её приезда с театром. Сначала пришло письмо о том, что они выпили с Машей брудершафт и приедут вместе. Конечно, брудершафт придумала Ольга, а умная сестра согласилась на роль задушевной подруги. Самая сложная роль, как всегда, предназначалась ему: Ольга должна поверить, что она для него больше чем любовница и у них есть, как говорится, общее будущее, а Маша должна убедиться, что Ольга не более, чем подруга, подобно, например, Ольге Кундасовой. М-да. Хоть Станиславского приглашай.
Ялта цвела. «Русскую избушку» осаждали несчастные, не успевшие купить билеты на спектакли Московского художественного театра, — Синани, пользуясь волнением кредита, уже всё продал. Пароход из Севастополя пришёл вовремя, качки не было, и Ольга и Маша просияли улыбками, увидев его на пристани. У обеих в глазах беспокойство, вопрос, надежда. Наверное, разные вопросы и разные надежды. У Маши дополнительное хозяйственное беспокойство:
— Антон, ты просил привезти пять пудов продуктов — я привезла шесть. И ветчина, и маслины, и икра...
— Артисты всё подчистят — их же в Москве Немирович и Станиславский голодом морят. Смотри, какая Ольга Леонардовна худенькая. Давай квитанции, Арсений всё получит и привезёт...
— Не издевайтесь, Антон Павлович, я так поправилась за зиму. Новую пьесу написали?
— Как я мог написать, не видя перед собой главной героини? Теперь дело пойдёт. Когда приедет театр?
— В Севастополе они будут в конце Страстной. В первый день Пасхи — первый спектакль. Наверное, «Дядя Ваня».
Ольга впервые входила в Белую дачу желанной гостьей, Маша, показывая ей сад и дом, как бы невзначай напоминала, кто здесь хозяйка.
— Там я посажу ещё сирень. Как ты думаешь, Оля?
— Не знаю... Какая прелесть...
Вдоль ограды цвёл жасмин — от его крупных сочных цветов исходил вызывающе сладкий аромат, и Ольга, откинув голову, не могла надышаться. Евгения Яковлевна, тоже встречавшая гостью, показала ей цветущие пионы, томно раскинувшие нежно-шёлковые лепестки.
— Любимый цветок покойного Павла Егоровича, — сказала она. — Упокой, Господи, его душу.
— А я, знаете, решил бросить литературу и стать садовником.
— Подожди, Антоша, со своими шутками. Я хочу показать Оле тюльпаны.
— Какие шутки? Я буду садовник нарасхват. Нуте-ка, милые дамы, пойдёмте, покажу вам, что я умею делать в саду.
На самом солнце перед домом из крепких кустиков с жёсткой листвой выглядывали темно-красные цветы, похожие на тугие, полураспустившиеся бутоны роз.
— Я забыла, Антоша, что это за цветы, — сказала Маша. — Кажется, я их сажала.
Ольга восхищённо улыбалась. Она знала:
— Это камелии, Маша. Вы чудесный садовник, Антон Павлович. Только не бросайте писать — наш театр погибнет без ваших пьес.
Его не переставала восхищать её европейская женская обаятельность, появляющаяся ещё у несмышлёных девочек, когда их учат реверансам, и превращающаяся в покорную внимательность к мужчине.
Показали ей лавровый куст, поразивший старую кухарку Марьюшку, привезённую из Мелихова; ввели в дом. В столовой на первом этаже чуть не полстола занимал огромный свежий разноцветный букет, его красные, синие, белые, зелёные краски отражались в сверкающих тарелках.
— Мама, ты поставила свои бокалы? — удивилась Маша.
— Антоша приказал. Ещё не Пасха, но у нас праздник нынче. Из этих бокалов, Олечка, пили на нашей с Павлом Егоровичем свадьбе в Таганроге в тысяча восемьсот пятьдесят четвёртом году.
— А это гостевая комната, — сказала Маша, вводя Ольгу в светлую комнату с кроватью, диваном и туалетным столиком. — Здесь ты, Оля, будешь жить.
— Не гостевая, — поправил её брат, — а комната Ольги Леонардовны — великой артистки земли русской.
XXIII
На этот раз недолго пришлось прожить ей в своей комнате и не очень счастливо: он заболел, и Ольга одна уехала в Севастополь, напугав там всех, что «Чехов не приедет». Но он приехал в день первого спектакля — шёл «Дядя Ваня».
Осторожно прошёл в директорскую ложу и попытался спрятаться за спины Немировича-Данченко и его Катечки, но зрителей не обманешь — свет в зале ещё не погасили, и его увидели. В рядах поднялся гул, все головы повернулись в его сторону. В досаде он вышел из ложи и попросил распорядителя найти ему место где-нибудь в партере. Пробрался незамеченный на крайний стул ряда и с радостью понял, что его не узнают: задевали ногами и локтями, толкали, усаживаясь, и даже не извинялись.
Начало спектакля заставило поморщиться: всё-таки сделано не в стиле новой драматургии. По Островскому, где какие-нибудь две старушки в первом явлении рассказывают зрителям, что происходит в пьесе, кто кого любит, кто откуда приехал и прочее. Но... игра завораживала. Земляк Вишневский так чудесно вышел на сцену, измятый после дневного сна, так хорошо понял драму Войницкого, драму всех нас, русских людей конца века, потративших лучшие годы жизни чёрт знает на что. Станиславский — Астров, конечно, слишком романтичен для русского земского врача, то и дело употребляющего рюмочку, но публика принимает хорошо. И конечно, Ольга. Разве может нормальный мужчина не влюбиться в такую роскошную женщину?
Финал первого действия режиссёры поставили безукоризненно: спотыкающийся Войницкий — Вишневский, бормочущий о своей любви, Елена — Ольга, давно уставшая от пожилых неудачников, объясняющихся ей, сумела вложить в свои финальные слова и презрение, и вздох сожаления о том, что нет рядом настоящего мужчины, и утомлённость праздной аристократки: «Это мучительно...»
И полька на гитаре, и обвал аплодисментов.
Зрители понимали! Не напрасно прожил жизнь драматург Чехов.
— Автора!.. Автора!.. — кричали в зале.
Признание — это хорошо, но стоять на сцене в позе опереточной примадонны — это стыдно, и он сидел на своём месте, сжавшись, глядя в пол. На авансцене перед закрывшимся занавесом раскланивались Ольга, Станиславский и Вишневский. Откуда-то рядом с Чеховым появился Мейерхольд и сказал, наклонившись к нему:
— Антон Павлович, невозможно не выйти. Надо. Не обижайте людей.
Пришлось идти на сцену. Для него подняли занавес, и он стоял, кланялся и улыбался.
После спектакля не хотелось участвовать в общем ужине, и он зашёл за кулисы попрощаться. В тесноте, тускло освещённой керосиновыми лампами, расхаживал торжествующий Станиславский, поздравляя актёров, целуя руки дамам, декламируя перефразированный текст роли:
— Когда я слышу, как шумят аплодисменты, я сознаю, что жизнь немножко и в моей власти, и если сегодня зрители счастливы, то в этом немножко виноват и я, а не только вы, Антон Павлович.
— Послушайте, это же замечательное дело — ваш театр. Вы же всё чудесно играете.
— Вам понравилась игра этой легкомысленной дамы? — спросил Станиславский, кивая в сторону Ольги, пробегавшей по коридору в нижней юбке и лёгкой кофточке.
— Ах, оставьте! — воскликнула Ольга, убегая. — Мы все замёрзли.
— Понравилось всё, Константин Сергеевич.
Ему действительно понравились всё... кроме Станиславского. Не понял артист земского врача Астрова — сам-то вырос в оранжерейном тепле богатейшей московской семьи. Женат на своей актрисе, о его романах ничего не слышно. Любовь, наверное, понимает по-книжному: валяться в ногах, страдать и плакать. Наверное, в публичном доме никогда не бывал, а доктор Астров бывал. Не станет он валяться в ногах у Елены — проживёт и без её любви, но не откажется, если удастся. Легче рассказ написать, чем объяснить всё это Станиславскому.
Помогли актёры, обступившие их, расспрашивали автора о впечатлениях. Вишневский рассказал, что видел «Дядю Ваню» в Киеве, и там Войницкого одели в мужицкую рубаху, обули в сапоги.
— Нельзя же так, — возмутился Чехов. — Послушайте, там же всё написано. Он носит чудесные галстуки. Чудесные! Поймите, русские помещики — это же культурнейшие люди. Они одеваются лучше нас с вами.
Кто-то спросил об Астрове: действительно ли он влюблён в Елену.
— Послушайте, он же свистит. Это дядя Ваня хнычет, а он свистит.
Станиславский это услышал и пригласил в свою тесную актёрскую уборную, где тоже горела керосиновая лампа.
— Дорогой Антон Павлович, расскажите подробнее об Астрове, — попросил он. — Почему он свистит? Что это значит?
— Он же целует её вот так. — И Чехов на мгновение приложился поцелуем к своей руке. — Он же не уважает Елену. Потом же, послушайте, он свистит, уезжая. У меня же написано. Он несентиментален. Он же идейный человек, и его не удивишь прозой жизни. Он не должен раскисать. Он мужественно переносит жизнь.
— Благодарю вас, Антон Павлович, за всё. Завтра у нас «Эдда Габлер».
— Послушайте, Ибсен же не драматург.
XXIV
В зале и на сцене распахнули все окна и двери, и ялтинское солнце располосовало пыльную тьму, расплылось зеленоватым полумраком по углам, и рабочие смогли начать уборку. Горький в белой вышитой косоворотке, подпоясанной шнурком, с кривой самшитовой палкой в руке, наблюдал, как моют сцену, обдавая водой и протирая швабрами.
— А вот ты, человек, не очень-то хорошо это, значит, делаешь, — сказал он одному из рабочих. — Мажешь, а надо, понимаешь, с силой тереть. Люди же, артисты, будут ходить, а то, понимаешь, и который ляжет...
Быстрыми шагами вошёл Немирович в светлом костюме, чему-то радующийся.
— Поздравляю вас, господа, — сказал он.
— С чем?.. Опять праздники?.. Телеграмма из Москвы?..
Расположившиеся в зале на стульях ждали от режиссёра объяснений.
— Минуту терпения, господа. Вот!
В зале и на сцене вспыхнули электрические люстры и фонари.
— Первый день творенья! Художественный театр будет играть при электрическом свете!
В свете люстр особенно засверкала модноголубая рубашка Бунина, поднялась круглая запорожская голова Мамина-Сибиряка, и все собравшиеся здесь друзья театра радостно зааплодировали удавшемуся фокусу режиссёра. Кто-то крикнул: «Едем к Чехову! Обрадуем!» Его охотно поддержали. Некий московский адвокат, любитель театра, подошёл к Бунину со странным вопросом:
— Иван Алексеевич, неужели и вы поедете к Чехову? Вам бы вообще отсюда уехать.
— Почему?
— Я вижу, как вам тяжело среди таких знаменитостей, как Горький, Мамин-Сибиряк...
— Нисколько. В этнографии я признаю первенство Мамина-Сибиряка, а Горький... У меня иной путь, чем у Горького. Я буду академиком, и неизвестно, кто кого переживёт.
В Белой даче в эти дни стол был накрыт с утра до вечера. Можно было в любое время приезжать и закусывать — не напрасно Маша привезла шесть пудов закусок. Она и Ольга в белых фартучках встречали гостей, и Ольга играла кокетливую горничную:
— Откушайте, пожалуйста, водочки, ваше превосходительство. Не прикажете ли чайку?
— Вот я тебя, быстроногая, — изображал Станиславский барина, любящего пошалить.
— Ой, что вы, барин! — кокетничала горничная Ольга. — Не дай Бог увидють...
Горький явно и не очень умело ухаживал за Марьей Андреевой, воспитанницей Станиславского по Обществу любителей искусства и литературы, дамой бальзаковского возраста, играющей юных девушек. Он сидел рядом с ней и, неприлично близко придвигая лицо к её лицу, бубнил свою «Песню о Соколе».
— Прекрасно, — перебивала она его. — Это надо читать в большой аудитории. Мы хотим устроить благотворительный литературный вечер.
— А вот ещё я сочинил «Песню о Буревестнике», — не унимался Горький. — Ещё не до конца сочинил. Там у меня, знаете: «Буря, скоро грянет буря!.. Пусть сильнее грянет буря!..»
Чехов услышал через стол и одобрил:
— Хорошо, Алексей Максимович: «Скоро грянет буря!» М -да... Замечательно.
Эти дни были праздником его драматургии. Всю предшествующую жизнь он знал, что так должно быть, и всю жизнь терпел неудачи и разочарования. Вера в своё предназначение, воля, унаследованная от русских мужиков, позволили ему победить. Теперь он знал, что новая пьеса будет написана быстро и её ждёт успех. Трём милым сёстрам в пьесе противостоят болтуны мужчины, один из них скажет и о буре: «Надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря...»
Бунин изображал поэта-декадента, гнусавящего:
На небесах горят паникадила, А снизу — тьма. Ходила ты к нему иль не ходила? Скажи сама!..— Какие они декаденты, — пренебрежительно сказал Чехов. — Все они здоровые мужики. Их бы в арестантские роты отдать. И ноги у них не бледные, а такие же, как у всех — волосатые.
— А вот свежая редисочка, — продолжала Ольга свою игру. — Угощайтесь, ваше превосходительство.
— Спасибо, милая, — ответил Бунин по-барски. — Я уж лучше икорочки. А когда, Антон Павлович, я получу свою часть гонорара за повесть «В овраге»? Дьячка-то, съевшего два фунта икры на поминках, вы у меня стянули.
— Плохо лежало. А вот у меня всё при себе. — Он достал из бокового кармана пиджака свою старую записную книжку. — Ровно сто сюжетов. Учитесь, молодой человек.
После завтрака поднялись в кабинет на второй этаж. Остановились перед камином: в небольшом окошечке, не заделанном облицовкой, на картоне — золотистое, бледно-голубое, призрачное, печальное.
— Левитан, — объяснил хозяин. — Был у меня зимой, и я попросил написать. Стога в лунном свете. Боюсь, что мне он уже больше ничего не напишет.
— Да, очень плох, — подтвердили москвичи. — Лежит.
Только Мамин-Сибиряк пренебрежительно махнул рукой и отошёл: разве может какой-то Левитан понять русский пейзаж?
Рассматривали картины покойного Николая, листали книги. На голубом сукне письменного стола лежали первые два тома марксовского собрания сочинений.
— Вот я уже и марксист, — сказал Чехов.
— Этот Маркс — не тот Маркс, — сказал Горький. — Вы, Антон Павлович, настоящий марксист — вы же в нашей «Жизни» печатаетесь. Этот наш журнал-то и есть самый марксистский. И вашу замечательнейшую, прекраснейшую повесть «В овраге» читали и хвалили очень известные среди марксистов люди. Которые там, на западе, в эмиграции. Мне говорили, что им понравилось.
Появилась Маша и попросила разрешения у гостей похитить на некоторое время брата. Привела к себе на вышку, на третий этаж, спросила, довольны ли гости приёмом, но он понимал, что её волнует другое.
— Чудесный вид у тебя отсюда.
— Оле тоже очень нравится. Она так много помогает мне. Наверное, это нехорошо? Могут разговоры пойти. Ещё не сплетничают, что она здесь хозяйничает?
— О чём ты, Маша? Какие ещё сплетни? Я пойду. Ты сегодня будешь в театре?
— Когда в Москве я собрала всех на твои именины, Ольга очень интересовалась Ликой.
— Разве и Лика у тебя была?
— Я же тебе писала и телеграфировала.
— Прости: запамятовал. Думаю только о пьесе. Станиславский сказал, что если осенью в театре не будет пьесы, он поставит «Иванова», сам будет играть и зарядит пистолет настоящей пулей.
— Оля спрашивала меня о Лике, и я сказала ей, что это моя старая подруга.
— Маша, это же так и есть.
Он оставил её, кажется, несколько успокоив.
В кабинете за его столом сидел Бунин в чьём-то пенсне и, потеряв всякий стыд, изображал хозяина, вызывая всеобщий смех:
— Послушайте, вы же ж замечательно играете, только он же ж у вас должен носить тёплые кальсоны и он же ж лает. Вот так: гав, гав... Послушайте, у меня же ж всё написано...
Заметив Чехова, Бунин слегка смутился.
— Ноль с минусом вам, милсдарь. Не умеете правильно лаять. Я попрошу Константина Сергеевича, чтобы он вас научил. А пенсне вам идёт. Да, я же видел ваш портрет во французской газете. Только подпись была: маркиз Букишон. От полиции, наверное, скрываетесь, маркиз.
Вечером в театре шла «Чайка». Роксанова играла Нину отвратительно: пищала и рыдала навзрыд, не говоря уже о том, что его Нина была красивее, когда приходила в мелиховский садовый дом. Станиславский — Тригорин играл ещё хуже, если можно играть хуже. Ходил и говорил, как паралитик, и, наверное, никто не поверил, что в него могла влюбиться молодая девушка. Но... можно было бы сказать: но остальные играли прекрасно, и это было бы правдой. Ольга — вообще замечательная актриса; Вишневский понял Дорна — как не понять: таганрожец; Мейерхольд — человек с великим будущим. Однако здесь другое «но».
Но со сцены повеял холодный жар великого искусства, подобно тому как в далёкой юности повеял ночной туман замка Эльсинор, и Призрак явился из мрака, и потрясённый Гамлет воскликнул: «Так, старый крот! Как ты проворно роешь!» — и озноб пробегал по телу будущего великого драматурга... И здесь под свист ветра за стеной зажигают свечи, раскладывают лото, пьют пиво...
— Не помню, — говорит Станиславский — Тригорин, глядя на чучело чайки. — Не помню!
Это он сказал хорошо: с высокомерным и легкомысленным презрением ко всему, что он не есть сам. Звонит колокол, звук разбитого стекла в двери, сильно притворенной ветром, люди играют в лото... и раздаётся выстрел...
Он создал пьесу, и люди её поняли. В Ялте «Чайку» показали дважды. На последнем спектакле, которым заканчивались гастроли, творилось нечто такое, о чём вспоминаешь как о происходящем во хмелю. Маша ослушалась его, кажется, впервые в жизни: несмотря на категорический запрет, привезла из театра домой подаренные ему пальмовые ветви, перевитые красной муаровой лентой с надписью: «Антону Павловичу Чехову, глубокому истолкователю русской действительности. 23 апреля 1900 г.».
XXV
В Москве на каждом углу продавали портреты президента Крюгера[72]. В сыром, заросшем тополями и крапивой дворе у Никитских ворот бродячие музыканты собрали толпу горничных и кухарок. Мужчина в тёмном пальто играл на скрипке, девушка в голубом платье перебирала струны арфы и пела:
Трансвааль, Трансвааль, страна моя, Ты вся горишь в огне...Слушали с русской бабьей жалостью и жалели, конечно, не каких-то неведомых буров, а самих музыкантов. Приговаривали: «Горький народ... От сытости не заиграешь...»
Эпизод для новой пьесы. В финале, когда у сестёр драма.
Слушали и из окон дома. Окно Ольги было закрыто, из-за чуть отдернутой занавески он увидел тёмное платье и белый офицерский мундир. Поднялся, позвонил, открыла сама артистка. Поцеловала, обдав парижскими ароматами, сказала озабоченно:
— Наташу отпустила на дворовый концерт. У меня дядя Саша. Он... Да, сам увидишь.
Брат её матери, капитан Зальца[73] стоял у окна, осунувшийся, с воспалёнными глазами. Торопливо кивнул и сразу же заговорил неприятно монотонным, как из музыкальной машины, голосом:
— Простой русский народ чувствует, где добро и где зло, потому что живёт честным тяжким трудом, а я и подобные мне — паразиты, живущие за счёт народа. Я гублю свою душу праздностью и пороками. Müβiggang ist aller Laster Anfang[74]. Вы читали «Воскресение»?
— Разумеется, Александр Иванович. Даже первый рукописный вариант. Он был хуже.
Чуть было не сказал: ещё хуже.
— Хуже? У Толстого? Может быть, если с точки зрения литературной критики, но как можно критиковать Библию? Священное Писание? Я напишу... Я соберу людей. Мы потребуем включить «Воскресение» в состав Библии.
— Дядя Саша, — остановила его Ольга, — не богохульствуй.
— Да, Оленька, я, наверное, сказал не то. Но это же великий роман! Обо всех нас, губящих себя в этом содоме. Обо мне!.. Это я погубил столько таких девушек, как Катюша Маслова! Оля, помнишь, была у меня Марта?..
— Дядя Саша, не надо об этом.
— Они поют о Трансваале. Я хотел ехать туда, англичане — извечные враги России. Посмотрите, как слушают их женщины. Русский народ всегда понимает, на чьей стороне правда. Потому что народ живёт трудом. А я не работал ни разу в жизни, жил в семье, которая никогда не знала ни труда, ни забот. Когда приезжал домой из корпуса, лакей стаскивал с меня сапоги.
— Однако в Китае Россия и Англия союзники, — напомнил Чехов газетные новости.
— Да! Китай! Подло и противно. Оля...
— Что, дядя Саша?
— Оля!
— Подожди. Сейчас придёт Наташа. Она там, во дворе.
— Куда ты спрятала мой револьвер?
— Никуда я его не прятала. Он так и лежит в столике.
— Вам сейчас не нужен револьвер, Александр Иванович.
— Да. Разумеется. Вы, Антон Павлович, небось думаете: расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский. У меня и отец был православный.
— Александр Иванович, вы принадлежите к лучшей, передовой части русского офицерства. Помните, во время прошлогодних студенческих демонстраций в Петербурге офицеры защищали студентов от полиции? Я убеждён, что и вы поступили бы точно так же.
— Да. Разумеется. Но где они у нас, передовые офицеры? Пьянство, карты, непотребные женщины. Толстой в «Воскресении» написал о нас правду. Он ещё не всё знает. Наш знаменитый генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, с женщинами дела не имеет — он удовлетворяется мужчинами.
— Дядя Саша!
— Ты актриса и должна знать всё. Почему она так долго не идёт? Музыкантов уже нет на дворе.
Он устало повалился на стул.
— С соседками судачит. А что там в газетах, Антон Павлович? Что-то о Китае вы говорили. Я почти не читаю газет — спектакли и репетиции.
— Восстание боксёров в Китае.
— Они неверно переводят, — вскинулся капитан. — Это не боксёры. И хэ цюань — это кулак, поднятый в защиту справедливости и согласия. Великие державы заключают союз, чтобы совместно подавить это народное восстание. Там и Россия, и Англия, и Германия... Русские офицеры, которые защищали шашками студентов от полиции, теперь этими же шашками будут рубить несчастных китайцев. Оля!
— Антон Павлович, а вам не очень нравится «Воскресение»? — спросила Ольга, словно не замечая беспокойства капитана.
— Роман прекрасно написан, однако всё, что касается Нехлюдова и Катюши, мне представляется неудачным, а в первом варианте было ещё неудачнее: Нехлюдов и Катюша сочетаются счастливым браком.
— У Антона Павловича резко отрицательное отношение к браку, — сказала Ольга с тем железным отзвуком в голосе, который уже начинал раздражать.
— У меня резко отрицательное отношение к ханжеству. Особенно к литературному ханжеству.
Хлопнула дверь, простучали каблучки в коридоре, и капитан встрепенулся:
— Пришла!
— Иди к ней и скажи, что я приказала.
Александр Иванович поспешно вышел. Ольга тяжело вздохнула.
— Давно? — спросил Чехов.
— Третий день меня мучает. Не знаю, что делать.
— Рефлексия заела. Водки надо меньше пить. Я зашёл сообщить вам, великая актриса земли русской, что в связи со скорым возвращением в Ялту приглашаю вас вечером к себе, поскольку Марья уходит чуть ли не на всю ночь.
XXVI
Суворин был в Москве, звал и ждал, и он поехал к нему в «Славянский базар». Пьеса на бумаге ещё не начата, но постепенно уже захватывала мысли. Эпизод с капитаном слишком сумбурен, чтобы ввести нечто подобное в пьесу, но в нём чувствовалось что-то значительное. Конечно, придумать можно всё, что угодно. Например, сюжет об офицере, защищавшем студенческую демонстрацию и погибшем от рук жандармов. Его будут хоронить, публика в театре изойдёт слезами и аплодисментами. Если, конечно, цензура пропустит. Или пьесу о русском офицере, сражающемся на стороне буров. Такое и цензура пропустит, и аплодисменты будут.
Но искусство не придумывается. Оно существует в хаосе жизни, и надо его найти и извлечь, пользуясь тем тончайшим инструментом, что дала тебе природа. Назовите его как угодно: интуиция, вкус, талант, подсознание. Он существует, этот инструмент, и его не подменишь хитрым придумыванием.
Надо обязательно понять, почувствовать, может быть, вспомнить нечто важное, прообразное, связанное с истерикой капитана Зальца, найти слова для выражения найденного.
Майский ветерок так обещающе ласкал и приглашал куда-то, что сразу решили ехать на прогулку. Сначала на Новодевичье, на могилу Павла Егоровича. Потом гуляли по берегу Москвы-реки. Нежаркое солнце клонило в дрёму, сонно журчала зелёная вода.
— Алексей Сергеевич, как вы думаете, есть черти или нет?
— А чёрт их знает, может, и есть.
— А Бог есть?
— А чёрт его знает, может, и есть. Лучше расскажите, голубчик, что у вас с Марксом?
— Третий том идёт.
— Он хорошо издаёт. Мои бы так не смогли. Сам работаю как вол, а других заставить не могу — нету характера, голубчик. А с деньгами как?
— Осталось двадцать пять тысяч. Марья хотела вложить в железные дороги, но мне отсоветовали: экономический спад.
— Правильно отсоветовали, голубчик. В Китае и тот...
К солнечно-зелёной сонной тишине прикоснулся сложный бравурный звук, за ним ухнул далёкий барабан. Оглянулись: на плацу сверкало, играло, ритмично покачивалось. Там уже толпились и зрители: мальчишки, нянечки с малыми детьми и любопытствующие бездельники. Подошли и они.
— Александровцы, — сказал Чехов.
Юнкера маршировали под оркестр и песню. Запевала был горласт и музыкален:
Там бел-город полотня-аный, Морем улицы шумя-ат, Позолотою румя-аной В небе маковки горят. Взвейтесь, со...Строй подхватывал слаженно и грозно:
Взвейтесь, соколы, орла-ами, Полно горе го-оревать. То ли дело под шатра-ами В поле лагерем стоять...— Не мешает ли вам, голубчик, что вы продали свои сочинения?
Он, кажется, начинал понимать себя, свои чувства: сожаление о давнем прошлом, о жизни на Истре, когда он дружил с офицерами батареи Маевского. Не грусть об ушедшей молодости — эту банальную меланхолию он старался не пускать себе в душу, — а сожаление о том, что теперь нет рядом тех офицеров. Их вообще теперь нет, в чём-то убеждённых, во что-то верящих, стремящихся всегда и во всём поступать благородно. Маевский был влюблён в некую даму из Воскресенска и стеснялся изменить жене. В его батарее оказался солдат с тяжёлым желудочным заболеванием, не позволявшим есть солдатскую пищу, и командир батареи кормил его на свои деньги, а потом попросил Чехова устроить солдата в больницу.
— Не мешает, Антон Павлович?
— Что не мешает?
— То, что вы продали свои сочинения.
— Конечно, мешает. Писать не хочется.
Юнкера, сделав круг, уходили с песней:
Закипит тогда войно-ою Богатырская игра-а, Строй на строй пойдёт стено-ою, И прокатится «ура!»...Те офицеры, о которых он вспоминает, исчезли, ушли, как эти юнкера.
— Они уходят, Антон Павлович.
Офицеры, командовавшие строем александровцев, шли по обочине, рядом с пешеходной дорожкой. Один из них, похожий на Лермонтова, обгоняя Чехова, сказал другому: «Попался бы мне этот жид, или армянин, или кто он там, я бы его шашкой пополам разделил, а адвокатишку подстрелил бы, как вальдшнепа...»
— Да. Они уходят.
Песня прекратилась, юнкера удалялись под звуки печального марша. В его пьесе под музыку уйдут офицеры, те офицеры, из прошлого. Уйдут — и сёстры останутся в гибельной пустоте, как Александр Зальца, как он сам, как вся Россия, если из неё удалить мысль, совесть и честь.
XXVII
Вечером пили с Ольгой вино и ели шоколадные конфеты. Он рассказал ей о Суворине, как тот говорил о Боге: «Чёрт его знает, может, и есть». Ольга смеялась.
— Суворину чертей надо опасаться, — сказал он. — Они его в аду поджаривать будут за то, что всю жизнь лгал и писал плохие романы.
— А у меня для вас есть кое-что интересное, — сказала Ольга со сложной актёрской улыбкой — и насмешливой и смущённой. — Помните, дядя Саша утром говорил гадости о великом князе Сергее Александровиче? А мама на днях беседовала с его супругой — великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, и та сказала, что Сергею Александровичу очень нравится «Чайка».
— Кстати, как он? Не Сергей Александрович, а Александр Иванович, конечно.
— Выпил водки, пообедал, объявил, что его долг — служить отечеству, и уехал в лагерь, в свой полк.
— В поле лагерем стоять.
В дверь позвонили, горничная, конечно, была отпущена, и он сам открыл. Ему растерянно улыбалась Лика в роскошной шляпе, в светлом платье с поясом, с букетом нарциссов. Наверное, он не сумел скрыть досаду, улыбка её исчезла, лицо сразу постарело и приобрело выражение, с каким обычно сообщают неприятные известия.
Он вежливо приветствовал гостью, пригласил войти, предупредил, что не один.
— А Маша?
— Если букет предназначен ей, вам придётся его унести — она будет поздно.
Вошли в комнату, и дамы приветствовали друг друга дипломатическими поклонами. Он пригласил гостью за стол, предложил вино, объяснил, что обсуждается роль в его новой пьесе.
— Простите, я не знала, что Маши нет, — сказала Лика. — Проводите меня, Антон Павлович.
У двери сказал ей:
— Я всегда рад видеть вас, Лика.
— Я тоже, но без ваших невест. А букетом подметите пол, когда уйдёт ваша немка...
Ольга одарила вопросительно-проницательным взглядом.
— Не предупредила Марью, что придёт, и получилось неловко, — объяснил он случившееся безразлично-спокойно.
— А мне показалось, что она пришла к вам.
— Разве? Кстати, я придумал реплику без слов для вашей роли в моей пьесе.
— Почему она так ужасно одевается? Зелёный пояс... Она, кажется, поёт? Выступает в концертах? И так одевается.
— Она не выступает. Голос у неё есть, но что-то с нервами. На сцене, перед залом, ею овладевает странная робость, она теряет голос и не может петь.
— И что же вы для меня придумали?
— Трам-там-там!
— Не понимаю.
— Вы — замужняя дама, влюбляетесь в женатого офицера и для того, чтобы договориться о свидании, придумали тайный пароль. Вы говорите ему: «Трам-там-там», и он всё понимает.
— Тогда трам-там-там...
XXVIII
Осенью он привёз в Москву готовую пьесу для театра и томительное беспокойство Маше. Летом в Ялте она видела, как изменились отношения его с Ольгой. То, что происходило тогда у них, принято называть медовым месяцем, и при чужих они уже были на «ты», он звал Ольгу «Милюсей», «моей актрисочкой»... Потом Ольга сама написала ей из Москвы: «Ехали мы отлично с Антоном, очень мягко и нежно простились. Он был сильно взволнован; я тоже. Когда поезд тронулся, я заревела, глядя в ночную тьму. Жутко было оставаться одной после всего пережитого за этот месяц. А дальше как всё страшно, неизвестно». Вот и самой Маше страшно, неизвестно.
Вечером он собирался в театр, а она спросила:
— Что ты собираешься делать?
— Я же тебе говорил: иду к Станиславскому договариваться о читке пьесы.
— Ах, пьеса... Я не об этом.
— О чём же ещё? Других дел у меня нет.
— Я думаю...
Он знал, о чём она думает, но говорить об этом не следовало.
— Не надо сейчас думать. Вот пройдёт читка, поговорю с режиссёрами, с актёрами...
— Я думаю, что сегодня очень плохая погода для твоих лёгких.
— Погода знакомая — ялтинская.
Шла «Чайка». В Каретном ряду у театра с обеих сторон вереницы пролёток. Яркая пыль мороси вокруг газовых фонарей. У входа и у касс, в голубой полосе света движущаяся, шумящая, суетящаяся толпа. Просят билеты, предлагают букеты, разыскивают знакомых, кричат: «Сегодня в театре будет Горький! Ура!.. И Чехов!..», «Господа, не верьте: Чехов в Ялте!..»
Сосредоточившись, не глядя по сторонам, пробирался он через толпу, но ему перегородило путь женское меховое манто. Он поднял взгляд и увидел счастливую улыбку Елены Михайловны Юст.
— О-о! Cher maitre! Какое счастье! Как вы? Надолго в Москву?
— Вы в театр? Пойдёмте со мной.
— Вы знаете, что с вами я готова на край света и даже в Австралию, а сейчас — увы. Приходила за билетами для знакомых. Они специально приехали из-за границы. А вы знаете, я недавно познакомилась с Лидией Стахиевной. Мы так много говорили о вас.
— Представляю, что вы говорили. То-то у меня был страшный приступ икоты, и пришлось приглашать врача.
— О вас только хорошее.
— Как о мёртвом? Покорно благодарю.
— Когда мы встретимся?
— Увы: уезжаю в Ялту.
Следовало её остановить, сказать что-то хорошее, важное, но он не знал, что они не встретятся больше никогда.
В театре в директорской ложе сидел Горький в тесном костюме, похожий на провинциального актёра. Конечно, последовали лобызания и восклицания:
— Этот замечательный театр — ваш театр, Антон Павлович! Который уже раз смотрю эту «Чайку» и каждый раз плачу, грешный человек. Не работать для такого театра — преступление. И я тоже осмелился: пишу пьесу.
— Напишете — покажите. Я — стреляный воробей: подскажу что-нибудь. О чём пишете?
— Как-то даже и не знаю, как объяснить. О людях. Но о разных. Хочу научиться обижать людей.
— Зачем же обижать?
— Чтобы не прятались от жизни, от борьбы. А то иные боятся, что в борьбе погибнет культура, исчезнет совершенный человек. Теперь и не нужен совершенный человек. Ныне нужен боец, рабочий, мститель... Вот в «Песне о Соколе» я...
— Извините, Алексей Максимович, я должен идти к начальству, к Станиславскому.
Он прошёл за кулисы во время первого действия, когда шёл эпизод после пьесы Треплева. Здесь в ожидании своего выхода стоял Мейерхольд — Треплев. Увидев Чехова, просиял, потянулся к нему, спросил о здоровье, о новой пьесе, о роли для себя.
— Для вас обязательно, Всеволод. Большая роль. Влюблённый офицер, немец, в очках, и любит философствовать. На днях буду читать.
— Вы знаете, что наша «Снегурочка» провалилась?
— Да. Я предупреждал Станиславского, что эта пьеса не для вашего театра. Да и время не то. Один писатель сказал мне, что сейчас надо обижать людей.
— Людей сейчас обижают достаточно, но если ещё и искусство будет обижать людей, то... то это не искусство. А в «Снегурочке» хорошо показался наш новый актёр Качалов[75]. Прекрасно читал Берендея.
Под сценой уже изобразили вой собаки, сказал свою реплику учитель: «А сколько жалованья получает синодальный певчий?», и за кулисы вышли и Станиславский, и Ольга, и Лилина, и все остальные, кроме Вишневского — Дорна, который хорошо говорил свой текст: «Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошёл с ума, но пьеса мне понравилась...»
Станиславский раскрыл объятия Чехову, сделал приглашающий жест. Мейерхольд собрался, печаль, боль уязвлённого самолюбия, досада на преследующую его Машу тенью легли на лицо. Быстро вышел на сцену, сказал: «Уже нет никого». Его выразительный голос хотелось слушать и слушать, но Станиславский ждал.
Договорились, что «Три сестры» читаются завтра днём. Шум аплодисментов возвестил антракт. Чехов собирался пройти в ложу, но остановился, едва открыв дверь служебного входа: в коридоре возле директорской ложи бушевала толпа зрителей. Кричали: «Горько-ва!.. Горько-ва!..» Прозвучало и «Чехова!», но едва слышно.
Дверь ложи отворилась, вышел Горький и заговорил резко и грубо:
— Что вам от меня нужно? Чего вы пришли смотреть на меня? Что я вам — Венера Медицейская? Или балерина? Или утопленник? Нехорошо, господа! Вы ставите меня в неловкое положение перед Антоном Павловичем: ведь идёт его пьеса, а не моя. И притом такая прекрасная пьеса. И сам Антон Павлович находится в театре. Стыдно. Очень стыдно, господа!
Чехов поспешил вернуться за кулисы. Там стоял возмущённый Немирович-Данченко.
— Лохматая молодёжь нашла нового кумира, — сказал он. — Не понимают, что лучшие этические и эстетические идеи жизни выше и более необходимы людям, чем торопливые отклики на происходящие события.
— М-да... Чехов и Короленко, Чехов и Потапенко, теперь — Чехов и Горький...
XXIX
Он знал, что лучше, чем «Чайка», пьесу написать невозможно. Знал также, что «Три сестры» — его шедевр и лучше он тоже ничего написать не сможет. Но главное, что он знал, — его пьесу на читке не поймут. Несценично, неинтересно, вяло, нет действия, нечего играть. Может быть, скажут другими словами, но именно это.
К счастью, кашель не донимал, и если он и не смог долго заснуть в эту ночь, то лишь потому, что обдумывал, как вести себя на читке. Никто не поймёт, что три сестры — это Надежда России, её Вера и Любовь.
«Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три. Само собою разумеется, вам не победить окружающей вас тёмной массы; в течение вашей жизни мало-помалу вы должны будете уступить и затеряться в стотысячной толпе, вас заглушит жизнь, но всё же вы не исчезнете, не останетесь без влияния; таких, как вы, после вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством».
В пьесе это говорит мечтательный влюблённый болтун, однако в его словах, как в бормотании пушкинского юродивого, — истина. На читке это не поймут, тем более что он не умеет хорошо читать свои вещи. Что же предпринять, как поступить, чтобы непонятную пьесу с радостью приняли и талантливо поставили? И он придумал: надо сделать её ещё непонятнее. Чтобы даже Немирович и Мейерхольд не поняли. А затем легко убрать самое непонятное, и театр, облегчённо вздохнув, возьмётся за работу.
Пришёл в театр мрачный, готовый к неприятным отзывам на пьесу. Действие происходило в фойе за большим столом, покрытым сукном. Чем больше слушающих, тем труднее читать, а Станиславский собрал не только всех актёров, но и вообще всех работников, наверное, даже и сторожей. Короткий взгляд на них из-под стёкол пенсне — и начал:
— Пьеса скорее... М-да... Скорее даже комедия. Почти водевиль в четырёх действиях. Называется «Три сестры». Действующие лица...
Как он и предполагал, к концу чтения все были разочарованы: комедия, в которой ничего смешного, в финале героини плачут, прощаясь с друзьями и любимыми! Искоса взглянул на Ольгу: глаза полны слёз. Первым вскочил Дарский и заговорил возмущённо, громко, с сильным армянским акцентом:
— Я прынцыпыально не согласен с вами, Антон Павлович, что это водэвиль, но пьесу можно доработать и поставить... Поэтому надо убирать одну сестру...
Чехов поднялся и, слушая, вернее, не слушая, прохаживался по фойе, отходя как можно дальше от стола. Старик Артем сказал, что это не пьеса, а всего лишь схема. Молодой любимец всей труппы Москвин сказал, что любую пьесу можно сыграть как водевиль.
— И «Гамлета»? — спросил кто-то.
— А «Гамлет» и есть самый-то водевиль. Беру, например, монолог: «Пить или не пить...»
У него в руках появилась бутылка пива, и общий хохот несколько разрядил тягостные раздумья разочарованных актёров.
— Господа, — призвал к порядку Немирович, — мы занимаемся серьёзной работой.
— Голубчик, Антон Павлович, — запищала Роксанова, — мы не знаем, как играть эти роли, этих сестёр...
— Там же у меня всё написано.
Немирович во время чтения много писал и, выступая, смотрел в свои записи:
— У меня много предложений. Во-первых, в роли Маши надо убрать повторяющуюся суворовскую цитату: «Туртукай взят, и я там...» Пожалуйста, придумайте что-нибудь другое, Антон Павлович. Во-вторых, прощание Тузенбаха с Ириной надо передвинуть к началу акта. В-третьих...
«В-третьих» Чехов уже не слышал: сумел незаметно открыть дверь и выскользнуть. Дома встретила Маша с тем же непреходящим беспокойством в лице, в голосе, во взгляде.
— Ну как? Ну что?
— Кое-что придётся поправить, но главное...
— Что главное, Антон?
— Главное, Маша, ты должна улыбаться. Улыбка так тебя красит.
— Как-то не до улыбок. Всё новые заботы. — И в дверь позвонили, подтверждая наличие забот. — Вот видишь, кто-то пришёл.
Пришёл Станиславский успокаивать расстроенного автора. Чехов таким и казался: усталый, жёлтый.
— Антон Павлович, вы напрасно так поняли...
— Чего уж там понимать? Я прынцыпыально не согласен...
Станиславский театрально смеялся, но тоже был не согласен с автором:
— Не получится водевиль, Антон Павлович.
— Мне казалось, что я написал весёлую комедию, но я верю вашему вкусу и опыту... И Владимир Иванович подсказал много полезного. Кстати, я уже придумал, чем заменить суворовскую цитату. Маша будет говорить из Пушкина: «Златая цепь на дубе том...»
— Вот и чудесно. Вносите поправки, и начнём репетиции.
Ушёл Станиславский, и вновь над братом и сестрой сгустился невидимый чёрный туман беспокойства и недоверия. Нависали вопросы, которые лучше не задавать, чтобы не слышать опасных ответов, но неведение было ещё страшнее, и Маша спросила вновь:
— Антон, что ты думаешь делать?
— Разве я тебе не говорил? Сделаю поправки в пьесе и уеду в Ниццу.
— В Ниццу?! Один?
— Ты хочешь поехать? Нельзя же маму оставить в Ялте одну.
— Да, разумеется.
— А ты пригласи в Ялту Букишона. Пусть поживёт у нас. Ему сейчас тяжело. Кажется, развёлся с одесской женой и сидит без денег. А он на тебя так смотрел весной.
— Антон! О чём ты?
И Маша наконец улыбнулась.
XXX
«Правду кто-то сказал: век начался Карамзиным, кончается Максимом Горьким. Горько!..»
Газета «Гражданин», 4 января 1901 г. Ошибался недалёкий журналист. Старый век закончился, начался новый, двадцатый, 31 января, вдень премьеры спектакля «Три сестры» в Московском Художественном театре.
В финале военный оркестр надрывал сердце маршем отчаяния, уходили офицеры, навсегда покидая сестёр, Веру, Надежду и Любовь России. Вместе с радостью, подаренной великим искусством, тяжкая непонятная тоска овладевала душами, и никто ещё не знал, что это предвидение, предчувствие грядущей российской катастрофы.
Если бы знать...
САД 1901-1904
I
ить — до последней секунды, и каждое движение, каждый поступок — для жизни, и каждая мысль только о жизни.
Он ошибся непоправимо, когда в мае 1901-го доктор Шуровский нашёл у него не только притупление в верхушках лёгких, как было прежде, но и распространение спереди ниже ключицы, а сзади — захват верхней половины лопатки.
— Вы сами врач, Антон Павлович, — сказал Шуровский.
Майский ветерок больше не веял надеждами, и пришло самоубийственное решение: теперь для него главное не жизнь, а приближающаяся смерть, и во всех своих действиях надо исходить только из этого. Пришли уныло-молитвенные мысли об исполнении какого-то непонятного, кем-то придуманного человеческого долга, зазвучали казённые, жестяные слова: семья, дети, наследство, завещание...
Даже христианство — высшее достижение человеческого духа — не считает брак обязательным. И сам он мыслил трезво и смело, когда знал, что в жизни главное — это сама жизнь.
Насмехался над обязательным еженощным появлением жены, подобным восходу луны на небосклоне. Писал о мужьях, таскающих тайком наливку из буфета; о милых прозвищах, которыми награждают их жены, — аспид, чучело, идол, антихрист; о детях, ползающих по кабинету и бьющих ложками в медный таз; о бесплодных усилиях воспитания — будут хорошо жевать, чистить зубы, умываться холодной водой, гулять по два часа в день, и всё же выйдут из них несчастные бездарные люди, а родители будут с горечью восклицать: «Было такое поэтическое венчание, а потом — какие дураки, какие дети!»
Андрей и Наташа в его «Трёх сёстрах» — это счастливый вариант романа Андрея Болконского и Наташи Ростовой. Толстовская Наташа «могла выйти большими шагами из детской с радостным лицом и показать пелёнку с жёлтым вместо зелёного пятна», а Наташа из его пьесы мучает мужа и зрителей разговорами о своём ребёнке: «Он такой милашка, сегодня я говорю ему: «Бобик, ты мой! Мой!..» «Жениться не нужно, — с горечью говорит её муж. — Не нужно, потому что скучно». Полковник Вершинин поддерживает его: «Если бы начинать жизнь сначала, то я не женился бы... Нет, нет!» А старый циник доктор Чебутыкин даёт «счастливому» мужу мудрый совет: «Знаешь, надень шапку, возьми в руки палку и уходи... уходи и иди, иди без оглядки. И чем дальше уйдёшь, тем лучше».
А он, предназначенный природой для того, чтобы сочинять великие пьесы, решил, что должен готовиться к смерти и быть таким, как все. Семнадцатого мая Шуровский произвёл роковой осмотр, а двадцать пятого мая состоялось венчание с Ольгой. Третьего августа, после мучительных разговоров с женой и сестрой, написано письмо-завещание:
«Марии Павловне Чеховой.
Милая Маша, завещаю тебе в твоё пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драматических произведений, а жене моей Ольге Леонардовне — дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей...»
Оставалось только умереть, а жизнь требует жизни до конца, до последней секунды!
II
ИЗ ДНЕВНИКА В. А. ТЕЛЯКОВСКОГО, ДИРЕКТОРА ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ
«13 марта 1902 г. Присутствовал в Михайловском театре на представлении «Три сестры» Чехова. В театре были государь император, госуд. императрица и вёл. кн. Владимир и Сергей Александровичи, вёл. кн. Елизавета Фёдоровна, Ксения Александровна и Мария Георгиевна. Спектакль прошёл очень хорошо. Театр был полон. Прекрасно пьеса разыграна и особенно поставлена — режиссёрская часть очень хороша».
Задолго до начала спектакля, едва открыли двери фойе, как к директору в кабинет явился старый приятель по службе в гвардии Вонлярлярский. Горячо приветствовал, спросил, как себя чувствуют балерины под полковником Теляковским.
— Неужели, Вольдемар, в Академии генштаба ты проходил специальный курс? Знал бы — и я пошёл бы учиться.
— Саша, у меня ни минуты — высочайшее присутствие. Государь, государыня, великие князья...
— Потому и зашёл. Ты же будешь у них в ложе торчать — надо посмотреть за Александром Михайловичем. Идёт интрига против нашего дела.
— Саша, я ничего не знаю. Мне кажется, что его высочество с вами вместе.
— Он — наш, но Ноздря Витте мог его запутать. Он может отказаться от нас. Всё шло хорошо. Китайское восстание помогло — мы прочно утвердились в Маньчжурии, а теперь Ноздря готовит договор с Китаем и хочет вывести наши войска. Продаёт Россию на каждом шагу.
— Саша!
— Подожди. Ещё есть полминуты. Пойми — всё зло от Ноздри, от его польско-жидовской справы, которую он развёл на Маньчжурской дороге. Я тебя прошу: слушай и смотри. А что сегодня за пьеса? Чехов — наш человек?
— Я просматривал старые дела — покойный государь любил его водевили. Артистка Книппер — его жена. Близка к великому князю Сергею Александровичу. И на сем примите мои уверения...
— Зайду после спектакля. Слушай и смотри.
Директор направился к парадному входу, но в коридоре на него налетел возмущённый Немирович-Данченко. Это было настолько не похоже на обычное корректное поведение режиссёра, что Теляковский остановился.
— Я прошу вас, милостивый государь... Я, наконец, требую...
— Владимир Иванович, я иду встречать его императорское величество.
— Я готов пойти с вами! Я готов обратиться к государю!
— Владимир Иванович, это не ваше амплуа. Я понимаю, чем вы так возмущены, однако посудите сами: только что объявлено об отмене по высочайшему повелению избрания Горького в Академию, а в Петербурге на императорской сцене идёт премьера пьесы Горького «Мещане». Но чтобы вы не мешали мне работать, я дам вам совет. Вернее, назову фамилию: Витте. И на сем примите уверения...
Немирович постучал в уборную Книппер, и ему разрешили войти. Ольга Леонардовна была уже почти готова — поправляла укладку причёски.
— В каком настроении сегодня Маша Прозорова?
— Влюблена по уши в одного женатого полковника.
— Вы знаете, что будут их величества?
— Знаю. Я их не боюсь. После прошлогоднего визита к нам за кулисы госпожи Яворской я никого не боюсь. Она тогда и вас чуть не убила букетом.
— До сих пор сплетничают, что вы подрались из-за Чехова.
— Боже! Какая глупость. Она же княгиня.
— Да. Я разговаривал кое с кем по поводу «Мещан».
— Неужели разрешат? Это было бы замечательно. У меня такие туалеты пропадают.
— Мне подсказали пароль: Витте. Надо как-то с ним встретиться.
— Не с ним, а с ней — с его супругой. Она любит покровительствовать. Попробую найти общих знакомых.
— Сделаем генеральную репетицию — на это разрешение не требуется — и пригласим Витте с супругой и вообще высший свет...
После спектакля Вонлярлярский терпеливо ждал, пока Теляковский участвовал в поздравлениях актёров и в церемонии проводов высочайших посетителей. Дождавшись, перехватил утомлённого директора в фойе:
— Что скажешь, Вольдемар?
— Саша, я ничего не понимаю в ваших делах. Великий князь о чём-то говорил, что-то просил, уговаривал, но я не знаю...
— Как государь слушал? Что ответил? Вольдемар, мы с тобой настоящие русские офицеры, а не чеховские болтуны. Наш долг перед государем и Отечеством...
— Знаю, знаю. По-моему, государь не согласился. Сказал: «Я приказал Безобразову ликвидировать это дело, и передай ему, Сандро, чтобы он выполнил мою волю неукоснительно».
— Voyons[76], как говаривал Наполеон.
III
На Каме в июне прохладно, резкий ветер вздымает реку уродливыми буграми и бьёт в лицо холодными брызгами. Савва Морозов ёжился, вертел круглой, коротко подстриженной татарской головой, щурил узкие глаза и, когда ветер слишком донимал, предлагал перейти на другой борт парохода. Он был многословен, суетлив и, по-видимому, относился к тому сорту не очень здоровых людей, которые обязательно должны что-то делать, чтобы вдруг не задуматься спокойно о жизни и не убедиться, что жить не надо.
Говорил о Художественном театре, который он спасает от банкротства, о новом здании в Камергерском переулке, которое он строит и своими руками красит стены лучше любого маляра, и его слова, и беспокойные движения, и ветер, и шлёпанье пароходных колёс — всё это было счастливым спокойствием по сравнению с душной тишиной у постели больной Ольги.
— Шехтель строит бесплатно, — говорил Морозов. — Называл вас старым другом.
— Мы знакомы уже лет двадцать. Он учился вместе с моим покойным братом Николаем. Когда-то мы с Шехтелем жили на Истре и вдвоём ухаживали за одной девицей... М-да...
Была когда-то весёлая, бестолковая жизнь, и Дуня Эфрос... У них это называлось «тараканить».
— А у меня там, знаете, имение. Неподалёку от Новоиерусалимского монастыря. Приезжайте. Милости прошу. Франц Осипович — замечательный архитектор. Новый сезон начнём в новом здании...
За год, прошедший после венчания, он не написал ничего. Лишь закончил работу трёхлетней давности — рассказ «Архиерей», всего на лист, а писатель должен писать не меньше двадцати листов хорошей прозы в год. Жить, а тем более писать, можно только в одиночестве. У неё в марте был выкидыш, и Москвин возмущался: «Осрамилась наша первая актриса, от какого человека — и то не удержала». Вот тебе и человеческий долг, наследник. В апреле в Ялте её сняли с парохода с температурой тридцать девять градусов. В Москве, с мая, он, едва живой, задыхающийся от кашля, должен был неделями сидеть возле неё, сочувствуя её болям в животе, её слезам, её истерическим сожалениям о погибшей актёрской судьбе, о том, что Станиславский берёт вместо неё Комиссаржевскую...
Он не заметил, как Савва перешёл к гибели Художественного театра:
— Ещё один такой сезон, и театр погибнет.
— Вы слишком мрачно оцениваете прошлый сезон, Савва Тимофеевич. Хорошо прошли «Мещане», и новую пьесу Горького готовят.
— Как же-с. Участвовал-с. Нашей уважаемой Ольге Леонардовне сделал для спектакля три платья. Тысячу двести рубликов.
Тогда она была здорова и неприятно растягивала тонкие губы, рассказывая о Лике: «Представляешь? Пришла со своим животом и зелёным поясом экзаменоваться в Школу Художественного театра. Читала Тургенева «Как хороши, как свежи были розы», а Немирович дал ей монолог Елены из третьего акта «Дяди Вани» и сцену Ирины и Годунова. Понимаешь, почему он это сделал? Её, конечно, в Школу не взяли — четвёртый десяток. Определили статисткой...» Сколько ей самой было, когда её за что-то уволили из Школы Малого театра? И даже сейчас, во время болезни, узнав, что Лика вышла замуж за Санина, Ольга пыталась что-то выпытать у него, а он вяло и безразлично, будто не замечая её впивающегося взгляда, объяснял, что Лику знает давно, что девушка она порядочная и умная, что с Саниным ей будет не хорошо, она его не полюбит... И Ольга со странным торжеством рассказала, как после какого-то спектакля к ней пришли артисты, в их числе и статистка Мизинова, которая предложила ей брудершафт, а она вызывающе отказалась. Рассказав, смотрела на него, ожидая ответа, сжав губы так, что их совсем не стало видно — лишь прямой тонкий разрез над подбородком, а он предложил ей чаю: привык, мол, в Ницце пить чай в это время.
— Я надеюсь, Антон Павлович, только на вас, — продолжал Савва рассуждать о гибели театра. — Если не вы, то... хана.
— Послушайте, но я же ни в чём не участвую. У них разлад, актёры уходят. Вы все знаете лучше меня, сами составляли список пайщиков. Мейерхольд и Санин были в первом составе театра, а их вы почему-то исключили.
— Моё дело — стены красить и деньги платить, а с артистами Немирович и Константин Сергеевич разбираются.
— Но ведь список пайщиков вы составляли.
— Опять на нас холодом, как из могилы. Пошли на ту сторону, Антон Павлович. Я бы сам всех оставил. Все ребята талантливые, но у них там свои счёты. У Мейерхольда что-то с Немировичем было из-за пьесы. Вот здесь и солнышко пригревает, и выпить уже пора... Где-то мои немцы? В каюте греются.
Немецкие инженеры, которых он вёз к себе на завод, не интересовались пейзажами, большинство же пассажиров бродило, подобно ему и Савве, по палубе, выискивая местечко без ветра. На нижней палубе пели что-то тягучее с неразборчивыми словами.
— Такие песни Горький любит, — сказал Чехов.
— Горький — талант. Наш. Российский. Широкий человек. Берёт извозчика за двугривенный, а на чай полтинник даёт. Пришёл на стройку, а я его за мужика принял — он же в блузе своей. Ты чего, говорю, дядя, без дела стоишь? А ну за работу...
Теперь пошли рассказы о Горьком, об особой царской ухе, которую они варили на Волге, о грандиозном обеде у Тестова... Если бы не было Художественного театра и Горького, этот круглоголовый суетливо-энергичный миллионщик нашёл бы другую забаву — оперу, как Мамонтов, какого-нибудь художника, подобно своему брату Сергею, покровительствовавшему покойному Левитану. Не стал бы Савва Тимофеевич изгонять из театра из-за нерусских фамилий, тем более что Мейерхольд из немецкой лютеранской семьи, и вряд ли Савва знает, что Санин — это Шенберг.
— Давайте считать, Антон Павлович. Прошло четыре сезона. Первый — «Чайка», второй — «Дядя Ваня», третий — «Три сестры», четвёртый — ничего. И четвёртый сезон — провал. Если и нынче не будет Чехова, театр погиб. Убыток пятнадцать тысяч. Мой личный доход — шестьдесят тысяч в год. Иногда больше, даже до ста. Но пятнадцать тысяч и для меня чувствительно.
Театр содержит Савва Морозов, Левитана поддерживал Сергей Морозов, дягилевский журнал будто бы финансирует казна, декадентское издательство «Скорпион» содержит купец Поляков и оплачивает стихи и Бальмонта, и Брюсова, и какого-то Урениуса... Что-то странное есть в таком искусстве. Вот Чехов каждую свою копейку заработал сам. Так называемый покровитель ещё и нажился на нём.
— Я потихоньку пишу, Савва Тимофеевич, но то, что происходит в театре, как-то не вдохновляет. Напишу, а кто играть будет? Мейерхольд чудесно играл Треплева в «Чайке» — теперь дают молодому Качалову. Немировича можно понять — у него с Мейерхольдом конфликт. А почему вам Санин не понравился?
— Антон Павлович! Клянусь — не грешен. Это решение Немировича.
— А Станиславский?
— Что Станиславский? Это — гениальный ребёнок. Немирович сказал, что Санин тоже... А что «тоже»? Если хотите, я потребую их вернуть.
— Что вы, Савва Тимофеевич! Не буду я вмешиваться. Немирович опытный режиссёр. Вы не находите, что люди как-то вдруг изменились. Помнится, я плавал здесь на пароходе лет семь назад, и пассажиры выглядели другими. Шумели, громко говорили, спорили.
— Люди, они любят меняться...
И сейчас разговаривали, но негромко, оглядываясь, осторожно всматриваясь в чужих. Россия переставала верить самой себе. Говорили только со своими и словно шептались: не о театрах и не о бегах, а об убийствах министров, отлучении от Церкви Толстого, закрытии университетов, отмене избрания Горького в академики. Последняя тема особенно неприятна: придётся и самому выходить из Академии.
— Вот и мои немцы. Готовьте свой немецкий язык, Антон Павлович.
Появились двое почти одинаковых, упитанных, краснощёких, в парусиновых костюмах и шляпах. Умные крепкие молодые люди, знающие, что в жизни главное — это хорошо поработать и хорошо поесть.
— Расскажите им, Антон Павлович, кто вы, зачем едете со мной.
— Ich bin Schriftsteller Чехов. Wir fahren nach Всеволодо-Вильва. Dort... Die Schule namens Чехов...[77]
С трудом находил слова, чтобы объяснить об открытии школы имени Чехова. И язык плохо знал, и никак не мог избавиться от чёткой, как хорошая фотография, картины, возникшей в памяти: Немирович-Данченко, безукоризненно одетый, пахнущий одеколоном, прямо смотрит в глаза и говорит: «Санин и Мейерхольд не включены в состав сосьетеров по требованию Морозова. Да они и сами с удовольствием уходят». Последнее — неубедительной скороговоркой, счищая с рукава несуществующее пятнышко.
IV
В Москве было пасмурно и пустынно — по-видимому, революцию отложили до осени. Ольга пребывала в состоянии непроходящей радости — ей разрешили репетировать, а ненавистная Комиссаржевская остаётся в своём Петербурге. Однако она ещё еле ходила, поэтому, отъезжая в Любимовку, на дачу Станиславского, заставили извозчика ехать до вокзала шагом. Тот запросил вдвое и всю дорогу ворчал, что продешевил:
— Это ить я раза четыре уже сгонял бы...
— Если б я была здорова, я б тебе втрое заплатила, чтобы рысью нас промчал. — И, повернувшись к мужу, добавила: — Скоро я, дусик, буду бегать. Станиславский приедет — начнём репетиции. Лучше бы, конечно, твою пьесу, а не это «Дно». Я говорила Станиславскому, что опасно сразу после «Мещан» ставить «На дне». И ещё «Власть тьмы» они хотят. Люди бегут из нашего театра — никому не интересно всё время смотреть на серый люд. Скажут: воняет со сцены. Как ты думаешь, дусик?
— Я думаю, что никакого писателя Горького нет, а есть замечательный человек, необходимый для русской жизни. Придёт время, и писателя Горького перестанут читать, а Алексея Максимовича будут помнить и через тысячу лет. М-да... «Мещане» — это вообще не пьеса. Такие гимназисты пишут. И я когда-то в гимназии написал пьесу. А вот Мейерхольд...
— Да. Его жаль. Мы так уговаривали его остаться.
— А Санин?
— Обоих уговаривали.
— М-да... Мейерхольд хочет сделать настоящий театр в Херсоне — в городе совсем не театральном. Там ещё не выросли из пошлых опереток. Боюсь, что он провалится.
— Знаешь, дусик, его жаль, конечно, но вольно же ему было интриговать против Владимира Ивановича.
— А Санин?
— Ну, я не знаю. Этот... — И она неприятно замялась. — Против него был Морозов.
— М-да... Морозов.
Вишневский ждал их на перроне. Красивый, модно подстриженный, в элегантном костюме и плаще, он сиял, как человек, убеждённый в своём абсолютном превосходстве над окружающими, но достаточно добрый, чтобы быть снисходительным к этим окружающим. Ольга ещё издали заметила его улыбку и сказала:
— Сверкает всеми своими ста тридцатью двумя зубами.
— На вас точу, прекраснейшая Ольга Леонардовна. Жду, когда поправитесь, потолстеете, чтобы проглотить. Давайте все ваши вещи.
— Послушайте, Александр Леонидович, — сказал Чехов, — у нас всё это не тяжёлое: узелочки, пакетики. А, знаете, я опытным глазом заметил там, в буфете, немецкое пиво... Поезд ещё не подали.
Вишневский принёс две бутылки пива, подали поезд, сели в вагон для некурящих. Когда тронулись, вдруг в окна слева ударили неприятно контрастные под пасмурным небом лучи закатного солнца, и вагон рассекли поперёк полосы клубящейся золотистой пыли.
— Дусик, вот и солнышко нас провожает.
— Хорошая примета, когда уезжаешь в дождь, — угрюмо сказал Чехов.
— Александр Леонидович, выучили роль?
— У-у, — вдруг взвыл артист. — Злой баба — русский баба! Татарка нет! Татарка — закон знает!
На его щеках вздулись шарики скул, глаза сощурились в блестящие щёлочки.
Ольга хохотала.
— Точно Савва Морозов, — заметил Чехов.
— Похож? — спросил Вишневский. — Наверное, Горький о нём думал, когда «На дне» писал.
— Я в поездке много говорил с ним о театре.
— Смотри, дусик, вот и полянки пошли, и дачки...
— Не люблю уезжать из Москвы вечером. Грустно становится.
— Тебя сегодня, Антон, трудно развеселить. Покажите ему ещё что-нибудь, Александр Леонидович.
— Зачем карта прятать хочешь? Я вижу... э, ты! Сдавай ещё раз! Кувшин ходил за водой, разбивал себя... и я тоже!..
В Перловке в вагон вошёл знакомый — доктор Таубе. Увидев Чехова, обрадовался, подсел — и сразу о болезнях:
— Я ещё тогда советовал вам, Ольга Леонардовна, тёплые ванны и... другие процедуры...
— Юлий Романович, ради Бога, — взмолилась Ольга, — дайте отдохнуть от болезней. Вы до какой станции?
— До Тарасовки.
— Значит, вместе выходим.
— Читал вашего «Архиерея», Антон Павлович. — Теперь доктор обратился к нему. — Даже не читал, а изучал и перечитывал. Прекрасная вещь, заставляющая думать...
— Юлий Романович, ради Бога, — взмолился Чехов.
В Тарасовке поезд стоял недолго, и пришлось суетиться и спешить, чтобы успеть вынести вещи. На станции ждал экипаж из Любимовки. Попрощались с доктором и покатили.
В доме их ждали: светились окна и первого этажа, и три окна мезонина — второго этажа; на крыльце стоял тот самый лакей Егор, о котором предупреждал Станиславский: «Любит декламировать». Он и начал с декламации:
— Горячо выражаю радость по поводу приезда дорогих гостей, о которых был предварительно предупреждён. Жаль, что нынешняя погода не может способствовать в самый раз. Однако ужин готов. Как я был предварительно предупреждён, госпожа Ольга Леонардовна занимает покои на первом этаже, и там её горячо ожидает горничная Дуняша, вполне в соответствии, хотя и слегка ещё молода...
На ужин подали ветчину, и севрюжку, и молочное, и большое блюдо невероятно крупной клубники. Чехов попросил принести своё любимое немецкое пиво, но Егор его не нашёл. Пошли ему на помощь с Вишневским, но двух бутылок как не бывало — забыли в поезде.
— Это всё из-за доктора, — сказала Ольга.
Вишневский весело хохотал.
— Я знал, что так будет, — уныло произнёс Чехов. — Кажется, никогда так не хотелось пива, как сейчас.
— Дусик, но есть же вино, и минеральную воду я привезла. Съешь клубнички.
— Ничего не хочу.
За окнами темнело, на его душе темнело ещё быстрее.
— Я хотел тебе, Оля, ещё в поезде рассказать о разговоре с Саввой Морозовым. Он мне поклялся, что не имеет никакого отношения к уходу из театра Мейерхольда и Санина. Он уверял меня, что всё это сделано под диктовку Немировича. Сказал, что совершенно не понимает, чем Немировичу не угодил Санин. Это и я не могу понять.
— Почему это тебя так волнует, Антон? — Он различил в голосе Ольги холодную жесть неприязни, скрывающей страх, знакомую по её Аркадиной в «Чайке». — Что такое Санин? Без него театр не может существовать? И без его бездарной толстухи?
— М-да... Теперь я начинаю понимать, в чём провинился Санин.
— Что ты начинаешь понимать? Боже! У меня опять боли.
Она бросила серебряную ложечку, которой брала ягоды клубники, залитые сливками, и ложка, стукнувшись об угол стола, соскользнула на пол, испачкав Ольге платье. Егор, стоявший за её стулом, ловким движением положил рядом с её тарелкой другую ложечку.
— Злой баба — русский баба! — воскликнул Вишневский, и Ольга хмуро улыбнулась.
V
Дом стоит над самой Клязьмой — двадцать шагов, забрасывай удочку и таскай пескарей. Однако несколько дней шли непрерывные дожди. Часами сидели с Вишневским на веранде и говорили, конечно, о театре, о пьесе, которую все ждали.
— Если я не напишу пьесу к сезону, то виноват в этом Лев Толстой. Когда он зимой в Гаспре был при смерти, я приехал к нему, он попросил меня подойти поближе к его постели и наклониться к его лицу. Я думал, что попрощаться хочет, а он мне вдруг шепчет: «Шекспир писал пьесы плохо, а вы ещё хуже».
Отсмеявшись, Вишневский напомнил, что ещё в прошлом году Чехов говорил ему и Артему о ролях для них в новой пьесе.
— Да-да, — вспомнил Чехов. — Артем будет ловить рыбу, а вы рядом купаться в купальне. Это я придумал. Но всю пьесу не придумаешь. Надо... Если бы знать, что надо, каждый мог бы сесть и написать «Гамлета» или... «Дети Ванюшина». Не улыбайтесь, милсдарь: Найдёнов у нас единственный драматург[78].
Железный грохот дождя-водопада вдруг прекратился.
— Пескарей ловить или в парк? — спросил Вишневский. — Или, может быть, за пьесу?
— Послушайте, вас же Станиславский нанял за мной следить, чтобы я работал. Он в письме писал мне, что, «взобравшись наверх, мне никто не будет мешать». Читал мою «Жалобную книгу»? Так сколько же он вам платит? Доложите ему, что я работаю. Уже много написал. Целый, знаете ли, список действующих лиц.
Захрустели, заскрипели шаги на мокрой песчаной дорожке, застучали женские сапожки по деревянным ступеням крыльца, и появились милые соседки: юная художница Наталья Смирнова — пятнадцатилетнее дарование, и гувернантка её малолетних сестёр Лили Глассби — любопытное существо ростом всего метра полтора, но вмещающая в своё маленькое тело огромные чувства.
— Брат Антон, — воскликнула Лили, подпрыгнув перед ним и сделав сложный цирковой реверанс, — я принёс мороженое для тебе, но хорошо, если ты други тожа буду дать.
— Здравствуйте, милая сестрица. Когда же вы научитесь говорить по-русски? Заметьте, Александр Леонидович: английские гувернантки принципиально не хотят изучать наш язык. Это отмечено в моём рассказе «Дочь Альбиона». Читайте, милсдарь, собрание сочинений Чехова — это вторая после Пушкина энциклопедия русской жизни. Давайте, Лили, мороженое. Други тоже буду дать.
— Антон Павлович, готовьтесь к сеансу. Буду делать пастелью.
— Разумеется, Наташа. Не пьесу же писать в такую погоду.
VI
Всё же Станиславский оказался мудрым режиссёром, послав с ними Вишневского. Присутствие этого самодовольного гогочущего земляка вместо обычной лёгкой неприязни к актёрскому племени вдруг вызвало пока ещё лёгкий, но вполне ощутимый позыв к работе. Конечно, человеку, написавшему «Чайку» и «Три сестры», можно спокойно умирать — лучше уже не напишешь, да и жить довольно гнусно неизлечимо больному, непрерывно сплёвывающему кровавую мокроту в какой-то подлый специальный сосуд с крышкой. Он и собирался умереть, и многое этому способствовало, в том числе и «последняя страница жизни», добивающая его своими жуткими болезнями и приступами актёрско-женского самолюбия, которые требовали от других обязательного осуждения и Марии Андреевой, и Комиссаржевской, и Санина с его «толстухой»...
А Вишневский — таганрожец. Сидел за одной партой с братом Иваном. И толкнуло в сердце горячим и горьким, и стало жаль талантливого гимназиста Антона Чехова, верившего в свою звезду, написавшего великую пьесу, имевшего дом, родителей, братьев, сестёр и вдруг лишившегося всего, превратившегося в одинокого волчонка, ютящегося в бывшем родном доме, захваченном хитрым проходимцем. Появлялся какой-то ещё неясный замысел. Даже захотелось за письменный стол, но...
— Дусик, дождя нет, и я могу с тобой погулять.
И они гуляли под мокрыми после дождя деревьями, и Ольга говорила о шутке Станиславского, обещавшего заказать для своей дачи мраморные доски с надписями: «В сём доме жил и писал пьесу знаменитый русский писатель А. П. Чехов, муж О. Л. Книппер. В лето от Р. X. 1902»; «В сём доме получила исцеление знаменитая артистка русской сцены...» Добавим для рекламы: «...она служила в труппе Художественного театра, в коем Станиславский был актёром и режиссёром, О. Л. Книппер, жена А. П. Чехова».
— Тебе нравятся, дусик, такие надписи?
— Нравятся, но с одной поправкой: здесь жил и не писал пьесу Чехов.
VII
С утра было пасмурно и в небе над Клязьмой, и в душе. После завтрака сказал Вишневскому:
— Милсдарь, пора бы уж вам со мной рассчитаться за пиво, которое вы у меня стащили в поезде и выпили ночью тайком под одеялом.
— Я думал, вы не узнаете, Антон Павлович, а вы, оказывается, всё видите и слышите.
— Собираю материал для пьесы. А пивом будете угощать в «Альпийской розе» — там хорошее мюнхенское.
Приказали заложить экипаж, оделись, вышли, и сразу начались неприятности: у ворот стоял унылый, плохо одетый человек. Увидев его, Чехов немедленно вернулся в дом и попросил Вишневского:
— Голубчик, дайте этому субъекту шесть рублей. Я потом вам расскажу.
Субъект, по-видимому, остался недоволен, долго препирался с артистом, поэтому выехали с опозданием и едва успели на поезд. В спешке сели в курящий вагон, и все пассажиры немедленно задымили, словно только их и дожидались. Чехов тяжело закашлялся и не сказал, а простонал:
— Какие невежливые люди.
— Пойдёмте в другой вагон, — предложил Вишневский. — Здесь легко переходить. Я вам помогу.
— Напрасно, голубчик. Теперь у нас будет сплошное невезение. Всё началось с этого просителя. Перейдём в другой вагон — там пожар будет или ещё что-нибудь.
Всё же перешли в соседний вагон. Там не курили и пожара не было, но... немедленно появился контролёр. Вишневский предъявил сезонный, а Чехов смущённо оправдывался:
— Послушайте, мы же опаздывали...
— Господин пассажир! Пра-ашу... Извольте уплатить штраф в сумме трёх рублей.
Пришлось платить, и Вишневский вновь показывал свои сто тридцать два зуба.
— Это ещё не всё, — пообещал Чехов. — Ждите новых неприятностей.
— Хотите газету, Антон Павлович?
— Давайте. Вот увидите: сейчас открою, и обязательно что-нибудь раздражающее. Вот, пожалуйста: «Книжное дело в Петербурге. За первую половину 1902 года наиболее крупным тиражом выходили «Записки врача» Вересаева — 40 000 экз. и «Мещане» Горького — 30 500 экз. Лубочное издательство выпустило 285 000 экз. книг, среди которых преобладали песенники и разбойничьи романы». А вы требуете, чтобы я писал пьесу. Забирайте свою газету. Это была ещё не самая страшная новость. Я боялся, что опять какого-нибудь министра пристрелили. Но не успокаивайтесь, Александр Леонидович: нас ещё что-нибудь обрадует.
Едва вышли из вагона, как «обрадовал» дождь. Взяли крытый экипаж, скомандовали: «На Софийку», подъехали к зданию Немецкого клуба и на дверях «Альпийской розы» прочитали: «По случаю ремонта кухни ресторан закрыт».
VIII
Таганрогский чиновник и азартный картёжник Гаврила Парфентьич любил семью Чеховых едва ли не больше, чем глава семьи Павел Егорович. Младшенькую Машу считал своей дочерью, Евгению Яковлевну называл мамой, и когда разразилась беда — отец сбежал от кредиторов в Москву и нависла угроза продажи с торгов чеховского дома, — обещал сделать всё возможное, чтобы дом остался у них. Он вполне мог спасти дом — работал в коммерческом суде. Вполне мог добиться отмены торгов и выкупить дом за небольшую сумму для того, чтобы Чеховы остались хозяевами. Он и выкупил за небольшую сумму, но для себя. Пришёл к ним пьяный не столько от водки, сколько от радости и кричал: «Я купил!.. Мой дом!.. Я хозяин!..»
Шестнадцатилетний Антон потерял и родной дом, и веру в людей. С тех пор он никогда ни от кого не ждал никакой помощи, а что он пережил, оставшись без дома и без родных, покинувших его одного в Таганроге, не знает никто. Не знают и удивляются, откуда под крепкой здоровой оболочкой весельчака, юмориста, острослова оказалось столько тоски, пессимизма и так называемых «сумеречных настроений», которыми изводит его критика.
Ему было так жаль себя, несчастного шестнадцатилетнего, что, наверное, заплакал бы, если б умел. Как врач он понимал, что это болезнь делает своё дело, разрушая нервные клетки, размягчая душу. Сначала становится жалко себя, потом захочется плакать от жалости к другим.
Спасала пьеса: жалость, слёзы и прочие надрывы становились материалом, из которого извлекаются мысли, реплики, эпизоды, действия. Случайные линии вдруг сливались и обозначали рисунок. Драма семьи — частица драмы общества. Приятель по Мелихову князь Шаховской потерял имение с чудесным вишнёвым садом. Старые знакомые Киселёвы разорились и вынуждены или продавать своё имение на Истре, или делить на участки и сдавать под дачи... Сегодняшняя драма российских семей — драма потери имущества. Земля переходит в руки новых хозяев, менее культурных, но более энергичных, ловких и обаятельных.
Вечером после ужина он расхаживал по гостиной, в которой Егор постарался зажечь, наверное, все лампы, какие есть в доме, и разглядывал свою героиню, явившуюся из темноты парка, где жуткий ветер со злобным воем раскачивал деревья. Молодящаяся старуха в платье, которое предназначено для юных дам, — таких часто можно встретить на ялтинской набережной. Она содержит любовника в Париже, занимает деньги у своего лакея, и ей грозит потеря родового имения.
Ольга раскладывала пасьянс, Вишневский наблюдал и репетировал горьковского Татарина:
— А! Карта рукав совал. Нада играт честна!
— Хорошо у вас получается, Александр Леонидович. А я как-то не могу взяться за роль. Вдруг мне не дадут Василису.
— Кому же, как не вам?
— Андреева требует себе все первые роли. И Горький тайно её поддерживает.
— Ах, как нехорошо, — сказал Вишневский так артистично, что никто не понял, что именно нехорошо. — Не обижай человека — ест закон! Душа — должен быть Коран. — И без паузы по-будничному: — Вчера в Москве встретил нашего кассира и узнал много нового. Дарского берут режиссёром в Александринку. И ещё: Санин с супругой в Ялте. Живут на даче Бушева. Знаете эту дачу, Антон Павлович?
— Знаю, знаю. — Он продолжал ходить и устраивал возвращение старухи в Россию, в родное имение, в старый помещичий дом, в окна которого заглядывают цветущие вишни.
— Этот кассир был у них, — продолжал Вишневский. — Говорит, живут замечательно, воркуют как голубки. Я понимаю Санина: Лидия Стахиевна очень добрый человек. Её у нас все любили.
— Антон, — перебила Ольга артиста, и голос её вновь неприятно-металлически вибрировал. — Ты знаешь, что Короленко подал письмо о выходе из Академии?
— Знаю, знаю.
— Да, но вы с ним встречались, договаривались написать вместе.
— Знаю, знаю... Что? Писать вместе? Послушай, Оля, я не умею писать письма вместе. Кстати, сколько времени мы уже здесь живём?
— Больше месяца, — ответил Вишневский.
— Прекрасно. Завтра я еду за билетом. Мне срочно надо в Ялту.
— Срочно? В Ялту? — ошеломлённо переспросила Ольга. — Зачем?
— Оля, я тебе говорил. Поеду на несколько дней и сразу вернусь.
— Ну почему так срочно?
Он лишь пожал плечами. Она же не поймёт, что, находясь с ней в ежедневном, ежечасном общении, он не в состоянии написать ни строчки. В Любимовке вообще не написано ни слова.
— Я знаю, почему ты вдруг решил ехать.
— Злой баба — русский баба!
Однако на этот раз Вишневский не смог заставить её улыбнуться.
IX
Она провожала его как подобает жене, как провожала и в прежние поездки: перекрестила, поцеловала. Лишь когда передавала письмо для Маши, он что-то почувствовал по её глазам и голосу:
— Если захочет, пусть и тебе даст прочесть.
Его так донимала болезнь, что все неприятные ощущения, предчувствия, предположения он относил к обострению процесса: наверное, там, в этих несчастных верхушках лёгких, оторвался ещё один кровавый кусочек, ещё один кусочек жизни.
С трудом, с кашлем, с прочими расстройствами доехал до своей Белой дачи. Сидел в столовой с Машей, слушал её отчёт о работах в саду. Мама принесла блюдо раннего винограда. Он оказался слишком кислым.
— Отдам на кухню, — сказала Евгения Яковлевна и унесла виноград.
Он вспомнил о письме, нашёл у себя в портфеле и передал Маше. Она здесь же, за столом, распечатала, прочитала и заплакала.
— Прочти сам, — сказала она.
И он прочитал:
«Марья Павловна!
Я знаю, что Вы возненавидели меня с того момента, когда я появилась в жизни Антона Павловича. Я пыталась разобраться в причинах Вашего неприязненного отношения ко мне, старалась быть с вами искренней и завязать дружеские отношения. До последнего времени я надеялась, что мне это удалось. Мне показалось, что Вы поняли, что я желаю лишь счастья и здоровья Антону Павловичу и ничего не хочу ни от него, ни от Вас, ни от Вашей семьи. Чтобы убедить Вас в отсутствии у меня каких-либо имущественных притязаний, я попросила Антона Павловича написать Вам письмо-завещание, которое, как я понимаю, Вас полностью удовлетворило. Но оказалось, что Вам этого мало. Вы хотите добиться, чтобы я вообще исчезла из жизни Антона Павловича. С этой целью Вы настойчиво вызываете его в Ялту, зная, что мне после болезни на юг ехать нельзя. Зачем Вы теперь срочно вызвали его? Неужели для того, чтобы он мог встретиться с Вашей подругой, проживающей на даче Бушева?
Антон Павлович замечательный писатель. Для того, чтобы поправить здоровье и иметь возможность работать, ему нужен покой. Ваши постоянные попытки поссорить меня с ним только ухудшают его состояние. Я прошу Вас серьёзно подумать и найти возможность для улучшения наших с Вами отношений.
Ваша О. Книппер».
Маша уговаривала его не отвечать сразу на это письмо, а успокоиться, подумать, может быть, и вообще не писать, а подождать: возможно, Ольга одумается и пришлёт другое письмо. Однако он был непреклонен:
— Мне легче сразу избавиться от этой пилюли, чем носить её в груди. У меня и так там очень много нехорошего. И не забывай, что, когда я пишу, я холоден и спокоен. Иначе бы у меня не получилась хорошая проза.
Сидел у себя в кабинете, разрывался от кашля, сплёвывал в свой гнусный сосуд с крышечкой, сочинял письмо жене, которая при всём её артистическом таланте и артистическом воспитании оставалась обыкновенной женщиной. Что такое обыкновенная женщина, даже Толстой отказывается объяснить. Обещал сказать всю правду о женщинах только после смерти: «Выскочу из гроба, скажу, впрыгну обратно и крышечкой прикроюсь».
Сам он, к сожалению, не верит в жизнь после смерти, и его мысли о многих вещах исчезнут вместе с ним. Ещё во времена «Степи», почувствовав себя настоящим писателем, он к письмам стал относиться так же, как к своей прозе: ни одного слова, которое может повредить его образу, его авторитету у читателей. Никто никогда не узнает, как относился к жене, к сестре, к друзьям, но прочитают его письма и увидят, что он был честным, добрым, не нарушавшим норм нравственности. Такой человек не пишет жене бранных писем.
«17 августа 1902 г.
Наконец я дома, дуся моя. Ехал хорошо, было покойно, хотя и пыльно очень. На пароходе много знакомых, море тихое. Дома мне очень обрадовались, спрашивали о тебе, бранили меня за то, что ты не приехала; но когда я отдал Маше письмо от тебя и когда она прочла, то наступила тишина, мать пригорюнилась... Сегодня мне дали прочесть твоё письмо, я прочёл и почувствовал немалое смущение. За что ты обругала Машу? Клянусь тебе честным словом, что если мать и Маша приглашали меня домой в Ялту, то не одного, а с тобой вместе. Твоё письмо очень и очень несправедливо, но что написано пером, того не вырубить топором, Бог с ним совсем. Повторяю опять: честным словом клянусь, что мать и Маша приглашали и тебя и меня — и ни разу меня одного, что они к тебе относились всегда тепло и сердечно.
Я скоро возвращусь в Москву, здесь не стану жить, хотя здесь очень хорошо. Пьесы писать не буду.
Вчера вечером, приехав весь в пыли, я долго мылся, как ты велела, мыл и затылок, и уши, и грудь. Надел сетчатую фуфайку, белую жилетку. Теперь сижу и читаю газеты, которых очень много, хватит дня на три.
Мать умоляет меня купить клочок земли под Москвой. Но я ничего не говорю ей, настроение сегодня сквернейшее, погожу до завтра.
Целую тебя и обнимаю, будь здорова, береги себя. Поклонись Елизавете Васильевне. Пиши почаще.
Твой А».
Возможно, в будущем найдутся дотошные исследователи, которые обратят внимание на то, что в этом письме он не употребил обычное обращение «милая моя». Может быть, найдутся и ещё более въедливые и заметят, что его письма к ней резко отличаются от писем другим женщинам. Только её он позволяет себе называть собакой, лошадкой, замухрышей, крокодилом. Только ей сообщает о приёме касторки, о расстройствах желудка и кишечника. Только из писем к ней нельзя извлечь ни одной интересной мысли.
Маше сказал:
— Письмо написал достаточно мягкое. Однако в Москву не поеду и пьесу писать не буду.
Лёг на диван, кашлял, думал о близкой смерти, что, пока жив, будет и пьесу писать, и с Ольгой опять мириться и ссориться, и, может быть, клочок земли под Москвой купит...
И уже завтра написал Ольге новое письмо: «...Прости меня, дуся, вчера я послал тебе неистово скучное письмо. Не сердись на своего мужа...» И от неё получил: «Ты пишешь, что будто я обругала Машу? Каким образом? Я действительно писала Маше сильно расстроенная и даже не помню, что я писала...»
Но в Москву поехал только в октябре, а за «Вишнёвый сад» по-настоящему сел только следующей весной.
X
Над Порт-Артуром стояла чёрная азиатская ночь. Безобразов, прибывший сюда по особому поручению императора, держал Азарьева чуть ли не до рассвета, расхаживая по роскошному кабинету покоев, предоставленных ему Стесселем, и, размахивая руками, дёргая головой и гримасничая, объяснял лейтенанту сущность российской политики на Дальнем Востоке.
— Не меньше! — восклицал он и показывал руками, как должен выглядеть штабель дров. — Не меньше чем четыре тысячи кубических футов в этом году. Этот лес должен лежать при русском лесопильном заводе на корейском берегу Ялу до первого января четвёртого года. Вы поможете. Покажете. Укажете. Мы получим в этом году миллион рублей чистой прибыли. Настоящие русские деньги, о которых не знает Ноздря. Наши войска из Маньчжурии не уйдут никогда. Мы с государем так решили. Я сказал наместнику: ни одного солдата не выводить из Маньчжурии. Я и государь решили, что меня надо назначить статс-секретарём. Скоро последует указ. Я приеду летом, и мы с вами высадим наших людей на Ялу. Там будет заслон. Я спланировал и действия нашего флота, если японцы...
После таких речей требовалась долгая прогулка. Море тускло поблескивало лёгким волнением. Ночные огни кораблей рассыпались по заливу. Броненосцы, крейсера, миноносцы... Военно-морская мощь России — тёмное стадо без хозяина.
Неподалёку послышались какие-то восклицания, стоны. Лейтенант направился туда. Три военных моряка и старшина волокли пьяного матроса в бушлате торгового флота. Шапку тот, наверное, потерял, и его русые волосы шевелились на ветру.
— Ваше высокоблагородие, — доложил старшина, — подобрали пьяненького. Видать, с транспорта, что днём из Владивостока пришёл.
Азарьев наклонился к матросу — совсем молодой, лет двадцать.
— Кто такой?
Тот открыл глаза и что-то промычал.
— Отвечай его высокоблагородию! — крикнул старшина и слегка ткнул пьяного ногой.
Тот ответил неожиданно чётко:
— С «Кошкина» мы. Матрос Чехов.
— Чехов? Куда вы его тащите, старшина?
— В караулку занесём. Очухается — сдадим начальству.
— Я с вами.
В караулке матросу дали чаю, и он почти пришёл в себя — мог сидеть и отвечать на вопросы.
— Твоя фамилия Чехов? — спросил лейтенант.
— Так точно, Чехов Николай.
— А по отцу?
— Николай Александрович.
— Кто твой отец? Где он?
— В Петербурге. Пишет в журналы. А дядя Антон — писатель.
XI
Одиннадцатого января 1904 года в Петербурге отмечалось десятилетие сценической деятельности известной актрисы Лидии Яворской. Журнал «Театр и искусство» поместил фото актрисы в большой шляпе и с печальным, почти философским выражением лица, как бы говорившим: «Я устала от всех вас». В театре для её бенефиса шёл Метерлинк — «Пелеас и Мелисанда». После третьего акта происходило чествование. В большой нудной речи Барато назвал актрису «факелом».
Семнадцатого января в Москве, в Художественном театре, на первом представлении «Вишнёвого сада» чествовали Чехова. Речи и поздравления звучали также после третьего акта. Первым выступал профессор Веселовский, тот самый, который протестовал против постановки «Дяди Вани» в Малом театре. Немирович-Данченко в конце своей речи сказал: «Сегодня по случайности неисповедимых судеб первое представление совпало с днём твоего ангела. Народная поговорка говорит: Антон — прибавление дня. А мы скажем: наш Антон прибавляет нам дня, а стало быть, и света, и радостей, и близости чудесной весны».
В ночь на 27 января японские миноносцы напали на русскую военную эскадру в Порт-Артуре, повредили несколько кораблей, и началась русско-японская война.
XII
Он знал, что после «Вишнёвого сада» уже не сможет написать пьесу. А тогда зачем жить? Лежал на диване в кабинете или на кровати в спальне, ждал весну и плевал в сосуд с крышечкой.
В марте приехал брат Александр с сыном Мишей. Мальчику шёл уже тринадцатый, и на него хотелось долго смотреть: взгляд глубоко сидящих тёмных глаз из-под крутых надбровий был так печален и смел, словно подросток уже понял неприветливость мира, в который он вступает, и готов бороться и победить. Пригласил его в кабинет, усадил, спросил о жизненных планах.
— Я буду артистом, — сказал Миша.
— Что будешь играть?
— Всё. Гамлета, Островского... И в ваших пьесах. А можно я тоже вас спрошу?
— Спрашивай, Миша.
— Вот эта картина...
Бедная швея с усталым лицом опустила руки на колени. На столе перед ней — тусклая керосиновая лампа. Худая рубашонка сползла с её плеча...
— Тебе нравится картина, Миша? Её написал мой брат Николай. Он давно умер.
— Это моя мама?
— Да. Коля писал с неё.
— Она была красивая. А вы... Вы любили её?
— Я и сейчас люблю твою маму. Она очень хорошая женщина. А где ваш Коля? Говорили, что он куда-то хотел поступать учиться.
— Он пошёл в матросы. Плавает где-то на востоке. Может быть, воюет.
XIII
В Баденвейлере незадолго до смерти он почувствовал ту жалость к другим, которая, как он знал, должна была возникнуть. Жаль было всех, но особенно тех, кто навсегда останется одиноким в жизни, в этой суетливой неласковой толпе.
— Оля, — позвал он жену. — Матрос...
— Да. Я читала тебе вчера в газете. Матросы защищают Порт-Артур.
— Надо найти его... Надо жалеть... Он один...
Ольга Леонардовна не поняла, о ком он говорит. Вскоре он попросил шампанского, осушил бокал до дна, сказал:
— Ich sterbe[79], — повернулся к стене и умер.
Он первым почувствовал сумерки над Россией и рано ушёл, чтобы не видеть русскую ночь.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
осле смерти умирала его Россия, умирали люди, которых он любил, о которых писал.
В том же несчастном июле на военном совете в Порт-Артуре решалась судьба запертой здесь эскадры. Лейтенант Азарьев был в числе тех, кто высказывался за активные действия: выйти в море, атаковать японский флот, разбить его и обеспечить победу в войне.
На рассвете 28 июля эскадра под командованием адмирала Витгефта, державшего флаг на броненосце «Цесаревич», вышла из Порт-Артура и в Жёлтом море встретилась с японским флотом. Бой продолжался целый день, а в шесть часов вечера японский снаряд разорвался на командном пункте «Цесаревича». Погиб адмирал Витгефт и весь его штаб, в том числе и лейтенант Азарьев.
В 1920 г. мир был потрясён спектаклем «Три сестры» в постановке Врангеля и Троцкого: как и предвидел великий драматург, играла музыка и из России навсегда уходили офицеры.
Женщина с тонкими губами, умевшая изображать на сцене доброту и преданность, умерла в 1959 году, прожив после смерти Чехова пятьдесят пять лет.
Автор этих строк помнит, как в день пятидесятилетия МХАТа она стояла на сцене, а Лемешев и Козловский пели для неё из «Онегина»: «Как мы любим вас, Ольга».
Автор этих строк помнит и театр Мейерхольда — смотрел «Лес» на дневном спектакле.
Странно, что и в 1937-м, в год красного дьявола... некоторые умирали своей смертью в постелях, с помощью врачей. Вот и Шаврова-Юст. А её муж-камергер умер ещё в 1919 году. Начало жизни Леночки было освещено ялтинским солнцем и любовью к Чехову, а финал затемнила борода некоего государственного деятеля, увековеченного кинокамерой рядом с вождём мирового пролетариата, вышедшего на первую прогулку в кремлёвский двор после покушения Каплан. Спасаясь в начале тридцатых от Сталина, Бонч-Бруевич сбежал в литературу — стал директором Литературного музея. Елена Михайловна тщетно пыталась продать ему письма Чехова, свои воспоминания, сувениры — у старой больной женщины не было никаких средств к существованию. «Обращаюсь к вам с горячей просьбой: исполните Ваше доброе обещание сделать всё от вас зависящее, чтобы я могла получить пенсию», — писала она Бонч-Бруевичу. Тщетно. Ничего у неё не купил, рукопись с воспоминаниями лежала без движения до её смерти, пенсию Шавровой не дали.
В том же 1937-м в Париже умирала Лика. Она лежала в маленькой застеклённой комнате, отделённой от общей больничной палаты. Приходили любопытствующие, и им говорили: «Это умирает чеховская «Чайка».
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1860 год
17 января по н. cm. — в Таганроге, в небогатой купеческой семье П. Е. и Е. Я. Чеховых, родился сын Антон, будущий классик русской и мировой литературы.
1869-1879 годы
Учёба в Таганрогской гимназии.
1873 год
Поездка семьи Чеховых в имение Платова Криничку, где Е. М. Чехов, дед писателя, служил управляющим.
1873 год
Гимназист Чехов впервые посещает Таганрогский театр и смотрит оперетту Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».
1876 год
П. Е. Чехов разоряется и сбегает в Москву, спасаясь от долговой ямы. Дом Чеховых продаётся в счёт погашения долга. Антон начинает самостоятельную жизнь, оставшись в Таганроге заканчивать учёбу в гимназии.
1876—1878 годы
Антон написал драму «Безотцовщина», пьесу «Нашла коса на камень» и водевиль «Не даром курица пела».
1879 год
Антон заканчивает гимназию и уезжает в Москву.
1879-1884
Чехов учится на медицинском факультете Московского университета.
1880 год
9 марта — первая достоверно установленная публикация: «Письмо донского помещика Степана Владимировича к учёному соседу д-ру Фридриху» в петербургском юмористическом журнале, еженедельнике «Стрекоза».
1883 год
Чехов начал вести обозрение «Осколки московской жизни» для петербургского журнала «Осколки».
Лето 1883 года
Чехов работает в городе Воскресенске, ныне Истра, в Чикинской земской больнице.
1884 год
Вышла в свет первая книга Чехова: «Сказки Мельпомены. Шесть рассказов А. Чехонте».
1885—1890 годы
Москва. Истра. Сумы. Ялта. Начало литературной известности.
1885 год
Чехов впервые посетил Петербург, познакомился с Сувориным, Григоровичем, многими другими литераторами, артистами. Его рассказы начала печатать «Петербургская газета».
1885—1887 годы
Чехов вместе со своей семьёй проводит лето на Истре в с. Бабкине, в имении Киселёвых.
1886 год
15 февраля — в самой массовой русской газете «Новое время», издаваемой А. С. Сувориным, напечатан первый рассказ Чехова «Панихида».
25 марта — Д. В. Григорович обратился к Чехову с письмом, в котором призвал писателя взяться за серьёзную литературную работу.
Конец 1886 года
Семья Чеховых поселилась в доме Я. А. Корнеева на Садово-Кудринской (ныне музей А. П. Чехова).
1887 год
Вышли книги: «В сумерках. Очерки и рассказы», «Невинные речи»,
19 ноября — премьера пьесы «Иванов» в московском театре Корша.
1888—1889 годы
Чехов вместе с семьёй проводит лето на Украине, в имении Линтваревых неподалёку от г. Сумы.
1888 год
Март — в журнале «Северный вестник» опубликована повесть «Степь».
7 октября — Чехову присуждена академическая Пушкинская премия (половинная — 500 руб.) за сборник «В сумерках».
1889 год
17 июня — в имении Линтваревых умер брат А. П. Чехова Николай.
1889 год
Июль — август — Чехов совершает поездку в Одессу и Ялту. В Ялте он познакомился с сёстрами Шавровыми.
Осень — в Москве Чехов познакомился с Л. С. Мизиновой.
31 января — первое представление пьесы «Иванов» на сцене Александрийского театра.
1890 год
Март — вышел сборник рассказов «Хмурые люди» с посвящением П. И. Чайковскому.
Апрель — декабрь. Поездка на Сахалин, где Чехов провёл перепись десяти ссыльно-каторжных и собрал материал для книги о «каторжном острове».
1891 год
Январь — поездка в Петербург и неудачная попытка заинтересовать императорский двор своими впечатлениями о Сахалинской каторге.
Март — апрель — семья Чеховых проводит лето в Калужской губернии, в с. Богимове, в имении помещика Е. Д. Былим-Колосовского.
Декабрь — поездка в Нижегородскую губернию по делам помощи голодающим крестьянам.
1892 год
Январь — опубликован рассказ «Попрыгунья».
Начало года — И. Левитан, артист Ленский и семья Кувшинниковых порвали отношения с Чеховым, приняв рассказ «Попрыгунья» за пасквиль на них.
4 марта — Чехов приехал в Мелихово на постоянное жительство вместе со своей семьёй.
Июнь — Чехов отказался от предложения Л. Мизиновой поездки на юг, втайне от близких.
Лето — Чехов сблизился с редакцией либерального журнала «Русская мысль», передал в журнал повести «Палата № 6» и «Рассказ неизвестного человека» и перестал печататься в газете «Новое время».
1893
Начало года — Чехов познакомился с Л. Б. Яворской и Т. Л. Щепкиной-Куперник, вокруг них образовалась компания литераторов и артистов, названная «эскадрой», а Чехову дали прозвище «адмирал Авелан».
Конец года — Чехов уклонился от прямого ответа Л. Мизиновой, умолявшей его честно высказаться о его чувствах к ней.
1894 год
Начало года — Л. Мизинова сближается с И. Потапенко и выезжает в Париж, где встречается с ним втайне от его жены.
Осень — Чехов совершил поездку в Европу — Вена, Италия, Ницца, Париж.
8 ноября — Л. Мизинова в Швейцарии родила дочь от Потапенко, нареченную Христиной.
1895 год
8—9 августа — Чехов в Ясной Поляне впервые встретился с Л. Толстым и присутствовал при чтении первого варианта романа «Воскресение».
Ноябрь — Чехов закончил пьесу «Чайка».
1896 год
17 октября — неудачная премьера «Чайки» в Александрийском театре.
14 ноября — умерла Христина, дочь Потапенко и Мизиновой.
1897 год
Начало года — Чехов участвовал в первой перепеси населения России в Базыкинской волости Серпуховского уезда.
22 марта — во время обеда с Сувориным в ресторане «Эрмитаж» у Чехова открылось сильное лёгочное кровотечение.
23 марта — 10 апреля — Чехов находился на лечении в клинике А. А. Остроумова.
Конец года — Чехов выехал за границу.
1898 год
Начало года — проводя зиму в Ницце и Париже, Чехов заинтересовался делом Дрейфуса, которым была занята Франция. В частных беседах и переписке он решительно высказывался в поддержку Дрейфуса и разделял позицию Э. Золя, однако отказался от встречи с Золя и от интервью французской газете о своём отношении к делу Дрейфуса.
Сентябрь — на репетициях Художественного театра Чехов познакомился с О. Л. Книппер.
12 октября — умер отец писателя П. Е. Чехов.
Октябрь — Чехов купил земельный участок в окрестностях Ялты, в Аутке.
17 декабря — премьера «Чайки» в Художественном театре.
1899 год
Январь — Чехов подписал договор с издателем А. Ф. Марксом об издании собрания сочинений.
9 сентября — Чехов переезжает на постоянное жительство в Белую дачу — дом, построенный для него в Аутке.
Декабрь — вышел первый том собрания сочинений.
1900 год
Январь — Чехов избран почётным академиком Российской академии по разряду изящной словесности.
1901 год
31 января — премьера пьесы «Три сестры» в Художественном театре.
15 мая — Чехов прошёл медицинский осмотр в клинике Остроумова и в результате пришёл к убеждению, что дни его сочтены.
25 мая — Чехов обвенчался с О. Книппер.
3 августа — Чехов написал завещание.
12 сентября — Чехов навестил в Гаспре больного Л. Толстого.
1902 год
Май — июнь — тяжёлая болезнь О. Книппер.
Июль — август — Чехов с женой и артистом Художественного театра Вишневским отдыхал в имении Станиславского Любимовке.
25 августа — Чехов отказался от звания почётного академика из-за незаконной отмены избрания в академию М. Горького.
1903 год
Чехов написал рассказ «Невеста», безосновательно признанный советским литературоведением произведением о революционерке.
1904 год
17 января — премьера пьесы «Вишнёвый сад» в Художественном театре и чествование Чехова.
3 июня — Чехов с женой выехал в Баденвейлер.
2 июля — Чехов умер в три часа ночи.
ОБ АВТОРЕ
РЫНКЕВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ родился в 1927 г. в Москве, в семье служащих. В десятилетнем возрасте пережил арест и гибель отца, попытку самоубийства матери и долгие годы носил клеймо сына врага народа.
Выбор профессии в те времена не представлял затруднений: в 1941 году он поступил в специальную артиллерийскую школу и до 1958 г. носил военную шинель. За время службы окончил Артиллерийскую радиотехническую академию.
После демобилизации служил в различных министерствах. С 1977 по 1987 год работал зам. главного редактора издательства «Художественная литература»
Первый рассказ Рынкевича был напечатан в 1965 г. в журнале «Октябрь». В 1970 г. окончил заочно Литературный институт, учился в семинаре Л. Кассиля.
В 1980 г. вышел сборник его рассказов «Пальмовые листья». Герои рассказов — это современники автора, близкие ему по жизненному опыту.
В романе «Семёновская застава», вышедшем в 1986 году, Рынкевич совместил повествование о современниках с экскурсом в петровские времена, где по-своему увидел людей, создававших русскую национальную гвардию. В 1990 г. вышел роман Рынкевича «Звёзды на память», связанный с первым романом общими героями. Очерки и рассказы Рынкевича печатались в «Литературной газете», в «Московском комсомольце», в «Независимой газете», в журналах «Москва», «Наш современник», «Нева» и др.
Помимо художественной прозы, Рынкевич много лет занимался изучением жизни и деятельности А. П. Чехова. В России и за рубежом получила литературоведческая книга о Чехове «Путешествие к дому с мезонином». Рассказ о Чехове получил премию журнала «Огонёк» за 1986 г.
Примечания
1
...в старых амосовских печах... — названы по имени Амосова Ивана Афанасьевича (1800 — 1878), русского инженера, кораблестроителя.
(обратно)2
...переписала на верже... — верже — сорт высококачественной бумаги.
(обратно)3
...знаменитый Гамлет Александр Ленский... — Ленский Александр Павлович (1847 — 1908), русский актёр, режиссёр и педагог. Выступал на сцене с 1865 года, с 1876 года работал в Малом театре. Мастер перевоплощения, он сочетал творческое вдохновение с высокой актёрской техникой. Славился своими работами в пьесах Шекспира и Грибоедова. Ленский станет одним из создателей Нового театра, в который войдут его ученики В. Н. Рыжкова, Е.Д. Турчанинова, В. Н. Пашенная и др.
(обратно)4
Суворин пригласил в Италию, Плещеев — в Грецию... — Суворин Александр Сергеевич (1834 — 1912), русский журналист и издатель, выпускал в Петербурге газету «Новое время» (с 1876 года), а с 1880 года — журнал «Исторический вестник» с сочинениями русских и иностранных писателей, научной литературой и др. Плещеев Александр Николаевич (1825 — 1893) — поэт некрасовской школы, в 1849 — 1859 годах отбывал ссылку за участие в кружке М. В. Петрашевского.
(обратно)5
«Да здравствует Карно!» — Карно Лазар Никола (1753 — 1823), французский математик, член Института Франции, член Законодательного собрания в 1791 — 1792 годах, член Комитета общественного спасения в 1793 — 1794 годах, военный организатор борьбы революционной Франции с интервентами и роялистами, во время «Ста дней» был министром внутренних дел.
(обратно)6
Бюллетень о здоровье Его Императорского Высочества Константина Николаевича. — Константин Николаевич, великий князь, второй сын императора Николая I, генерал-адмирал, руководитель морского ведомства, провёл ряд либеральных реформ на флоте.
(обратно)7
Пели из «Мефистофеля» Бойто... — Бойто Арриго (1842 — 1918), итальянский композитор и поэт, либреттист. Автор оперы «Мефистофель», либретто к операм «Отелло» и «Фальстаф» Верди.
(обратно)8
С известным либералом Михайловским... — Николай Константинович Михайловский (1842 — 1904), народник, социолог, публицист, литературный критик, один из редакторов «Отечественных записок» и «Русского богатства».
(обратно)9
В Александринке Анну играла Стрепетова... — Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна (1850 — 1903), великая русская актриса, выступала на сцене с 1865 года — сначала в провинции, затем в петербургском Александрийском театре. С необычайным талантом играла русских женщин, известно её исполнение роли Лизаветы в «Горькой судьбине» А. Ф. Писемского и Катерины в «Грозе» А. Н. Островского.
(обратно)10
...в «Горящих письмах» Гнедина. — Гнедич Пётр Петрович (1855 — 1925), драматург, переводчик, историк искусства. На русской сцене ставились его пьесы «Перекати-поле», «Холопы», «Болотные огни» и др.
(обратно)11
...уже была создана пьеса, какой не написать... Шпажинскому... — Шпажинский Ипполит Васильевич (1848 — 1917), драматург, автор многочисленных комедий, психологических и исторических драм, в том числе и в стихах (его «Чародейка» легла в основу одноимённой оперы П. И. Чайковского), автор пьес из жизни городского «дна» («Тёмная сила» и др.).
(обратно)12
...жизнь в лице Ермоловой... — Ермолова Мария Николаевна (1853 — 1928), знаменитая русская актриса, с 1871 года выступала на сцене Малого театра в героическом и романтическом репертуаре, прославилась в ролях Лауренсии («Овечий источник» Лопе де Вега), Жанны д’Арк («Орлеанская дева» Шиллера), в драмах А. Н. Островского. После Октябрьской революции получила звание народной артистки Республики (1929) и Героя Труда (1924).
(обратно)13
После первого марта... — 1 марта 1881 года был убит народовольцами император Александр II, пятеро «первомартовцев» были повешены после судебного процесса, другие осуждены на каторгу или ссылку; репрессивные меры коснулись и национальных меньшинств — в частности, евреям было запрещено жить в столице.
(обратно)14
...Победоносцев и иже с ним... — Константин Петрович Победоносцев (1827—1907), государственный деятель и юрист, обер- прокурор Синода, выразитель крайне правых взглядов. Имел исключительное влияние на императора Александра III.
(обратно)15
Вот Короленко. — Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), русский писатель и публицист, автор нескольких сборников повестей и рассказов, а также редактор народнического журнала «Русское богатство». В 1879 году был арестован по подозрению в связях с революционерами и сослан в Якутию в 1881—1884 годах.
(обратно)16
...ведёт к Михайловскому и Глебу Успенскому... — Успенский Глеб Иванович (1843 — 1902), писатель народнического направления, бытописал крестьянскую нужду.
(обратно)17
...где Нечаев хотел перевернуть Россию, начав с убийства одного несчастного студента, — Нечаев Сергей Генадьевич (1847— 1882), организатор тайного общества «Народная расправа», автор «Катехизиса революционера», неоднократно пользовался методами мистификации и провокации для достижения революционных целей. В 1869 году в Москве убил по подозрению в предательстве студента И. И. Иванова и скрылся за границу, в 1872 году был выдан России швейцарскими властями, в 1873 году — приговорён к 20 годам каторги. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.
(обратно)18
...это был Григорович, — Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899/1900) писатель крестьянской тематики, автор повестей «Деревня» и «Антон-Горемыка»; его романы «Рыбаки» и «Переселенцы» насыщены этнографическим материалом. В 1883 году написал повесть «Гуттаперчевый мальчик».
(обратно)19
Все эти Гольцевы напустят такой духоты... — Гольцев Виктор Александрович (1850— 1906), общественный деятель и публицист, участник земского движения, с 1885 года был фактическим редактором журнала «Русская мысль», сотрудничал в газете «Русские ведомости» и в журнале «Вестник Европы».
(обратно)20
Потому Надсон и умер так рано. — Надсон Семён Яковлевич (1862—1887) — талантливый поэт-лирик, проживший яркую, но короткую жизнь; писал о проблемах интеллигенции и был далёк от революционной борьбы.
(обратно)21
...в ритмах Чайковского и Апухтина... — На стихи Апухтина Александра Николаевича (1840 или 1841—1893), русского лирического поэта, тонко чувствовавшего ритмику слова, П. И. Чайковским были написаны многие романсы — «Ночи безумные», «День ли царит» и др.
(обратно)22
В прежнем состоянии (лат.).
(обратно)23
Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше (лат.).
(обратно)24
Счастливы обладающие (лат.).
(обратно)25
Даю, чтобы ты мне дал (лат.).
(обратно)26
...состоявшая из читателей Чернышевского, Милля и листовок «Народной воли»... — Милль Джон Стюарт (1806—1873), сын Джеймса Милля, английского философа, историка и экономиста, также был экономистом и общественным деятелем. Он считается последователем О. Конта и основателем английского позитивизма.
(обратно)27
...баркаролы Рубинштейна... — Рубинштейн Антон Григорьевич (1829— 1894) был композитором, пианистом, дирижёром, основателем первой русской консерватории (1862 г., Петербург); автор опер «Демон», «Нерон», «Персидские песни», инструментальных и фортепианных произведений. С 1890 по 1910 год проводился конкурс пианистов и композиторов имени Рубинштейна.
(обратно)28
...переписчики инкунабул... — Инкунабулы (от лат. колыбель) — печатные издания в Европе, выходившие с момента изобретения книгопечатания (сер. XV века) до 1 января 1504 года.
(обратно)29
С досады (фр.).
(обратно)30
Есть такой умница Анатолий Фёдорович Кони, — Кони Анатолий Фёдорович (1844—1927), юрист и общественный деятель, член Государственного совета, почётный академик Петербургской академии наук (1900 г.), сын театрального критика и драматурга Ф. А. Кони. В 1878 году суд под председательством Кони вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич. После Октябрьской революции станет профессором Петроградского университета и напишет книгу воспоминаний «На жизненном пути».
(обратно)31
Раньше Лейкин был другом... — Лейкин Николай Александрович (1841 — 1906) издавал юмористический журнал «Осколки» (выходил с 1882 по 1905 год), где в период раннего творчества печатался Чехов. Сам Лейкин также был автором юмористических произведений — рассказов, повестей и романов, — в которых он живописал нравы купечества.
(обратно)32
...будешь Лаврову... лизать. — Лавров Пётр Лаврович (1823—1900), один из идеологов революционного народничества. Опубликовал «Исторические письма», пользовавшиеся большой популярностью среди радикально настроенной молодёжи. Редактировал журналы «Вперёд» и «Вестник народной воли».
(обратно)33
Свободина не застал дома. Леонтьев? — Свободин (Матюшин) Павел Матвеевич (1850—1892) — русский актёр, играл в Александрийском театре и театре Корша. Леонтьев Константин Николаевич (1831 — 1891) — писатель и литературный критик, поздний славянофил, автор очерков о Л. Н. Толстом, И. С. Тургеневе, Ф. М. Достоевском.
(обратно)34
...он увидел Элеонору Дузе... — Итальянская актриса Элеонора Дузе (1858—1924) с огромным успехом выступала во многих странах мира, в том числе и в России; играла в пьесах М. Метерлинка, А. Дюма-сына, Г. Д’Аннунцио и др.
(обратно)35
...Боборыкин... вообще не писатель... — Боборыкин Пётр Дмитриевич (1836 — 1921) бытописал жизнь различных слоёв русского общества второй половины XIX века, автор романов «Дельцы», «Китай-город» и др.
(обратно)36
Ги де Мопассан. «Милый друг».
(обратно)37
— Вы в трауре? — спросила Мадлена.
Она ответила печально:
— И да и нет. Все мои близкие живы. Но я уже в таком возрасте, когда носят траур по собственной жизни. Сегодня я надела его впервые, чтобы освятить (фр.).
(обратно)38
...со времён Лермонтова и Бестужева-Марлинского. — Имеется в виду Бестужев (Марлинский) Александр Александрович (1797—1837), автор «Фрегата «Надежда» и «Аммалат-бека», соиздатель альманаха «Полярная звезда», приговорённый к 20 годам каторги за участие в движении декабристов. С 1829 года он служил рядовым в армии на Кавказе и был убит в бою.
(обратно)39
...ещё один Михаил Чехов. — Племянник А. П. Чехова Чехов Михал Александрович (1891—1955) станет великим русским актёром и режиссёром. С 1913 года он будет играть на сцене МХАТа, затем 1-й студии МХТ, позже МХАТа второго. Его крупнейшими работами станут Гамлет в «Гамлете» Шекспира и Эрик в «Эрике XIV» А. Стринберга. В 1928 году он уедет за границу и останется там до конца жизни.
(обратно)40
Когда читаешь Кугеля... — Кугель Александр Рафаилович (1864—1928), литературный и театральный критик, драматург и режиссёр. В 1897 году станет редактором журнала «Театр и искусство». Основатель и руководитель театра «Кривое зеркало».
(обратно)41
...дорогой мэтр! (фр.)
(обратно)42
Тихомиров даже книгу издал... — Революционер-народник и публицист Тихомиров Лев Александрович (1852—1923) был членом кружка «Народной воли», «Земли и воли», редактировал народовольческие издания, с 1882 года был представителем Исполкома за границей, затем отошёл от революционной деятельности, подал прошение о помиловании и, вернувшись в Россию и став монархистом, написал книгу «Воспоминаний».
(обратно)43
...процесс... Ульянова и прочих. — Речь идёт о членах террористической фракции «Народной воли» (15 человек), которые организовали покушение на императора Александра III 1 марта 1887 года («второе 1 марта»).
(обратно)44
...помните «процесс четырнадцати», — Проходил с 24 по 28 сентября 1884 года в Петербурге над членами «Народной воли» по обвинению в попытке государственного переворота и покушении на Александра II. Н. М. Рогачев и А. П. Стромберг были приговорены к смертной казни, остальные — к разным срокам каторги и ссылки.
(обратно)45
...перевод «Гибели Содома» Зудермана, — Зудерман Герман (1857—1928), широко публиковавшийся немецкий писатель-натуралист, автор драм «Честь», «Родина», «Гибель Содома».
(обратно)46
...о разваливающемся Корейском государстве, об усиливающейся Японии, — В 1876 году Япония заключила с Кореей неравноправный договор, а после русско-японской войны 1904—1905 годов установит протекторат над Кореей, чтобы затем в 1910 году аннексировать её, превратив в колонию.
(обратно)47
На флоте есть Макаров. — Макаров Степан Осипович (1848/1849—1904), русский флотоводец, вице-адмирал и океанограф, руководитель двух кругосветных плаваний, в 1899 и 1901 годах совершил арктические плавания на ледоколе «Ермак», строительством которого руководил. В начале русско-японской войны командовал Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре, погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине.
(обратно)48
На столе... каперсы... — Имеются в виду каперсы колючие — овощная культура, в цветочных бутонах и плодах которых много белков, масел и витаминов.
(обратно)49
...не нравятся нам в Саре Бернар... — Великая французская актриса Бернар Сара (1844—1923) с 1872 по 1880 год играла на сцене «Комеди Франсез», а затем возглавляла «Театр Сары Бернар», много ездила по миру с гастролями.
(обратно)50
Третьим писателем... был Эртель... — Русский писатель Эртель Александр Иванович (1855—1908) считался приверженцем просветительского демократизма и живописал Россию 1880-х годов, его лучший роман — «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги».
(обратно)51
Давыдов будет играть, — Давыдов Владимир Николаевич (настоящее имя Горелов Иван Николаевич) (1849—1925), русский актёр и педагог, выступал на сцене с 1867 года, играл в Александрийском театре. Представитель реалистической школы — в 1922 году получит звание народного артиста Республики.
(обратно)52
...не продолжил знакомства с Мережковскими... — Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866 — 1941) и его жена Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) были одними из признанных лидеров и идеологов русского декадентства. Оба крупные писатели, оставившие заметный след в русской литературе, они эмигрируют из России в 1920 году.
(обратно)53
Сколько? (ит.)
(обратно)54
Пять (ит.).
(обратно)55
Женщина — мужчина (фр.).
(обратно)56
Монополию Витте вводит, — Граф Витте Сергей Юльевич (1849—1915) был министром путей сообщения, затем министром финансов, председателем Комитета министров и Совета министров (в 1905—1906 годах). Он стал инициатором винной монополии 1894 года, денежной реформы 1897 года, строительства Сибирской железной дороги. В 1905 году подписал Портсмутский мир, разработал основные положения Столыпинской аграрной реформы. Автор Манифеста 17 октября 1905 года. Впоследствии написал трёхтомную книгу «Воспоминаний».
(обратно)57
Моя дорогая... Мой ангел... Вы понимаете... (фр.).
(обратно)58
«Это старая сказка, которая вечно нова» (нем.) — Г. Гейне, стихотворение из цикла «Лирическое интермеццо», в русском пер. В. Зогенфреля оно начинается словами: «Девушку юноша любит».
(обратно)59
Фамилии... иностранные вбивались как гвозди: Верлен, Ростан, Ибсен, Бьернсон, Сарду, Метерлинк, Золя, Бурже, Гауптман... — Верлен Поль (1844—1896), знаменитый французский поэт-символист; Ростан Эдмон (1868—1918), французский поэт и драматург, автор «Сирано де Бержерака»; Ибсен Генрих (1828—1906), норвежский классик мировой драматургии, создававший пьесы по сюжетам скандинавских саг; Бьернсон Бьёрнстенье Мартиниус (1832—1910), норвежский писатель, общественный и театральный деятель, один из основоположников норвежской национальной драматургии; Сарду Викторьен (1831—1908), французский драматург, автор разножанровых пьес; Метерлинк Морис (1862—1949), знаменитый бельгийский драматурги поэт-символист; Золя Эмиль (1840—1902), классик французской литературы, сторонник принципов натурализма; Бурже Поль Шарль Жозеф (1852—1935), французский писатель, приверженец религиозных моральных принципов; Гауптман Герхард (1862—1946), немецкий писатель, глава немецкого натурализма. Почти все из вышеперечисленных авторов в разные годы были лауреатами Нобелевской премии.
(обратно)60
«...не откровенничайте с Вл. Ив. Яковенко обо мне и моих делах...» — Врач-психиатр В. И. Яковенко лечил О. П. Кундасову.
(обратно)61
Кто такой Градовский? — Профессор Градовский Александр Дмитриевич (1841—1889) был публицистом либерального направления, автором трактатов по истории права и государственных учреждений России, государственного права западноевропейских стран.
(обратно)62
Москвин последний год учится... — Москвин Иван Михайлович (1874—1946), замечательный русский актёр, с 1898 года выступавший на сцене Художественного театра. В советское время получил многочисленные награды и премии, снимался в художественных фильмах.
(обратно)63
...о твоём друге, покойном Ге... — Ге Николай Николаевич (1831 — 1894), русский живописец, один из создателей творчества передвижников. Писал психологические портреты, в том числе автор одного из портретов Чехова.
(обратно)64
...надеясь на талант Комиссаржевской, — Знаменитая русская актриса Вера Фёдоровна Комиссаржевская (1864—1910) впоследствии прославится исполнением роли Нины Заречной в «Чайке», в 1904 году она создаст собственный театр.
(обратно)65
...решать с проектом Шехтеля... — Архитектор Шехтель Фёдор Осипович (1859—1926), представитель стиля «модерн», занимался перестройкой МХТ в 1902 году.
(обратно)66
«Аврора!» Дрейфус!.. Золя!.. Я обвиняю! (фр.)
(обратно)67
Золя пишет президенту: «Я обвиняю!..» — речь идёт о деле Дрейфуса — сфабрикованное в 1894 году дело по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии офицера французского генерального штаба А. Дрейфуса, еврея по национальности. Несмотря на отсутствие доказательств, суд приговорил Дрейфуса к пожизненной каторге. Борьба вокруг дела Дрейфуса привела к общественному кризису, под давлением общественного мнения Дрейфус был помилован в 1899 году, а в 1906 году вообще реабилитирован. Эмиль Золя выступал с активными протестами против дела Дрейфуса — в 1898 году он написал свой знаменитый памфлет «Я обвиняю!».
(обратно)68
Понять — простить (фр.)
(обратно)69
Сесил Родс — Родс Сесил Джон (1853—1902), организатор захвата англичанами на рубеже 1880—1890 годов территорий в Южной и Центральной Африке, часть которых составила колонию Родезию. В 1890—1896 годах был премьер-министром Капской колонии, Родс стал одним из главных инициаторов англо-бурской войны 1899—1902 годов.
(обратно)70
Двадцать пять лет — тысяча пятьсот... Тридцать лет — тысяча... (нем.)
(обратно)71
...рассказывала о своих племянниках Оленьке и Лёвушке... — Ольга Чехова, племянница Ольги Книппер-Чеховой, станет известной немецкой киноактрисой, а Лев Книппер (1898—1974) — композитором, заслуженным деятелем искусств РСФСР, автором 20 симфоний, оперы и балета, а также многих песен, в том числе «Полюшко-поле».
(обратно)72
...портреты президента Крюгера. — Паулус Крюгер (1825—1904) был президентом бурской республики Трансвааль в 1883— 1902 годах, участвовал в военных операциях буров против африканского населения. В период англо-бурской войны руководил сопротивлением буров английским войскам.
(обратно)73
...брат её матери капитан Зальца... — А. И. Зальца покончил с собой в 1905 году в Москве во время революционных событий.
(обратно)74
Праздность — начало всех пороков (нем.).
(обратно)75
...новый актёр Качалов, — Качалов Василий Иванович (настоящая фамилия Шверубович) (1875—1948) выступал на сцене с 1896 года, во МХТе с 1900 года, был актёром высокой интеллектуальной культуры и большого личного обаяния, первый исполнитель ряда ролей в пьесах Чехова. В советское время был неоднократно отмечен правительством.
(обратно)76
Посмотрим (фр.).
(обратно)77
Я писатель... Мы едем в... Школа имени... (нем.)
(обратно)78
Найдёнов у нас единственный драматург, — Найдёнов Сергей Александрович (настоящая фамилия Алексеев; 1868—1922), талантливый русский драматург, писавший пьесы из купеческого и мещанского быта, наиболее известная из которых «Дети Ванюшина», поставленная в 1901 году.
(обратно)79
Я умираю (нем.).
(обратно)
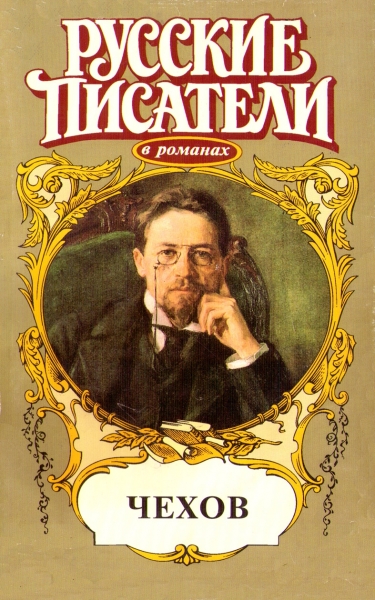

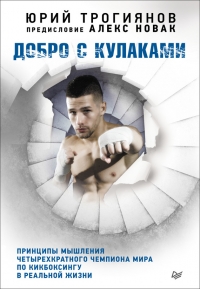
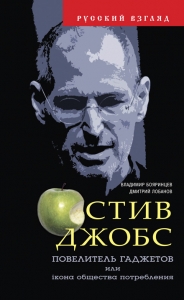
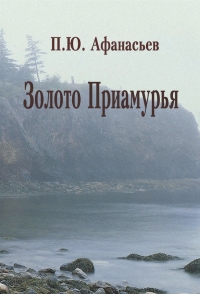
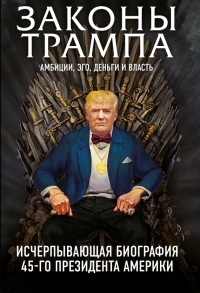

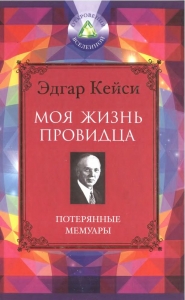

Комментарии к книге «Ранние сумерки. Чехов», Владимир Петрович Рынкевич
Всего 0 комментариев