Виктор Петрович Филимонов «Андрей Кончаловский. Никто не знает…»
ПАМЯТИ ОТЦА
С благодарностью родным и друзьям за сочувствие и добрые советы.
…Никто не знает настоящей правды», – думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава».
А.П. Чехов. «Дуэль»…Счастливый Несчастливцев? ВМесто пролога
Интересно, вы не знаете, почему все-таки кому-то счастливое и благополучное детство прощается (скажем, лорду Спенсеру), а кому-то – ни за что и никогда?
Андрей Кончаловский …Как человека забудь меня – частного, Но как поэта – суди… Николай Некрасов«О, счастливчик!» – воскликнешь невольно, с удивлением и завистью наблюдая этого человека со стороны. Разве не успешно и ладно складывается его жизненный и творческий путь? И, заметьте, едва ли не со дня рождения!
«Родившись в год самого страшного сталинского террора, – пишет он о себе, – могу сказать, что мне повезло появиться на свет. Немалая часть этого везения – семья, в которой я родился, по линии матери в особенности, да и по линии отца».
Еще бы не повезло, если в почве твоего происхождения древние дворянские корни! А к ним – неукротимая натура потомка казацкого рода великого Василия Сурикова, яркие дарования семьи Кончаловских плюс общественно-политический авторитет отца, С.В. Михалкова, который в 1937 году (как раз в год рождения
Андрея) стал членом Союза советских писателей, а пару лет спустя был награжден орденом Ленина.
Кстати говоря, одно из наиболее употребляемых слов в автобиографических повествованиях Сергея Владимировича – «повезло». Так озвучивается, наверное, благодарность судьбе за то, что не только пощадила, но и одарила. Любит это слово и старший сын поэта.
Да и на других представителях семьи Михалковых лежит печать удачливости и везения. «В народе» на этот счет слагаются легенды, по-своему разоблачающие «тайны» почти сказочной успешности семьи. В них нетрудно расслышать испоконвечную нашу зависть и основанную на ней неприязнь к тем, у кого жизнь складывалась и талантливее, и здоровее, и богаче, чем у многих из нас.
Неприязнь к «счастливцу» Кончаловскому носит классовую окраску. Может быть, оттого, что ему никогда не приходилось унижаться ради куска хлеба, он никогда не скрывал, что у него счастливый темперамент, и не боялся говорить о своих недостатках и неудачах открыто.
Что ж, легенды легендами… Но, согласитесь, любые материальные ценности, даже подарок судьбы в виде мощной родословной, высокодуховного окружения в ранние периоды становления – не решают дела. Эти дары еще не обеспечивают жизненной и, главное, творческой удачливости, а только закладывают основание, которое таковым и останется без возведенного на нем СВОЕГО, образно говоря, ДОМА.
Пользование дарами судьбы обеспечивают талант и умение его употребить, создавая в натуре образ, произведение своей жизни. Как выразился однажды коллега моего героя по кинематографическому цеху Владимир Наумов, «режиссер – это биография». И добавил: «У Кончаловского сложная биография, со столькими перипетиями, со столькими поворотами, столькими ситуациями…»
Во всей захватывающей драматургии жизни и творчества Андрея видна не только рука судьбы, но и его авторский «монтажный жест», компонующий реальную, на глазах, так сказать, изумленной публики слагающуюся повесть.
Талант у него большой и разносторонний – талант художника и талант творческой самореализации в текучке повседневности.
Чуть не начальная фраза второй из его мемуарных книг «Возвышающий обман» такова: «Я люблю себя… Наверное, за то, что я умный, талантливый, красивый…» Слышите усмешку самоиронии? Но ведь и вправду умный, несомненно, с лихвой одаренный и т. д., чему убедительное свидетельство прежде всего его творчество!
Первые же сценарии и картины ввели Кончаловского в пантеон классиков отечественного кино. Позднее режиссера не очень щадила (и не щадит доныне) либеральная критика, но его это обстоятельство как будто не слишком задевает. Главное – не забывают. Он неискоренимой занозой беспокоит разношерстную нашу публику то жизненным, то творческим поступком.
Кончаловскому по-настоящему везет в молодой увлеченности своим делом. Проекты сменяют друг друга, друг на друга наслаиваются. Еще не закончена работа над одним, а в голове роятся новые и возрожденные старые замыслы, беспокойно ждущие воплощения. Не только кинематограф, но и театральная (драматическая и оперная) сцена увлекает его. Он пишет сценарии, издает мемуарные и публицистические книги, пользуется непрестанным вниманием СМИ, желанный гость, участник, член жюри отечественных и международных кинофестивалей. Объездил полмира, в его знакомых, приятелях и друзьях были и остаются поныне известнейшие люди, художники, политические и общественные деятели. Широко известно также, что его никогда не обделяли вниманием женщины. Напротив. Среди тех, с кем романы Кончаловского стали достоянием общественности, и знаменитые красавицы из числа мировых кинематографических звезд. Его любили и любят. А он отвечал и отвечает тем же.
Сегодня его пятая супруга – милая женщина в расцвете своей зрелой красоты, талантливая актриса, заботливая мать для двух его детей и любящая, просто обожающая своего умного, талантливого, знаменитого мужа жена. И это не мешает ему поддерживать дружеский контакт со своими прошлыми спутницами жизни, помогать другим своим детям (а всего их у него – семь), любить их, тепло встречаться с ними.
Счастливчик, просто счастливчик, несмотря ни на что! И, что самое интересное, он не стесняется быть счастливым. И это в стране, где издавна сложилась привычка скорее несчастного приветить и пожалеть, а счастливого – завистливо попинать, да еще и нагадить ему вдобавок. Он не только не стесняется быть счастливым, но и публично утверждает это как свою жизненную установку.
«Будь я алкоголик, нищий, сын диссидента, – писал он в конце 1990-х, – к моим картинам относились бы много лучше. Да, все-таки я слишком благополучный человек, чтобы коллеги считали меня заслуживающим внимания художником. Поменял ли бы я свою судьбу, мечты, радости, надежды, восторги, разочарования на успех и признание своего творчества у тех, кто меня не любит? Нет, не думаю. Конечно, обидно наталкиваться на предвзятость. Но несчастным из-за этого не буду. Как говорится, себе дороже…»
А позднее, касаясь общих принципов формирования «драматургии» человеческой жизни, он говорил: «Большинство людей несчастны именно потому, что их жизнь не такая, как им хочется. Они придумывают себе жизнь и очень огорчаются, когда все происходит иначе. И если у кого-то получается следовать запланированным курсом, то это случайность. Поэтому делай что должно, и будь что будет. Тебя несет, а ты только и можешь, что подгребать то в одну сторону, то в другую. Но все равно с поезда сойти невозможно. Когда начинаешь об этом задумываться, ценность жизни становится совершенно другой…»
Сказано было, что примечательно, в дни его семидесятилетнего юбилея. В большом интервью – пассаж многосмысленный и определяющий. С одной стороны, в нем видно чеховское осознание неуправляемости жизненного потока, а отсюда – вынужденная, но спокойная трезвость реакции как на «возвышающий обман», так и на «низкие истины» существования. С другой же – твердость режиссерской позиции демиурга: делай что должно. А что должно – определяется его собственной этической позицией.
В течение жизни Кончаловский не раз почти инстинктивно покидал тех из своих приятелей, даже очень близких, которые так или иначе попадали в число «несчастных», – как будто боялся заразиться. Об этом он рассказывает в своих мемуарах, рассказывает, искренне винясь, но, чувствуется, преодолеть в себе инстинкт самосохранения от «несчастности» не может.
Однако в счастливом сюжете его существования есть закавыка. Охраняя себя от неудач и бед, избегая их в повседневном течении жизни, в творчестве своем он, напротив, всей душой влечется к неудачникам и несчастным, испытывает неподдельный интерес к тому, что отсутствовало в его собственном опыте и что, как мне кажется, он хочет пережить как несостоявшееся, но возможное: «И я бы мог!» Он любит себя в обличии другого.
При всем своем внешнем рационализме и жесткости он как-то беззащитно сентиментален. Готов разрыдаться над судьбой другого, часто вымышленного человека, как, например, над судьбами феллиниевских Джельсомины или Кабирии. Именно по этой причине ему чрезвычайно симпатичны чеховские герои: обыкновенные, даже посредственные люди, с кучей комплексов, не очень умные, погрязшие в бытовщине. Несчастные…
Герои его картин, может быть, и ощущают себя в иные моменты счастливыми, но это мимолетное и очень субъективное переживание. Как правило, это люди, выбивающиеся из ряда вон, как раз в силу своей несчастности, часто, я бы сказал, юродивости. Хотя бы герои первых двух его больших лент – «первый учитель» Дюйшен и деревенская «дурочка» хромоножка Ася Клячина, которая любила, да не вышла замуж.
Его очень земные герои, как правило, бездомны, лишены пристанища, внешне вроде бы и существующего. Они живут – как по краю ходят. А то и гибнут, бессмысленно и беспощадно, – как бурильщик Алексей Устюжанин из «Сибириады» или пораженная мозговой опухолью чернокожая Эдди («Гомер и Эдди»).
Но ведь и очень неземные герои Тарковского – тоже «вечные странники». Однако они отчетливо автопортретны. Их напряженное до истерики духовное самопостижение близко самому создателю, так же фатально неустроенному в повседневной жизни. Иногда эти герои очевидное второе «я» автора.
Кажется, ничего похожего нет у Кончаловского. Но меня тем не менее никогда не оставляет ощущение физического присутствия режиссера в кадре его картин в образе кого-то из персонажей – и часто самого несчастного. Как бы там ни было, нельзя отрицать тягу художника ко всем этим убогим, обделенным судьбой, травмированным жизнью, историей, а то и физически людям, которые ближе к маргиналам Шукшина, чем к духовным странникам Тарковского. И тяга эта не кажется мне случайной. Вот почему передо мной всерьез встает вопрос о соотношении принципов и образа жизни с принципами и образами творчества в биографии Кончаловского.
Пожалуй, до самого конца 1990-х годов лишь по фильмам режиссера можно было судить о содержании его духовной жизни, о переживании исторического времени и осмыслении пережитого. Наиболее полное свидетельство здесь – его книга «Парабола замысла» (1977). Из нее впервые и узнали о стыке миров как предпочтительном методе художественного постижения жизни режиссером.
А его мемуарная дилогия, явившаяся почти четверть века спустя, уже в названиях первой и второй частей («Низкие истины» – «Возвышающий обман») провоцирует стыковку противостоящих понятий. И в самой дилогии откровенный рассказ о романтических приключениях, бытовых слабостях мемуариста перемежается философскими и культурологическими взлетами серьезной мысли. Кто-то из рецензентов решил даже, что мемуарист «всеми силами пытается доказать читателям, что он такой же жалкий, примитивный, наглый и сладострастный, как они». Мало кто, к сожалению, разглядел, что тут нет притворства или заигрывания с публикой. Есть открытый рассказ сильного человека о себе (откровенность здесь – проявление зрелой духовной силы!). А в человеке, как это и присуще жизни, перемешано все: низкие истины и возвышающий обман.
Находясь в зрелом возрасте, режиссер все чаще заявляет о своей приверженности дому, семье, сужает, по его словам, круг общения – во всяком случае, дружеского. Но при всем при том ему не сидится на месте. Его заставляет срываться в дорогу, как мне кажется, не только работа, но почти подсознательная «охота к перемене мест», живущая в нем еще с тех, «советских», времен, когда он впервые оказался за рубежами своей страны.
Существует твердая максима: от себя не убежишь. Андрей Кончаловский, вероятно, не согласится с моим утверждением, но мне представляется, что он-то как раз безотчетно хочет убежать, окунуться в отвлекающее заботами или экзотикой странствие. Было время, например, не такое уж и давнее, когда он мечтал на верблюдах пересечь Сахару…
От кого или от чего бежит человек? От себя? От неостановимого течения жизни, которая неизбежно упрется в пугающий своей неотвратимостью финал? Не хочется торопиться с ответом, не дав себе труда поразмыслить.
Итак, все его герои, без исключения, «тревогу дорожную трубят», по выражению Новеллы Матвеевой. Именно – тревогу, поскольку не от хорошей жизни пускаются в странствие, чаще всего вынужденное. Не хочешь, а вспомнишь автохарактеристику Шукшина: одна нога на берегу, а другая в лодке – и плыть нельзя, и не плыть невозможно – упадешь.
«Ну, какой там Шукшин?! – могут возразить. – Где Шукшин и где Кончаловский!» Правильно. Разные уровни культуры, разное происхождение и образ жизни… Но так ли уж отлично творчество одного от художнических поисков другого? Герой Василия Макаровича, по моему убеждению, гораздо ближе к герою Кончаловского, чем можно судить на первый взгляд.
Несчастный невольный странник картин Кончаловского – человек, определенно и по преимуществу вышедший из народных низов, что называется, «простой человек». И его неприкаянность не столько частная, сколько общенародная беда так и не состоявшегося единства национального дома. Драма, имеющая отношение, как ни парадоксально, и к фильмам, сделанным за пределами России, и к театральным опытам режиссера.
Речь идет о магистральной художественной проблематике творчества режиссера, формирующей сюжет как образ жизни героя. За общенациональной драмой неприкаянности, почвенной неустойчивости соотечественника, откликнувшейся в картинах Кончаловского, не может не скрываться и соответствующий жизненный опыт самого художника. Начало формирования этого опыта видно уже в истоках мировоззренческого и творческого становления режиссера. Там, где рождались повествование о русском иконописце Андрее Рублеве и картина о хромоножке-юродивой из русской деревни и о самой нашей деревне в XX веке.
Вот почему логика моих размышлений и поисков будет во многом вести к ответу на вопрос: «Как у когда-то «талантливого, но легкомысленного и циничного» барчука, по характеристике его учителя Михаила Ромма, а ныне вполне укрепленного в жизни, удачливого, всемирно признанного зрелого мастера мог родиться такой кинематограф, такой театр, такой образ мыслей, какие предстали перед нами на рубеже второго десятилетия XXI века?» Может быть, в действительности никакого «барчука» и не было? А был человек, рано почувствовавший уровень своих творческих посягательств, обеспеченных серьезным талантом, и с моцартовской легкостью отдавшийся им?
И последнее путеводительное соображение к этому довольно затянувшемуся предуведомлению.
Если ты изо всех сил, несмотря на любовь к путешествиям по экзотическим странам, устраиваешь свой дом, крепишь семью, заботишься о детях, то подобного рода деятельность в такой стране, как современная Россия, сама по себе кажется из ряда вон выходящей, то есть как бы заранее обреченной. Что ты и сам, обладая одновременно трезвостью циника и философским складом мышления, прекрасно понимаешь.
И тогда что же? Тогда ты, имея Дом, в котором оставили след твои ближайшие предки, будешь тем не менее почти бессознательно искать укрытия и для этого Дома, и для твоей семьи. Вольно или невольно будешь бежать от преследующего тебя Призрака отечественной катастрофы. От страха перед разрухой, будто заложенной в основу нашей национальной ментальности.
Когда десятилетия тому назад, в августе 1991 года, его остановили журналисты у трапа самолета, допытываясь, почему он в такую ответственную для страны и судеб демократии минуту покидает СССР, Андрей ответил искренне. Сочувствуя демократическим преобразованиям, боится погибнуть под обломками рушащейся страны и так погубить не только творческие планы, но прежде всего семью. И среди прочего помянул о внутренней разобщенности не только в народе, но и в среде либералов, процитировав при этом известную фразу Л. Толстого из «Войны и мира»: если плохие люди так легко объединяются, то что мешает это же сделать хорошим?
Что изменилось с тех пор? «Кущевка по всей стране!»– тоже его слова, но произнесенные уже в начале второго десятилетия XXI века. Какое уж тут счастье и благоденствие?! Вот и выходит, что сам создатель «Дома дураков» не может следовать формуле одного из «больных», идеологов картины: «Это наш дом, и мы будем в нем жить». Так мог бы сказать Василий Макарович. Андрей Сергеевич говорит другое: «Не могу жить в России, если не имею возможности из нее уехать». Вот и превращается существование «счастливого человека» в непрестанное возвращение на родину, то есть в жизнь на стыке, поскольку не прекращается и бег от родных осин.
Это счастье или несчастье? Или наша общая судьба?
Часть первая Древо предков
…Это путешествие человека к самому себе. Делая первый шаг от дома, мы одновременно делаем его к дому: земля круглая, и уходим мы, чтобы вернуться…
Андрей КончаловскийГлава первая Ветвь матери. Прадедов «сундук»
Насчет отличий нам, брат, с тобой не везет. Оттого, что не умеем заискивать. Казаки мы с тобой благородные – родовые, а не лакеи. Меня эта идея всегда укрепляет…
В. И. Суриков. Из письма брату1
Вторая половина 1970-х. Сорокалетний правнук Василия Сурикова кинорежиссер Андрей Кончаловский взял курс из Москвы на родину великого предка. Начинались съемки кинопоэмы «Сибириада».
Может быть, это было прощальным восхождением к истокам рода? Ведь тогда в сознании потомка уже созрело твердое решение покинуть СССР. А кто-то видел и видит в сибирской эпопее Кончаловского соглашение с властями, заключенное накануне убытия за границу.
Фильм действительно планировался как госзаказ к очередному партийному форуму коммунистов. Ожидалась песнь о величии советского государства. К съезду лента не поспела. Да и на оду достижениям социализма
была мало похожа. Но в либеральном окружении режиссера возникло глухое отчуждение. Он это почувствовал тогда и с тех пор недоумевал, поскольку, с его точки зрения, «картина была не только не «госзаказовской», соцреалистической, но изначально чуждой официальной идеологии».
Событийный рефрен «Сибириады» – бегство героев из Елани, из родного сибирского угла. Слышится в этом и тревожное предчувствие испытаний, выпавших на долю ее создателя в чужеземье. И он, подобно его героям, нарушал и разрушал границы знакомого закрытого мира страны, дома, что ознаменовалось затем и внутренними, духовными превращениями.
Уход из родового гнезда, по Кончаловскому, «ведет к смерти». Но смерть эта чревата перерождением, явлением нового человеческого качества.
Навсегда осело в памяти Василия Сурикова 11 декабря 1868 года. Он оставил родной Красноярск, отправился в Петербург и превратился в гениального русского живописца. «Морозная ночь была. Звездная. Так и помню улицу, и мать темной фигурой у ворот стоит». Отбытие было желанно, но переживалось тяжело.
Сибирь времен Василия Сурикова – еще закрытое от европейской России пространство. По выражению поэта Максимилиана Волошина, в творчестве и личности живописца «русская жизнь осуществила изумительный парадокс: к нам в двадцатый век она привела художника, детство и юность которого прошли в XVI и в XVII веке Русской Истории».
Заповедная закрытость Сибири стала основой образных пространственно-временных решений и в «Сибириаде». Деревня Елань, откуда начинают свой путь герои фильма, – нутро русской жизни, ее архетип. Отсюда неуемные души рвутся к зовущим, но неверным звездам. Остаться дома значит для них – умереть.
Не эти ли страсти тревожили душу Сурикова, а век спустя – и его правнука? Отрыв от родного – завязь магистральной коллизии если не жизни, то, во всяком случае, творчества Кончаловского. Спор знакомого и закрытого с распахнутым незнаемым, влекущим, но опасным. На этом стыке созревает, взрослеет личность.
Не откликнулось ли в «непоседливости» Василия Ивановича его происхождение? Ведь он из старинного казацкого рода. Казаки же для Сибири – люди пришлые, как и бежавшие сюда от крепостной неволи крестьяне. Воля накладывала особый отпечаток на все население этих мест. Василий Иванович очень гордился своим происхождением. «В Сибири народ другой, чем в России: вольный, смелый», – убеждал он того же Волошина.
Из материалов о Красноярском бунте 1695 года художник узнал, что в нем участвовали «казаки Иван и Петр Суриковы». «От этого Петра мы и ведем свой род. Они были старожилы красноярские времени царя Алексея Михайловича и, как все казаки того времени, были донцы, зашедшие с Ермаком в Сибирь. Об этом, когда я был маленьким, говорили мне дед, отец и дядья мои…».
Дед Сурикова Василий выдвинулся как «богатырский атаман», а был «человек простой». «Широкая натура. Заботился о казаках, очень любили его». Назначенного после деда жестокого Мазаровича казаки, подкараулив, избили. «Это дядя мой (Марк Васильевич. – В.Ф.) устроил. Сказалась казачья кровь». Другой дядя живописца, Иван Васильевич, сопровождал переведенного на Кавказ декабриста и вернулся из поездки в восторге от Лермонтова и с шашкой, подаренной сопровождаемым.
Художник особо гордился теми предками, которые примыкали к бунтарям Разину и Пугачеву. «Это мы-то – воровские люди…»
Таковы предки со стороны отца Сурикова, бывшего в какое-то время и губернским регистратором Красноярского земского суда.
Предки со стороны матери «тоже казаки Торгошины, а Торгошин Василий также был в бунте 1695 года… Как видите, со всех сторон я – природный казак. Итак, мое казачество более чем 200-летнее».
Мать Сурикова Прасковья Федоровна была женщиной хоть и неграмотной, но одаренной природным вкусом к художеству. Плела кружева и вышивала гарусом и бисером целые картины и разные вещи. «У нее художественность в определениях была, – рассказывал Василий Иванович Волошину, – посмотрит на человека и одним словом определит…».
Как ни была закрыта глубинная сибирская жизнь от внешних влияний, отзвуки громких событий отечественной истории проникали и туда. Мать Сурикова видела в церкви декабристов. Видел на улице Михаила Петрашевского-Буташевича и тринадцатилетний Василий. «Полный, в цилиндре шел. Борода с проседью. Глаза выпуклые, огненные, прямо очень держался…»
(Отмечу, что Елизавета Августовна Шаре, ставшая в 1878 году супругой Сурикова, была француженка по отцу. Мать же ее – из рода декабриста Петра Николаевича Свистунова. Мария Александровна Свистунова познакомилась со своим будущим супругом во Франции. Он принял православие, и, сочетавшись браком, молодожены переехали в Петербург. Здесь Шаре открыл контору по продаже английской, французской, голландской бумаги.)
Суриков с детства тянулся к натурам неуемно стихийным. И на его полотнах, хрестоматийно знакомых, – сплошь бунтари: что стрельцы, что Петр, их палач, вздыбивший Россию. А далее: скованная мятежница Морозова, загнанный в ссылку непокорный Меншиков; Ермак, правда сражающийся, а не «объятый думой»; разгульный Степан Разин, но как раз думой и объятый…
В бунтарстве его героев как оборотная сторона стихийного разгула вольных натур чувствуется в то же время рефлексия одиноких мятущихся душ. И от народной массы, портретно прописанной, живой, многоликой, эти герои отделены как раз тревожной погруженностью в себя.
Детство Василия Ивановича, родившегося 12 (24) января 1848 года, прошло в Красноярском доме, построенном дедом художника в 1830 году. В громадных подвалах жилища таилась бунтарская история казачества. Оружие разных эпох, старинные книги… И пространство вне дома дышало древними схватками.
Родственники со стороны матери Прасковьи Федоровны, населявшие Торгошинскую станицу, в свою очередь сохранили нетронутым старинный быт. «…Торгошины были торговыми казаками – извоз держали, чай с китайской границы возили от Иркутска до Томска, но торговлей не занимались. Жили по ту сторону Енисея – перед тайгой. Старики неделеные жили. Семья была богатая. Старый дом помню. Двор мощеный был. У нас тесаными бревнами дворы мостят. Там самый воздух казался старинным. И иконы старые, и костюмы. И сестры мои двоюродные – девушки совсем такие, как в былинах поется про двенадцать сестер. В девушках была красота особенная: древняя, русская».
Таким Торгошино, уже как декорация, перекочевало в «Сибириаду» правнука, смешавшись с чертами дедовской, Петра Кончаловского, дачи в Буграх под Малоярославцем Калужской области.
В фильме нашли отзвук и суриковские описания сибирской природы. «На сотни верст – девственный бор тайги с ее диким зверьем. Таинственные тропинки вьются тайгою десятками верст и вдруг приводят куда-нибудь в болотную трясину или же уходят в дебри скалистых гор…»
2
Привязанность к родовым корням шла встык кочевым склонностям Сурикова. Как натуральный сибиряк, свидетельствуют знавшие его, он «стал особым человеком– с богатой широкой натурой, с большим размахом во всем: и в труде, и в разгуле». В таких порывах стихийной натуры кроется неизбежная трагичность…
После смерти жены эта сторона характера Сурикова проявилась резче. По наблюдениям Волошина, «он всю вторую половину своей жизни прожил настоящим кочевником». Князь Сергей Александрович Щербатый, живописец, коллекционер, художественный деятель и знакомый Сурикова, признается, что бывал у приятеля редко: очень давила окружавшая обстановка. Овдовевший Суриков «не признавал квартир и ютился по гостиницам, притом любил самые старомодные, обветшалые и тихие», иногда казавшиеся князю «типичной рамкой для трагической сцены романа Достоевского». При этом Щербатому запомнился «один предмет», бесконечно художнику «дорогой и всюду его сопровождавший, – обитый жестью старомосковский сундук, – классический «сундук Сурикова»…»
Щербатый называет сундук «сокровищницей» Василия Ивановича. А может быть, он был хранителем домашних духов, оставаясь со своим владельцем, куда бы тот ни отправлялся. «Когда раскрывался сундук – раскрывалась его душа».
Особо хочется сказать о хрупкой супруге Сурикова. Ее ранняя кончина так обездолила художника потому, может быть, что она всеми силами пыталась упрочить домашний очаг, навсегда утративший после нее свою остойчивость.
Елизавета Августовна, одна из двух дочерей супругов Шаре, выросла в культурной среде. Клиентами торговой конторы ее отца были и известные писатели, литераторы, другие представители петербургской интеллигенции. Прибыли эта коммерция приносила немного, но в доме всегда было оживление. У матери Елизаветы был свой обширный круг знакомых и родственников. Сестры Лиза и Софья получили строгое воспитание, посещали католическую церковь Св. Екатерины на Невском проспекте, где слушали чудный орган.
Внимал органным звукам и Суриков. Там, по рассказам дочери живописца Ольги Васильевны, и состоялось его знакомство с будущей женой.
Прабабка Андрея Кончаловского была, по описанию Ольги, «очень красива, с бледным лицом, лучистыми темными глазами, большой темной косой». У нее был кроткий характер, столь непохожий на буйный нрав гениального сибиряка. Елизавета Августовна «умела дом сделать таким приятным и уютным. Все у нее было красиво, она создала прекрасную семью. Все было сделано, чтобы работать мужу было удобно и легко». И сама Ольга Васильевна переняла, вероятно, эту черту материнского характера – оберегать семью и супруга. Может быть, даже и в наследство передала уже своей дочери – Наталье Кончаловской, матери Андрея.
Ольга Васильевна родилась в Москве, в небольшой квартирке на Плющихе в сентябре 1878 года. В следующем году появился у Сурикова и сын, но вскоре умер. В сентябре 1880 родилась вторая дочь – Елена.
Сестра Ольги Елена в воспоминаниях ее родных предстает человеком своеобычным. Она закончила исторический факультет Высших женских курсов, преподавала историю, принимала участие как режиссер и исполнитель в самодеятельных театральных постановках. Женская судьба ее не сложилась. Она продолжала жить с отцом. «Не зная, куда истратить свою энергию, она бросалась то в филантропию, то в эстетику и обожала стихи Волошина», – рассказывала Наталья Петровна Кончаловская о тетке.
Андрей, характеризуя прадеда как большого женолюбца, полагая, что «излишества по этой части, скорее всего, и поспособствовали его смерти», вспоминает и свою двоюродную бабку. Эта «сумасбродная старуха» «всю жизнь… прожила и так и померла старой девой. От жадности она не позволяла Сурикову жениться. Предпочитала женитьбе его романы с дамами, боялась, что жена присвоит себе все его деньги…»
Не было в семье художника, несмотря на усилия жены, тиши, глади и божьей благодати. Ранняя смерть сына… А в год появления на свет младшей дочери Сурикова настигла болезнь легких, чуть для него самого не закончившаяся смертью. В то же время под поверхностью его семейной жизни бродили стихии невероятной, по выражению дочери Ольги, горячности, которую жена пыталась сдерживать, умерять.
Смиряемая несмиренность проникала в живопись. «Я когда «Стрельцов» писал, ужаснейшие сны видел: каждую ночь во сне казни видел… У меня в картине крови не изображено, и казнь еще не начиналась. А я ведь все это – и кровь, и казни – в себе переживал… Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казни…»
Сурикова упрекали в неопределенности авторской позиции: на чьей стороне живописец, изображая историческое событие, Петра или стрельцов? Пафос же художника заключался в сострадании, в сочувствии Семье, оказавшейся в эпицентре катаклизмов эпохи становления российской государственности. Вот отчего, вероятно, такое место занимают здесь женские образы. В их веренице прочитывается история русской женщины от младенчества до старости, куда художник вписывает и родное, семейное. Дочь художника портретирована в образе плачущей на переднем плане, в центре композиции «Стрельцов» девочки…
Продолжая тему, вспомним «Меншикова в Березове» (1883). Да, перед нами драма исторического лица, знаменитого петровского выдвиженца из простолюдинов. Но это и исповедь художника по мотивам собственного гнезда.
Известно, что на картине в образе Марии, старшей дочери знаменитого изгнанника, изображена жена Василия Ивановича. Уже неизлечимо больная, Мария единственная в этом групповом портрете обращена к зрителю в фас, кажется, глаза в глаза. Бледное лицо, темные круги под приопущенными очами. Смертная печать. Такое не придумаешь…
Замысел картины отчетливо проступил на даче в деревне Перерва под Москвой. Семья Суриковых снимала там половину крестьянской избы без печи, с низким потолком и крошечными окнами. Стояла холодная дождливая осень. Семья зябла, кутаясь в платки и шубы…
«…Отец уехал в город и вернулся. Огонь не был зажжен, мать нам читала. Отец стал вспоминать, что такое было в истории, что семья могла вот так сидеть…»
Было в Истории… Но это и их, Суриковых, семья сидела, может быть, в предчувствии, в ожидании своей судьбы.
Елизавета Шаре скончается в апреле 1888 года. А двумя месяцами ранее художник показывает на 16-й Передвижной выставке портрет десятилетней Ольги Суриковой («Портрет дочери»).
Девочка в ярко-красном платье в горошек стоит, тесно прислонившись к гладко-белой печи и крепко прижимая к себе куклу, будто стремясь уберечь тепло домашнего очага. «…Дивный портрет! – напишет гораздо позднее Наталья Кончаловская. – В нем вся прелесть и живость девочки, вся чистота и гармония ее ума и души и вся любовь и восхищение отца и художника останутся навсегда».
Запечатлел Василий Иванович и образ обожаемой им внучки Натальи, когда той было восемь-девять лет, в этюде для картины «Посещение царевной монастыря» (1912).
С момента смерти матери, по свидетельству Ольги Васильевны, их «счастливое детство кончилось». Отец «не хотел оставить камня на камне: все, что было в доме, вся мебель, все вещи были уничтожены и вывезены:…осталась наша детская, мастерская, в своей комнате он поставил широкую скамью, на которую постлал тюменский ковер, стол и большой сундук с рисунками… Работать он не мог… Многое показалось ему не нужным, и он без сожаления многое уничтожил…»
3
Василий Суриков – признанный гений исторического жанра в живописи. Пейзажи у него редки. Но вот портрет…
Большие полотна художника многолики, населены Лицами. Причем лица эти – особенно первого плана – из гущи русской жизни той поры. «Для того чтобы знать толпу и так любить, как Суриков, – говорит дочь художника, – надо было так ходить в толпе, как он».
Известны прототипы персонажей «из толпы». Люди эти могли безвозвратно кануть в Лету, но сохранились благодаря пристальному вниманию художника к окружающему миру. Сохранились и породили легенды – прототипы стрельцов, Морозовой, юродивого на снегу, Меншикова…
Заказных портретов Суриков практически не писал.
Его модели – родные и близкие, сибирские и московские знакомые. Биографии многих суриковских моделей нам неизвестны, их имена не громки.
«…Каждого лица хотел смысл постичь. Мальчиком еще помню, в лица все вглядывался – думал: почему это так красиво? Знаете, что значит симпатичное лицо? Это когда черты сгармонированы. Пусть нос курносый, пусть скулы, – а все сгармонировано. Это вот и есть то, что греки дали – сущность красоты. Греческую красоту можно и в остяке найти», – говорил художник М. Волошину.
Его жадность к человеческим типам кинематографична. Так объектив камеры впитывает лица из окружающего мира – крупный план нашей повседневной жизни. Суриков остро ощущал движение в портрете. «Страшно я ракурсы любил. Всегда старался дать все в ракурсах. Они большую красоту композиции придают».
Этой увлеченности художника преемственно близко искреннее внимание его правнука-кинорежиссера к человеку в многолюдном потоке жизни. Как и полотна прадеда, фильмы Кончаловского обильно населены характерными, запоминающимися лицами. Уже зрелый мастер, он признается, что его никогда не интересовало кино как съемка, монтаж. Его всегда интересовали человеческие характеры, истоки их поведения, конфликты. В этом смысле его фильмы сильно отличаются от концептуального малолюдья картин Андрея Тарковского. Исключая «Андрея Рублева», создававшегося в напряженном дуэте с Кончаловским. Если Тарковский ищет мир в себе, то Кончаловский ищет себя в мире.
Размышляя о специфике выбора актера на роли второго плана, Кончаловский отвергает принцип массовки, используемый на всех больших студиях, от «Мосфильма» до Голливуда. Меняются костюмы – не меняются характеры. Они здесь не нужны. «Внимание на этих лицах никогда не акцентируется. И не дай бог, чтобы акцентировалось: сразу бы вылезла фальшь этого условно-кинематографического «народа», на фоне которого действуют два-три героя и пять-десять эпизодников. Таков традиционный американский принцип…» Кончаловскому ближе принцип «итальянский», воплощение которого он видит в фильме Пазолини «Евангелие от Матфея». «Какое обилие лиц, появляющихся, быть может, один-два раза на протяжении всей картины, иногда просто внутри общей панорамы! Им не дано ни слова, а они запоминаются. Потому что каждое лицо настолько индивидуально отобрано, за каждым – судьба, эпоха, народ, история, дыхание фильма, эпос. Камера фиксирует каждое из этих лиц – не скользит с равнодушной небрежностью, а активно обращает на них наше внимание. То же самое у Феллини. Он может посадить в кадр какую-нибудь странную женщину, в очках, с перьями в прическе, и мы ее помним с не меньшей отчетливостью, чем главных героев…»
Внимательный читатель мемуарных книг режиссера увидит и в дилогии «Низкие истины»-«Возвышающий обман» своеобразную портретную галерею. Найдет не только яркие наброски личностей известных, вроде Луиса Бунюэля или Марлона Брандо, но и людей, что называется, из массовки. Причем очерки о них увлекают не меньше, чем рассказы о культовых персонах. Автор интересен себе через «других», он их и любит поэтому, как себя, в них отраженного. По той же логике, он всегда влюблен в актеров, у него снимающихся, в каждого участника творческого процесса.
Живая увлеченность человеческим характером отзывается в сюжете его произведений: в драматическом становлении индивидуальной судьбы героя, в столкновении качеств характера, часто взаимоотрицающих. Может быть, поэтому режиссеру более интересны персонажи из «низовой» среды, наделенные большими возможностями личностного преображения, которое сопровождается неожиданными сломами – падениями и взлетами. Отсюда и одно из его жанровых предпочтений – сломная эпика трагедии.
Трагедия привлекает Кончаловского давно. Он и живопись своего прадеда оценивает с ее трагедийной стороны. Видит в ней внутреннее напряжение русской истории, противостояния, в центре которых оказывается в том числе и «человек из массовки». Эпическая многолюдность трагедии в полотнах Сурикова, вероятно, и обеспечивает их полифонию. Причем и антагонист, и протагонист в полотнах художника одинаково заслуживают сострадания, поскольку и тот и другой обречены Историей.
«Объективизм» того же свойства присущ работам Кончаловского. Он убежден, что ни судьей миру, ни проповедником художнику быть не пристало. Ни к тому ни к другому разряду не принадлежат ни Василий Иванович, ни его правнук, в чем и заключается их мировоззренческое единство.
Суриков до конца жизни не прекращал своего невольного странничества. Его правнук, слывущий за «русского европейца», в свою очередь, находится в постоянных передвижениях по миру, хотя самое милое для него место – дом, дети и жена рядом. В одном из поздних своих интервью (2010 год) он так изложил простую, но трудно реализуемую философию частного человека: «В течение вашей жизни вы должны постараться как можно меньше болеть. А желательно – не болеть. Вот что в вашей жизни важно. Чтобы у вас рос ребенок. И чтобы вы немножко зарабатывали денег. Чтобы на это хватило. Чтобы могли вы путешествовать чуть-чуть. Это главное. Все остальное – иллюзии».
А дом? «Мой дом там, – отвечает, – где меня любят, и там, где мне дают работу. Два дома, собственно». Еще в 1990-х годах на вопрос интервьюеров, не хотел бы он вернуться на родину окончательно и бесповоротно, режиссер заметил: «Что значит «вернуться»?.. «Прописку» я не хотел бы иметь нигде, меня вполне устраивает возможность приезжать сюда и уезжать, когда хочу. Устраивает, потому что это означает, что я живу здесь. Так же, как живу и работаю в Америке, в Италии, во Франции».
Наталья Кончаловская, мать Андрея, на рубеже 1960-х годов начала книгу, посвященную «дару бесценному» деда. Ее сыну было тогда лет двадцать пять. Творческий путь только начинался.
«…В последние годы жизни, когда творческие силы начали иссякать, все самое главное было завершено и наступила старость, Василию Ивановичу сильно захотелось домой, в Красноярск, – читаем в очерках Натальи Петровны. – Он писал тогда брату Александру Ивановичу, просил купить бревен и теса и надстроить флигель во дворе. Он собирался уехать в Красноярск насовсем и жить только там, в Сибири. Ему хотелось иметь в Красноярске мастерскую с верхним светом, где бы он мог, как ему казалось, осуществить свои последние творческие планы… Известно, что Александр Иванович купил материал для постройки такой мастерской. Было это в декабре 1915 года. А в марте 1916 года моего деда не стало. Он умер, не успев доехать до родного дома…»
Накануне, в феврале, у Сурикова сделалось очередное воспаление легких. Повторилось в марте. Собрались родные. Последнее время им казалось, что он больше их всех любит зятя, ближе к нему себя чувствует. Петр Петрович Кончаловский взял умирающего за руку. Тот открыл глаза, благодарно пожал родную руку, сказал: «Петя, я исчезаю».
Глава вторая Ветвь матери. «Семейный альбом» деда
…Нужно тебе сообщить весть очень радостную и неожиданную: Оля выходит замуж за молодого художника, хорошей дворянской семьи, Петра Петровича Кончаловского. Фамилия хоть и с нерусским окончанием, но он православный и верующий человек…
В. И. Суриков. Из письма брату Александру, январь 1902 г.1
Один из дорогих Кончаловскому образов – Дерево жизни. Дерево как кровеносное живое существо, укорененное в родной почве. Вокруг него и растет, охватывая ствол, дом. Дерево – мощный остов человеческого жилья, проросший в материю вселенной. Корневую тягу к дому, к почве переживают герои едва ли не всех картин режиссера, в том числе и созданных за рубежом.
Третьим фильмом в период его голливудских странствий был «Дуэт для солиста» (1986) по пьесе Тома Кемпински.
Лента рассказывает о выдающейся скрипачке Стефани Андерсон. Неизлечимая болезнь вышибает ее из музыки. Она лихорадочно ищет опоры, но уже не в ремесле. Ему она предана была бесконечно и так самоотверженно, что даже детей не заимела – некогда было. Теперь Стефани ищет опору в семье, в ближайшем окружении. А там – все, когда-то родные и близкие, давным-давно живут своей, недоступной Стефани жизнью. Женщина хватается за мужа, за любовника, за друзей, подруг и знакомых. За наблюдающего ее психоаналитика. И все впустую: там равнодушие, здесь предательство, а если и внимание, то искусственное.
Смерть между тем все пристальнее всматривается в героиню. В финале она получает в дар отрешенность одиночества. Как выразилась служанка скрипачки, ее душа бродит без якоря и не знает безопасной гавани. Стефани уходит от тепла родного обиталища, которое кажется уже миражом, к туманному холодному горизонту..
Там возвышается дерево. Символическая доминанта картины. К этому дереву приходила она в пору своей молодости с любимым человеком, ее нынешним мужем. А теперь окутанная предсмертным туманом героиня исчезает, скрываясь за мощным стволом обнаженного древесного гиганта, – будто растворяется в нем…
Трагизм ее положения – в той неизбежной жертве, которую она как художник должна возложить на алтарь своего творчества. Она отрезала духовную часть своего существа от женской, материнской и вообще всякой другой земной плоти. Оторвалась от Дома-Дерева, а значит, и от материи жизни, слишком поздно осознав это. Голос живой плоти Стефани, смиренной близкой смертью, прорывается в каком-то удивительно просветленном выражении лица, в улыбке великой любви к источающейся жизни. Пронзительное сострадание к героине проникает в душу зрителя…
Вот и дерево в финале «Дуэта для солиста», хоть и обнажено осенью, а все же – более символ Жизни, нежели Смерти. Той самой жизни, которой пожертвовала героиня в творческом самозабвении. Так возникает существенный для самого Кончаловского вопрос о том, насколько может требовать «поэта к священной жертве Аполлон». Точнее говоря, насколько безоглядно может художник жертвовать собой в творчестве, отвергая зов самой жизни, как это произошло, скажем, с Андреем Тарковским.
Кончаловский любит деревья, и дыхание природы во многих картинах режиссера хорошо ощущается. Это роднит их с творчеством деда Андрея по материнской линии Петра Петровича Кончаловского, нацеленно и глубоко осваивающего в живописи связи природы и человека. Для внука Петр Кончаловский – образец художника, дух которого не отвергает богатства и разнообразия жизни.
Природа, или натура, как живая, вечно становящаяся первооснова бытия, – вот питательный источник в постижении художником жизни. Такой взгляд на художественное творчество последовательно и настойчиво отстаивает режиссер, отвергая некоторые опыты современного искусства: «Для меня в искусстве важно то же, что было необходимо для Сезанна, Матисса, Петра Кончаловского: выразить чувственное наслаждение от созерцания форм природы».
За этой позицией скрывается целая жизненная философия, которой, так или иначе, следовал Петр Петрович и которую вполне сознательно наследует его внук.
2
«Я родился в 1876 году в городе Славянске, – сообщает в автобиографии П.П. Кончаловский. – До пятилетнего возраста жил в имении моих родителей Сватово-Старо-бельского уезда Харьковской губернии. Мои родители были участниками революционного движения 70-х годов, и отец был арестован и сослан в Холмогоры Архангельской губернии, а имение наше было конфисковано… После ссылки отца семья наша поселилась в Харькове, где мы прожили до конца 80-х годов…»
Родители будущего художника вовсе не были профессиональными революционерами – уже хотя бы в силу своей широкой образованности. Брат Петра Петровича историк Дмитрий Петрович Кончаловский (1878–1952) писал, что для той части русской революционной интеллигенции, которая подтолкнула страну к перевороту 1917 года, «типична… полуобразованность, ибо большое знание ставит предел размаху идей».
Отец живописца Петр Петрович Кончаловский (1839–1904) – известный в свое время переводчик и издатель, знаток западноевропейской литературы. Сын севастопольского морского врача, он учился в Петербурге на естественном отделении физико-математического факультета. Изучал право. По окончании учебы был оставлен на факультете, но, женившись на дочери харьковского помещика, уехал в имение жены. Из него самого помещика не получилось, хозяйство скоро пришло в упадок.
Мать – Виктория Тимофеевна, урожденная Лойко (1841–1912), по воспоминаниям сына, была для детей живой энциклопедией, хорошо знала иностранные языки.
С.Т. Коненков, крестный дочери живописца Натальи Кончаловской, часто бывал в доме Петра Петровича и Виктории Тимофеевны еще в свои гимназические годы и вспоминал о них как о семье «образованных, высококультурных людей, любящих и прекрасно знающих искусство», дружеское расположение которых «способствовало духовному обогащению» будущего скульптора.
Петр Петрович испытывал чувство великой благодарности к отцу, чьи издательские проекты позволили ему, начинающему живописцу, попасть в среду московских художников 1890-х годов – таких, как Суриков, Серов, Коровин и Врубель. Врубель был особенно близок их семье. Подружившийся с Кончаловским-старшим и им горячо ценимый, Михаил Врубель целыми месяцами жил у них в доме, работая над иллюстрациями к Лермонтову.
Свою суженую Петр Петрович увидел во время первого посещения Василия Сурикова. Великий сибиряк поразил своей внешностью четырнадцатилетнего Кончаловского. А из-за двери между тем смотрели на него – и весьма недружелюбно, даже неприязненно! – черные глаза девочки. «И это были, – запишет он в своих воспоминаниях, – глаза (кто бы мог подумать) моей будущей жены».
Венчание состоялось в церкви Святителя Николая в Хамовниках. Ольга Васильевна так описывала это историческое событие: «Образ должен был везти в церковь мальчик, сын В. А. Серова, Юра; Серовы собирались на свадьбу, когда к ним пришел Врубель; он узнал, что идут на свадьбу Пети Кончаловского, который женится на Оле Суриковой, и решил идти с ними…»
Андрей с душевным подъемом вспоминает, как узнал впервые, что «один из величайших художников в мире» «великий Врубель» присутствовал на свадьбе его бабки и деда. Одновременно внук сожалеет о том, что в юные годы не осознавал всего богатства, скрытого в культурной памяти Петра Кончаловского. «Если бы я знал хотя бы сотую часть того, что знаю сегодня, – обращается он в «Письме деду» к духу уже почившего предка, – я бы замучил тебя вопросами о той жизни, об искусстве и о бесценном наследии русской культуры, которое ты пронес из XIX века в XX…»
В январе 1903 года у молодых супругов Кончаловских родилась дочь Наташа, будущая мать Андрея. В марте же 1906-го появится его дядя – Михаил.
Профессиональный путь Петра Кончаловского как живописца определился не сразу, но резко. В 1896 году, по настоянию отца, он поступил на естественный факультет Московского университета. И тут уже упросил родителя отправить его в Париж учиться живописи.
Вернувшись в Россию, Петр Петрович поступает в Академию художеств.
Рассказывая об этом периоде жизни художника, П.И. Нерадовский пишет: «Кончаловский рос баловнем. В Академии он держал себя независимо, иногда даже вызывающе. Он был всегда окружен подпавшими под его влияние учениками. Он интересно, а иногда артистически рассказывал или пел. Работа за мольбертом не мешала ему петь или развлекать соседей. У него была потребность привлекать к себе внимание…»
Эти строки рифмуются с тем, как описывает Андрей свою учебу во ВГИКе, куда он поступил «без всякого страха, экзамены сдавал с удовольствием», поскольку ему «это было легко». Легко было и учиться. «Ромму очень не нравилось, что мне так легко учиться… Мне он всегда ставил тройки, хотя я знал, что мои работы не хуже других, а по большей части и лучше… Думаю, Ромм меня сознательно придавливал тройками. Он чувствовал мою легкомысленность, бесшабашность, ему это претило…» Да и артистизм деда, «потребность привлекать к себе внимание» были присущи молодому его внуку.
В 1907 году Петр Петрович познакомится с живописцем Ильей Ивановичем Машковым. В конечном счете их общая неудовлетворенность тогдашней жизнью в искусстве выльется в творческое объединение «Бубновый валет», первая выставка которого состоялась в 1910 году.
Когда обращаешься к недолгой паре-тройке десятилетий Серебряного века, поражаешься той парящей свободе, с которой объединялись (и разъединялись!) творческие души самого разного состава. Поражаешься их ртутной подвижности – сегодня там, а завтра здесь; сегодня – живописание в Париже, завтра – перрон вокзала в Питере, послезавтра – казачий дом в Красноярске. Легкость, с какой они снимаются с места, меняют очаги и стены, этот захлеб жизнью иногда кажутся лихорадочно-бредовым предчувствием каких-то последних дней. Действительно, жили ощущением: весь мир – наш дом. И это накануне социально-исторической катастрофы!.. Энергия «серебряной» свободы, распирающей тело и душу жизнеспособности сохранялась и тогда, когда катастрофа приобретала вполне очевидные, даже бытовые формы. Мало того, уже внутри разлома, последовавшего за событиями Октябрьского переворота, они упивались токами вдруг наступившего недолгого освобождения от имперских оков уходящей России.
«Революция дала мне в жизни самое для меня дорогое – это она сделала меня художником», – обозначил общее настроение большого отряда творческой интеллигенции тех лет Сергей Эйзенштейн. И объяснил почему: «…только революционный вихрь дал мне основное – свободу самоопределения», «свободу выбора своей судьбы».
Один из многочисленных вопросов, которые хотел задать деду внук, таков: почему тот уже в советское время вернулся в Россию, хотя много раз мог остаться в Европе?
Может быть, вопрос этот так беспокоил внука и потому, что сам-то он с молодых лет – особенно после того, как впервые побывал за границей, – мечтал о Европе. Более всего – о Франции, которая в свое время покорила и семейство деда. Ему мерещился «призрак свободы» частного существования, которой он не находил на родине. В конце концов, мечты нашли реальное воплощение. Другое дело, что мера свободы в сознании зрелого художника Андрея Кончаловского, объездившего мир, сопрягалась уже с мерой личной ответственности. В интервью нулевых годов он, цитируя кого-то из чтимых им мыслителей, заявлял: «Никто не заслуживает абсолютной свободы… Свобода, прежде всего, – это способность к самоограничению».
А на вопрос внука ответила в своих записках его бабка Ольга Васильевна.
«В 1918 году… мы жили все время в Москве на Большой Садовой, где была мастерская и квартира, революция была для нас избавлением от чего-то рабского: первые два года были очень трудные по лишениям, но мы были молоды и счастливы. Не было отопления, и пришлось из всей квартиры занять одну комнату, где стояла чугунная печка… Рояль стоял в середине, и приходили все друзья к очажку. Приходили Игумнов, Боровский, Николай Орлов, все играли, и было прекрасное общение. Петр Петрович работал… Многие в это время уехали: Бенуа, Сомов, Добужинский, Сорин, Судейкин и др. Мы не могли понять, как можно уезжать, когда стало легко и свободно дышать. Мы очень любили Запад, но и в голову не приходило бросить Родину, когда только открылась свободная жизнь, без всякой зависимости от богатых коллекционеров». Иными словами, открылось то, что Эйзенштейн назвал «свободой выбора собственной судьбы».
Эта зачарованность идеальными обещаниями революции овладела многими из творческой элиты той поры.
Не только Эйзенштейном или Петром Кончаловским – Александром Блоком, например, или Андреем Платоновым. Они оказались в ловушке собственных иллюзий. Но уже в начале 1930-х годов Петр Петрович купил, как рассказывает внук, «дом на 120-м километре Москвы». «Дом без электричества, без радио, где можно было забыть о советской власти…»Дед не мог не знать, продолжает Андрей, что «политические репрессированные имеют право жить не ближе 110 километров к Москве». А значит, понимал, что и сам может попасть в их число.
Вплоть до начала 1930-х годов семейство Кончаловских проживало в формате свободных передвижений – не только по стране, но и по миру.
«Мой дед, – начинает свой рассказ о Петре Петровиче его потомок, – был человек глубоко русский, но без Европы не мог жить. В его доме все дышало Европой, не говоря уже о том, что в живописи он был сезаннистом… Дед прекрасно говорил по-французски…»
В 1910 году семья Кончаловских переселилась в дом на Большой Садовой – «дом Пигит». Центром жизни, по воспоминаниям Натальи Петровны, стала мастерская отца, расположенная во дворе. «И самым бесценным для нас, детей, была атмосфера высокого духовного общения с отцом и постоянного труда, в котором мы росли почти с пеленок. Папа все умел и любил делать сам…»
Так складывалось чувство семейного единства – по духу творческого труда.
Между тем пространство свободного существования с каждым пореволюционным годом катастрофически сокращается, и каждый квадратный метр сохраняемой свободы наполняется страхом.
Когда в 1912 году в главном корпусе «дома Пигит» освободилась на пятом этаже квартира из четырех комнат, семья Кончаловских переехала туда. Но после Октябрьской революции здание перешло в ведение Моссовета. Квартиры уплотнялись рабочими соседней табачной фабрики. И семья сдала государству три комнаты из четырех, оставив одну для дочери. Остальные члены семьи переместились жить в мастерскую во дворе…
Упомянутый дом – предмет фантасмагорический, если судить по страницам прозы М.А. Булгакова, например. В частности, квартира № 50, где в 1921–1923 годах жил писатель, едва ли не всю свою жизнь страдающий от «квартирного вопроса», запечатлелась как в ряде его фельетонов, так и в мистическом романе «Мастер и Маргарита». «Нехорошая квартира» – образ хамского попрания «пролетариатом» той самой частной свободы, которую так ценили и к которой привыкли люди вроде самого Булгакова, вроде семьи Кончаловских…
Но они ничего этого будто не замечают. Наталья Петровна рассказывает, как хорошо их семье было жить в огромной мастерской отца. Как только все переселились в мастерскую, ранее пустовавшую (до 1917-го года, пока Петр Петрович не был демобилизован из действующей армии по контузии), но теперь сразу ожившую, здесь началась «очень интересная жизнь»…
«…За аркой была спальня родителей. Тут же стоял рояль, на котором играли, просто давали концерты такие пианисты, как Цекки, Боровский, Софроницкий. На ночь спальня отгораживалась ширмой. А в большой половине стоял длинный, желтый бархатный диван, на котором спал Миша (брат Натальи Петровны. —В.Ф.). На фоне старинного гобелена… стоял большой стол с красками. У стен помещались мольберты и холсты. Была там и крохотная кухня с умывальником возле окна. Готовили на керосинках, но посреди мастерской стояла большая чугунная печь, которая топилась углем, и на ней постоянно готовилась пища…»
Их странное «гнездо» было одновременно и частным жилищем, и общежитием творческих личностей, возникшим в результате советского уплотнения. Здесь Петр Петрович и Ольга Васильевна прожили до 1937 года, когда получили квартиру на Конюшковской улице. В этом же году 20 августа родился Андрон (Андрей). Но в другом доме. Там была только комната. Сергей Михалков отправил тогдашнему предгорисполкома Москвы стихотворную просьбу о предоставлении жилплощади. В результате была получена двухкомнатная квартира.
Образ дедовской мастерской, однако, волнует и уже повзрослевшего Андрея. Она рифмуется в его сознании с мечтательной Францией, с неким культурно-художественным оазисом. «Здесь бывали Хлебников, Бурлюк. Сюда приходил Маяковский в своей желтой блузе, с морковкой, торчавшей вместо платка из кармана….. на диване очень часто спал Велимир Хлебников – во фраке, с манишкой и манжетами. Рубашки при этом не было, фрак был расстегнут, манишка заворачивалась папирусом, из-под нее виднелся желтый худой живот…»
Все эти подробности быстротекущей реальной жизни сегодня прочитываются как миф о героическом веке нашей великой творческой элиты. Кончаловский как-то с сожалением заметил, что не мог, по причине малолетства, по душам поговорить с поэтом Сергеем Городецким, у которого ребенком сидел на коленях, расспросить о Блоке… Сергей Городецкий, друживший с Блоком, принимавший у себя начинающего Есенина, скончался, когда Андрею было тридцать. К этому времени ни Блока, ни Хлебникова, ни Маяковского давно не было в живых…
3
На протяжении всего своего творчества, и особенно в советское время, Петр Кончаловский верен образам близких ему людей: пишет собственную семью, запечатлевает ее материально-вещное и духовное бытие. Он будто укрывается в своем «русском доме» от наступления отечественного социализма.
В 1920-1940-х годах, по наблюдениям искусствоведов, в творчестве Петра Кончаловского преобладает самоощущение, которое Пушкин назвал «самостояньем человека». Живописец Кончаловский глубоко осознавал свое место в среде бытового и людского окружения, свою общность с этой средой и вместе с тем – свою независимость как человек и художник. Направление творчества, не свойственное социалистическому реализму.
Так заявляет о себе глубоко индивидуальная «натурфилософия» живописца, усвоенная и его потомком. «Самостояние» Петра Петровича утвердилось с покупкой дачи в Буграх, обозначившись как принципиальное возвращение к русскому «усадебному укладу» и в жизни, и в живописи.
С течением времени образы его работ становятся все менее монументальными и обобщенно «европейскими», все более «обытовленными» и «русскими», портретно конкретизированными. Теперь уже не абстрактный абрис эпически вознесенной семьи (как в раннем «Сиенском портрете» 1911 года), а именно конкретный ее образ вписывается в Природу и Культуру. Таковы его автопортреты 1926,1933,1943 годов. Автопортрет с женой (1923), например, с юмором цитирующий Рембрандта. Портреты дочери разных лет. Изображения внуков, вроде «Катеньки спящей» (1932), «Не звали» (1947), «Андрон с собакой» (1949)…
Чада и домочадцы, их друзья и знакомые в этом «семейном альбоме» – на миг живописного чудотворства– попадают в утопическую, по меркам советского государства, страну нормального частного бытия: с запахом только испеченных булочек и кофе по утрам, с пышными кустами сирени в саду и умиротворяющим видом из окна… Со всем тем, что вселяет покой в душу человека и уверенность в неотвратимости природного цикла, а значит, в безопасности и разумности и его, человеческого, существования.
Но были среди этих портретов и такие, в которых отразилось внутреннее напряжение, тревога мастера. По рассказам Андрея, Петр Петрович фактически отказался в 1937 году писать портрет Сталина и сделал это не без юмора. Художник вроде бы согласился, но, позиционируя себя как закоренелого реалиста, настаивал на том, чтобы вождь ежедневно ему позировал, что было, понятно, категорически невозможно. Между тем хорошо известен портрет Мейерхольда, написанный Петром Петровичем как раз в эпоху опалы режиссера, когда многие избегали даже простого общения с ним.
Описывая состояние своего деда в 1930-е годы, внук вспоминает его «Автопортрет с собакой» (1933), с которого на зрителя смотрит «мрачный человек с осуждающим взглядом». В этом взгляде внуку видится «вызов всему существующему строю», в котором деду пришлось жить. «Мало того что этот человек стоит со сторожевой собакой, он одет в роскошную барскую шубу, за которую десятью годами раньше могли расстрелять». Пробужденные живописью деда ассоциации – очень личного характера и почти безотчетно вызывают в памяти Андрея волнующие его мандельштамовские строки 1931 года: «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня: за барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня».
Дачу в Буграх приобрели зимой 1932 года (часть имения Обнинских «Белкино») под Малоярославцем, в Калужской области, где Петр Петрович жил и работал еще в 1907 году. Зарубежные поездки прекратились, кажется, с 1925 года. Но семья еще успела побывать в Италии, Франции, Англии, а затем отправилась в Новгород Великий.
Внук полагает, что прекращение контактов Петра Петровича с Европой было вызвано, кроме прочего, и тем, что русский живописец «остался с Сезанном» (французский художник-неоимпрессионист, один из теоретиков символизма в искусстве Эмиль Бернар говорил о нем как о самом русском из всех сезаннистов), а западноевропейская живопись, в формальном смысле, резко шагнула в сторону требований рынка. Кончаловский как художник не нашел понимания за рубежом.
«Дачный» дом становится по-настоящему патриархальным обиталищем семьи, которое, в восприятии Андрея, было и осталось «русским домом, просвещенным домом, домом русского художника»; одним из немногих домов, где еще «сохранился уклад старой жизни», созданный человеком не только объездившим, но и обжившим едва ли не всю Европу.
Описывая протекавшую на его глазах повседневную жизнь деда, внук невольно сожалеет, что институт больших семей умирает по всему миру. В доме Кончаловских такой «институт» был еще жив. «Дедушка, бабушка, дядя Миша с женой, двое их детей и третий, от первого дядиного брака, мама, я, сестра Катя (от первого брака матери. – В.Ф.), Никита, няня Никиты – двенадцать человек постоянно жили в доме летом. А сколько еще приходило и приезжало гостей!»
Когда в 1951 году семья Михалковых построила дачу на Николиной Горе, от деда съехали туда, и там, так или иначе, удерживался этот семейный уклад. Во всяком случае, до тех пор, пока жива была Наталья Петровна Кончаловская. Многие из друзей Андрея жили здесь по нескольку лет. Один из крупнейших отечественных композиторов Вячеслав Овчинников рассказывал, например, что с Тарковским и Сергеем Бондарчуком, для фильмов которых он писал музыку, познакомился именно на Николиной Горе, где прожил едва ли не с десяток лет. Он с благодарностью вспоминает это время, свидетельствуя, что дом Михалковых-Кончаловских помог большому числу талантливых людей узнать друг друга и объединиться для серьезных творческих дел.
4
Петр Петрович – неутомимый труженик, заражавший своим трудолюбием подрастающих потомков. Михаил и Наталья Кончаловские, а затем и Андрей с детства наблюдали весь процесс рождения картины – от сооружения подрамника до нанесения последнего мазка. Они жили среди холстов и подрамников, коробок с тюбиками, красок и кистей, включаясь в ритуал сотворения полотна с его азов…
В искусстве Андрей, по наследственной памяти, ставит на одно из первых мест владение профессией, рукомеслом. Деда он почитает и как профессионала, для которого духовный взлет таланта начинается «на земле», в тот момент, когда его руки делают подрамник, натягивают на него холст, перетирают краски. Вероятно, отсюда не только его почтительный тон по отношению к владеющим ремеслом, но и почти мистическое внимание к рукам, которые во многих его фильмах становятся образными доминантами.
Руки Сергея Рахманинова в сценарии А. Кончаловского и Ю. Нагибина «Белая сирень» – образный фокус, средоточие эпизодов-состояний гениального композитора и великого пианиста, но одновременно и «ломового» трудяги.
В начале киноромана он – дирижер. Исполняется литургия Св. Иоанна, и солнце, прорывающееся сквозь сводчатые окна в большой зал дворянского собрания, «драгоценно золотит его вскинутые руки». А в финале, во время последнего исполнения, когда будет звучать его Второй концерт, Рахманинов, неизлечимо больной, посмотрит на свои пальцы, произнесет еле слышно: «Прощайте, мои бедные руки!» А они, большие, рахманиновские, ложатся тем не менее на клавиатуру, и волшебные, полные мощной скорби аккорды заполняют зал…
Словесный образ в воображении читателя оборачивается кинематографически выразительной, живой картиной. Особенно в том эпизоде, где длинные крепкие пальцы великого Рахманинова как бы проникают в лоно самой природы, чтобы дать выход новой жизни.
…Не может разродиться вороная Шехерезада, лучшая кобыла Рахманинова. Композитор, узнав об этом, устремляется к конюшне. Там лежит бедное животное. Ветеринар разводит руками: схватки начались давно, но плод неправильно пошел, и «надо резать». Рахманинов хватает себя за виски: что делать, как спасти мать? Ветеринар же как-то странно смотрит на композитора, берет его правую руку и отводит от виска: «А ну-ка, распрямите пальцы!» Удивленный Рахманинов повинуется. «Вот что нам надо! – восторгается ветеринар неожиданно явившемуся спасению. – Рука аристократа и музыканта. Узкая и мощная. Великолепный инструмент. Задело, Сергей Васильевич!»
«Рахманинов понимает врача. Он сбрасывает куртку, закатывает рукав сатиновой рубашки. Присутствующие переглядываются с надеждой: и впрямь, удивительная рука – совершенное создание природы – мускулистая, крепкая в запястье, с длинными сильными пальцами. Рахманинов погружает руку в естество кобылы. Та дергается в ответ на новое мучительство, а затем издает тихое нутряное ржание, будто понимает, что наконец-то пришла помощь. Медленно, осторожно, ведомый могучим инстинктом, проникает Рахманинов в горячую плоть к едва теплящемуся огоньку новой жизни.
…Звучит музыка Литургии… Люди оцепенели, будто присутствуют при таинстве……Спазмы кобылы выталкивают руку Рахманинова.
Рахманинов (сквозь зубы). Я упущу его.
Ветеринар приваливается плечом к его плечу. Герасим подпирает ветеринара. Рука снова уходит глубже, а затем понемногу выпрастывается. Ветеринар отталкивает Герасима и убирает свое плечо. Рука Рахманинова совсем выходит из тела животного, а за ней возникают деликатные копытца, шелковая мордочка, плечи и все странно длинное тельце жеребенка.
Ветеринар (ликующе). Живой!.. Ну, Сергей Васильевич!.. Ну, кудесник!..
Герасим (истово). Спасибо тебе, Господи, что не оставил нас!..
Шехерезада издает тихое, нежное ржание…»
И Петр Петрович как художник отдавал особое предпочтение образу рук в портрете. В автопортретах 1910-х годов его руки грузные, но спокойно уложенные на животе как бы после трудового напряжения или в тихом ожидании ремесла. В «Автопортрете в охотничьем костюме» (1913) правая решительно упрятана в тулуп, а левая легко поддерживает ружье. В «Автопортрете с женой» обе руки с одинаковым удовольствием, нежностью и силой обнимают женщину и сжимают бокал с вином.
А как эти руки с привычной виртуозностью обращаются с инструментом для вполне бытовой операции в «Автопортрете с бритвой» (1926)! Герой портрета даже и не бреется – он дирижирует ритуальным концертом солнечного начала дня, а то и жизни! Настолько музыкально изящно и стремительно здесь движение рук… В другом автопортрете того же года они уже поддерживают тяжелую от дум голову художника…
И вот, наконец, руки Петра Кончаловского за их прямой работой – живописной – в лучшем Автопортрете– 1943 года, на котором он стоит, гордо выпрямившись, с кистью в левой руке…
Стенограммы выступлений Андрея Кончаловского перед студентами ВГИКа или слушателями Высших сценарных и режиссерских курсов (1970-е годы) показывают, насколько серьезно сценарист и режиссер относится к первостепенному для него вопросу профессионального мастерства в сочетании с талантом художника. Кончаловский вдохновенно рисует перед студентами пример такого органического единства – работу Лоуренса Оливье, который, «помимо огромного таланта, способности и искренности», обладает еще и «потрясающей техникой управлять своей искренностью», многообразными средствами воздействия на зрителя.
В постсоветское время вдохновенное воспевание профессионализма сменяется у Кончаловского горьким сожалением о том, что это необходимое для художника качество становится все менее актуальным, а вместе с тем все менее актуальным становится и сам художнический дар. «Сегодня рыночная стоимость подменила художественную ценность – вот в чем главная трагедия современного искусства. Не знаю, дождусь ли того часа, когда художники снова вернутся к чувственной и понятной для людей форме выражения, – к живой, настоящей реальности».
5
Вернемся в дом в Буграх. В этих местах художник охотился, здесь ходил по грибы, срезая их самодельным ножом, «вкусно» описанным его дочерью в очерке «Лесное волшебство», как и сами их грибные походы с последующим возвращением к самовару на столе, кринке холодного молока и теплых булочек на блюде. Петр Петрович не был, наверное, таким рационально расчетливым в питании, как его внук. Дед любил хороший стол, испанскую еду. В правилах натурального хозяйства построил коптильню. Как вспоминают потомки, коптил окорока, делал ветчину по-испански – хамон. И все здесь дышало крепкой, изнутри пропитанной разнообразнейшими запахами деревенской жизнью.
«До сих пор помню, – рассказывает Андрей, – ощущение таинственного полумрака кладовой, пахнет копчеными окороками, висят связки лука, перцев, стоит мед в банках, в бутылях – грузинское вино. Эти окорока, лук, перцы, бутыли вина дед писал на своих полотнах. Классический набор для натюрмортов, очень популярный у Сурбарана, у других испанцев. В доме пахло этими живыми натюрмортами, копченой ветчиной, скипидаром, масляной краской, кожей, дегтем…»
По убеждению Андрея, его великий предок предпочитал оставаться в другой эпохе, не хотел жить в двадцатом веке. Он жил как русский мелкопоместный дворянин конца XIX века: разводил свиней, окапывал сирень и яблони, брал мед. Была лошадь, Звездочка, которую внук научился запрягать. Была телега. Были две коровы, бараны. Уклад жизни был суровый, но добротный, основательный. В людской топилась печь, хозяйничала няня Маша. На Петров день приходили крестьяне, приносили Петру Петровичу в подарок гуся. В ответ выставлялась водка, начинались разговоры про старую, дореволюционную жизнь… С мужиками обычно приходил и председатель колхоза, он тоже был из местных.
Время от времени и у самого Андрея Кончаловского просыпается усадебно-поместный инстинкт, тяга к широкой хозяйственной деятельности. А в организованном им уже в зрелые годы и при участии жены Юлии Высоцкой домашнем быте он в самом деле ощущает себя помещиком.
Но вот несколько слов об опытах Кончаловского в бизнесе. В интервью весной 1998 года – в связи с презентацией книги «Низкие истины» – ему напомнили не без юмора, что несколько лет тому назад он обещал бросить кино и заняться выпуском галош, намереваясь «обуть всю Россию». В ответе интервьюеру прозвучала неожиданная серьезность. Галошами, отвечал режиссер, он собирался заниматься без всяких шуток. «Дело полезное – при нашем-то мерзком климате». Он даже встречался с людьми, которые должны были помочь ему наладить «галошепроизводство», но потом «полезное дело» застопорилось. Стало понятно, что бизнесом нельзя заниматься от случая к случаю. Тем более что бизнесменом и организатором на ту пору Андрей показался себе никудышным…
Кончаловский – человек далеко не бедный, конечно. Но в его руки не текут сами по себе большие, ну, очень большие деньги, как это бывает, говорят, с по-настоящему удачливыми предпринимателями. Кончаловский, при всей его рациональности, не так счастлив в хозяйственно-деловом смысле, на мой взгляд, как в собственно творческих поисках. Гораздо успешнее в этом отношении его жена Юлия Высоцкая, кроме удивительной работоспособности, обладающая развитой силой воли и, вероятно, более непреклонным характером, чем муж.
Как бы там ни было, он куда более художник, чем расчетливый делец. Подспудно не угасающая в нем наследственная тяга к усадебно-поместной жизни, давно в быте страны отошедшей в прошлое, выражается поэтому больше эстетически, нежели прагматически.
В памяти Андрея время от времени просыпается рисунок бревенчатого сруба дедовской дачи, в котором он подростком пытался разгадать какие-то древние тайны. Еще в гу пору, когда был изображен Петром Петровичем в его собственной, деда, портретной позе: рука в бок и с собакой! «В щели и трещины я прятал конфеты, чтобы не сразу их съесть, оттянуть удовольствие. Когда трещины в бревнах становились уж слишком заметными, их заливали воском. Воск был из ульев, дед сам отгонял пчел дымовиком с раскаленными углями, весь облепленный роящимися насекомыми вытаскивал из ульев соты…»
Уже, кажется, в нулевые годы Андрея спросили, удалось ли создать дом, где ему по-настоящему хорошо, и насколько, если такой дом создан, он похож на дом детства. Кончаловский ответил: «Он похож на дом моего детства. Он впитал лучшее из него, и у меня там много любимых вещей. Но самое большое сходство у дома, думаю, со мной. Когда у человека есть индивидуальность, дом всегда похож на хозяина. А вообще дом моего детства – это я сам…»
Стойкое ощущение родного угла, подкрепленное к тому же следом от давнего ожога дедовским дымовиком! Из памяти Андрея, вероятно, никогда не испарится дух детских лет, проведенных в Буграх: «Утром просыпаешься – пахнет медом, кофе и сдобными булками, которые пекла мама. Запах матери. Запах деда. Запах детства».
Эти запахи сопровождали в детстве и мать Андрея. Ее первой школой оказалась школа в Латинском квартале Парижа. Шестилетняя Наталья обратила внимание на тот непременный завтрак, который помещался в сумках французских школьниц 1910 года – свежий круассан и плиточка шоколада. Пристрастившись к поеданию удивительного слоеного рогалика, долго не могла узнать, хотя и страстно желала, рецепта его выпечки. Удалось это осуществить в Авиньоне. Сюда она попала уже в зрелом возрасте, работая над переводами провансальского поэта Фредери Мистраля (1830–1914). Остановилась у молодой пары учителей, имевших двух маленьких сыновей. И здесь увидела, как лепят желанное яство прямо на домашней кухне. В обмен на рецепт круассана Наталья Петровна открыла секрет выпечки русского черного хлеба, который умела готовить с юности…
Это умение, несколько, может быть, экзотичное для дочери Петра Кончаловского, было связано с Абрамцевом. Здесь Наталья бывала с родителями, дружила с внуками Саввы Мамонтова. Усадьба была национализирована в 1918 году и превращена в музей. В этом же году скончался и хозяин. Первой заведующей музеем стала его дочь Александра. И какое-то время в доме жизнь текла по-старому. Семья Кончаловских в те годы жила летом в мастерской Саввы Ивановича. Тогда-то Наталья вместе с внучкой Мамонтова Лизой вела хозяйство. Девочки умели готовить, топить русскую печь в абрамцевской кухне. И обе выпекали черный хлеб из пайковой муки. У Лизы от прежних времен осталась еще и корова в маленьком хлеву. И подружка учила Наталью доить.
«…Как же все это ловко, быстро, с любовью делали мы, две девчонки, бывшие гимназистки, не готовившиеся стать ни стряпухами, ни коровницами, ни прачками. Девчонки, которые по вечерам читали «Малыша» Альфонса Доде и «Собор Парижской Богоматери» Гюго по-французски или играли в четыре руки Третью симфонию Моцарта, переложенную для фортепьяно…»
В жизни интеллектуалов этой популяции легко рифмовались французские круассаны и русский, крестьянским способом приготовленный ржаной хлеб. Причем и то и другое они были способны производить на свет собственными руками. А в дополнение ко всему – создавать уникальные духовные ценности, проходя путь от первого, ремесленного этапа их производства, до последнего, целиком духовного.
На рубеже XIX–XX веков формировалась особая прослойка интеллектуальной элиты, вероятно довольно тонкая, из числа ученых и художников, не чурающихся «черного» ремесла, но окрыленного творческим замыслом. И это могли быть первые ростки так и не развившегося в стране класса буржуазии.
Семейство Кончаловских следует отнести к этой прослойке. И свобода их передвижений в мире так же была связана с почти подсознательной склонностью опробовать, ощупать руками все, что предстояло освоить в частном бытии. Не только Испанию, Кончаловский успел полюбить и Париж, потому что «там можно было жить, как хочется». Пожалуй, эта и была главная «европейскость» в его воспитании, хорошо усвоенная и детьми, и внуками – «жить, как хочется», то есть жить естественной жизнью частного, независимого человека.
В советский период первый (и последний!) выезд Петра Кончаловского за рубеж состоялся, напомню, в 1924–1925 годах. Его пригласили участвовать в международной Венецианской выставке живописи и ваяния. Советский Союз впервые получил в постоянное пользование павильон на бьеннале. «Отцу, – вспоминает Наталья Петровна, которой самой был тогда 21 год, – хотелось поработать, и поэтому незамедлительно после выставки мы отправились в Сорренто, чтобы через два месяца переехать в Рим, потом снова в Венецию, на осенние пейзажи. А к зиме собирались в Париж, куда были отправлены 120 картин Петра Петровича для персональной выставки…» В воспоминаниях Натальи Петровны ее отец – большой, свободный, дышащий молодостью счастливый человек – счастливый независимостью своего существования. Но именно потери своей независимости Петр Петрович и испугался, говорит внук, во время последней поездки в Европу.
Вернувшись на родину, семья скоро почувствовала необходимость отгородиться от внешнего мира природой и натуральным хозяйством. По словам внука, его дед на принципы, что называется, «не напирал», чурался политики и идеологии. Но и человеческим достоинством при этом не поступался.
Обжегшись Западом в самом начале 1960-х, Андрей еще тогда готов был расстаться с советским образом жизни навсегда.
Впервые отправляясь за рубеж, на Венецианский фестиваль, Андрей вначале оказался в какой-то римской гостинице. Было уже довольно поздно. Он вышел на балкон. Площадь перед гостиницей кишела людьми, переливалась огнями, возбуждалась музыкой и пением. «Праздник?» – поинтересовался он. «Нет! – ответили ему. – Мы так живем».
А в 1968 году он в первый раз оказался в Лондоне: работал над сценарием по «Щелкунчику» для английского режиссера Энтони Асквита, желавшего сделать сказку с русским балетом.
Чему Кончаловский поразился прежде всего в британской столице? А тому, что город явился обихоженным вековой традицией частным домом. От него веяло ощущением солидности, долгопрочности мира, надежности устоев, поддерживающих общество. И главное: символом этой долгопрочности предстали… входные двери лондонских домов.
«Для советского гражданина дверь подъезда – это что-то загаженное, зацарапанное, покрашенное или отвратительным красно-коричневым суриком, или, если в деревне, выцветшей голубой краской, а то и вовсе сгнившее. А тут – полированные двери красного (!) дерева с бронзовыми ручками. Такое еще можно представить внутри музея. Но что бы это была уличная дверь, да еще с всегда начищенной, а не позеленевшей до безобразия бронзой – нет, это казалось немыслимым!»
Таким и запечатлелся в сознании советского режиссера древний город – как старая уютная квартира с разными дверями, комнатами, коридорами, несомненно принадлежащая зажиточному, хорошо воспитанному, солидному человеку.
Характерное для Кончаловского восприятие чужой культуры! Как чужого дома, но не чуждого, а именно – чужого, то есть другого, не похожего на свой, который, кстати говоря, может быть по отношению к своим обитателям как раз чуждым. А этот чужой дом был таким, что его хотелось обжить, вместить в свой культурный опыт.
Для внука Венеция стала первым непосредственным контактом с заграницей, для деда именно ею, напомню, и завершились зарубежные вояжи.
Петр Петрович скончался 2 февраля 1956 года. Впереди были XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина, годы оттепели и так далее…
А внуку через полгода должно было стукнуть только девятнадцать. Но первый серьезный период этического и идейного становления уже был пройден. В «русском художническом доме, где по вечерам горят свечи и из комнаты в комнату переносят керосиновые лампы, где подается на стол рокфор, кофе со сливками, красное вино, ведутся какие-то непонятные вдохновенные разговоры. Странно было бы, живя в этом мире, не впитать в себя из него что-то важное для будущей жизни, для профессии. Многое было почерпнуто не из книг, а на чисто генетическом уровне…»
6
Ныне полотна П.П. Кончаловского продолжают выставляться, пользуясь международным успехом. Продолжают, как и при его жизни, «хорошо продаваться».
Летом 2002 года в Музее личных коллекций открылась выставка «Неизвестный Кончаловский», представленная от имени семьи старшим внуком художника. К выставке с помощью специалистов-музейщиков и искусствоведов было подготовлено серьезное издание с множеством репродукций и архивных публикаций. Автором и координатором проекта стал Андрей Кончаловский.
«…Проблема деда была в том, что он любил жизнь. Сколько ругани приходилось ему выслушивать, да и в нынешние времена по разным поводам ее услышишь не меньше… Когда листаешь книгу «Неизвестный Кончаловский», видишь, какой богатой была жизнь. Скольким художникам она судьбы переломала. На одном Бутовском полигоне их больше ста расстреляно – всех мастей. И тех, кто был предан советской власти и не уставал ее славить, и тех, кто пытался от нее скрыться в стенах своих мастерских…»
В мае 2006 года прошла презентация Фонда сохранения культурного наследия художника Петра Кончаловского, учредителями которого стали наследники живописца. Это был первый в России фонд художника такого масштаба, как П.П. Кончаловский.
В 2010 году состоялась выставка «Петр Кончаловский. К эволюции русского авангарда», организованная Русским музеем, Третьяковской галереей и Фондом Петра Кончаловского и официально отмеченная как «важное и знаковое событие российской культуры». Издание, посвященное Выставке, открывалось «Письмом деду» Андрея Кончаловского.
Творчество Петра Петровича поражает жадностью, с которой художник осваивает пространство культуры. Во всяком случае, совершенно ясно присутствие в его живописи Сезанна и Матисса, Ван Гога и Гогена, старых и новых западных мастеров, отечественного народного искусства…
Его потомок, режиссер Кончаловский, не чужд того же свойства, но уже по отношению к опыту мирового кинематографа. За этой наследственной «всепоглощаемостью» иногда перестают видеть стилевую индивидуальность режиссера, подобно тому как то же, на внешний взгляд, происходит и с живописью Петра Петровича.
Идею творческого «протеизма» режиссера развил в самом начале 1990-х Л.А. Аннинский, и ранее выделявший это качество кинематографа Кончаловского. Фильмы режиссера, писал критик, не соединяются в единую цепь. Он не похож на тех, кто, подобно Тарковскому или Хуциеву, всю жизнь бьет в одну точку.
«Он – другой, у него нет единственного решения, у него в каждом случае множество «единственных решений». Кинематографично «все»; для каждого фильма нужно искать новый ход, надо выдумывать все заново, надо изобретать велосипед. Главное – не повторяться… Михалков-Кончаловский среди шестидесятников – Протей, он меняет свой облик, он уходит от своих решений, спокойно наблюдая, как его следы заносит песком; он озабочен лишь тем, чтобы в каждом случае, говоря словами Трюффо, то, ЧТО хочется, – сделать со вкусом, сказать до конца…»
Но как раз в результате откровенной, на первый взгляд не очень разборчивой, легкомысленной разностильности, в результате формально-стилевых заимствований возникают совершенно оригинальные по качеству своего художественно-культурного многоголосия вещи?! Об этом еще предстоит разговор. Здесь только хотелось бы еще раз отметить факт наследования внуком художнической жадности деда к многообразному миру художественной культуры – жадности, обогащающей индивидуальность творца.
По наследству внуку передалась, кажется, и другая особенность творчества его деда. Петр Кончаловский и к началу XXI века остается исследовательской проблемой, «зерно которой – в восприятии, культурно-исторической интерпретации его творчества и его личности».
Официальная критика послевоенных лет пыталась приспособить к своим нуждам далекую от пафоса строителей социализма живопись Кончаловского. Но в той же критике издавна звучали сомнения по поводу того, что открывалось в творческой деятельности художника.
Хорошо известен отзыв Луначарского еще начала 1930-х. Первый большевистский нарком просвещения среди сотен полотен живописца не нашел отражения «той борьбы, которая на самом деле составляет содержание жизни его родины».
Так же колеблется на грани противоположных «партийных» оценок и образ творчества Андрея Кончаловского, начиная, пожалуй, с «Дворянского гнезда». «История Аси Клячиной…»«счастливо» избежала этой участи в силу того, как полагает и сам создатель фильма, что была положена «на полку». А это как бы само собой подчеркивало ее «протестую» безгрешность. Однако отсутствие идеологической тенденции в творчестве режиссера очевидно – в той же «Истории Аси Клячиной…», близкой по жанру колхозной идиллии. Тенденции нет даже там, где ее неизбежно, с восторгом разоблачения находят – в «Курочке Рябе», например, или «Глянце». Кинематограф Кончаловского не знает «партийного» деления на героев «положительных» и «отрицательных». И в этом смысле режиссер наследует опыт своего «беспартийного» деда.
Обладая чувством частной свободы, Андрей выстраивает и свой быт, и свое творчество вне общих правил. Он имеет смелость избирать только для него приемлемое решение, какой бы резонанс оно ни вызывало. Он не желает принимать позу страдающего и гонимого художника, не хочет такой «голгофы» даже под аплодисменты сочувствующих. Не хочет откликаться и на призывы «партийно» дружить с кем-то против кого-то. «Ну, как это можно при таком здоровье создавать произведения о нашей народной боли!» – возмущается один из многочисленных критиков Кончаловского.
Гораздо более понятным в этом смысле был и остается Андрей Тарковский. Каждый его отечественный фильм после «Иванова детства» – пример традиционной самоубийственной борьбы гениального художника с властью.
В статье «Неизвестный Кончаловский» Александр Морозов пишет о Петре Петровиче: «Иезуитский гротеск: власть предпочла показательному избиению Кончаловского… пропагандистскую эксплуатацию его «жизнелюбия». Но от этого ни его битые зайцы… ни цветы, ни портреты друзей и родных более «советскими» не становились; они совсем ПРО ДРУГОЕ…» Можно сказать, что «совсем про другое», вопреки толкованиям критики, фильмы и спектакли Андрея…
Но про что же полотна его деда? Близкий художнику искусствовед В.А. Никольский еще в 1919 году замечал «новую проблему», поселившуюся в мозгу художника, – проблему «изображения человека в природе, остающуюся неокончательно разрешимой и по сей день». Основа преемственности в творчестве живописца, идущая от него к классике через Сезанна, – в особом ощущении природы, нерасторжимого единства «одушевленных» и «неодушевленных» форм материи.
Петр Кончаловский, изучая искусство великих мастеров, стремится вслед за ними стереть грань между природой и ее воплощением. Решение этой труднейшей задачи ставит живопись художника на границу взаимодействия с кинематографом. По поводу одного из ранних семейных портретов он сообщал: «В фигуре дочери… я хотел спорить с самой жизнью… Наслаждаясь сознанием, что при помощи краски орехового цвета можно сплести… совсем живую косу… Такая работа дает художнику самые счастливые минуты в жизни. Ощущение жизни человека среди других предметов – это какое-то чувство космического порядка…». Как здесь не почувствовать суриковское начало?! Не есть ли это одновременно и аналог зоркости кино, приговоренного вглядываться в «жизнь человека среди других предметов»?
Художник, по мнению А. Морозова, совершает «паломничество» «в мир природы из пространства сегодняшней исторической данности, и прежде всего советского социума». А поэтому ему «вряд ли дано было сделаться подлинным любимцем как людей власти, так и их оппонентов. Те и другие имели иных героев».
Андрей Кончаловский хорошо чувствует природу кино, сопрягающего, по словам Эйзенштейна, в единое целое человека и предмет, человека и человека, человека и природу. И уже поэтому внук неизбежно должен быть наследником художнического мировидения деда. Другое дело, что он глубоко переживает и трагический разлад человеческого мироздания. В его «Глянце», например, есть не только уродливая декорация нового социума, но и деформированная плоть натуры, за которой – искажение естества человека. Не зря же главной героиней становится женщина! Драматизм ее существования не ограничивается крушением иллюзий, вызванных искусственностью окружающего мира. Женщина здесь – и сама Природа, естество которой разрушает уродливый социум.
Но при всем трагизме мироощущения Кончаловский не знает той демонстративной серьезности, которой отличался кинематограф его давнего единомышленника, а потом и сурового оппонента Тарковского. В этом смысле, как во всем своем мировидении, Кончаловский – оборотная сторона явления по имени Андрей Тарковский. И Советский Союз он покидает не как страдающий советский гений, а как вполне успешный художник, у которого к тому же жена-француженка. Он абсолютно частным образом берет права, которые Тарковский у властей требовал, мучительно терзаясь, – в Италии, вдали от семьи, оставшейся в СССР.
Помните: «Петя, я исчезаю…»?
Может быть, в этих последних своих словах Василий Иванович завещал Петру Петровичу сохранить то, что было и им, Суриковым, и его семьей, его родом? Все, что он пытался спасти от стихии Истории на своих картинах.
Петр Петрович завещание, кажется, исполнил. Он создал в живописи и передал в наследство потомкам великий «семейный альбом», воплотив и сохранив в нем мироздание как вечный дом человека.
Глава третья «Большая Наташа» большого дома
…А ведь слово «дом» священно.
И слово «хозяйка» почетно и даже величаво…
Наталья Кончаловская1
В кинематографе Кончаловского женщина всегда рядом с героем, но чаще – как персонаж страдательный, редко и трудно достигающий материнского воплощения.
В этом смысле явно отличен «Романс о влюбленных». Здесь мать – одна из сюжетных опор. Но она предстает в нескольких, как бы спорящих друг с другом ипостасях. Завершает спор и «побеждает» в нем материнская философия житейского стоицизма, согласно которой нужно принимать жизнь такой, какова она есть. Здесь сила духа как раз и состоит в способности терпеливо нести крест повседневного существования.
Может быть, эта выношенная опытом жизни мудрость позаимствована режиссером у своей матери? Во всяком случае, такой Наталья Петровна Кончаловская видится в свои зрелые годы в воспоминаниях тех, кто находился рядом с ней – близких, родных, знакомых. В том, что говорят о ней сыновья, слышится почтительно-нежное, уважительное как к главной опоре семьи в те времена, когда Наталья Петровна была жива. Наталья Петровна Кончаловская, по словам ее старшего сына, получила в наследство «очень непростое сплетение генов: со стороны деда темперамент, неуемная энергия и даже нетерпимость яицких казаков; со стороны бабки-француженки – свободное знание французского, способность понимать французскую культуру, ощущать родство с ней. Ее дед с отцовской стороны был потомок литовских дворян, один из образованнейших в Москве книгоиздателей, человек высокой культуры…»
Писатель, переводчик, она с детства питала любовь и к серьезной музыке. Во второй половине 1930-х обратилась к детской литературе, начав с переводов английской поэзии. Издала сборник мемуарных очерков и рассказов «Кладовая памяти» (1973).
Наталья Петровна с самой колыбели восприняла воздействие духовной энергетики крупнейших отечественных дарований XX века. Символично, что при бракосочетании ее родителей присутствовал Михаил Врубель. А ее крестным был Сергей Коненков. Юная Наталья почти ежедневно бывает в мастерской крестного на Пресне, становится свидетелем его творчества и жизненных драм.
«Я была очень привязана к Сергею Тимофеевичу все эти годы, – пишет Наталья Кончаловская в своих мемуарных очерках. – Он жил тогда один. С женой своей давно развелся, и она жила где-то отдельно с сыном Кириллом. И потому я была единственным молодым существом в мастерской, в этом царстве мужиков – дворника дяди Григория, формовщика Сироткина, каменщиков с Ваганькова – и кота Вильгельма. Сергей Тимофеевич любил меня, как свою дочь, скучал, если я долго не приходила. И я привыкала к этой удивительной жизни среди скульптур».
Еще в 1918 году Коненков выточил из дерева первый портрет красавицы Маргариты Воронцовой, с которым в его жизнь вошла и новая любовь. Летом 1922 года он женился и отбыл в свадебное путешествие в Америку, где и обосновался. Лет через пять там же оказалась его крестница со своим первым мужем. По ее наблюдениям, Сергей Тимофеевич Америки не принял, но возвращаться в Страну Советов не собирался. На него посыпались заказы, он прилично зарабатывал, получил возможность путешествовать и прожил в Нью-Йорке более двадцати лет.
Через много лет после возвращения из Америки, когда у Натальи Петровны была уже другая семья, ей официально предложили начать переговоры со скульптором относительно его прибытия на Родину. Надо было написать Сергею Тимофеевичу частное письмо с приглашением. И хотя за все эти годы Наталья Петровна и ее семья никак не были связаны с Коненковым, письмо она все же написала.
Уже в декабре 1945 года Михалковы-Кончаловские встречали Коненкова на Ярославском вокзале.
«…Он действительно собрал все свои скульптуры и прибыл на Родину, – рассказывает Андрей. – В Одесском порту бдительные таможенники перебили все его гипсы – искали золото и бриллианты. Деревянную скульптуру, слава богу, не тронули. Несмотря на эти и прочие неприятности, Коненков был невообразимо счастлив. Здесь он чувствовал себя целиком в своей тарелке, крепко налегал на портвейн, стал убежденным соцреалистом…»
Вспоминая предшествующее этим событиям время эвакуации 1941 года, Андрей видит свою тридцативосьмилетнюю мать очень молодой и очень привлекательной. «Думаю, она была эмоционально увлекающимся человеком, вызывающим у мужчин очень чувственные надежды».
Ей было чуть больше двадцати, когда впервые после революции семья оказалась за границей. В знойно-чувственной Италии. Наташа выделялась среди итальянок крупностью юного тела и типично славянским лицом с кокетливо вздернутым носом. Избыток здоровой энергии избавлял от слишком глубоких размышлений о будущем. Она в эту пору ни к чему не готовилась и не подавала, по ее словам, никаких надежд. Но с младенчества обладала отличным слухом, с большой легкостью пела стихи, отчетливо запоминала все, как казалось с годами, ненужное. Как и все в юности, «была нерадива и беспечна». Однако ж в домашнем хозяйстве расторопна, к чему мать приучила ее с детства. Воспитанная Ольгой Васильевной в суровых правилах, юная барышня глубоко вросла в жизнь семьи, и это воспринималось ею абсолютно подсознательно.
Окончив уже советскую школу, она не вошла ни в один коллектив молодежи. Одноклассники ее рассыпались по высшим учебным заведениям. Ее восемнадцатилетний брат учился во ВХУТЕМАСе, а она вроде как отбилась от сверстников, не имея влечения ни к точным, ни к гуманитарным наукам и не подавая серьезных надежд ни в какой области искусства. Однако богатая фантазия не давала девушке унывать. Вдали же виделся желанный избранник, и она сама в окружении восхитительных детей…
Такой в расцвете двадцатилетней жизни Наталья оказалась в Италии.
Однажды девушка отправилась покупать фрукты… Возвращаясь с рынка с дарами юга, она обычно проходила мимо столярной мастерской по изготовлению мебели. На этот раз девушка увидела здесь… велосипед. А рядом, скрестив загорелые ноги в парусиновых штанах, стоял молодой итальянец. На роль избранника этот грубоватый простой парень претендовать, в представлении Натальи, вряд ли мог. Но нежная улыбка на его загорелом здоровом лице, неподдельное наивное внимание к ней не позволили с ходу отвергнуть его откровенные ухаживания.
Пришло время, и Антонио признался русской девушке в любви. А в ответ на предложение руки и сердца с упоминанием будущего «своего дела» услышал… смех. Это был слегка ироничный, снисходительный смех духовно возвышенной барышни над неуклюжим «буржуа» со всеми его ограниченными меркантильными устремлениями.
…Когда семья покидала Сорренто, сиявший первым сентябрьским днем, сердце девушки все-таки тревожно сжалось: пролетка миновала место ее встреч с неуклюже предприимчивым молодым итальянцем Антонио. И она на мгновение «показалась самой себе чем-то вроде большой рыжей лисы, утащившей петуха из курятника и, блудливо озираясь, ускользавшей эдакой фокстротной повадкой подальше в лес».
В 1925 году Петр Петрович изобразил дочь на портрете, названном «Замуж не берут!». На нем мы видим привлекательную двадцатидвухлетнюю особу, кутающуюся в шубку в зябком девичьем одиночестве, с печальной задумчивостью на лице и со слезой во взоре. В портрете между тем живет улыбка отца-художника, убежденного в том, что отбою от женихов у дочери нет и не может не быть. Собственно, так и случилось – в 1927 году она нашла себе мужа.
Первым мужем Натальи Петровны был сын богатого московского купца первой гильдии, державшего до революции торговлю чаем. В роду его были и крепостные. А сам он получил хорошее образование в Англии. Когда-то он был пианистом, но бросил музыку и перешел на коммерцию. Работал некоторое время в торгпредстве в Англии, затем в Москве. И именно он, Алексей Алексеевич Богданов, развлекал уже в Америке ностальгически опечаленного Сергея Тимофеевича Коненкова импровизациями на темы Баха, любимого композитора скульптора.
Старший сын Натальи Петровны так передает романтическую историю ее первого брака: «В 1927 году мама убежала в Америку без разрешения родителей. С чужим мужем. В те времена можно было развестись по почте. Пока доехали до Владивостока, он уже получил по телеграмме развод. На пароходе, который шел из Иокогамы в Сан-Франциско, поженились: в Америку она уже въехала женой красивого господина… Он был представителем «Амторга», свободно владел английским, курил сигары и носил гамаши…»
По свидетельству внучки Натальи Петровны Ольги Семеновой, ее бабушка, мечтавшая о многодетной семье, пережила глубочайшую драму в супружеской жизни. «Шесть раз обрывались беременности. Когда, перед возвращением в Россию, родился мертвый ребенок, поняла, что остается надеяться на чудо…»Дочь Екатерину Наталья «вымолила», вернувшись в Россию в очередной раз беременной. И 7 ноября 1931 года у нее родилась пятикилограммовая девочка, прозванная акушерками царь-бабой… Он и стала по прошествии времени матерью Ольги Семеновой.
Через пару лет после возвращения в Россию супруги, по инициативе Натальи Петровны, расстались. Спустя время по обвинению в шпионаже был расстрелян старший сводный брат Алексея Богданова. Младший пытался протестовать. Его посадили. И в лагере купец-англоман вскрыл себе вены.
2
В 1934 году Наталья Петровна познакомилась с поэтом Павлом Васильевым, история отношений с которым откликнулась в «Сибириаде». Знакомство состоялось в семье поэта Михаила Герасимова. Здесь собирались друзья-стихотворцы: Кириллов, Грузинов, Клычков. Это были литераторы пролетарско-крестьянского направления и такого же происхождения. Все они были репрессированы и расстреляны в 1937 году.
Сама Наталья Петровна об этом периоде своей жизни писала: «Мне был тогда 31 год… Я оставалась одна, была еще молода, свободна, привлекательна. Я хорошо говорила по-английски, писала стихи, пела американские песни, подражая неграм, ловко выплясывала их танцы, подпевая себе…»
Зажигательный «негритянский танец» и подогрел лирический восторг Павла Васильева, кажется, самого крупного из всей этой компании поэта, и он разрешился стихами, воспевавшими столь яркое событие.
…Есть своя повадка у фокстрота, Хоть ему до русских, наших, – где ж!.. Но когда стоишь вполоборота, Забываю, что ты де-ла-ешь… … Стой, стой, стой, прохаживайся мимо. Ишь, как изучила лисью рысь. Признаю все, что тобой любимо, Радуйся, Наталья, веселись!..Стихи «Шутка» были написаны в марте 1934 года. Но читатель уже заметил, наверное, что Наталья Петровна сознательно или скорее бессознательно фактически цитирует их, когда признается в более поздних автобиографических очерках в легком чувстве вины, которое вдруг посетило ее, когда семья покидала Сорренто. Может быть, она не могла избавиться от этого чувства не столько перед давним Антонио, сколько перед Павлом, чем-то неуловимо смахивающим на портрет хвастливого итальянца, нарисованный Натальей Кончаловской в ее воспоминаниях.
Поначалу поэт произвел на молодую женщину неприятное впечатление. «Был он в манерах развязен, самоуверен, много курил, щурясь на собеседников и стряхивая длинными загорелыми пальцами пепел от папиросы куда попало». Но как только он начинал читать стихи, его облик неузнаваемо менялся в глазах Натальи. «И это был подлинный талант, всепобеждающий, как откровение, как чудо!» – восклицает она годы спустя.
Появился целый стихотворный цикл, посвященный «русской красавице» и, по убеждению Андрея, «сублимировавший эротическое, сексуальное влечение к ней».
По первым строфам «Стихов в честь Натальи» можно действительно подумать, что лирический герой воспевает вполне конкретную свою возлюбленную и недавнюю с ней близость. Но дальнейшее развитие лирического сюжета абсолютно фольклорно. Здесь видно восхваление не столько конкретной особы, сколько обобщенной русской красавицы Натальи, вроде сказочной Василисы Прекрасной. И в этом весь Павел Васильев, его поэтическая манера.
Прекращение приятельских отношений между ними Наталья Петровна описывала так: «Я была в ударе, танцевала, шутила, пила шампанское, и вдруг Павел, от которого можно было ждать любой неожиданной выходки, иногда почти хулиганской, почему-то пришел в бешеную ярость. То ли выпил лишнего, то ли взяла его досада на мою «неприступность», но вдруг с размаху ударил меня и с перекошенным побелевшим лицом выбежал из квартиры и скрылся».
На следующий же день Наталья услышала звонок в дверь своей квартиры. Открыла – перед ней стоял Павел. Он просил прощения и обещал, если Наталья не простит, стать перед дверью на колени и не уходить в ожиданье прощения. Женщина в гневе захлопнула дверь. А Павел стоял так с двенадцати до трех часов дня… Ей звонили соседи и сообщали, что какой-то ненормальный не хочет уходить с площадки. В конце концов позвонили из милиции… «Я решила прекратить эту демонстрацию и открыла ему дверь. Он плакал. Просил прощения. Я простила его, но он ушел расстроенный. И дружбе нашей пришел конец…»
Андрей полагает, что мать очень рассердили стихи Павла, поскольку в них воспроизводились отношения, каковых на самом деле между нею и поэтом никогда не было. Но в стихах были лишь пылкое воображение поэта и такой уровень художественного обобщения, который вряд ли подразумевает портретную конкретику.
И Наталья Петровна, и Павел Васильев – сибирских корней, но не были равны по социальному происхождению. У поэта оно явно пролетарское. Неравенство это, может быть, откликнулось в героях «Сибириады», далекими прототипами которых они стали.
Настя Соломина – девушка из семьи зажиточной, крепкой, своенравная, с сильным характером. Николай Устюжанин – бедняк, отравленный мечтой о «городе Солнца», о царстве небесном для бедных. Их отношения начинались, что называется, с классовой вражды, когда маленький Колька, живущий вечно впроголодь, охотился за пельмешками Соломиных, а Настя его ловила и жестоко наказывала. Девушкой и юношей они полюбили друг друга. Но классовая дистанция давала себя знать, отодвигая чувство, пока наконец оба не покинули родную Елань, окунувшись в костер революции.
Художественный вымысел и биографический факт реальной жизни время от времени пересекаются в творчестве режиссера, подсвечивая, комментируя друг друга. Но сам Кончаловский ни одну из своих картин не может назвать автобиографичной. «Если это и присутствует, то проявляется не в ситуациях, а в моем отношении к ним… Все мои картины автобиографичны лишь в том смысле, что в них я говорю о том, к чему мое сердце открыто, что мне дорого, что занимает меня в проблемном плане. Дуализм свободы, мужчина и женщина, что их связывает и что разделяет, как соотносятся любовь и свобода. Я, например, очень сильно сомневаюсь в том, что можно любить и быть свободным. А если свобода без любви или любовь без свободы, тогда что лучше? У каждого свой выбор, но каждый должен чем-то пожертвовать. Необходимость жертвовать – в этом уже есть автобиографический момент».
Актриса Наталья Андрейченко была приглашена на роль героини фильма не случайно. Не нужно особой зоркости, чтобы разглядеть ее типажное сходство с фотографическим портретом Натальи Кончаловской середины 1920-х годов. Режиссер, у которого затеялись недолгие романтические отношения с актрисой, вспоминал: «Она стояла готовила яичницу; я смотрел на ее икры, плотные, сбитые – вся казалась сделанной из одного куска. Сразу понял: она настоящая и, наверное, может сыграть Настю. Наташа Андрейченко – от природы актриса. В ней русская широта, ощущение себя в пространстве, стать, мощь…»
Когда размышляешь над тем, что от материнской натуры унаследовано Кончаловским-художником, то прежде всего думаешь о чувственности, присущей его кинематографу и сознательно им культивируемой, особенно в советский период. Думаешь о чувственности, по природе своей неотвратимо разрушительной, но в то же время скрывающей в себе обещание чего-то настоящего, основательно крепкого, как корни дерева, упрочившегося в своей почве.
По-фольклорному праздничный и жестокий, язычески-чувственный мир поэзии Павла Васильева именно через факты биографии матери стал для Андрея отправной точкой в решении взять повесть Айтматова «Первый учитель» для своей дипломной картины. «Киргизия, какой я ее знал по стихам Васильева, была страной людей с открытыми и первозданными чувствами, с яростным накалом страстей…» Биографическое, даже глубоко интимное, преображенное фантазией режиссера, становилось эпикой.
3
В той же компании поэтов, к которой принадлежал Павел Васильев, встречался с Натальей и Сергей Михалков. Она не хотела идти за своего молодого ухажера. Но тот настаивал на законном браке. И тридцатидвухлетняя женщина сдалась на уговоры двадцатидвухлетнего начинающего поэта.
По убеждению Ольги Семеновой, в бракосочетании Натальи и Сергея существенную роль сыграла ее мать, привязавшаяся к долговязому молодому человеку еще до того, как он стал ее отчимом. «Или ты выйдешь за Сережу, или за никого!» – заявила Катя матери.
«Перед тем как идти в ЗАГС, – рассказывает Сергей Владимирович, – мы зашли в «забегаловку», выпили водки, а после регистрации купили четверть белого свирского вина и отправились отмечать событие к нашему другу – поэту Михаилу Герасимову и его красавице жене Нине. Через год оба они были арестованы. Миша погиб в лагере, а Нина, со сломанной судьбой, утраченным здоровьем, вернулась из ссылки и некоторое время потом жила у нас…»
Так, в 1936 году Наталья Петровна заключила второй, неожиданный для окружающих брак – с поэтом Сергеем Михалковым. Кажется странным этот брак и ее старшему сыну, как раз по причине «неравности» сторон.
Во-первых, она была старше супруга, а во-вторых, «в отличие от отца, у нее обширное образование, большой круг друзей…».
За тридцатыми последовали «сороковые, роковые». Потом родился младший, Никита… Дочь от первого брака как-то отодвинулась на периферию забот, находилась под присмотром бабушки, Ольги Васильевны. Хотя, по словам Никиты Михалкова, в их семье из воспитания никогда не делали «фетиш»…
В 1941 году мать с Андроном отправилась в эвакуацию в Алма-Ату. Отец в это время нес газетную службу на фронтах Великой Отечественной войны…
«Мама, – рассказывает старший сын, – много писала, делала либретто для опер, песни для мультфильмов, зарабатывала деньги. Одно из воспоминаний первых послевоенных лет: я сижу под статуей Ленина на «Союзмультфильме», жду, когда мама получит деньги в кассе. Потом мама стала членом приемной комиссии Союза писателей, ей приходилось читать массу чужих стихов, к работе она относилась очень серьезно. Катеньку, нашу сестру, мама вообще оставила жить у дедушки с бабушкой, очень потом жалела об этом, чувствовала себе перед ней виноватой. Мама рассказывала, что всех своих детей задумывала. Она с самого начала хотела сына, но первой родилась дочь. Потом, беременная мной, она задумывала, каким я должен быть, какой характер, какая профессия, какая судьба. Думаю, меня она любила просто безумно. Она вообще была человеком на редкость страстным. Это я понял очень поздно…»
Как любила его мать, Андрей услышал от нее самой действительно очень поздно. Когда увидел ее в последний раз в клинике, и мать призналась, что любила его больше всех на свете. «Но это надо потерять, чтобы почувствовать».
Воспоминания Андрея появились через десять лет после смерти матери. С чувством запоздалой вины говорит он о молодом своем эгоизме, который замечает и в собственных повзрослевших детях. Тогда, давно, он не находил времени прислушаться к тому, чем мать хотела поделиться с ним, уже взрослым и, как ей казалось, способным понять ее переживания и мысли. Но сын не готов был воспринимать ее литературную деятельность, как, впрочем, и то, что писал отец. Сын был занят собой. Когда надо было слушать, он «набирался наивозможнейшего терпения и внимания». Но в этот момент рядом с ним нередко сидела какая-нибудь девушка…
Тяжело мать восприняла планы сына покинуть страну. В ее переживаниях было и много вины за собственный давний отрыв от родных мест. Мать долго спорила с сыном, плакала. Но после премьеры «Сибириады» согласилась с тем, что сын прав: «Я не должна тебя осуждать, ведь я сама когда-то вот так же уехала…»
В зрелые годы и в старости она изо всех сил пыталась удержать от распада семейное целое. С терпеливым вниманием принимала, например, на Николиной Горе невесток, а вслед за ними и возлюбленных старшего сына, стараясь сохранить равновесие традиционных взаимоотношений. «К маме было настоящее паломничество, – рассказывает Андрей, – она умела давать людям положительные заряды. Многие мои женщины навсегда оставались ее верными друзьями. К счастью, с возрастом в ней прошла суриковская нетерпимость. У бабушки еще была категоричность: только черное или белое, никаких полутонов. Мама ко всему относилась примирительно».
Те, кто видел и знал Наталью Петровну в эти годы, вспоминают ее смех, заполнявший пространство большого дома… Вспоминают, как она обожала своих детей… Казалось, со старшим сыном она была особенно близка. В отличие от младшего, веселого, неунывающего, старший называл себя «меланхоли беби».
Тогда Наталье Петровне было уже за семьдесят. Несмотря на ее усилия удержать домашнее равновесие, оно неотвратимо уходило из семьи с убегающими годами жизни Наташи Большой.
Актриса Елена Коренева, вспоминая свои встречи с Натальей Петровной, время, проведенное на Николиной Горе, полагает, что красота семейства Михалковых-Кончаловских нелегко далась ее создателям. Актриса видела, как беззаветно любит свою мать ее старший, как хранит благословленные ею иконки, ее фотографии, как переживает ее старость. И вместе с тем – сопротивляется ее силе, освобождается от ее власти, чтобы быть не просто сыном, но мужчиной. «Будучи на десять лет старше своего мужа и с какого-то времени живя отдельной от него жизнью, Наталья Петровна смотрела на него глазами мудрости и терпения».
Юная Елена прибилась к матери своего возлюбленного Андрея, тогда уже женатого на француженке Вивиан Годэ, как к крепкой пристани и училась у нее. Училась, например, быть сильной в одиночестве. Здесь самое главное, утверждала Наталья Кончаловская, чтобы было интересно с самой собой, и тогда уже ничего не страшно.
4
А гораздо ранее, в середине 1960-х, в семью Михалковых-Кончаловских войдет начинающая актриса Наталья Аринбасарова, вторая жена Андрея. Через полвека она подготовит с помощью своей дочери (правда, уже от второго брака) Екатерины Двигубской мемуары – в том числе и об этом периоде жизни.
Как казалось тогда Наталье, они очень быстро подружились с матерью ее мужа. Аринбасарова получила прозвание – Наташа Маленькая, чтобы отличаться от Наташи Большой…
Для Маленькой образ обители Кончаловских складывался из традиционных составляющих: «аромата свежего кофе», «поджаренного хлеба», «щебетанья канареек» и т. д. Именно так встречало ее каждое утро. Она попала в налаженный, как бы дореволюционный усадебный уклад, далекий от советского быта, в котором совсем недавно жила.
Супруг освободил юную жену от домашних забот и приобщил к самообразованию. Она должна была много читать, изучать французский язык под присмотром педагога, получившей образование в Сорбонне.
Уже в конце 1990-х в одном из многочисленных с ним интервью Андрей говорил, что женщинам, с которыми у него были романтические отношения, он многое давал. Надо сказать, что то же можно услышать и от них самих. «По мере моего внутреннего роста, зрелости, расширения кругозора и опыта мне всегда хотелось дать тем, кого люблю, максимум того, что имею, что знаю… И мои женщины, как правило, всегда открыты для принятия каких-то идей – то ли это музыка, то ли поэзия, то ли природа……Аюбовь и значит – давать все это.
Любовь – это же не секс. Это – взаимоотношения…» Возможно, и в этих свойствах Андрея откликается материнская натура.
Наташа Маленькая родила Наташе Большой первого внука, которого та назвала в честь Георгия Победоносца.
В унисон всем тем, кто знал Наталью Петровну, Аринбасарова обращает внимание на ее любовь к жизни, на умение жить. Те же черты видела в свекрови и вторая жена ее младшего сына Татьяна Михалкова.
«С семи утра в ее кабинете уже стучала пишущая машинка – она работала. Она уважала все, что было сделано своими руками, поэтому обвязывала внуков, шила одежду – вплоть до пальто. Я, когда вошла в дом девчонкой с подиума, ничего не умела. Она меня учила… Андрон всегда удивлялся: зачем вам все это надо?.. Кстати, делала мама и кончаловку – это водка, настоянная на смородине. Она производила ее целыми бутылями. И всегда графины с кончаловкой стояли на столе. С нее пошла традиция настаивать водку именно так, а также умение варить варенья-пятиминутки…
В доме, в котором она всех собирала, был дух дома. Все усаживались за стол под абажуром, который она сделала тоже своими руками – такой оранжевый, с висюльками, а внутри сетка. Я помню его все годы, что в семье… Так вот, когда собирались, читали вслух Чехова, Толстого, Платонова. За долгими чаепитиями и Никита, и Андрон часто читали свои сценарии. Кипел самовар, растопленный шишками… У наших детей, когда они маленькими были, даже обязанность такая была – шишки для этого самовара собирать. Сейчас, конечно, изменились жизнь и ритм, дети выросли, у взрослых свои занятия, поэтому собираемся редко – только в выходные или же по большим событиям…»
…Андрей, покидая Россию, настойчиво убеждал мать в необходимости и неотвратимости этого шага. В то же время родина для него сосредоточилась в иконке Андрея Первозванного. Образ принадлежал еще Василию Сурикову. Кончаловскому иконку передала мать, поместив в черный кожаный чехольчик, сшитый ею самой. Образ оставался при сыне во время дальних дорог. Напутствуя, мать вручила ему и молитвослов со своей фотографией. От этих вещей, по признанию Андрея, исходила «неведомая энергетическая сила», много дававшая ему, особенно в трудные минуты жизни.
Наталья Петровна была «глубоко верующей, – говорит Татьяна Михалкова, – а вера тогда не приветствовалась, тем более при положении Сергея Владимировича». Невестка вспоминает иконостас, превращенный из шкафчика карельской березы. Там всегда лампадка горела. У Натальи Петровны «не было икон дорогих и старинных, иногда даже картонные».
Когда я обращаюсь к романам моего героя, к образам женщин, бывших его супругами, меня не оставляет уверенность в том, что едва ли не для каждой из них мерилом ее, так сказать, женского качества, с точки зрения Андрея, всегда была мать, Наталья Петровна Кончаловская, – с ее образованностью, знанием языков, богатой наследственной традицией, с ее творческой энергией и в то же время с ее чувственностью, а может быть, и страстностью, вовсе не отменявшей приверженность семье, домашнему хозяйству, куда она погружалась с тем же живым интересом, с каким занималась литературным творчеством. А из совокупности этих черт слагалось то, что он подсознательно чувствовал и искал как материнскую защиту, оберег от бед, надеясь, по словам поэта, спрятаться в мягкое, женское. Как бы там ни было, но и по его собственным признаниям, и по сторонним наблюдениям, женщину он искал всякий раз, когда нуждался в энергетической подпитке, когда чувствовал предел жизненных (или творческих) сил. Может быть, через каждую новую его подругу и поступала и в тело, и в душу энергия материнской любви и заботы…
Как-то в начале 1930-х годов Василий Качалов предложил Петру Кончаловскому поехать на Николину Гору, поселок близ Перхушково. «Место отличное, на крутом берегу Москвы-реки, – уговаривал артист приятеля. – Там построили дачи Отто Шмидт, Вересаев, Семашко, и еще есть свободные участки. Съездим!»
Качалов выбрал себе участок в сосновом бору, на склоне горы, и уговаривал Кончаловского взять соседний. Но тот отказался: «Не люблю я эти карандаши – сосны. Я люблю совсем другие пейзажи, я люблю лес смешанный, где птиц много…». А через двадцать лет, когда, по воспоминаниям Натальи Петровны, отец зимой приехал к ним на дачу (Качалова уже не было в живых), он вышел в сад, увидел соседний дом Качаловых-Шверубовичей и, задумавшись, сказал: «Вот поди ж ты! Все-таки этот участок достался нашей семье!»
«Тогда же отец, – рассказывает Наталья Петровна, – решил писать мой портрет на зимнем фоне, в меховой шубе и кружевном платке поверх меховой шапки. Так на Николиной Горе в 1953 году был написан папой мой последний портрет…»
Глава четвертая Отцовская ветвь. Детский секрет патриарха
…И вот уже я в той Стране,
Где я увидел свет,
И, как ни странно, снова мне
И пять, и десять лет.
С. Михалков. Мой секрет1
В младенческих истоках биографии Сергея Владимировича Михалкова, года за четыре до революции, случилось событие, явно символическое.
Няня Груша прогуливала малыша в детской колясочке. Та неожиданно двинулась с места и, подобно знаменитой коляске из еще не созданного фильма Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин», покатилась под горку, набирая скорость. Няня погналась за убегающей коляской, в которой, заходясь, плакал ребенок. Не догнала. К счастью, в гору поднимался какой-то бородатый мужик. Он-то и сумел поймать ее, чем спас младенцу жизнь. Но при этом ребенка страшно напугала огромная борода спасителя. С этого момента Сережа начал заикаться, что в дальнейшем стало его своеобразной визитной карточкой.
Сергей Владимирович своего речевого дефекта никогда не стеснялся, а, напротив, хитроумно использовал его в отроческие годы, чтобы заработать, например, «тройку» у сердобольной учительницы при совершенном незнании урока.
Пользовался этим фирменным знаком отца и его старший сын, когда возникала, скажем, необходимость заполучить дефицитные билеты для себя и своей девушки в какой-нибудь труднодоступный по тем временам театр. На чем и был однажды пойман отцом, случайно оказавшимся в том самом месте, куда звонил предприимчивый сын.
Итак, младенца Сережу Михалкова напугала вовсе не опасность разбиться, а бородатый лик мужика, остановившего коляску. Как это похоже на те «знаки», какие встречаются на страницах пушкинской «Капитанской дочки» в связи с другим бородачом, не только спасшим от гибели дворянского отпрыска, но и сыгравшим важную роль в его становлении. А ведь поначалу Петруша Гринев сильно был напуган «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным»…
История со злополучной коляской прочно задержится, похоже, уже в памяти сына, как и другие моменты из жизни отца. В особенности те, конечно, которые впрямую связывались с переживаниями и жизнью самого Андрея. Они, в свою очередь, обретали символический смысл и становились художественными образами.
Впрочем, возможно, генетическая память Кончаловского хранит вовсе не эти, а другие образы. Но когда я вижу в его «Дуэте для солиста» коляску, несущуюся с горы, невольно ищу аналогию. В фильме это инвалидная коляска. На нее обречена героиня. И катастрофический бег коляски есть символ крушения последних жизненных опор в судьбе знаменитой скрипачки. В более широком смысле можно увидеть здесь и детскую хрупкость, неверность человеческого бытия, в чем и состоит его действительный трагизм, отзвуки которого живут в картинах Кончаловского.
Отчего же похожие события из жизни Андрея и его семьи, в самой жизни свидетельствующие скорее о подарках судьбы, в его картинах превращаются не в дары, а в удары фортуны?
Сергей Владимирович Михалков в советское время опасался поминать о своем происхождении и в анкетах показывал: из служащих.
Однажды (уже во второй половине 1990-х, кажется) он долечивал перелом бедра в санатории в Назарьеве. Его проведал старший сын. «Видишь это окно? – указал отец сыну. – Из него папа кидал мне шоколадные конфеты. А я стоял вот здесь. Это было наше родовое имение, наш дом. А возле церкви похоронен твой прапрадед, его супруга и многие из нашей родни».
Михалковы – древний род, пошел из Литвы. В поздних автобиографиях своих Сергей Владимирович цитирует сборник «Старина и новизна» (кн. XXVII, 1914): «Михалковы в свойстве с Шестовыми, родом Великой Старицы Марфы Ивановны, матери Царя Михаила Федоровича. Первым «постельничим» вновь избранного Царя был человек ему не сторонний, а именно Михалков…».
Первый постельничий Михаила Федоровича, Константин Иванович Михалков, был наместником трети Московской (скончался в 1628 г.). Федор Иванович Михалков служил воеводой в Романове, Тотьме и Чебоксарах. В Смутное время, в годы иноземного нашествия на Русь, сохранил верность Отечеству. В 1613 году «за службу против польских и литовских людей» и за «московское сидение» ему была пожалована вотчина.
В Государственном историческом музее в Москве, Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, государственном архиве Ярославской области, в других архивах страны, в том числе и в ЦГАЛИ, хранится большой семейный архив рода Михалковых. Здесь можно обнаружить грамоты, челобитные, около 14 тысяч листов семейной переписки от середины XXVII до начала XX века.
А в Рыбинске, невдалеке от которого, в селе Петровское, находилась усадьба предков Михалкова, есть музей, почти полностью состоящий из предметов, принадлежащих их роду…
В свое время в запасниках Рыбинского музея были обнаружены иконы, составляющие, по словам Сергея Михалкова, духовную ценность семьи и разыскивавшиеся поэтом в течение многих лет. На обороте одной из них, «Богоматерь Владимирская», значилось: «Сим образом благословили служителя своего Феофана Григорьева г-н Сергей Владимирович Михалков и супруга его Мария Сергеевна Михалкова в 1830 году апреля 27 дня, а написан оный образ около 1650 года прадедушкой Сергея Владимировича Михалкова Петром Дмитриевичем Михалковым, что в Петровском близ Рыбинска».
Сергей Владимирович мечтал о том времени, когда эти реликвии покинут запасники музея и перекочуют в семью. Он с гордостью поминал в автобиографии своих предков, испокон веку защищавших Отечество.
Так, прапрадед поэта Сергей Владимирович Михалков (1789–1843) служил в Семеновском полку и прошел путь от унтер-офицера до подпоручика. Отличился в Аустерлицком сражении против Наполеона в 1805 году, при Фридланде в 1807 году, за что был награжден боевыми орденами России.
Его сын, действительный статский советник Владимир Михалков (1817–1900), женатый на княжне Елизавете Николаевне Голицыной, в 1839 году блестяще окончил Дерптский университет. Деятельность прадеда Сергея Михалкова протекала на ниве народного просвещения. Известность он приобрел как крупный коллекционер и владелец одной из лучших частных библиотек России, которая, по завещанию, после его смерти была передана «в общественное пользование».
Дед же Сергея Владимировича, Александр Владимирович Михалков, штаб-ротмистр Кавалергардского полка, страдал душевным заболеванием, отчего сам был в отставке, а его имущество и дети (Мария и Воля) под опекой. Опеку осуществлял будущий крестный Сергея Владимировича – генерал-лейтенант В.Ф. Джунковский (1865–1938), во всех отношениях примечательная фигура русской истории. Ему довелось быть командиром Отдельного корпуса жандармов и товарищем министра внутренних дел. На этих должностях реформировал службу политического сыска, упразднив, в частности, охранные отделения во всех городах империи, кроме столиц. После Октябрьской революции неоднократно арестовывался. В последние годы жизни был церковным старостой в одном из приходов Москвы, давал частные уроки французского. В конце 1937-го его арестовали в последний раз и по приговору тройки НКВД расстреляли на Бутовском полигоне.
Наконец, отец Сергея Михалкова и дед Андрея, Владимир Александрович Михалков. Получил образование на юридическом факультете Московского университета. Именно он передал родовую библиотеку в основной фонд Библиотеки Академии наук в Петербурге.
Родословной своей могла гордиться и бабка Андрея со стороны отца, урожденная Ольга Михайловна Глебова. Ее предки служили на военном и государственном поприщах, активно участвовали в походах и войнах, которые приходилось вести России. В роду Глебовых находят и Михаила Павловича Глебова (1819–1847) – друга Лермонтова, секунданта на последней дуэли поэта. По этой же – глебовской – ветви Михалковы связаны родством с князьями Голицыными и графами Толстыми.
2
Сергей Владимирович Михалков родился в Москве 13 марта (28 февраля по старому стилю) 1913 года в доме № 6 по улице Волхонке. Детство его протекало в Назарьеве. Позднее семья должна была переехать в имение Ольгино в Амвросиевке, области войска Донского. От этих дней в памяти остался запах персиков, разложенных на полу большой комнаты, выходившей в сад. И казаки, охраняющие семью…
«…Могла ли наша семья спрятаться от бед и невзгод послереволюционной России где-нибудь в Париже или в Берлине? Разумеется, могла. Почему же мой отец выбрал иной путь? Почему он решил, несмотря ни на что, терпеть все, что суждено русскому народу? Должно быть, и потому, что знал себя, знал, что истинно русскому человеку трудно, почти невозможно прижиться в чужом, даже благодатном краю. Надо при этом учесть, что он был верующим человеком и понятие долга перед людьми, Отечеством было для него не пустым звуком…»
Владимир Александрович Михалков, получив юридическое образование, занялся птицеводством. В 1927 году он одним из первых откликнулся на приглашение Терселькредсоюза перейти в эту организацию на постоянную работу в группе специалистов-птицеводов. Его сын полагал, что отец покинул Москву не случайно, а желая быть подальше от «органов», бдительно следящих за «бывшими».
Семья Михалковых поселилась на окраине Ново-Пятигорска. Владимир Александрович целыми днями пропадал на птицефермах, на организованной им впервые в СССР инкубаторно-птицеводческой станции, в командировках по Терскому краю. В свободное время изобретал, писал. В 1932 году ему предложили возглавить кафедру в Воронежском сельскохозяйственном институте. Он согласился. Но переехать на новое место работы и жительства не успел – скончался в Георгиевске от крупозного воспаления легких.
Сергей Михалков начал писать в десять лет. Именно отец подтолкнул будущего поэта к стихотворству. Окончив в 1930 году школу, Сергей решил направиться в столицу, чтобы там начать самостоятельную жизнь. В дорогу получил сухо-рациональное письмо отца, адресованное его сестре Марии: «Посылаю сына в Москву, чтобы попытаться поставить его на ноги. Его задача – получить нужное для писателя образование путем работы в библиотеке, посещения театров, диспутов, общения с людьми, причастными к культуре. Если в течение года он сумеет двинуться вперед и будут какие-либо надежды, он поступит на завод работать и потом будет учиться по какой-нибудь специальности».
В течение трех последующих лет Сергей трудится разнорабочим на Московской ткацко-отделочной фабрике, затем – помощником топографа в геолого-разведочной экспедиции в Восточном Казахстане и в изыскательной партии Московского управления воздушных линий на Волге. А с 1933 года начинает более или менее регулярно печататься в столичной периодике.
Своих предков по линии отца Андрей в мемуарах поминает скупо. Но сам отец не исчезает из поля зрения сына. В одном из многочисленных интервью в дни его семидесятилетия на вопрос, есть ли у него сейчас человек, на которого он смотрел бы снизу вверх, режиссер ответил: «Конечно. Я не говорю о Рахманинове, Солженицыне, Бергмане. Я и на своего отца смотрю снизу вверх». Мне кажется, фигура отца волнует Кончаловского и как художественный образ, вырастающий в символ целого пласта исторической жизни Отечества, а то и – в некий архетип.
Сергей Владимирович уже в 2000-м трезво говорил о себе как о «гражданине бывшего Советского Союза, бывшем советском писателе». Но в непривычные для него времена вплоть до самой кончины в 2009 году внимание общественности к старшему Михалкову тем не менее не ослабевало. К патриарху уважительно обращались государственные лидеры этой поры. Он выполнил заказ на новый текст Гимна страны. А его юбилеи приобретали широкий резонанс в отечественных СМИ. С.В. Михалков всегда был и оставался знаковой фигурой для нашей страны с ее непростым, противоречивым прошлым.
В то же время близкие и родные Сергея Владимировича, в том числе и его старший сын, в один голос утверждают: в нем до седых волос сохранялось что-то, безусловно, детское, подростковое по отношению к быту, к повседневной жизни семьи. Притом возиться с маленькими детьми он не особенно любил, избегая заниматься этим как со своими собственными чадами, так и с внуками и правнуками.
Андрей вспоминает тинейджерские выходки отца в уже преклонном возрасте, замечая легкость, с какой тот все это совершал, что, «конечно, определяет во многом его характер».
«Он счастливый человек», – итожит свое восприятие тинейджерского поведения отца старший сын. Так, наверное, бывают счастливы дети, не достигшие того уровня взрослых рефлексий, когда многие знания только увеличивают скорби.
Младший сын, в свою очередь, наблюдал в отце «глубинную жизнь ребенка». Отцу, как считала сама Наталья Петровна, вспоминает Никита Сергеевич, «всегда было 13 лет». Но вот что удивительно при этом: она была убеждена, что Сергей Владимирович ее «сделал, то есть создал ее как личность». Удивительно, поскольку члены семьи то и дело отмечают необремененность Ми-халкова-старшего бытовыми проблемами, которые целиком возлагались на Наталью Петровну, курирующую в этом смысле и мужа-подростка, почти по-матерински его опекающую…
Он и сам признавался, что о воспитании детей не особо пекся. «Жена была духовным стержнем семьи, а я, если можно так выразиться, кормильцем». Общественно-государственное поприще было для него гораздо привлекательнее, чем жизнь в семье, от которой он, кажется, все более отвыкал по мере роста собственного общественного веса. И в бытность пребывания семьи у Петра Кончаловского в Буграх отец Андрона и Никиты наведывался туда только по воскресеньям, и то очень редко. Не часто появлялся и на Николиной Горе. Приезжал и тут же уезжал, не умел жить на даче. Похоже, в течение всей своей сознательной жизни он так и не освоил частное существование домом-семьей, что, вообще говоря, было характерно для целых поколений советских людей.
Сергей Владимирович соблюдал собственные, удобные для него правила жизни с каким-то действительно подростковым эгоизмом. В том числе ему удобно было не вмешиваться в духовную жизнь супруги, во многоуровневое ее общение, как, впрочем, и не склонен он был мешать ее стабильному одиночеству. Таким образом он, похоже, и свою собственную свободу действий и поведения сохранял, благодаря удивительной способности жены регулировать жизнь многочисленного семейства.
3
Пока Петр Петрович и Ольга Васильевна были живы, взаимоотношения Сергея Михалкова с семьей Кончаловских складывались по-разному. Ольга Васильевна, например, так отреагировала на получение в 1939 году двадцатишестилетним зятем ордена Ленина за детские стихи: «Это конец. Это катастрофа». «…Надо же! – комментирует Андрей. – Сталин дал орден Ленина человеку, у которого теща – несдержанная на язык дочь Сурикова, тесть – брат человека, проклявшего коммунизм (имеется в виду Дмитрий Петрович Кончаловский. – В.Ф.), спрятавшегося в Минске и ждавшего немцев как освободителей России. Другой брат деда, Максим Петрович, крупнейший кардиолог, работал врачом в Кремлевке. Одним словом, фактура неординарная…»
А за три года до этих событий в одном из летних номеров газеты «Известия», с которой внештатно сотрудничал Михалков, появились ставшие в постсоветское время легендарными его стихи «Светлана». Они настолько понравились вождю, по воспоминаниям поэта, что из ЦК ВКП(б) должны были, по указанию Сталина, поинтересоваться условиями жизни Сергея Владимировича. Не нуждается ли он в помощи?
Стихотворение, рассказывает его автор, поначалу называлось – «Колыбельная». Но ему вдруг захотелось прямо адресовать стихи своей знакомой. И вот совпадение – дочь вождя тоже звали Светланой!
«Мог ли я предполагать такое?»
Сегодняшние толкователи этого удивительного совпадения и последовавшей затем реакции вождя, как и благ, свалившихся на молодого поэта, ищут и находят следы циничного приспособленчества к обстоятельствам как определяющей черты характера С.В. Михалкова. А не случай ли, на самом деле, стоит за всем описанным выше? Сергей Владимирович угодил «в случай», что вполне отвечает логике нашей истории и нашему национальному самосознанию, которое никак не перешагнет через средневековые отношения между властью и населением страны.
Сергей Михалков от случая не бежал и в дальнейшем старался из него не выпадать, а, напротив, ему содействовать. Можно себе представить, что переживал совсем еще молодой человек, когда оказался «в случае»! Понятно, что он не отвергал предоставленных ему властью благ. Но, по словам его старшего сына, «у отца четко работала интуиция. Туда, куда лезть не просили, он не лез». Участие в политических играх Михалков стал принимать только в оттепельную эпоху. Уже в 1964 году он становится членом Коллегии Министерства культуры СССР, в 1965-м – главой Московской писательской организации, а с 1970-го исполняет обязанности Председателя правления Союза писателей РСФСР и секретаря правления Союза писателей СССР. Во времена же Сталина «предпочитал быть просто детским поэтом». Правда, в 1949 году стал членом Комиссии по Сталинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР. Но вряд ли его слово было там решающим, судя по воспоминаниям Константина Симонова, другого классика советской словесности, гораздо ближе стоявшего к Хозяину и в гораздо большей степени, чем Михалков, облеченного в качестве исполнителя высшей воли государственными заботами.
Логика поведения С.В. Михалкова станет внятнее, если учесть отношение к Сталину тогдашней творческой интеллигенции. Амплитуда восприятия фигуры «отца народов» даже в сознании людей, художнически весьма проницательных и глубоких, вроде таких, например, как Михаил Булгаков, Борис Пастернак, Александр Довженко, Сергей Эйзенштейн, – амплитуда эта имела размах от образов сатанинско-демонических до божественных.
Тот же Борис Пастернак, вспомним, в ответ на телефонный звонок вождя, представляя, наверное, в своем поэтическом воображении чуть не вселенской значимость события, просит специальной встречи для разговора, ни много ни мало, «о жизни и смерти».
Михаил Булгаков – опять же после хрестоматийно известного звонка Сталина – едва ли не до конца дней, как пишет М. Чудакова, жил под его впечатлением и ожидал на постоянном нерве звонка второго, который должен был решить его, писателя, судьбу. По убеждению Мариэтты Омаровны, в образе, с одной стороны, Пилата, а с другой – Воланда художник сублимировал свои переживания, связанные с представлениями о масштабах фигуры Хозяина. Здесь работали, по-видимому, социально-психологические механизмы, общие для всей страны, запущенные тотальным страхом перед неотвратимостью уничтожения.
Это только в 1989 году культурологу Л.М. Баткину, родившемуся в 1932-м и сознательно вступившему в жизнь уже в середине 1950-х, в статье «Сон разума. О социально-культурных масштабах личности Сталина» можно было с демонстративно неспешной трезвостью оценить явление и увидеть в давно почившем вожде посредственность, по уровню мышления находящуюся где-то рядом с персонажами зощенковских рассказов. Что касается современников Иосифа Виссарионовича из рядов старших поколений, то «страх и трепет», ими владевшие, подсознательно управляли многими из них, лишая способности «взрослой» реакции на происходящее. Все они так или иначе выступали в роли «детей», более или менее исполнительных, послушных, перед лицом, как говорится, строгого, но справедливого «отца-государя».
В размышлениях по поводу своей картины о Сталине Кончаловский говорит о магии этой фигуры. «Пропасть всегда манит к себе, хоть заглянуть в нее страшно. Возможно, это был гипноз страха. Страх – феномен сложный… Нетрудно танцевать на гробе Сталина или Ленина, когда дозволено танцевать где угодно. Это лишь доказательство рабского инстинкта, еще столь живого в России… Чувство мести – чувство раба. Чувство вины – чувство господина. С этой бердяевской мыслью трудно не согласиться…»
С.В. Михалков не искал, пожалуй, в вожде ни бога, ни дьявола. Такого масштаба мистика была по плечу Булгакову или Пастернаку, но не ему. Он едва ли не на двадцать пять лет был моложе тех, кто составил славу
Серебряного века. К середине 1930-х, когда Михалков только входил в литературу, они уже вполне осознавали свою значительность, свое место в ней. Михалков был и моложе, и, конечно, незначительнее. Вряд ли Хозяин останавливал на нем с той же пристальностью свой взгляд, как на Мандельштаме, Пастернаке или Булгакове. Сталин мог воспринимать Булгакова и Пастернака и как ровесников, и как близких по уровню содеятелей, что не могло относиться к Михалкову или Симонову.
Михалков верил (или убеждал себя, что верит) Хозяину и послушно исполнял его волю, как сын исполняет волю отца, как подросток верит своему вожаку, не размышляя и беспрекословно. И поощрения, награды со стороны власти накапливал, выстраивая так оградительные стены в той крепости, в которой хотел упрятать и себя, и, по возможности, семью.
Необходимость приспосабливаться к власти укоренилась и стала привычкой советской интеллигенции и в послесталинские времена. Сергей Владимирович в новых условиях сочинял соответствующие политическому моменту произведения, подписывал, по выражению сына, все, что требовалось подписывать. Иными словами, он не делал ничего такого, что выходило бы за рамки поведения обычного человека его круга и его времени. Другое дело, что считалось и было привычным и нормальным в тех условиях.
Трудно сказать, чья позиция в данном случае, если можно так выразиться, лучше – точнее, спасительнее. Метафизические взлеты взбудораженного (страхом?) воображения Пастернака и Булгакова или самоохранительный «договор» с властью Михалкова и Симонова?
Тут разницах и в масштабах этих поколений творческой интеллигенции. Ведь когда Пастернак пишет (совершенно искренне!) о Сталине: «…живет не человек – деянье, поступок ростом с шар земной», – он поднимает ограниченную бесчеловечность диктатора до уровня своей художнической человечности. Почему? Не потому ли, что не может представить себя склоняющимся перед посредственностью? Уж если подыгрывать тирану – то на уровне своей, поэта, гениальности, перенося его фигуру в свое измерение! Другое дело, что стихи при этом утрачивают живую силу, свою, если хотите, гениальность.
Сергей Владимирович не знал – и слава богу! – такого рода терзаний. Его «нужные» стихи о Сталине и партии никогда не претендовали на уровень пастернаковских и не становились, подобно им, загадкой, поселяющей сомнения («Как же так?! Как мог?!»). Он использовал ремесло на службу режиму – вполне осознанно, притом оберегая от гнева царского и себя, и своих близких.
Через год после награждения орденом Ленина поэту и драматургу присуждают Сталинскую премию второй степени «за стихи для детей». Еще через год – вторую, того же достоинства, за фильм «Фронтовые подруги» (реж. В. Эйсымонт). Как же воспринимает эти знаки отличия «счастливчик» Михалков? С сознанием человека сталинской эпохи, живущего постоянным чувством опасности, грозящей ему с зевесовых высот, – как «охранные грамоты», необходимые по тем временам. «Ну, теперь уж не посадят», – думал он.
Накоплением новых «охранных грамот» человеком, «травмированным» своим происхождением и некоторыми родственными связями, были и его политические стихи, пьесы, сценарии, гимны, в конце концов, его позднейшее участие в коллективных акциях осуждения тех, кто не совпадал в творческих поступках с официальной идеологией.
«Этот панцирь, – говорит в своем фильме «Отец» его младший сын, – который защищал его от внешних сил, за которым он прятал свои эмоции, мысли, чувства – а вернее всего… свой талант, – существовал не только для тех, кто был вне семьи, вне нашего дома, но порой и для нас, для нас для всех…»
Кстати, о награждении Сталинскими премиями. Были и куда более удачливые в этом смысле современники детского поэта. Причем люди далеко не бесталанные, а часто, в прямом смысле, – гордость страны. Абсолютным рекордсменом по общему числу присужденных Сталинских премий был авиаконструктор С.В. Илюшин – получил их семь. Шестикратными лауреатами стали кинорежиссеры И.А. Пырьев и Ю.Я. Райзман, кинорежиссер-документалист И.П. Копалин, актер и режиссер Н.П. Охлопков, уже упомянутый здесь К.М. Симонов, композитор С.С. Прокофьев и другие. Среди награжденных были такие большие мастера, как Д. Шостакович, Э. Гилельс, Е. Мравинский, И. Козловский, Н. Хмелев, М. Бабанова, Г. Уланова, С. Эйзенштейн, A. Довженко, М. Ромм, С. Образцов, С. Маршак. Ну, и так далее…
Великая Фаина Раневская, как и Михалков, была трижды лауреатом высокой премии. Одну из них – третьей степени – она получила за исполнение роли весьма отрицательной немецкой трактирщицы фрау Вурст в фильме «У них есть Родина» (реж. А. Файнциммер и
B. Легошин, 1949 г.) по сценарию С. Михалкова. Актриса считала, что роль у нее получилась, но при этом не забывала помянуть, что сыграла она ее «в этом михалковском дерьме». Такое было время.
«…Во времена ждановщины, – вспоминает Андрей, – отец написал «Илью Головина», пьесу конъюнктурную, он и сам того не отрицает. Пьесу поставили во МХАТе. Обличительное ее острие было направлено против композитора, отдалившегося от родного народа, сочиняющего прозападническую музыку. Прототипами послужило все семейство Кончаловских… Естественно, Кончаловские себя узнали… обижены уж точно были… Во времена недавние мне захотелось в этой пьесе разобраться. Как? Единственный способ – ее поставить. Хотелось сделать кич, но в то же время и вникнуть, что же отцом двигало: только ли конъюнктура или было какое-то желание высказать вещи, в то время казавшиеся правильными? Замысел этот пришлось оставить – слишком сложная оказалась задача…»
Может быть, с самых его первых творческих шагов в кино Кончаловским владеет настойчивая жажда разобраться. Разобраться в специфическом мировидении соотечественников той, советской эпохи, эхо которой хорошо слышится и в новом веке. Он пытается едва ли не в каждой своей работе все пристальнее вглядеться в глубины истории советской ментальности, названной им по имени героя «Ближнего круга» (1992) Ивана Саньшина «иванизмом». И чем более зрелым становится он сам (и как художник, и как мыслитель), тем более заинтересованно, широко и предметно он стремится охватить проблему, которая ныне толкуется им уже как постижение качества «национального генома». И внутри этой проблемы всегда и, несомненно, значимой, и актуальной составляющей остается опыт отца, целиком сформированный советской системой.
«…Однажды в музее Сталина в Гори, – вспоминал Сергей Владимирович уже в постсоветские времена, – меня попросили оставить записи в книге посетителей. Я написал: «Я в него верил, он мне доверял». Так ведь оно и было! Это только теперь история открывает нам глаза и мы убеждаемся в том, что именно он, Сталин, был непосредственно повинен во многих страшных злодеяниях. Тиран, садист, сатана. Режиссер кровавых политических спектаклей и сам непревзойденный актер в жизни. Вождь, снискавший фантастическую любовь народных масс и уважение государственных деятелей мира. Не человек, а явление. Персонаж, достойный пера Шекспира…»
Заметьте, эта характеристика вождя (может, и не отвечающая самой реальности) и отношения к нему как «народных масс», так и самого Михалкова как-то пересекается с теми масштабами образа Сталина, которые транслировали в свое время Булгаков и Пастернак. Под этими строками мог бы, возможно, подписаться и старший сын Сергея Владимировича. Пожалуй, именно в таком качестве, во всяком случае, он хотел изобразить Сталина в своем фильме «Ближний круг».
4
Судьбоносную «избранность» Сергея Владимировича оттеняет жизненный путь его младшего брата Михаила, скончавшегося в сентябре 2006 года в возрасте 84 лет.
В семье Михалковых было три мальчика. Кроме упомянутых двух, еще – Александр, средний брат. В 1941 году все они находились в рядах Советской армии. Все трое, кстати сказать, неплохо владели немецким языком благодаря немке-гувернантке их детских лет Эмме Ивановне. Знание языка сыграло особую роль в жизни Михаила. Окончив спецшколу НКВД, в годы войны он находился в тылу врага как агент-нелегал.
Еще в самом начале войны семья получила повестку: Миша пропал без вести. А в январе 1942-го вдруг пришло известие: младший брат расстрелян фашистами. На исходе 1945 года разноречивые сведения подытожатся в его письме из Лефортовской тюрьмы. Гораздо позднее прояснятся и подробности запутанной военной биографии Михаила из его книги «В лабиринтах смертельного риска». А пока было ясно только то, что младшего обвиняют в измене Родине.
В поисках справедливости Михалкову-старшему довелось свидеться с Берией, назвавшим брата Мишу «плохим человеком». После Лефортова Михаила отправят в лагерь под Рязанью. Здесь братья и встретятся. «Я не узнал Мишу в первое мгновение… Он был в такой заношенной робе… Он так глядел на меня… Мы крепко обнялись и поцеловались… И остались одни, и он долгодолго рассказывал мне, как и что произошло с ним за многие-многие месяцы войны. А я смотрел на его голые руки, торчащие из коротких рукавов, на впалые, давно не бритые щеки, на разбитые ботинки…»
По смерти Сталина его дело будет пересмотрено и «за отсутствием состава преступления» сняты обвинения. М.В. Михалкова наградят орденом Славы, добавившимся ко многим орденам и медалям за участие в Отечественной войне.
Михаил Владимирович известен и как поэт, прозаик, публицист. Печататься начал в 1950 году под псевдонимом Михаил Луговых, а потом – Михаил Андронов, вероятно, в честь любимого племянника…
Особое место в мемуарах Сергея Михалкова занимают страницы, посвященные его общению с лидерами страны в разные эпохи ее социально-исторического бытия: от Сталина и Берии до Горбачева и Ельцина. Особое внимание проявляли к нему и более поздние руководители. Все это – выразительные характеристики как положения в обществе самого Михалкова, так и образа страны в целом.
В пересказе Сергея Владимировича эти события его жизни получают даже и анекдотическое звучание из-за особой, увлекательно сказовой интонации и чувства юмора, присущего Михалкову. Таковы, скажем, рассказы о телефонных беседах с государственными вождями, с Брежневым, например…
История телефонных контактов советских вождей с советскими же писателями в эпоху победного шествия социализма, начиная, естественно, со звонков Иосифа Виссарионовича, о которых я уже поминал, ждет своего летописца. Сюда вошли бы и те устные рассказы, которые с горьким юмором слагал М.А. Булгаков о реальных звонках Сталина и воображаемых своих встречах с ним. И те, которые озвучивал Сергей Владимирович. Одновременно можно было бы проследить и эволюцию отношения властных фигур от Сталина до Брежнева и далее к «инженерам человеческих душ». У первого, скажем, внимательность до шизофрении, когда каждое слово, каждый образ художника мог стоить ему жизни. В послеоттепельный период произнесенное слово уже не могло обернуться кровью, не убивало. Сергей Владимирович дожил до тех исторических лет, когда за репликами вождей уже ничего не могло стоять, кроме их специфических шуток.
Сергей Владимирович пережил и Сталина, и Хрущева, и Брежнева. Постсоветские времена заставили его несколько растеряться. «В 1991 году я не вышел, а выпал из КПСС, – грустно шутил он. – Ив моем преклонном возрасте предпочитаю оставаться вне какой-либо партии…» «Ничего, отец проломим», – успокаивал его старший сын, вдохновленный первыми выступлениями Горбачева. «Я помню, с каким восторгом, находясь в Америке, я слушал его выступление, у меня даже слезы на глазах выступили от восхищения Горбачевым! Когда я представил себе, что Ленинград вернет себе название Петербург, а в Исаакиевском соборе зазвучат колокола, как до революции, я стал жить в ожидании новых времен…» Уже к середине 1990-х взгляды Андрея сильно поменяются, а десятилетием позднее он выступит с резкой критикой как самого Горбачева, так и отечественных либералов, фундаторов перестройки и лидеров шоковой социально-экономической и политической «терапии» в стране.
С.В. Михалков никогда так резко не обозначал своей позиции, как его старший сын в 2000-е годы. В его мемуарах последних лет можно было прочесть, что ему неоднократно пришлось общаться с улыбчивым Михаилом Горбачевым, партийным руководителем «с человеческим лицом», встречая, как правило, понимание и поддержку. Михалков верил и новому лидеру, как когда-то Сталину, «верил в его преданность социалистическим идеалам, видел в нем убежденного партийного деятеля, взявшегося за коренные преобразования в партии, за решительные перемены в жизни советского общества».
Правда, в тех же мемуарах есть и критические строки по поводу трансформаций, произошедших с Михаилом Сергеевичем «под давлением развивающихся в советском обществе центробежных сил». И совсем неожиданный в связи с этим для Михалкова риторический вопрос: «На каких же глиняных ногах держалась идеологическая система нашего государства, если за столь короткий срок она смогла до основания развалиться, похоронив под своими обломками провозглашенные ею «коммунистические идеалы».
Но пришел Ельцин, государственные лидеры следующего призыва, а представительность и весомость фигуры С.В. Михалкова никак не потеряла в своем качестве. Хотя СМИ в постсоветское время и стали высказываться о нем вольнее, но это не повлияло на официальное к нему отношение. Безусловный факт, свидетельствующий о том, что уж слишком крутых мировоззренческих перемен, которые могли бы всерьез взволновать его, в стране не произошло.
Но годы жизни бежали. И он с усиливавшейся тревогой и даже, может быть, страхом обозревал окружающее пространство, не находя в нем многих и многих своих ровесников, а то и людей гораздо моложе его, но которых он хорошо знал.
На склоне лет ему опять повезло. «Я в 83 года встретил женщину, которая мне сначала понравилась, а потом я понял, что без нее не могу жить. Она от меня радости тоже имеет не много, потому что жить с таким, как я, довольно сложно. Но я люблю ее как человека, как женщину, которую я не могу ни с кем сравнить».
Эта женщина – Юлия Валерьевна Субботина, физик, дочь академика РАН. В момент заключения брачного союза с патриархом ей еще не было сорока. По ее словам, он умер в сознании, произнеся перед кончиной: «Ну, хватит мне. До свидания».
Скончался С.В. Михалков 27 августа 2009 года в НИИ им. Бурденко и был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Похороны проходили в закрытом режиме, только для семьи и близких друзей, под музыку оркестра почетного караула. Ритуальное прощание прошло без выступлений.
«Оглядываюсь с высоты своего преклонного возраста на прожитую жизнь и, соотнося свою судьбу с судьбами других советских людей, могу признаться, что мне в жизни везло. Я не разделил участи сотен тысяч моих соотечественников в сталинских лагерях, не попал в фашистский плен и не был убит на войне, как десятки военных корреспондентов. Я рано нашел себя как детский писатель и сатирик. Мне повезло на друзей, на умных, талантливых, доброжелательных наставников. Я дорожил и дорожу любовью моих читателей, а это люди разных возрастов. Это ли не счастливый итог жизни?..»
Глава пятая Призраки Страны детей
…А моя страна – подросток… Владимир Маяковский. Хорошо! …Он манит вновь. – Иди; я за тобой. В. Шекспир. Гамлет1
Андрей называл отца в последнее десятилетие его жизни «любимым антагонистом», с которым «отношения, в общем, всегда были хорошие». А с годами стало формироваться к нему по-настоящему любовное сыновнее чувство. После смерти Михалкова-старшего это чувство в Андрее внятно окрасилось мудрым приятием отца как такового, как родной крови – каким бы он ни был в глазах других.
Вот как в начале 1990-х, в интервью, данном немецкому журналисту Клаусу Эдеру, он пояснял перемены в отношениях к отцу на разных этапах своего мировоззренческого созревания: «Мой отец был ответственным функционером. Поэтому в глазах либералов я выглядел несерьезно. Что бы я ни предпринимал на свой страх и риск, они говорили: ну да, он может себе позволить так «пошалить», ведь его отец – Сергей Михалков! Функционер, коммунист, но больше на словах. Человек, всегда всего опасавшийся, так как происходил из аристократической семьи, приближенной к царю. Он разменял свой талант писателя, продал его, став политиком от пера. Тогда я из протеста взял фамилию матери, так как не хотел носить его имя…»
Но и тогда, и раньше, – пожалуй, всегда он хорошо чувствовал и глубоко переживал очевидную пограничность своего происхождения, отпечатавшуюся в неслиянности двух частей фамилии «Михалков-Кончаловский». В этой фамилии слышится отзвук разноголосо-напряженного содержания советской эпохи.
Я уже говорил, что, на мой взгляд, опыт отца был и остается для Андрея образом-символом того времени. Не только в связи со злополучной отцовской пьесой «Илья Головин» сына влекло разобраться во взглядах ее создателя. Внутренне желание это подталкивало и к глубокому самоанализу. Со временем оно, стимулированное личным опытом, становилось все более основательным и целенаправленным.
Как только режиссер шагнет в 70-е годы XX века, в его творчестве одной из определяющих художественных коллизий станет столкновение образов отца и Отца.
Герой произведений Кончаловского мировоззренчески созревает, взрослеет, постигая мир, как правило, через личное отцовство. На этом естественном для любого человека пути его ждут серьезные препятствия социального происхождения.
Кровный отец, опыт которого герой должен усвоить, подменяется призрачным или сновидческим явлением Отца-Хозяина. Почти потусторонняя, демоническая фигура препятствует передаче живой отцовской традиции, подавляет героя своим государственным величием, тормозит его личностное созревание. Герой задерживается на подростковой стадии развития, покоряясь мощному влиянию Отца-Хозяина.
Сильнейший двигатель сюжета у Кончаловского – любовь, в разнообразных формах и проявлениях. Но при всех своих жизнетворных потенциях любовь часто не получает у него полноты развития. Герой, подчиняясь воле призрачного Отца, предает свое естественное предназначение, поступается личным отцовством.
Чувственное напряжение, которое всегда ощущается в его картинах, не находит желанного естественного разрешения, оставляя и в героях, и в зрителе горечь неудовлетворенности. Мало того, эротика у Кончаловского то и дело рифмуется с насилием. И всегда напряженная чувственность оборачивается духовным бессилием из-за несостоявшегося отцовства. В итоге любовный сюжет разворачивается так, что не только герой не находит воплощения как супруг и отец, но и героиня – как жена и мать.
Вспомним «Первого учителя». Герой фильма, бывший пастух, а в настоящем – революционер-неофит Дюйшен, так и не узнает ни восторгов плотской любви, ни радостей отцовства. Его преданной ученицей и первой любовью силой овладевает красавец бай. И это звучит оскорбительной насмешкой над мужским достоинством идейного комсомольца. Сам герой успевает лишь неловко поцеловать Алтынай, расставаясь с ней навсегда.
Во всей угловатой пластике, в тщедушии исполнителя роли Болота Бейшеналиева есть что-то неуверенно-детское, жалкое – особенно когда его герой остается наедине с Алтынай. Дюйшен – обездоленное, осиротевшее дитя в неуютном, жестоком мире, состоящем из камней и солнца, бесплодной земли.
Может быть, Дюйшен как раз и спасается от своей обездоленности, когда тянется к детям, к той же Алтынай, пытаясь обрести взрослый, отцовский опыт? Может быть, дети отвечают ему доверием уже по причине собственного сиротства? Во всяком случае, ничего, кроме слепой веры, что все так спасутся, я не вижу в картине в качестве основания для сближения этих существ! И любовь его к Алтынай не только физиология, нарождающееся влечение к девственной плоти, но и – безнадежная страсть всех спасти, и любимую в том числе.
А на пути ко всеобщему спасению, когда надо разрушить «весь мир насилья», его вдохновляет идейный Отец и Учитель – Ленин. Вполне виртуальная, по фильму, фигура. Призрак. Дюйшен любит этого виртуального Отца больше, чем Алтынай, чем себя, и, вероятно, больше, чем детей, изнывающих вместе с ним от духоты в школе-конюшне. И выходит, что его личная, частная любовь к девушке пытается пробиться не только сквозь камень вековой традиции киргизского аила. Эта любовь противостоит и жертвенному огню ленинской Идеи.
Что же, живая любовь к живому человеку гибнет в этом противостоянии? Нет! Автор далек от революционной бескомпромиссности своего героя. В самом финале картины появляется не подменный, а живой отец (!). Старец Картанбай, бездетный крестьянин, действительно, как мудрый отец, фактически спасает Дюйшена от гнева жителей аила, чью святыню – тополь – рубит идейный комсомолец. Картанбай становится рядом с юношей и помогает ему. Его любовь – жертвенная. Ведь гибнет народная святыня.
«Отцовско-сыновняя» коллизия возникнет уже в самых истоках творчества режиссера. Еще нет «Первого учителя». Еще «Иваново детство» и «Андрей Рублев», соавтором сценариев которых он был, не существуют даже в замысле. А на свет почти одновременно появляются его курсовая работа (совм. с Е. Осташенко) «Мальчик и голубь» (1961) и диплом Тарковского «Каток и скрипка» (1961), по сценарию, написанному вместе с Кончаловским.
Обе картины были сделаны под явным влиянием кинематографа французского режиссера А. Ламориса, в частности его «Красного шара» (1956). И уже поэтому в центре сюжета и того и другого фильма оказывался одинокий мальчишка, ищущий духовной (а может, просто родительской?) опоры в окружающем мире.
Если в фильме Тарковского зритель все же видел мать маленького героя, место их проживания, хоть и не очень приветливое и уютное, то ни родителей, ни квартиры героя в кадре «Мальчика и голубя» нет. Мальчик лишь однажды упомянул отца, но в прошедшем времени, как отсутствующего. Произошло это в момент обмена альбома марок на голубя. Марки, оказывается, начинал собирать еще родитель.
Мальчонка этот, как и герой «Катка», всегда в стороне от сверстников. Но и со взрослыми (с владельцем полюбившегося ему голубя, например) он вступает в контакт лишь по крайней необходимости. В самом же близком для него существе – голубе – видит, кажется, воплощение собственной неосознанной душевной тяги к вольному полету.
Только ли Ламорисом и оттепельными настроениями было продиктовано появление этой негромкой, но вполне авторской короткометражки?
Андрей без энтузиазма вспоминает свое подростковое детство, себя как «малосимпатичную личность». Среди сверстников друзей было маловато, а то и совсем не было. Очень хотелось играть с теми, кого видел на улице. Но опасался их агрессии. Драк боялся. В школе тоже особенно ни с кем не сходился.
Мать, по его воспоминаниям, хоть и воспитывала (била и целовала), но больше занималась творчеством, а отец «витал где-то в начальственных высотах, заседал». Из самых ранних ощущений осталась в памяти отцовская военная форма: «скрипящие сапоги, запах кожаной летной куртки с «молниями». Из воспоминаний же проступает образ десятилетнего мальчишки, блуждающего по квартире, воровато, с опаской проникающего в пустую комнату родителей. Вот он шарит там по всем ящикам, трогает, ощупывает принадлежащие родителям вещи, примеривает. Рассматривает фотографии, читает письма. Это было похоже на «подвиги разведчика» в «тылу врага». Сами родители, полагает он, так хорошо не знали вещей друг друга, содержимое своих столов и шкафчиков в городской квартире, как их старший сын…
Во всех этих приключениях подростка, кроме специфических возрастных проявлений, можно увидеть, почувствовать и одиночество «малосимпатичной личности», окрестившей себя со временем прозвищем «меланхоли беби».
Тема детского одиночества в семье добропорядочных родителей откликнется в творчестве Кончаловского уже и в весьма зрелом возрасте – в фильме «Щелкунчик и Крысиный король» (2010). Невольное равнодушие взрослых к миру фантазии, порожденному воображением ребенка, суровые «воспитательные» меры отца, пренебрегающие особенностями детской психики, – все это спровоцирует в детских снах и видениях катастрофу крысиной агрессии.
Семейная тема как встреча детского и взрослого миров всегда была актуальна для режиссера и в узком, и в самом широком образно-символическом смысле.
2
Не только Дюйшен, но и другие герои Кончаловского не в состоянии поднять, а тем более нести груз отцовской ответственности. Субъективно – по разным причинам, но объективно оказываясь в тесном родстве.
Степан из «Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1968), приняв только-только рожденное его Асей дитя, тут же передает его под звуки Гимна многонациональному советскому воинству, по существу состоящему из мальчишек, почти детей. Есть в этих кадрах окрашенные юмором интонации на тему нашего Отечества как вечной Страны детей с неизбежным государственным патронатом.
Взрослый сын Степана, уже в «Курочке Рябе» (1994), продолжении «Аси Клячиной», будет выглядеть таким же бесприютным недорослем, как и его неприкаянный отец.
Неприкаянным же бродит по сюжету «Дворянского гнезда» (1969) его герой – дворянин крестьянского происхождения Федор Лаврецкий. И хотя возвратившегося на родину Федора поддерживает дух умершей матери-крестьянки, витающий над миражным дворянским гнездом сына, отцовского воплощения Лаврецкого в сюжете не увидим.
«Романс о влюбленных» (1974) и «Сибириада» (1979) – средоточие темы несостоявшегося отцовства. Герои этих картин – простые советские люди Сергей Никитин и Алексей Устюжанин – живут коллективистскими представлениями. Им незнакомо, а потому пугающе чуждо понятие о жизни частной. Они жертвуют ею во имя установленного государством общежитийного существования.
Застывший в сознании и социальной практике советских людей кодекс общинной жизни подразумевает опору на «крепкую руку» верховного Отца. Так целая страна исторически удерживается, образно говоря, в подростковом возрасте, не умея преодолеть свою детскую безответственность и обрести гражданское самосознание. Вот о чем говорит режиссер в этих двух своих последних советских лентах. Поставленные рядом (но в таком порядке: вначале «Сибириада», а за ней «Романс»), они дают художественно проинтерпретированную советскую историю страны вплоть до завершения брежневских 1970-х.
Возвращаясь к советскому сюжету уже в нулевые годы нового века, режиссер говорит о желании поставить фильм о рабочем классе периода правления Л.И. Брежнева. И как продолжение, и одновременно как завершение темы его воображение волнует образ картины о крушении Советского Союза – «колоссальный, эпический фильм». «Крушение, приход новых личностей… Желание подружиться с Западом в надежде, что разрушение гигантской и неповоротливой системы принесет желанную демократию и экономический расцвет. Что могли понимать люди, руководившие агрокультурными областями? Как интересно, что сейчас Горбачев – звезда международного масштаба, но я никогда не слышал от него что-нибудь имеющее серьезный смысл. Мне даже кажется, что Горбачев – трагическая фигура, ибо, столкнув с мертвой точки государство под гору, он уже не в состоянии был остановить это смертельное движение. История вершилась мимо него! В общем, это может быть потрясающий и трагический фильм».
В «Сибириаде» впервые у Кончаловского отец появится как Призрак. В нем растворится образ кровного родителя Алексея Устюжанина, будто поглощенного потусторонним «отцом народов». Темой Призрака увяжется с «Сибириадой» лента, созданная уже тогда, когда режиссер покинет Страну детей. Это будет фильм «Стыдливые люди» («Shy people», 1987). А еще позднее определенным и узнаваемым видение Сталина явится в воспаленном воображении героя «Ближнего круга» (1992) кремлевского киномеханика Ивана Саньшина.
…Вот еще одно из немногих пробудившихся в зрелом возрасте детских впечатлений Андрея: звонок из Кремля, случившийся в 1943 году.
Отец в это время был в ванной, а маленький сынишка катался по квартире на трехколесном велосипеде. Узнав, откуда звонят, Михалков-старший вышел абсолютно голый, весь в пене и направился к телефону. «Голого отца, расхаживающего по квартире, я никогда не видел: это меня поразило – наверное, поэтому и запомнилось. Он стоял около тумбочки, под ним от сползающей пены растекалась лужа…»
Отец и сам выглядел в эту минуту, наверное, как послушный сын, готовый немедленно откликнуться на зов всемогущего «Родителя».
Сергея Владимировича вызывали. Вероятно, по делам Гимна. И он дал команду быстро собираться. Мать принялась гладить рубашку, чистить гимнастерку. Малолетнему Андрону была поручена чистка сапог. «Как сейчас, вижу себя сидящим на полу и намазывающим их ваксой – сверху донизу, включая подошвы. Старался изо всех сил. Так старался, что заработал подзатыльник. Других новых сапог у отца не было, на высокие государственные этажи (т. е. в Кремль. —В.Ф.) пришлось ехать в старых…»
Подзатыльник на почве отцовской государственной службы; сам отец, спешащий на прием к Хозяину; наконец, сапоги как символ и отцовской, и государственной власти – все так или иначе отзовется в творчестве Кончаловского. Будет образно обыграно уже в постсоветское время в его театральных опытах, например.
А властно влекущая гипнотическая сила самого Сталина станет лейтмотивом «Ближнего круга».
Журналисты интересовались у Сергея Владимировича, советовался ли с ним сын, когда работал над картиной, как с современником и даже участником тех событий. Отец признавался, что теперь уже не сыновья с ним, а скорее он с сыновьями советуется. А что касается фильма, то атмосфера, на его взгляд, «передана очень верно».
Прототипом героя фильма «Ближний круг» стал, как известно, Александр Сергеевич Ганыпин, личный киномеханик Сталина, входивший в так называемый «ближний круг» вождя. К этому кругу принадлежали люди обслуги, вступавшие в непосредственный контакт со Сталиным.
«Свое дело он старался делать хорошо, чтобы все было в фокусе, лента не рвалась, зрители были довольны. Кого только не видел он из своей проекционной будки: и членов Политбюро, и министров, и кинематографистов – все дрожали перед Сталиным! Через этот характер, перипетии его судьбы можно было дать объемную картину сталинской эпохи…»
Кончаловскому было интересно воспроизвести взгляд «простого человека», который Сталина обожал и трепетал перед ним. Таким путем режиссер рассчитывал приблизиться к пониманию «сути сталинизма, его гносеологии, причин, его породивших».
«Почему именно в России он появился на свет? Без моего Ивана – наивного, честного человека, каких в России миллионы, не было бы Сталина. «Иванизм» породил «сталинизм»……Главным для меня было показать не то, какой Сталин плохой, а какой Иван наивный. Не помню ни одной из наших картин последнего времени, где Сталин был бы показан с обожанием. А в «Ближнем круге» – именно так, поскольку увиден глазами слепо влюбленного в него человека. Иван – образ собирательный. Когда после самоубийства жены он в обморочном сне встречает Сталина, то вовсе не его винит в ее гибели. Он лжет ему, что счастлив, живет хорошо, никаких проблем нет, – не хочет огорчить, хоть как-то расстроить своего вождя…»
3
В зачине «Ближнего круга» закадровый голос героя называет Сталина всеобщим Отцом. Сам герой – дитя Державы и служит Державе. Она же обеспечивает казарменное наблюдение за его потомством. В такой «семье» все отношения покрываются Отцом-Хозяином, призванным, в народном мнении, печься о всеобщем благе. Вот почему мужчине здесь никогда не стать полноценным отцом для своего дитяти, а женщине – матерью. Никогда не образовать независимую частную семью, укрепленную давней традицией взращивания и воспитания потомства.
В системе веками складывающихся отношений и сам Хозяин, облеченный своей обрядово-государственной ролью, не знал частно-семейного, домашнего опыта. Тому яркое свидетельство – публичная исповедь дочери диктатора Светланы Аллилуевой. И не только не знал, но фактически чуть ли не целенаправленно разрушал собственный дом, подменяя его казарменным общежитием в чреве государства.
Героиня «Ближнего круга» Настя Саньшина всем своим женским существом сопротивляется предуказанному ей государством индивидуальному бесплодию. Не имея детей, она тянется к соседской еврейской девочке, родителей которой репрессировали как «врагов народа». Пытается заменить ей мать. И как бы в наказание за ее естественный материнский порыв государственный монстр в образе Берии овладевает ею и «награждает» от лица безликой власти беременностью.
Вот вам дьявольски перевернутая история оплодотворения Богоматери. В этом смысле образ Насти перекликается с образом героини «Возлюбленных Марии», фильма, созданного в начале голливудской карьеры Кончаловского, а вслед за тем – и с героиней «Стыдливых людей» Рут Салливан. В каждом из этих фильмов женщина оплодотворяется в результате насилия, от некой темной силы, которой противостоит личная возвышенность и чистота героини.
Вплоть до самоубийства из-за насилия над ее материнством Насте все кажется, что в чреве ее созревает некто мохнатый. Здесь есть своя логика, поскольку, убежден один из интеллигентных персонажей картины, в Кремле уже давно засел Сатана.
Кончаловский воспроизводит не собственно свою, а обусловленную временем точку зрения, мироощущение тогдашних крестьянки и интеллигента на природу отечественных властей.
Между тем, и прервав свой земной путь, Настя остается матерью для пригретой ею девочки. Ее голос из-за гроба звучит в сознании наивного Ивана и ставит его перед неизбежностью выбора: или оставаться личностно недоразвитым дитятей Державы, или взять на себя груз естественного отцовства в своем, частном доме. И Саньшин выбирает – правда, запоздало.
Совершенно не случайно на роль главного героя был приглашен Том Халс, завоевавший всеобщее признание блистательной клоунадой в фильме Милоша Формана «Амадей». Кроме очевидной необходимости иметь в кинокартине звезду, причем звезду мирового уровня, Кончаловский избирает этого актера, поскольку он в состоянии сыграть не просто клоуна, а простодушного клоуна-ребенка.
Влюбленность Ивана вначале в Ворошилова, а потом – в Сталина, его безусловная вера в необходимость происходящего в стране, его способность с жадностью и наслаждением раба поедать кремлевский паек, когда за стеной рушатся человеческие судьбы, – все это совершается с каким-то гомерическим простодушием. И оно не требует никаких иных обоснований, кроме его собственных, почти детских побуждений и потребностей. Образ жизни, поведение героя вызывают невольную улыбку и одновременно ужас перед этой невинной слепотой недоросля. «Подросток» Саньшин не в состоянии преодолеть свой социальный возраст до тех пор, пока рядом с ним, а главное, в нем жив Отец-Хозяин. Вот вам результат исторического превращения простодушной любви революционера-неофита Дюйшена к своему идейному Учителю Ленину.
Простодушная клоунада, которую разыгрывает Том Халс, формирует экранный образ Ивана Санынина как образ существования и мировидения Страны детей. Едва ли не с первых кадров страна предстает удручающе уродливым праздником масок. Саньшин и Настя учиняют застолье по поводу своего обручения. Участники убогого торжества надевают популярные накануне войны противогазы, превращаясь в кукольных монстров.
Вот и праздник, что называется, со слезами на глазах. Он не охватывает и не может охватить все пространство существования этих людей. Он лишен главной приметы настоящего праздника – объединяющего всех неофициального веселья. К несчастью, участники убогого торжества на такое веселье неспособны. За пределами их праздника остается большая часть соседей Саньшина, каждую минуту обреченно переживающих смертельную угрозу со стороны тех, кому, как божествам, поклоняется герой.
Жалкое, ущемленное веселье на границе смертного страха. Оно вот-вот прольется слезами. Действительно, в ночь, сменяющую застолье, арестовывают соседа Саньшина – Губельмана, маленькая дочь которого и западет в сердце Насти.
Страхом пронизывает и «сброд тонкошеих вождей», и всех, входящих в «ближний круг» их и Хозяина обслуги. Здесь все – декорация, все – маска. И сам Хозяин – не более чем личина, угрожающе шутовской наряд Короля этого, учрежденного им государственного карнавала, а по сути – антикарнавала. И учрежденного – с согласия и позволения восторженного Ивана Саньшина, Ваньки, то есть – народа.
«Смеховое» решение образа власти можно почувствовать, только отрешившись от мировосприятия простодушного клоуна и раба Ваньки Саньшина. Сам режиссер, исследуя туманное сознание «иванизма», поддался, я думаю, магнетическому влиянию исторической фигуры Сталина. В апреле 1990 года, на этапе подготовки картины, он видел в нем «очень одинокого человека», каковым является любой диктатор, подобно герою романа-гротеска Габриэля Маркеса «Осень патриарха».
«Окружение тирана – или холуи, или люди, которые его боятся и ненавидят, поэтому любое нормальное человеческое лицо в таком окружении было для Сталина дорого. У него были свои любимые охранники, с которыми он играл в шахматы, разговаривал о жизни, пел песни. С этими людьми он чувствовал себя нормальным человеком – я могу понять это. Для остальных он был совсем другим, и они для него тоже были другими. Поэтому воспоминания сталинского киномеханика очень субъективны, но они как раз и подчеркивают ужас, трагедию – и Сталина, и нации».
Исследуя национально-культурный феномен «иванизма», Кончаловский увлеченно погружается и в постижение природы тоталитарной власти, причем со стороны всеобщего преклонения, ужаса перед ней и в то же время – рабской к ней любви.
Что же так влечет к властно возвышающемуся тирану, понуждая доискиваться корней его магнетизма? Может быть, то обстоятельство, что тиран всегда ходит рука об руку со смертью и, убежденный в собственном бессмертии, презирает трепет ужаса перед ней, которым полнится душа любого из нас? Отсюда, возможно, и податливость целого народа регламенту его властной игры, и невероятные, по мнению современников, посягательства метафизически чуткого Пастернака на разговор с вождем «о жизни и смерти».
В «Жизнеописании М. Булгакова» Мариэтта Чудакова ставит вопрос о «состоянии отечественных интеллигентов в середине 1930-х годов». Она полагает, что, возможно, объяснительную силу имеет «аналогия с гегелевским «абсолютным духом», которому уподобляло Сталина в середине 30-х годов восприятие философски образованных сограждан».
А культуролог Л. Баткин видит здесь социально-исторический парадокс, когда «во главе режима, перевернувшего мировые пласты и унесшего миллионы жизней», оказалась посредственность. «Иванизм», если следовать логике Баткина, – «обыкновенный сталинизм», «скоморошья гримаса истории».
Сталинский режим перемолол все лучшее – ив народных низах в том числе. В действие пришел принцип «последние станут первыми». Историческая ломка выдавила на поверхность тот человеческий материал, из которого к концу тридцатых годов сформировалась «новая порода управляющих», читаем в статье Баткина «Сон разума». Индивидуально они могли быть разными, но как «выдвиженцы» они сближались. И «со временем воспроизводство по принципу конформности, серости делало исключения практически почти невозможными». «Это деклассированные люди, сбившиеся в стаю, в новый класс «руководителей». Они ничего не умеют и толком ничего не знают, но они умеют «руководить»…
Так начинался путь от Сталина к Брежневу и далее, когда неслыханный в мировой истории основной принцип воспроизводства государственной касты состоял в том, что «вменялась серость». Явилась, по выражению культуролога, новая бюрократия – «серократия».
Так «вызревал, формировал себя политический режим, который не «создан» Сталиным и не «создал» Сталина, а скорее рос вместе с ним как СТАЛИНЫМ». Режим, фактически исчерпавший себя уже в фигуре Брежнева.
Вот эта скоморошья ухмылка Истории, с молчаливого согласия наших Иванов, помогла «серократии» учредить насильственные правила властного антикарнавала, которые Кончаловский, хотел он того или нет, воспроизвел в «Ближнем круге».
С.В. Михалков так или иначе должен был войти в среду новообразовавшейся советской бюрократии («серократии»). Правда, произошло это намного позднее, чем с другими его коллегами – А. Фадеевым или К. Симоновым. Оказавшись в этой среде, он должен был подчиняться ее неписаным правилам. Не потонуть окончательно в болоте «серократии» ему помогали природный юмор, талант, то детское, что жило в нем и замечалось окружающими. Ведь сказал же кто-то, что он вовсе не был детским поэтом, просто лирическому герою его стихов всегда было лет шесть…
Может быть, в Сергее Владимировиче все же не исчез инстинкт охранителя собственного гнезда. И он заслонял и себя, и семью на самом переднем крае скрытого сражения частного человека с Государством. В каком-то смысле не давал источиться тому культурному фундаменту, в который были заложены и судьбы рода Суриковых-Кончаловских. Может быть, на это и на замечательные детские стихи, ставшие классикой жанра, пошла та часть божьего дара человечности, которую не смогла поглотить власть.
Как бы там ни было, но за спиной долговязой фигуры, напоминающей им же придуманного дядю Степу-милиционера, среди океана коммунального советского бытия находился Остров.
Остров частной жизни семьи Михалковых-Кончаловских…
Часть вторая На острове
…Я жил па отделенном от советского мира острове…
Андрей Кончаловский. Низкие истины. 1998 г.Андрей появился на свет в доме № 6 по улице Горького. Рождение же второго мальчика, Никиты, связалось с получением новой, трехкомнатной квартиры – по той же улице, но в доме № 8. Дом считался, как вспоминает сам Андрей, «блатным». Здесь жили знаменитости…
Следующая перемена жилья произошла в начале 1950-х. Теперь квартира находилась на улице Воровского (угол Воровского и Садового кольца). Она была уже пятикомнатной: кабинет у отца, комната у матери, столовая и еще две комнаты – в одной жила старшая сестра Катя с няней Хуанитой, в другой Андрон и Никита.
Из самых ранних детских переживаний в памяти Андрея остались страхи и спасение от них на материнской груди.
«…Боялся я маминого приятеля-негра Вейланда Род-да, никогда не видел черного человека. Боялся картинки-чудовища в книжке сказок. Но больше всего боялся пылесоса. Когда его включали, я бежал по квартире. Квартира была маленькая, двухкомнатная, но бежал я по ней бесконечно долго, забивался в дальнюю комнату и держал дверь обеими руками, пока пылесос не выключался. Ужас, охватывавший меня, помню до сих пор. И помню свои руки, вцепившиеся в дверную ручку над головой.
Потом приходила мама, успокаивала меня, я плакал, она укладывала меня в постель и, поглаживая по спине, говорила: «Спи, мой Андрончик… Спи, мой маленький…»
Мамы со мной уже больше нет. Вернее, она со мной, но увидеть ее я уже не могу. Засыпая, когда мне одиноко, слышу над собой мамин голос и повторяю про себя ее слова: «Спи, мой Андрончик… Спи, мой маленький…»
Глава первая «…Когда пускался на дебют…»
… От шуток с этой подоплекой Я б отказался наотрез. Начало было так далеко>, Так робок первый интерес. Борис Пастернак1
Семейная традиция настигла юного Андрона едва ли не сразу по возвращении с родными из эвакуации в Среднюю Азию, в семь-восемь лет.
«…У мамы была ближайшая подруга – Ева Михайловна Ладыженская, мосфильмовский монтажер. Она много работала с Эйзенштейном, Пудовкиным, Роммом, впоследствии монтировала и моего «Первого учителя»… Так вот, как-то зимним днем 1945 года мама и Ева Михайловна, пообедав и выпив водочки, решили, что самое время учить меня музыке… Они отвели меня в музыкальную школу в Мерзляковском переулке: так началась моя несостоявшаяся карьера…»
Наталья Петровна музыку обожала. Читатель помнит, особого рода приязнь к первому мужу родилась из-за того, что он был неплохим пианистом. А расстались недолгие супруги, говорят родные, потому что к музыке, точнее, к исполнительству вернуться молодой муж не пожелал. Очень стеснялся публичных выступлений…
И Андрей музыку уже никогда не оставит, хотя из консерватории уйдет, и его карьера на исполнительском поприще не состоится. Занятия музыкой, кроме прочего, способствовали развитию самодисциплины, не позволяли избаловаться. Но с восьмого-девятого класса от рояля потянуло в шашлычную у Никитских ворот, в доме, где находились, между прочим, кинотеатр повторного фильма и фотоателье.
Заведение регулярно посещалось с момента, когда Андрей, окончив в 1952 году музыкальную школу, поступил в музыкальное училище при Московской консерватории (1953). Образовалась компания, пропивавшая здесь случайным трудом или иным путем добытые деньги. То были одаренные люди. Среди них, например, появлялся Вячеслав Овчинников. Творческое сотрудничество с Андреем он начал с его вгиковской короткометражки «Мальчик и голубь». Потом писал музыку к «Войне и миру» С. Бондарчука и «Андрею Рублеву» Тарковского, к «Дворянскому гнезду» Кончаловского. И Овчинников, и другие приятели моего героя, часто бывая позднее в доме Михалковых-Кончаловских, устраивали ночлег на раскладушке под тем самым роялем, за которым юный Андрей постигал нелегкий труд музыканта…
В детские и отроческие годы круг общения Андрея не был таким уж широким. Как он сам полагает, в учебных заведениях, общеобразовательных и специальных, его скорее не любили. Из периода подросткового и раннего юношеского обучения он мало кого помнит из однокашников и педагогов. Неравнодушно называет одного человека. По внешности, как казалось Андрею, это был странный гибрид Муссолини и Кагановича. Преподавал в музыкальном училище историю СССР и назывался Коммуний Израилевич (прозвище – Кома).
Кома позволял себе иронизировать в рамках общеупотребительной программы по истории, а также выходить за ее пределы – в рассказах о Троцком, например. Именно от него юный Андрей впервые услышал и при этом навсегда усвоил, что у Максима Горького самое гениальное произведение – «Жизнь Клима Самгина», «роман, очень серьезно раскрывающий русский характер, а за ним и гибель всего сословия».
«Кома был больше, чем учитель. Он был настолько интересен, что мы собирались у него дома, разговаривали, пили водку. Он нас любил, от него веяло инакомыслием, хотя времена были такие, что и слова этого нельзя было произнести. Тем не менее именно инакомыслие сквозило и в его жестком глазу, и в иронической интонации, и в манере общения с нами…»
Но не общеобразовательная школьная программа, а именно музыка влияла на становление Андрея. Где-то в своих воспоминаниях он рассказывает, как впервые, во время болезни, лежа в постели, услышал Скрябина. От этой музыки у него «чуть не случился оргазм». Если исполнитель, по его собственным представлениям, из Кончаловского не получился, то музыка все же звучала в нем всегда. Во всяком случае, структура его картин, признается режиссер, тяготеет к чувственно выразительной музыкальной форме.
Эдуард Артемьев, композитор, знакомый около полувека с режиссером и постоянно с ним сотрудничающий, рассказывал в одном из интервью уже на рубеже 2000-х годов: «В конце 1950-х оба учились в Московской консерватории. Я – на отделении композиции, Андрон – на фортепианном факультете. Пианистом он был блестящим, и когда уже на последнем, пятом, курсе решил консерваторию оставить, это было для всех нас полнейшей неожиданностью. Потому что он был виртуозом, и я помню, как легко исполнял такую технически сложную вещь, как фортепианная версия балета Стравинского «Петрушка»… Позже Андрон признался, что просто ощутил пределы своих возможностей и понял, что не смог стать вторым Ашкенази. А быть ниже не захотел. Амбиции не позволили…»
Переживания эти обострялись присутствием рядом более талантливых, более умелых, в том числе и Владимира Ашкенази. «Консерваторские годы были мучительны, – с горечью говорил он позднее, – из-за постоянной необходимости соответствовать другим». А это было нелегко, потому что в это время у Оборина в консерватории училось «несколько гениев» – кроме Ашкенази, Михаил Воскресенский, Дмитрий Сахаров, Наум Штаркман. «Рядом с этими великими я был как не пришей кобыле хвост…»
Андрея притягивали личности, в том или ином смысле нерядовые, «гении» в своей области, особенно те, кто постарше. Тогда, в оттепельную зарю, люди творческие любили слово «гений», охотно награждая им друг друга. Моего героя окружали действительно чрезвычайно одаренные индивидуальности, неординарные характеры.
Одним из них был, например, Николай Двигубский, в будущем выдающийся художник театра и кино. Русский по происхождению, он родился в Париже и даже был, говорили, двоюродным братом Марины Влади. Приезд Двигубского из волшебной Франции в Москву для постоянного проживания сильно удивлял Андрея. Во время учебы во ВГИКе они подружились – и надолго. Двигубский знакомил приятеля с далеким пока от того миром французской культуры.
Николай Львович Двигубский (1936–2008) оставил СССР почти одновременно с Андреем и на «историческую родину» больше не возвращался. В каком-то уже очень позднем интервью он с гордостью причислил себя к людям «круга Кончаловского и Тарковского», с которыми ему довелось сотрудничать, и грустно посетовал на невозвратность этих времен.
Годы учебы (и в консерватории, и во ВГИКе) – время напряженного постигающего соревнования, стремление закрепить свою неповторимость, право на место Первого. А отсюда – и особый род зависти. Особенно там, где чувствуешь творческую неполноту, невозможность победить в равном бою. Кончаловский признается в такой именно зависти к одному из самых близких тогда своих друзей – к Владимиру Ашкенази. Видимо, как раз он и был невинной причиной того, что Кончаловский ушел из консерватории.
Владимир быстро рос как мастер. Он был уже концертирующий артист, а Андрей все еще студент. Владимир колесил по всему миру. Женившись на иностранке, он уехал из страны. Поселился в Лондоне. И оттуда писал своему другу. И его дружеские, нежные, искренние письма невольно превращались для Андрея в насмешливый вызов гения: я сумел уехать и жить по другим законам, а ты нет.
Рассказывая о Кончаловском, Э. Артемьев заметил: «Известно также, что после «Сибириады», над которой мы работали вместе, Андрон уехал в Америку. Почему? Понял, чутье подсказало, что здесь все кончается, а ему уже сорок два, еще два-три года – и «поезд уйдет». И рискнул. Года три был в Америке практически без работы – так, входил в местную тусовку, был то консультантом по костюмам, то вторым режиссером. Американцы, думаю, его проверяли: приживется или нет?..»
Приживаясь, он и там завязывал контакты с «гениями», впитывая, культивируя и преображая в себе выдающиеся качества их натур. Сам он иногда объясняет свою тягу к людям «крупного калибра» (там, в Америке) тщеславием. Делясь впечатлениями от своего общения со звездой, говорит режиссер, «пытаешься как бы дотянуться до нее». Примечательны в этом смысле подробно описанные Кончаловским его встречи с американским актером Марлоном Брандо, покорившим советского режиссера ролью в фильме Бертолуччи «Последнее танго в Париже» (1972).
Одна из первых длительных встреч с Брандо произошла, когда тот выразил желание сняться в предполагаемом фильме по сценарию Кончаловского. На ту пору актер как раз нуждался в деньгах. Андрей чувствовал себя неуютно под напористо изучающим взглядом могучего американца, хотя его выдающаяся индивидуальность, живущая по своим, звериного чутья непредсказуемым законам, притягивала. В какой-то момент актер дал свое определение собеседнику, навсегда оставшееся в памяти последнего. Он назвал Кончаловского одиноким человеком, прячущим себя, скрывающим свою суть за улыбкой…
2
Вернусь к годам юности моего героя, к тем ярким, своеобычным личностям, которые окружали его. Он, может быть безотчетно, искал покровительства более сильного, и физически, и духовно. Искал достойного на роль старшего рядом. Первым эту роль сыграл Юлиан Семенов. Андрею тогда было восемнадцать-двадцать лет.
Юлик, как его называли близкие, был сыном Семена Александровича Ляндреса, бывшего сподвижника Николая Бухарина, вернувшегося из советских лагерей инвалидом. Через какое-то время «Юлик» сделается известным автором советских политических детективов Юлианом Семеновым, путешественником и авантюристом. Андрей, по его словам, влюбился в эту «выдающуюся личность» по уши. За необыкновенное жизнелюбие Юлика младший называл старшего друга «жизнерастом».
Юлиан, учившийся с Евгением Примаковым, друживший с ним, был гораздо старше Андрея, знал несколько языков. Из Института востоковедения он был изгнан из-за ареста отца, а после смерти Сталина восстановлен. Привлекала в Юлиане и его бесшабашность, бросавшая в драку без раздумий. «Маменькин сынок» Андрей драк избегал.
Младшая дочь Юлиана Семенова рассказывала, что отец ее, только для того чтобы иметь деньги на посылки политическому заключенному Семену Ляндресу, работал в должности «груши» для профессиональных боксеров. Его колотили на ринге почем зря, после чего он получал соответствующую сумму. Так что удар держать Юлик привык и всегда был в готовности ответить.
Эта незнакомая и недоступная стойкость не могла не привлечь Андрея. Впрочем, она была бы привлекательной для любого юноши его лет. Понятно, что привлекали в Юлике и его брутальность, и стремление выглядеть настоящим мачо вроде кумира отечественной молодежи 1960-х годов Хемингуэя. Но это была форма явления, суть которого состояла, по-видимому, в сильнейшем внутреннем напряжении человека, вынужденного едва ли не всю жизнь принимать одинокую боксерскую стойку в стране, с юности обеспечившей его этим одиночеством.
Разговоры с Ляндресом-младшим заметно повлияли, по словам Кончаловского, на формирование его взглядов; в частности, именно Юлику Андрей был обязан своим «диссидентством», а точнее, пониманием того, что мир неоднозначен и противоречив.
В семье Кончаловских Юлика полюбили с первого его появления. И сам он, по словам его младшей дочери, крепко привязался и к Никите, и к Андрею, поскольку, будучи единственным ребенком в семье, всегда мечтал о младшем брате. Таким «младшим братом», которого нужно было вести за собой, наставлять, и оказался Андрей.
Юлиан Семенович был мужем Екатерины Михалковой, дочери Натальи Петровны от первого брака. В том, что они стали мужем и женой, сыграл свою роль Андрон, если судить по дневникам Юлика 1955 года, когда Екатерина еще не была его супругой.
Отношение Юлиана Семеновича к семье Михалковых, к Андрону в частности, хорошо видно из послания, адресованного Наталье Петровне (1955 год), озабоченной слухами из уст «доброжелателей» о недостойном поведении сына и написавшей ему из санатория, где она отдыхала, резкое письмо. Юлиан страстно защищает «младшего»:
«…Я только что прочитал ваше письмо к Андрону… Мир полон людей темных, злых, бесчестных… Все, что вам наговорилось, не стоит ломаного гроша……Ханжество, непонимание хорошего и честного, правда выделяющегося из общей массы сверстников Андрона… Здесь стоит сделать небольшой экскурс к предкам. Пожалуй, редко кто, особенно из писательской братии, не распускал слухов о Сергее Владимировиче, не упрекал его в семи смертных грехах. За что? За талант, за высокий рост, за обаяние, за смех, за дружбу с людьми. Так? Так.
А почему нельзя упрекнуть молодого Михалкова Андрона в тех же грехах, но с еще большей зависимостью, потому что он не лауреат, не знаменитость, а только сын знаменитости…Я готов положить… голову за то, что Андрон – в основе своей кристально честный, неиспорченный и изумительно вами воспитанный человек!
Я далек от того, чтобы делать Андрона безгрешным, ставить его на пьедестал как образец законченной добродетели… Есть в нем свои недостатки: он по-детски легкомыслен в вопросах женщин (но ему все же только 18, а мыслит он, как 25-летний), он влюбчив…
Не знаю, в чем его еще обвинить. Хороший, честный, умный мальчишка. Честный друг и хороший товарищ… Я абсолютно согласен с вами в том, что ему нужно перестать бывать в ресторанах и пить пунши… Побольше скромности! Это тоже абсолютно верно. Но говорить о его вообще испорченности – неправильно…
…Поговорите об Андроне с Архангельским, с Руббахом, с его товарищами по училищу, наконец, с моим отцом – и вы убедитесь, что все рассказанное вам о нем – ложь…»
Пути «Юлика» и Андрея разошлись, когда Кончаловский оказался во ВГИКе и встретился с Тарковским. «Мы с Андреем Тарковским оказались в стане непримиримых борцов за свободную от политики зону искусства, не признавали писаний Юлиана Семенова. Я его избегал, хотя и понимал, сколь многому у него научился…»
По отношению к бывшему своему наставнику и другу у Кончаловского осталось чувство вины. На страницах своих мемуаров он размышляет о феномене самооправдания и делает следующий вывод: «Если человек оправданий себе не находит, значит, у него есть совесть. Как правило, человек, у которого есть совесть, несчастен. Счастливы люди, у которых совесть скромно зажмуривается и увертливо находит себе оправдание». К таким людям режиссер причисляет и себя. Случай с Юликом тому подтверждение. Писатель умирал от инсульта, а друг его юности три года не собрался к нему зайти.
Похожий случай вспоминает Кончаловский и в связи с Владом Чесноковым, с которым он познакомился еще до консерватории. Чесноков, рассказывает Андрей, работал переводчиком в иностранной комиссии, чекистском подразделении Союза писателей. Окончил Институт военных переводчиков. Разведчиком быть отказался, пошел в Союз. Влад хорошо владел французским, и это обстоятельство как раз совпало с периодом увлечения Андрея Францией. Так что Влад стал для юного Кончаловского еще одним своеобразным гидом по Франции. В частности, открыл для своего друга франкоязычную африканскую философию, учил языку.
Жизнь Влада сложилась неудачно. Он запил и сразу утратил для Андрея интерес, поскольку тот стремился окружать себя людьми, не прожигающими свою жизнь, а способными ее организовать, построить. Как и в случае с Юликом, Андрей стал избегать друга. А когда у того обнаружился рак и он уже держался на уколах, все же нашел в себе силы позвонить, но говорить с умирающим было неприятно. «Через два дня он умер. Я не пошел на его похороны».
С фигурой Юлиана Семенова позднее срифмовалась и другая, столь же притягательная, – Эрнст Неизвестный. И за ним угадывалась сила, но гораздо, может быть, более мощная. «Бандит, гений, готовый послать кого угодно и куда угодно, беззастенчиво именующий себя гением».
Человек, прошедший войну десантником, тяжело раненный в ее конце, признанный погибшим и награжденный посмертно орденом Красной Звезды. О нем слагали и слагают легенды. Он говорил, что если бы не стал скульптором, то – террористом.
По словам литературоведа Юрия Карякина, в круг общения Неизвестного входили «очень сильные умы». Он называет философов Александра Зиновьева и Мераба Мамардашвили, социолога Бориса Грушина, Андрея Тарковского и других. «Это был настоящий центр духовного притяжения всех надежных и в умственном и нравственном отношении людей».
Так же, как в свое время решимости Ашкенази, оставившего Союз, Кончаловский завидовал гениальному бесстрашию Эрнста Неизвестного, твердо решившего после печально знаменитой выставки в Манеже и хрущевского разноса покинуть страну. Это был Поступок. К таким преодолениям Кончаловский готов не был, но гордился тем, что не боится идти рядом с «одиозным человеком, пославшим Самого».
С Эрнстом Неизвестным Андрей познакомился в 1959 году. Скульптор тогда был нищ, бездомен, иногда ночевал на вокзале. Кончаловский встретил неукротимую энергию, силу сопротивления власти, непостижимый опыт прямых встреч со смертью.
Огромное впечатление производило на него и творчество скульптора – «все, что шло вразрез с соцреализмом», Андрею нравилось. Студент ВГИКа в ту пору, он уже представлял, каким может быть фильм об этом человеке. «Мы с Тарковским обдумывали будущий сценарий, мне мстился лунный свет, падающий в окно мастерской, безмолвные скульптуры, музыка Скрябина – хотелось соединить Скрябина с Неизвестным, хотя это наверняка было ошибкой… просто Скрябин мне очень нравился».
Замечательны слова, сказанные Кончаловским позднее: «В нас жила та же энергия, нас подняла та же общественная и художественная волна. Сближало взаимное ощущение человеческого калибра. Его нельзя было не почувствовать…»
Андрей отважно шел навстречу таким людям, смиряя робость и смущение. В то же время безжалостно отсекал тех, в ком видел зерно саморазрушения, как правило связанное с пьянством, застольями, в мути которых утопал смысл общения. Такого рода контакты он называл потом «русской дружбой» и решительно избегал их. Так произошло с Владом Чесноковым, с Геннадием Шпаликовым, с которым они были очень дружны.
3
Первый, ранний брак Андрея пришелся на консерваторские годы. Его женой стала Ирина Кандат, студентка балетного училища Большого театра. Их знакомству посодействовал Сергей Владимирович: Ирина была дочерью его старой приятельницы. Девушка Андрею понравилась. Он принялся ухаживать за ней. И в конце концов влюбленные оказались вместе в Крыму, на что родители согласились, не сомневаясь в положительном развитии событий.
Историю крымского романа можно найти в мемуарах Андрея. Откликнулась она и в его творчестве. В сценарии «Иванова детства», например, куда вошла (и в фильм, конечно) как одна из самых лирических сцен-снов юного героя.
…Маленький Иван едет с девочкой в грузовике, наполненном яблоками… Теплый летний дождь… Омытые благостной влагой, просвечиваются сквозь одежду юные тельца – как в начале творения, когда все только в радость, все обещает любовь и единение. Едва ли не так, кстати говоря, начинается и «Романс о влюбленных»…
…Крым. Подогретые чебуреками с вином, Ирина и Андрей возвращались с Ай-Петри в Ялту на грузовике с яблоками. Шел грибной дождь, было жарко, вовсю сияло солнце. «Молодые животные» живописно расположились на «райских» плодах. Прилипшая к телу одежда делала Ирину еще доступнее и соблазнительнее… А машина мчала во весь дух! В тот момент они не знали, что были на волосок от беды: у машины, оказывается, отказали тормоза… Крымский бестормозной полет закончился благополучно. Повезло.
Совместная жизнь Ирины и Андрея продолжалась около двух лет. Образцовым мужем он, по его признанию, не был. Но и Ирина не была образцовой женой. Действительно, довольно скоро Кандат ушла к своему любовнику…
Разрыв с первой женой совпал со временем перехода Андрея во ВГИК. В двадцать два года, неожиданно для родных и близких, он оставил консерваторию. Недолго работал на телевидении, «писал какие-то очерковые сценарии, снимал документальные сюжеты».
Это время ему нравилось. Только что состоялся международный фестиваль молодежи в Москве, сильно взбудораживший юные сердца и головы, прорвавший «железный занавес». Он вспоминает чешскую выставку в Парке культуры, открытие чешского ресторана, где подавали чешское же пиво со шпикачками. Это казалось лучшим местом в Москве, поскольку давало ощущение европейской жизни.
«Кино я любил, – говорит Кончаловский, – много часов просиживал в кинозалах…» Однако для решения уйти во ВГИК, при внешних успехах в консерваторской учебе, при ожидаемом сопротивлении родителей, любительского отношения к кино было маловато.
Призвание откликнулось на вызов. Был, как он говорит, «удар наотмашь». «Летят журавли» Михаила Калатозова и Сергея Урусевского. Все, связанное с этими именами, сразу стало для Андрея священным. А в исполнительницу главной роли Татьяну Самойлову он попросту влюбился. Он понял, что больше ждать не может. Должен делать кино – и ничто другое.
Были и другие кинематографические потрясения, среди которых назову первый полнометражный фильм Алена Рене по сценарию Маргерит Дюра – экранный опыт «нового романа» «Хиросима – моя любовь» (1959).
«Летят журавли»… Андрей много раз проигрывал в своем воображении зрительный ряд фильма. «Внутри меня жило какое-то странное энергетическое чувство, что смогу сделать так и еще лучше. Уверенность толкала к поступку».
Более поздним поколениям трудно представить, чем был этот фильм для тех, у кого за плечами осталась Отечественная война 1941–1945 годов. Вот что о восприятии и переживании знаменитой ленты говорит старший современник Кончаловского – критик Лев Аннинский: «…Не берусь и теперь объяснить последовательно и логично, почему именно эта картина стала для нас откровением. На всех уровнях зрительского восприятия произошел какой-то сдвиг, словно размыло какую-то преграду между обычным искусством, воспринимаемым извне, и бытием, которым живешь.
Мы, вчерашние студенты, молоденькие спорщики, родившиеся до войны и спасенные от войны; нам тоже было некогда: мы спорили о Западе и о социалистическом реализме, о кибернетике и о космосе; счастливчики – мы имели возможность спорить, мы имели возможность отвлечься от того, какая смертная полоса истории легла за плечами. Мы еще не знали по молодости, что раннее сиротство, позабытое за ранними заботами, навсегда вошло в наш духовный состав и что оно еще много раз будет оплакано нами, ибо нельзя прожить другое детство, чем то, что тебе досталось, а надобно только, чтобы в какой-то момент отодвинулась пелена каждодневных забот, и обнажилась истина судьбы, и драма ее встала во весь рост.
Это произошло…»
Андрею в 1957 году стукнуло двадцать лет. Пытаясь объяснить тогдашнее воздействие на него картины, Кончаловский, покоренный невиданной свободой мятущейся камеры Урусевского, выделяет прежде всего чувственную музыкальность ленты, оставляя в тени то, о чем хочет сказать Аннинский. А он говорит, как мне кажется, о тотальном сиротстве, в которое окунула страну не только война, но и вся система жизни в Отечестве. Может быть, и Андрей почувствовал в фильме Калатозова трагическое противостояние частной человеческой судьбы страшному накату равнодушной к этой судьбе Истории?
Уже на первом курсе ВГИКа Андрей испытал второй удар той же силы: фильм Анджея Вайды «Пепел и алмаз» (1958). А исполнитель главной роли Збигнев Цыбульский настолько повлиял на будущего режиссера, что тот взял манеру носить, по примеру героя фильма, бойца Армии Крайовой Мацека Хелмицкого, темные очки.
Лента польского режиссера закрепила внедренное «Журавлями»: чувство беззащитности частного человека перед катком истории, хрупкости его индивидуального бытия, бесповоротности выбора. Но Вайда открывал и то, что «никто не знает настоящей правды», когда бросал в предсмертные объятия друг другу коммунистического лидера Щуку и аковца Хелмицкого, жертву и палача. И было трудно понять, кто их них действительная жертва. Вероятно, они состояли в жертвенном родстве…
Может быть, здесь было начало пути к сценариям «Иваново детство», «Андрей Рублев», где противоположение Истории и отдельной человеческой судьбы движет сюжет. Но это был шаг и на собственной дороге жизни к пониманию соотношения масштабов: Я и Мир.
Как время любого слома, любой, даже «бархатной», революции, время оттепели на какой-то исторический миг открывало неизведанные ресурсы и в социуме, и в индивиде. Так, Андрей, еще совсем недавно встретивший слезами смерть Сталина, уже увлеченно внимал диссидентским речам своего старшего друга и наставника Ляндреса-младшего…
Толчком к перерождению в самом начале оттепели были и «вражеские голоса» зарубежных радиостанций «с леденящей антисоветской пропагандой», «пугающе привлекательные» для Андрея. Слушание и чтение запрещенного, как он сам вспоминает, «медленно раскачивало абсолютную запрограммированность», воспитанную советской школой. Он копил самиздатовскую литературу. На его книжных полках с поэтами Серебряного века Ахматовой, Гумилевым, Сологубом, Мандельштамом, Цветаевой соседствовали книги по йоге, Кришнамурти, труды Рудольфа Штайнера, которыми всерьез увлекался и Тарковский, работы Роже Гароди…
И, конечно, джаз… Армстронг, Гленн Миллер…
ВГИК второй половины 1950-х – начала 1960-х годов…
Многие из тех, кто учился в то время в Институте кинематографии, поминают далекие годы как время «чистого счастья». Студенты не особенно интересовались политикой, но были заряжены «воздухом возрождающегося киноискусства», возможностью прикосновения к культуре. Кроме того, они посвящали себя радости живых, дружеских отношений, радости общения и сладости учения. Атмосфера института требовала обретения собственного «я»: собственной позиции, собственных оценок. Только индивидуальное, творческое вызывало интерес. Так, во всяком случае, им казалось.
Такой атмосферу начальных оттепельных лет, в том числе и учебу в институте, воспринял, вероятно, и Андрей. В то же время Кончаловский, в отличие от многих вгиковцев его призыва, находился несколько в стороне от привычной студенческой стихии. Он для своих лет запоздал с поступлением во ВГИК… Он мог оказаться в Институте кинематографии гораздо ранее, может быть, на одном курсе с Тарковским и Шукшиным. «Запоздав», Кончаловский все-таки «догнал» Андрея Арсеньевича, сотрудничая с ним в работе над дипломом последнего («Каток и скрипка»), в создании «Иванова детства», когда Тарковский уже институт окончил (1961), а Кончаловский только в него поступил.
Будучи студентом первого-второго курса ВГИКа, иметь за плечами сценарий фильма, ставшего сразу по выходе классикой, было более чем престижно. Понятно, что Кончаловский формировался в условиях иных тусовок, чем его ровесники, и с иными персонажами. Соавторство двух Андреев внятно обозначило границы между ними и их однокашниками.
В круг общения Кончаловского-Тарковского входили Шпаликов, Урбанский, Андрей Смирнов… Шукшин, вопреки легендам, находился на границах этого круга. Он был, по определению Андрея, «отсохистом» и принадлежал к другой среде, которой был гораздо ближе «темный» человек Артур Макаров, как раз темной глубиной своей увлекший Тарковского, но пугавший «маменькиного сынка» Кончаловского.
Неординарное, сложное не столько тянулось друг к другу, сколько, испробовав другого, отталкивалось в свою нишу…
Киновед Ирина Шилова, бывшая тогда студенткой киноинститута, особенно отмечала неподдельно живую жизнь ВГИКа. «…В толкотне буфета, где не казалось зазорным доесть чей-то оставленный винегрет, в походах на ВДНХ, где можно было покайфовать в кафе, на бурных комсомольских собраниях, где подчас обсуждались вопросы совсем не формальные, в аудиториях, где на расстроенном рояле мог играть В. Ашкенази, которого привел Андрон Кончаловский, в послеучебные часы шла удивительная, многоголосая, бурная и напряженная творческая жизнь…»
Полученную свободу осваивали в рамках имеющегося опыта. Когда в начале 1990-х у бывшего сокурсника и друга Кончаловского режиссера Андрея Смирнова спросили, нет ли у него чувства, что перестройка повторила все, что переживалось в эпоху оттепели, он ответил: «Не нужно строить иллюзий. Вся оттепель строилась на глубоко коммунистической основе. Все, кроме Солженицына, кто в оттепели участвовал, обязательно расшаркивались: «Мы за коммунизм с человеческим лицом». Режиссер, по его словам, не знал тогда той меры свободы, которую ощутил на рубеже 1990-х. Не успели закончить ВГИК, как «гайки стали закручиваться».
В то же время Смирнов убежден, что «дыхание оттепели» тогда было сильнее, чем «попытки реставрировать сталинизм». И для него самого ВГИК был революционным скачком в развитии: «Вышел же я из ВГИКа, зная, что если что-то из сделанного мной понравилось власти, значит, я сделал гадость. И это убеждение, с моей точки зрения, было абсолютно правильным…»
Ни Кончаловский, ни Тарковский в забавах инакомыслия замечены не были, хотя к советскому мироустройству относились без особой приязни. Кажется, они вообще чуждались всякой кружковщины, подобной той, о которой весьма нелестно высказывался еще Гамлет Щигровского уезда у Тургенева.
Тем не менее в довгиковскую пору Андрей не избежал участия в кружке – эпизодического, правда. В консерватории возникло нечто вроде «философских чтений», придуманных на первом курсе Владимиром Ашкенази. А собирались у Кончаловских. Делали доклады по очереди. Из древнегреческой, классической немецкой философии. Но все быстро закончилось. Кого-то вызвали, с кем-то поговорили… А может быть, кто-то «стукнул»… Словом, коллективно философствовать перестали…
Андрей, как и его предки, не лез туда, куда не просили, и «на принципы не налегал». Но при этом был в состоянии выбрать свой путь. Характерное для понимания его жизненных установок высказывание: «В китайском языке есть такое понятие «шу» – свод законов для всей нации. Для русских этого понятия не существует. Даже слово «компромисс», носящее на Западе миротворческий смысл, является для русских весьма сомнительным понятием. А компромисс – как раз то, чему мы должны учиться, потому что от него идет терпимость и– свобода…»
С первых лет учебы во ВГИКе и вплоть до его окончания Кончаловский набирал и набирал высоту как художник – от совместных с Тарковским сценариев до вполне зрелой в творческом и мировоззренческом отношении картины «Первый учитель».
4
Из вгиковских наставников в воспоминаниях Кончаловского встречается только руководитель мастерской – Михаил Ильич Ромм. Как и многие, Андрей испытывает к нему чувство искреннего уважения. Но не столько как к мастеру, режиссеру, сколько как к человеку, педагогу, воспитателю. Да в отечественном кино и не было у него особых предпочтений, кроме разве что Довженко и Калатозова, да еще Барнета времен «Окраины» – как, впрочем, и у Тарковского.
Откуда же они черпали вдохновение для своих первых творческих работ? Не из отечественного кино – к нему относились довольно скептически, с некоторой снисходительностью, а то и откровенным пренебрежением. Все это представлялось им сплошной «фанерой» – неживой, заидеологизированной декорацией, далекой от натуры. Зато мировой кинематограф возбуждал выразительной фактурой и входил в их опыт азартно. Из фильмов, впечатливших Кончаловского в раннюю пору освоения кино, только «Журавли» были отечественной картиной.
Когда делали «Каток и скрипку», «Мальчика и голубя», их вдохновляли французский режиссер Альбер Ламорис и его оператор Сешан, они восторгались «Красным шаром» (1956) и «Золотой рыбкой» (1960). Потом в их мир ворвался Феллини с «Дорогой» (1954) и «Ночами Кабирии» (1957), а затем – Годар с фильмом «На последнем дыхании» (1960). Следом пришел Куросава – и откликнулся в «Андрее Рублеве» и «Первом учителе».
Сокурсник Тарковского по ВГИКу режиссер А.В. Гордон рассказывает, как в 1962 году во время работы над своим фильмом «Каменные километры» он пригласил Андрея Арсеньевича посмотреть снятый материал. Тарковский прибыл вместе с Кончаловским, и они тут же предложили Гордону «монтировать в стиле Годара».
Кончаловского культовый фильм Годара «На последнем дыхании» с молодым Бельмондо в главной роли привлекал и тем, что доносил до советского студента ароматы влекущего Парижа. «Это был город мечты, Эйфелевой башни, пахнущий «Шанелью» и дорогими сигарами».
Куросава захватывал эмоционально-изобразительной эпической силой. А когда дело касается идей, то Кончаловского более всего убеждает пафос «Расемона»: никто не знает настоящей правды, но это не отменяет естественную человечность в человеке. Усваивается не идеология, а этика классика японского кино.
С Феллини – еще естественней. Художественный мир гениального итальянца живет пафосом перемен. Он схватывает явление в движении, переходах из качества в качество. Отсюда и принципиальная карнавальность Мастера, покоряющая Кончаловского.
На тот момент, когда пишутся эти строчки, краткий список кинематографических предпочтений Кончаловского выглядит так. Кроме годаровского «На последнем дыхании», сюда входят «Молчание», «Персона», «Фанни и Александер» Бергмана; «Дорога», «Ночи Кабирии» и «8 1/2» Феллини; «Расемон» и «Семь самураев» Куросавы и «400 ударов» Франсуа Трюффо.
Знакомство с фильмом Трюффо произошло еще во ВГИКе. А встретиться с его создателем довелось в Венеции, где «Первый учитель» соперничал с «451° по Фаренгейту». О классике французского кино Кончаловский в 1975 году написал статью «Когда смотришь фильмы Трюффо». В ней, кроме внимательного, любовного прочтения кинематографа Франсуа Трюффо, есть и лаконично, но определенно выраженное собственное режиссерское кредо.
«400 ударов» Кончаловский ставит по мироощущению в один ряд с фильмами Жана Виго («Ноль по поведению») и Луиса. Бунюэля («Забытые»). Обратим внимание на то, что главные действующие лица во всех этих картинах страдающие от тотального сиротства дети. Мир вообще, и в частности мир взрослых, противостоит им с неумолимой жесткостью. Здесь родители эгоистически равнодушно предают своих малолетних чад, понуждая их как последний приют искать царство небесное – естественно, уже за пределами земной жизни.
Замечу, что и в центре фильма Годара «На последнем дыхании», который не уходит из списка кинопредпочтений Кончаловского и в его совсем зрелые годы, – находится такой же в своем роде герой-дитя. Он лишь внешне бесшабашен и крут, а по существу так же брошен неприкаянным в равнодушный мир, затерян и одинок в нем, как и дети Трюффо, Виго или Бунюэля. И его так же равнодушно предает единственный близкий ему человек – возлюбленная, которая для молодого мужчины, почти мальчишки, нечто большее, чем только любовница.
Ситуация повторяется и в другой, уже позднее отмеченной Кончаловским ленте – «Последнее танго в Париже» Бертолуччи, где герой Брандо не только явно мучается комплексом сиротства, поиском материнского тепла, недоданного ему в детстве. Кажется, что именно мать он видит и под маской умершей жены, осиротившей его своим неожиданным уходом из жизни. Он, как дитя, рыдает от ужаса перед пустотой и холодом окружающего его мира. Его в конце концов также настигает предательство любимой, а затем и смерть из ее рук. И происходит это именно тогда, когда он захочет прекратить свое изнуряющее странствие, обрести дом.
Что сближало и сближает Кончаловского и Бертолуччи, кроме давней дружбы? Можно вспомнить о «безумной любви» последнего к французской «новой волне» и, в частности, к упомянутой картине Годара. Молодые Кончаловский и Тарковский в унисон с Бертолуччи, становление которого пришлось на 1960-е, могли сказать (и говорили!): «Кипели страсти, мы жили в полной благодати, и объединяло нас ощущение, что кино – это центр вселенной. Если я снимал фильм, кино влияло на него больше, чем жизнь, или, лучше сказать, жизнь влияла на него через кино. В то время я говорил с вызовом, что дал бы себя убить за кадр Годара…»
Но – к Трюффо. Кончаловского привлекают простота и безыскусность француза. Речь не о стиле. А о содержании вещи, «очень человеческом содержании». Может быть, как раз в этом смысле русский режиссер говорит, что и его собственный кинематографический язык – это не форма, а содержание.
Для Кончаловского Трюффо, при всей его самобытности, прежде всего национальный художник. Если для нашего, отечественного искусства, литературы свойственно даже о легких вещах размышлять тяжело: обнажить душу, исхлестать себя, выставить на люди все свои раны, – то француз, вообще европеец, стремится изолироваться от общества. Ироническое отношение к самому себе становится для него броней. Таков и Трюффо. И эта черта очень по душе Андрею: прятать огромное внутреннее напряжение за внешней легкостью.
Трюффо не пытается скрыть от зрителя известную «сделанность», «придуманность» своего искусства. Напротив – обнажает. «Трюффо говорит, словно бы стесняясь, не относясь всерьез к своему рассказу…» Ценит Кончаловский в нем и нежность, ранимость души, присущие французу именно как человеку. Для Трюффо суть искусства – в нравственном воздействии на зрителя. Он художник социальный, как социален всякий художник с высокоразвитым чувством совести. А совесть художника Кончаловский понимает как причастность к общему, к роду человеческому.
Отметив все эти определяющие для него самого стороны творчества французского режиссера, Кончаловский обращается к главной, с его точки зрения, ценности кинематографа Трюффо. Она заключается в том, что для искусства Франсуа Трюффо сделал больше, чем для зрителя. Своими фильмами, даже весьма скромными, он влиял на все мировое кино, оставаясь как бы в тени. Он не боялся ошибок. Он всякий раз отказывался идти по пути, который уже однажды приводил его к успеху. Его профессия для него – средство познания и осознания мира. Необходимую для такой позиции отвагу и ценит более всего сам Кончаловский.
Первый кинематографический учитель Андрея Михаил Ильич Ромм если и не был для него авторитетом в области режиссуры, то пространство постижения мира, в том числе и мира культуры, он, безусловно, открывал. И отважную глубину переоценки устоявшихся для него ценностей могли почувствовать ученики, соприкасаясь с духовной жизнью мастера.
Между фильмом «Убийство на улице Данте» (1956) и выходом на экраны картины «Девять дней одного года» (1962) возникла довольно продолжительная пауза, неестественная для успешного профессионала такого уровня, как Ромм. Это было время кризисных поисков самого себя.
В том же 1962 году художник выступил со своеобразной публичной исповедью-покаянием «Размышления у подъезда кинотеатра». Он во всеуслышание объявил о клятвах, которые произнес для себя в минуты трудных размышлений и горьких сомнений:
«Отныне я буду говорить только о том, что меня лично волнует, как человека, как гражданина своей страны, притом как человека определенного возраста, определенного круга… Если я убежден, что исследовать человека нужно в исключительные моменты его жизни, пусть трагические, пусть граничащие с крушением, катастрофой, то я буду делать этот материал, не боясь ничего…»
Пафосное завершение этих клятв было симптоматично для того времени: «В конце концов, я советский человек, и все, что я думаю, – это мысли советского человека, и вся система моих чувств – это система чувств, воспитанная Советской властью…»
Простейшее, казалось бы, решение оставаться в творчестве самим собой нелегко далось маститому режиссеру как раз в силу того, что он воспринял «советское воспитание». Но теперь это были клятвы художника, внутренними требованиями его творчества продиктованные. Под ними мог бы подписаться любой из его самых одаренных учеников…
И тем не менее наиболее яркие личности из нового поколения режиссуры, как я уже говорил, не находят учителей в профессии среди старших коллег-соотечественников. Их, вероятно, и отталкивает то самое «советское воспитание», которое мэтры не могут превозмочь даже тогда, когда пытаются высказаться принципиально от своего имени.
Из старшего поколения исключением для них становятся, вспомним, Барнет, Довженко, поэтика работ которого («Земля», «Аэроград», сценарий «Поэма о море») откликнется в «Романсе о влюбленных» Кончаловского. В украинском режиссере – особенно в его «Земле» – они, может быть, почувствовали, как Природа оттесняет Идеологию. Самого Кончаловского привлекала миро-объемная эпика Довженко.
Александр Петрович наивно творит миф великого обновления Мироздания, обнажая (может быть, невольно) катастрофу его насильственной политической переделки. Не зря его уже в конце XX века поставят рядом с Андреем Платоновым, художником, в свою очередь, близким Кончаловскому. Интересно, что и ценимый Андреем Бертолуччи не избежал влияния довженковской «Земли». Итальянец прямо говорит об этом, когда дело касается его «XX века», сильно взволновавшего Кончаловского.
Михаил Ромм побеждал там, где выступал как педагог. Его педагогическое кредо: не насиловать ни жизнь в ее непредсказуемом течении и воздействии на молодых художников, ни их самих, давая их талантам как можно больший разворот для самовоплощения. Он стремился учить «без указки, без перста», будучи убежденным, что «хорошие художники большей частью получаются тогда… когда такого человека с указкой и перстом, такого учителя нет, а есть человек, который бы помогал думать. Или не мешал бы думать. Который позаботился бы о том, чтобы была атмосфера, чтобы сам пророс росток творчества…»
Педагогические принципы Ромма вполне оправдались, если судить хотя бы по таким фигурам отечественной режиссуры, как Кончаловский, Смирнов, Тарковский, Шукшин. Они сохранили яркую выразительность своих индивидуальностей, способность и отвагу идти собственным путем в творчестве. Кроме того, они действительно оказались в условиях плодотворного контакта друг с другом, долговременного сотрудничества, как в случае с Кончаловским и Тарковским.
Следуя своему наставническому кредо, Ромм не давил на учеников. Режиссуре нельзя научить, ей можно научиться, – твердил он. «Он давал нам возможность ошибаться, – рассказывал Кончаловский, – самим тыкаться носом в свои ляпсусы и промахи. Он учил нас так, как учат уму-разуму щенят, пихая их носом в наделанную на полу лужу…»
А когда Кончаловский и Тарковский взялись за сценарную работу, Ромм помогал им, как и всегда спешил на помощь своим ученикам, вообще всем тем, кто в такой помощи нуждался. Ромм деликатно и терпеливо сопровождал учеников. Кончаловский для своего дипломного спектакля взял пьесу Артура Миллера «Салемские колдуньи», которую собирался ставить вместе с однокурсниками Андреем Смирновым и Борисом Яшиным. Ромм случайно заглянул к ним, чтобы посмотреть, что получается. Заглянул – и просидел со студентами едва ли не всю ночь, монтируя спектакль.
Огромная помощь была оказана Кончаловскому со стороны Ромма и тогда, когда возникали проблемы при прохождении его первой большой работы – фильма «Первый учитель». Мастер написал хорошее рекомендательное письмо в Госкино, которое помогло избежать поправок в сценарии картины. А когда молодой режиссер показал Ромму первый материал, заснятый в Киргизии, тот, уважая авторскую индивидуальность своего воспитанника, сказал самое важное: «Мне кажется, ты уже профессионал, мои замечания тебе не нужны…»
«Ромм не боялся искать ответы на мучившие его вопросы. Не боялся эти вопросы ставить. По-моему, – вспоминает Кончаловский, – он был очень смелым человеком. Человеком исключительных душевных качеств. Его картины научили меня меньше, чем он сам, его лекции, разговоры, его отношение к людям, его взгляд на мир, сама его жизнь. Наверное, главное, чему он нас научил, – ощущать себя гражданами. Подданными Земли…»
5
Когда Михаил Ильич начал снимать «Девять дней одного года», его курс всем составом отправился помогать мастеру. Все студенты его на картине что-то делали. «Я не делал ничего, – рассказывает Андрей, – потому что он меня пробовал на роль, которую замечательно сыграл Смоктуновский. В институте я проходил по амплуа легкомысленного циника. Помню, Ромм объяснял: «Мой Куликов похож на Михалкова, он тоже талантлив, но легкомыслен. Налет цинизма есть в его отношении к работе, ко всему».
Что же (или – кого же) хотел увидеть в роли Куликова Ромм?
Физик-ядерщик из «Девяти дней…» Дмитрий Гусев у Ромма и исполнителя роли Алексея Баталова – бескомпромиссный гений науки, готовый ради торжества научной истины пожертвовать собой. Он всегда внутри идеи, он слит с нею. Он и есть своеобразная идея – носитель истины, которая вместе с ним проходит смертельно опасные испытания в мире. Ее суть в служении человечеству.
Иное дело Куликов. Он, по определению, не гений. Он талантливый ученый. То есть лишен фанатичной односторонности гения во взглядах на мир. Но это позволяет ему оглянуться и заметить, увидеть, а значит, попытаться осмыслить окружающую его земную реальность. И он это делает и, надо сказать, для своего времени довольно глубоко. Анализируя этот мир, Куликов в состоянии, в отличие от Гусева, дать ему сравнительно объективное и, главное, трезвое определение, неизбежно циничное, но в то же время подталкивающее «циника» к компромиссу с этим миром ради выживания в нем и его самого, и близких ему людей.
Куликов – образ, оказавшийся слишком сложным для восприятия шестидесятников, а может быть, и для самого Ромма. Фигура Гусева, напротив, всегда была более понятной и более доступной в рамках оттепельной идеологии.
В начале поисков «характера Куликова» вспомнили, как рассказывал Ромм, о Пьере Безухове, о «его добродушии, кротости и доброте», «его уступчивости по отношению к жизни». Потом вспомнили «одного физика», который определял науку как способ удовлетворять свое любопытство за счет государства, да еще получать при этом зарплату. «Это парадоксальное заявление, сделанное с ироничной усмешечкой, показалось интересным для Куликова».
Наконец, Ромм вспомнил Эйзенштейна, «человека с огромным лбом Сократа, с его удивительно пластическими, округлыми жестами; вспомнил сарказм, которым было пропитано буквально каждое его слово; вспомнил его язвительно-добродушные остроты; вспомнил, что каждую его фразу нужно было понимать двояко, ибо он всегда говорил не совсем то, что думал, или, во всяком случае, не совсем так, как думал». Однако, как ни прикладывали Ромм со сценаристом Храбровицким поведение Эйзенштейна к поступкам Куликова, все не получался искомый характер, пока не вспомнили «еще об одном существе».
«Это совсем молодой человек, по существу юноша, сын довольно известного деятеля, очень благополучный, веселый, сытый. У него отличные родители, отличная квартира, он хорошо воспитан, остроумен и талантлив, поэтому добродушен и учтив, ему все сразу легко дается, и он беспредельно беззастенчив, ибо вошел в жизнь с парадного хода и считает себя ее хозяином. Очень милый барчук! Вот он-то и сформировал окончательно Куликова, в котором соединилось многое от многих людей».
Так рождался образ. Нынче мало смысла фантазировать на тему, что получилось бы, если бы роль сыграл не Смоктуновский, а Кончаловский. Но из тех составляющих, которые предлагал Ромм складывался чрезвычайно многозначный характер, гораздо более сложный и интересный, чем характер Гусева. И гораздо более близкий натуре Кончаловского, нежели, может быть, даже и дару Смоктуновского, хотя только Смоктуновский с его гениальностью лицедея мог воплотить предложенное.
Беру смелость предположить, что, угадывая в «цинике» Куликове знакомого ему «циника» Кончаловского, Ромм, по совершенно естественной логике, в его оппоненте Гусеве мог видеть реального «оппонента» Кончаловского – Андрея Тарковского. Эту пару наставник вплотную наблюдал в ее внутренних творческих взаимоотношениях.
Пройдет еще какое-то время, и в разгар гонений на Тарковского Ромм скажет известному кинокритику СеменуЧертоку: «Тарковский и Михалков-Кончаловский– два самых моих способных ученика. Но между ними есть разница. У Михалкова-Кончаловского все шансы стать великим режиссером, а у Тарковского – гением. У Тарковского тоньше кожа, он ранимее. У Кончаловского железные челюсти, и с ним совладать труднее. Его они доведут до какой-нибудь болезни – язвы желудка или чего-то в этом роде. А Тарковский не выдержит – они его доконают».
По «странному сближению» спор Гусева-Куликова в фильме, вплоть до трагического финала – самопожертвования первого, будто предугадывал «спор» Тарковского-Кончаловского, который не завершился и после кончины автора «Жертвоприношения».
Во всяком случае, Андрей, по его признанию, и в 2000-х годах не может избавиться от наваждения, что напряженный диалог его с былым единомышленником продолжается. Причем Кончаловский подчеркивает, что ему никогда не хватало смелости допрыгнуть до гениальности Тарковского, поскольку планка гения – это черта, за которой начинается жертвенная игра со смертью.
Кончаловский и Тарковский – две модели художнического и социально-бытового поведения как две стороны одной медали. Их взаимоотношения сложились в своеобразный кинематографический роман, чтение которого помогает формированию более полного представления об отечественном киноискусстве второй половины XX века.
Если Андрей Тарковский и Василий Шукшин обозначили своим соперничеством два противоположных полюса отечественной культуры, высокую и низовую ее ипостаси, то Андрей Кончаловский оказался, что называется, посредине. Не принадлежа полностью ни к одному из полюсов, он то и дело стыковал их в пограничном пространстве своих творческих поисков. Он взял на себя роль «серединного гения компромисса» в художественной культуре, что подтвердила и другая «случайная» кинопроба.
Сергей Бондарчук пригласил Андрея на роль Безухова-младшего как раз тогда, когда начиналась работа над сценарием об Андрее Рублеве (первая заявка на фильм датируется 1961 годом). Позднее стало ясно, что «Война и мир» и «Андрей Рублев» – картины, в контексте отечественного кино перекликающиеся (как антиподы!) не только масштабностью материала и замысла, но и пафосом размышлений о взаимоотношениях человека и его Родины, человека и Истории.
Как известно, роль Пьера Безухова сыграл сам Бондарчук. Однако пробы Кончаловского кажутся мне знаковыми, поскольку в оппозиции «Болконский-Безухов» проглядывает и оппозиция «Гусев-Куликов». А за ними все те же фигуры – Кончаловского и Тарковского, – как два художнических темперамента, которые всегда будут противостоять друг другу, выражая тем самым целостность многотрудной и противоречивой жизни.
Время тесных контактов, позднейшее противостояние, конфликты – все это позволило Кончаловскому достаточно глубоко проникнуть в существо индивидуальности Андрея Арсеньевича.
Комплексующий взрослый подросток, лишенный полноценной семейной заботы, совершенно не знающий бытовой стороны жизни, но свято верящий в свою гениальность и этой верой спасающийся, – таким запомнил Андрея Тарковского Кончаловский. Точнее говоря, таким он определился в сознании уже зрелого мастера, который свои первые воспоминания о друге молодости, появившиеся в конце 1980-х годов, завершил так:
«Быть может, я ошибаюсь, но мне все же кажется, что от незнания политической реальности, от наивности во многих вещах, от страхов, рождавшихся на этой почве, он съедал себя. Будь у него способность просто логически рассуждать, он не воспринимал бы все с такой «взнервленной» обостренностью. Он постоянно был напряжен, постоянно – комок нервов… Он никогда не мог расслабиться, а за границей это напряжение достигло предельных степеней.
Размышляя об Андрее сегодня, не могу отделаться от чувства нежности к этому мальчику, большеголовому, хрупкому, с торчащими во все стороны вихрами, обгрызающему ногти, живущему ощущением своей исключительности, гениальности, к этому замечательному вундеркинду, который при всей своей зрелости все равно навсегда остался для меня наивным ребенком, одиноко стоящим посреди распахнутого, пронизанного смертельными токами мира».
Этот портрет, в живом воплощении, мог увидеть театральный зритель нулевых в спектакле Кончаловского «Чайка» на сцене театра им. Моссовета. Таким предстал, по моим впечатлениям, Константин Треплев в исполнении Алексея Гришина.
Незабываемая пластика Тарковского, нервность, подростковая вздрюченность, утрированные до карикатурности, до шаржа. Конвульсии Треплева вначале могли даже смешить. Но потом становилось ясно, что эти гротесковые телодвижения есть выражение душевного дискомфорта личности, разрушительного для нее. С таким адом в душе, как выразился классик, жить невозможно. Это был одновременно и портрет русского интеллигента, претендовавшего на роль мессии, избравшего путь одинокого, но заявившего о себе во всеуслышание гения, непосредственно сообщающегося с Богом.
Травмированный сиротством Треплев у Кончаловского не ухожен, одет в костюмчик не по росту, отвергаем, нелюбим теми, к кому он тянулся и кого, кажется, пытался любить, во всяком случае, хотел, чтобы принимали его, может быть мнимую, гениальность. А главное – он лишен был родительской ласки и теплоты. Осиротевшее дитя русской интеллигенции, с комплексом своей творческой неполноценности, оставленности – Треплев вызывал прилив острой жалости и сострадания.
6
С того момента, как Тарковский приступил к «Зеркалу», а Кончаловский стал работать над «Романсом», бывшие единомышленники практически не общались. Их творческие позиции «разошлись до степеней, уже непримиримых». Кончаловский вовсе не принимал «Ностальгию» и «Жертвоприношение», считая их картинами претенциозными, в которых художник больше занят поисками самого себя, нежели истины. В то же время Кончаловский никогда не отрицал масштабов личности Тарковского, «потрясшего устоявшиеся основы».
Не принимает Кончаловский в Тарковском и его удручающую серьезность, которая никогда не была свойственна ему самому. Серьезность отношения Тарковского к своей персоне не оставляет места для самоиронии. Почувствовав себя мессией, художник перестает смеяться. Действительно, «Андрей Рублев», пожалуй, единственная картина Тарковского, где присутствует полноценный смех как мировоззрение.
Расхождение Тарковского и Кончаловского, по убеждению последнего, началось из-за чрезмерности значения, которое Тарковский придавал себе как режиссеру в «Рублеве». Это было и понятно. Занимать роль полноценного соавтора в работе над вещью такого масштаба, что вполне осознавал Кончаловский, означает и меру требований, как к себе, так и к своему напарнику. Тарковский же недвусмысленно указал соавтору на границы, за которые тому запрещалось выходить. Он указал на эти границы еще в «Ивановом детстве», дав понять, что если имени соавтора по сценарию нет в титрах, то и нечего на это место претендовать.
Их знакомство произошло, когда Андрей Арсеньевич делал курсовую с Александром Гордоном – в конце 1958-го – начале 1959-го. Студенческие работы Тарковского Кончаловскому казались слабыми: «…он монтировал экскаваторы под произведения Глена Миллера…»
Кончаловский называет период сотрудничества с Тарковским «бурной жизнью». «Бурной она была, потому что сразу же стала профессиональной. Мы писали сценарии – один, другой, третий… Ощущение праздника в работе не покидало, работать было удовольствием. Даже без денег, а когда нам стали платить, то вообще – раздолье…»
После защиты упомянутой курсовой Тарковский захотел делать фильм про Антарктиду. И этот сценарий – «Антарктида – далекая страна», отрывки которого были опубликованы в «Московском комсомольце», писался уже при полноценном соавторстве Кончаловского, выступившего под псевдонимом «Безухов».
Предполагалось, что сценарий будет сниматься на «Ленфильме». Но он не понравился Г. Козинцеву, и тот отказал, сильно огорчив молодых соавторов. Тарковский к сценарию скоро охладел, и они засели за «Каток и скрипку». Эта работа была принята в объединение «Юность» на «Мосфильме». Авторам даже заплатили. И Кончаловский ходил, по его словам, страшно гордый, поскольку его сценарий был куплен самой авторитетной студией страны.
Начав работу в «Юности», Тарковский вскоре перешел в творческое объединение писателей и киноработников, художественными руководителями которого были с 1961 года Александр Алов и Владимир Наумов. Через какое-то время на «Мосфильме» оказался и Кончаловский.
С 1954 года, когда Тарковский поступил во ВГИК, и до того, как он получил свою награду на Венецианском МКФ за «Иваново детство» (Гран-при «Золотой лев св. Марка»), а Кончаловский – за дипломную короткометражку «Мальчик и голубь» («Серебряный лев св. Марка» – за лучший короткометражный фильм), на экраны страны вышли ныне ставшие классикой картины не только упомянутых Алова и Наумова, но и Григория Чухрая, Михаила Калатозова, Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, Марлена Хуциева, Сергея Бондарчука. Не оставались в стороне от возрожденческого взлета и мастера предыдущего поколения, становление которых проходило в 1920-1930-х годах. Именно в оттепельное время, кроме роммовских «Девяти дней…» и калатозовских «Журавлей», выходят «Дама с собачкой» И. Хейфица, «Дон Кихот» Г. Козинцева…
Но даже на этом фоне первые творческие шаги и Тарковского, и Кончаловского выглядели весьма убедительно.
«Нам казалось, что мы знаем, как делать настоящее кино. Главная правда в фактуре, чтобы было видно, что все подлинное – камень, песок, пот, трещины в стене. Не должно быть грима, штукатурки, скрывающей живую фактуру кожи. Мы не признавали голливудскую или, что было для нас то же, сталинскую эстетику. Ощущение было, что мир лежит у наших ног, нет преград, которые нам не под силу одолеть. Мы ходили по мосфильмовским коридорам с ощущением конквистадоров. Было фантастическое чувство избытка сил, таланта… Студия бурлила, возникали творческие объединения. Мосфильмовский буфет на третьем этаже был зеркалом забившей ключом студийной жизни. Рядом с нами за соседними столиками сидели живые классики – Калатозов, Ромм, Пырьев, Урусевский, Трауберг, Арнштам, Рошаль, Дзиган. Это были наши учителя, наши старшие коллеги, любимые, нелюбимые, даже те, кого мы в грош не ставили – как Дзигана, – но все равно это были не персонажи давней истории отечественного кино, а живые люди, с которыми мы сталкивались по сотне самых будничных производственных и бытовых поводов…»
Сценарий «Иваново детство» двумя «гениями» писался легко. «Что бог на душу положит, то и шло в строку, – вспоминает Кончаловский. – Мы знали, что у студии нет ни времени, ни денег… Студия была на все готова, лишь бы Андрей снимал. Я принимал участие в работе как полноправный соавтор, но в титры не попал – выступал в качестве «негра». И не заплатили мне за работу ни копейки, я работал из чистого энтузиазма, за компанию. Считалось, что я как бы прохожу практику…»
Тарковский естественно занял место «старшего брата»– то самое, которое в свое время принадлежало Юлику Семенову. Похоже, это положение его вполне устраивало: и в их дружеских, и в творческих отношениях Кончаловский то и дело отодвигался на роль младшего. Он терпел, но соглашался с трудом. След обиды и до сих пор сохранился в его воспоминаниях. Правда, уже к началу 1980-х «младший» не только догнал, но и «перерос» «старшего» по части взаимоотношений с окружающей действительностью.
Работа над «Андреем Рублевым» была, конечно, творческой радостью, наслаждением, но и мучением, спором двух мощных самостоятельных дарований. На взгляд Кончаловского, написанное разрасталось непомерно, еще более распухая на съемках. Приходилось сокращать нещадно. После того как «Рублев» был закончен и положен на полку, Кончаловский смог посмотреть его. У него возникли соображения по сокращению вещи. Он вообще думал, что можно обойтись одной новеллой «Колокол». Симптоматична реакция Тарковского: «Коммунисты тоже считают, что надо сокращать…»
Но дело не только в том, что фильм, как говорит Кончаловский, нуждался, на его взгляд, в значительном сокращении. Экранная «неуклюжесть», громоздкость ленты – гениальны. Однако по своей художественной проблематике фильм пошел в другом, едва ли не противоположном направлении. Если для сценария было существенно становление дара Рублева во взаимодействии с многоголосым миром и его «Троица» являлась итогом постижения самой реальной действительности, плоти и духа страны и ее народа, то в фильме Тарковского явление великой иконы было результатом глубинного самопостижения художника, некой божественной сути его творческого «я», на самом деле непостижной. Пафос сценария, соотношение в нем художника и среды ближе Кончаловскому, чем Тарковскому. Зато фильм стал исключительно творением Тарковского.
Андрею казалось, что по мере международного признания его друг на глазах «бронзовел». Какое-то время он рядом с Тарковским был чем-то вроде юного Никиты Михалкова рядом с ним. «В ту пору я был его оруженосцем», – вспоминает Андрей. Особенно проявилась эта дистанция в Венеции, где Тарковский был вознесен на пьедестал гения…
Одна из последних встреч Кончаловского с Тарковским произошла уже за рубежами отечества, когда Андрей Арсеньевич после «Ностальгии» решил остаться за границей. Кончаловский убеждал его возвратиться: «Андропов лично дает гарантию, если вернешься – получишь заграничный паспорт…» Эти хлопоты стали поводом к тому, что Тарковский посчитал своего бывшего друга агентом КГБ, о чем не преминул сделать публичные заявления…
«Виделись мы после этого только один раз – на рю Дарю. Я шел в церковь, он – из церкви. Я уже остался за границей. «Ты что здесь делаешь?» – спросил Андрей. – «То же, что и ты. Живу». – Он холодно усмехнулся: «Нет, мы разными делами занимаемся…»
Кончаловский часто подчеркивает существенное в его восприятии жизненной повседневности: бог в мелочах. И он ищет этого своего «бога», как бы следуя путем чеховской прозы, доверяясь прихотливому течению жизни – такой, какова она есть. Тарковский отвергает «мелочи» с порога. Он все время как будто в лучах божественного прожектора. Ответствует перед высшим судом.
Существует давний фильм сокурсницы Тарковского Дины Мусатовой «Три Андрея» (1966) о работе двух режиссеров – одного над «Андреем Рублевым», другого над «Асиным счастьем». Интересно наблюдать, как ведут себя в кадре тот и другой, как бы воспроизводя модели художнического поведения. Характерна и среда, в которой их находит и снимает режиссер-документалист.
Вот Тарковский. Серьезное лицо, в нем так и чувствуется движение мысли, глубина постижения мира. В кадре – глубокомысленное молчание. Закадровый – его! – голос: весомо, с паузами. Впечатляющие ракурсы. Всюду – многозначительность и серьезность. Среда избавлена от деталей. Строга и торжественна. Или вот он, элегантный, но опять – в молчании, опять закадровый голос, – вот он идет по Москве, гений среди ничего не подозревающей толпы обыкновенных людей…
Кончаловский. С экрана сообщают: «Недавний студент и тоже снимает свою вторую картину». «Недавний студент» найден где-то на току. Вокруг суетятся какие-то селяне. Ребятня бегает. И он сам отчасти напоминает колхозника, хоть и в темных очках, по примеру Цыбульского. Что-то говорит о замысле картины. Но как-то вяловато. Говорит в кадре. Сбивается. Подбирает слова. И среда – в подробностях и мелочах. В ногах у него мальчонка, семечки лущит. Другой – рядом – заигрался, бросается зерном. Мешает. Молодой режиссер вынужден сделать замечание: «Перестань шалить…»
Странное дело, когда речь идет о Кончаловском, а тем более – в его воспоминаниях, там обычно находится место и Тарковскому. В материалах же о Тарковском – Кончаловский редкий гость. А если он там и встречается, то, как правило, в настороженно двусмысленном освещении. Только в начале нулевых появляется попытка серьезного толкования «экзистенциальной драмы», действующие лица которой – Кончаловский и Тарковский и которая если не событийно, то «контекстуально и интеллектуально не исчерпана». Автор статьи «Кончаловский и Тарковский: вместе и врозь» Андрей Шемякин искал «подходы к разгадке этой драмы, выразившей в самом своем содержании более общую драму людей и идей оттепели».
«В 70-е, когда новые интеллектуалы, родившиеся в конце 50-х – начале 60-х, заставшие «сплошной обман»… и не помнившие самого воздуха оттепели, прочитали «Вехи», оба режиссера и выразили в концентрированном виде ситуацию рубежа, промежутка, перехода. Что в корне противоречило самоощущению людей оттепели, переживавших 1968-й как конец времен…»
Глава вторая Эхо «Журавлей»
… Трагическая тень лежит
Под каждою травинкой в поле…
Евгений Винокуров1
«Мальчик и голубь». Это была дипломная работа оператора М. Кожина, срежиссированная Кончаловским по его сценарию. Фильм, как помнит читатель, получил «Бронзового льва» в Венеции. В нем дебютировал Николай Бурляев, которого режиссер-вгиковец встретил на улице и предложил сниматься. По эстафете Бурляев был передан Тарковскому, «Иваново детство» которого сделало юного актера всемирно известным.
Мальчик, влюбленный в голубиный полет. Прорастающая наивная духовность. Жажда пережить радость свободного полета приведет его на птичий рынок. Денег на покупку не хватает. Он предлагает голубятнику альбом дорогих марок. Первый полет голубя – и неудача! Птица возвращается к прежнему хозяину. По
неписаным правилам, мальчик должен выкупить голубя. И он тащит хитрому обладателю голубятни своих золотых рыбок, еще что-то. Уходит, прижимая к груди драгоценное приобретение. Отпуская птицу в новый полет, мальчик привязывает к ее лапке веревку, чтобы не потерять вторично. Голубь взлетает, рвется в небо, но шнур тянет к земле. Огорчен не только мальчик, но и молодой рабочий, невдалеке перетаскивающий молочные бидоны. (Коротенькую эту роль сыграл приятель Андрея Евгений Урбанский, тогда уже знаменитый актер). Мальчик начинает понимать, что полет невозможен, пока птица не станет свободной. В этом, собственно, и заключается притчевая квинтэссенция скромной картины.
Лента укладывалась в оттепельную тенденцию. Главным героем киносюжета и мерилом нравственности взрослого мира все чаще становился ребенок. Знаковый в этом смысле фильм М. Калика «Человек идет за солнцем» вышел на экраны чуть позднее – одновременно с «Ивановым детством» (1962). В затылок же короткометражкам Кончаловского и Тарковского упирался появившийся на пару лет раньше «Сережа» (1960) Г. Данелии и И. Таланкина.
Когда смотришь «Мальчика и голубя», не оставляет чувство пустоты и сиротства. Сама тяга мальчика к небу продиктована, кажется, безотчетной надеждой победить неприкаянность. Всю нерастраченную свою любовь ребенок отдает голубю и его свободному парению.
Откуда тревога во внешне безмятежном мире? Ее переживаешь, сопровождая мальчика в странствиях по городу. Вместе с молодым грузчиком испытываешь раздражающе едкую неудовлетворенность, оттого что полет не складывается. Нет чаемой гармонии в мире!
И вот еще крошечный эпизод. После неудачного опыта с птицей мальчик выходит на Красную площадь, останавливается, наблюдая, как какая-то пожилая женщина кормит голубей. Мальчик тянет пальцы ко рту, чтобы лихим свистом голубятника поднять стаю. Но тут мы вместе с ним видим на минуту лицо женщины, ее глаза, до краев заполненные какой-то уже привычной печалью. Кто она? Вдова? Мать погибшего на войне сына?
Ведь после войны минуло всего ничего – полтора десятка лет…
При всей бесхитростной дидактичности эпизода он тем не менее поддерживает чувство безотчетной тревоги, рассеянной, между прочим, по всему оттепельному кино, которое, несмотря на эйфорию наступившего общественного «оттаивания», не могло утратить памяти о недавнем прошлом.
2
Перенесемся на полвека вперед. Когда уже в 2010 году вышел давно задуманный фильм Кончаловского о Щелкунчике, картина многих зрителей разочаровала. Американцы, например, первыми ее увидевшие, говорили, что это не «Щелкунчик», не рождественская сказка, а холокост какой-то.
Между тем картина заслуживает серьезного разговора – особенно в контексте творчества ее создателя и с точки зрения вызовов времени создания.
Источники замысла фильма о Щелкунчике знакомы современной аудитории. В большей степени – балет-феерия П.И. Чайковского по либретто М. Петипа. В меньшей – рождественская сказочная повесть Э.Т.А. Гофмана. Популярность празднично красочного балета отодвигает на дальний план прозу Гофмана. Не зря же режиссер фильма, раздосадованный реакцией зрителя, сожалел, что забыл напомнить: его версия «Щелкунчика» в большей степени опирается на книгу, чем на балет.
Действительно, в глубине картины живет серьезная, я бы сказал недетская, тревога, сродни тем интонациям, которые слышатся и у Гофмана, в иных своих фантазиях отнюдь не веселого сказочника, а скорее мрачного мистика. Уже поэтому затруднительно отнести ее целиком к жанру детской сказки, даже в сравнении с произведением Гофмана.
Хотя атмосфера гофмановской прозы не такая уж благостная, «Щелкунчик» – одна из самых светлых, самых детских сказок немецкого романтика. Мир ее фантазии, вместе с присущими ему страхами и радостями, – это именно детский, и только детский мир. Он весь – кукольный. Он состоит из детского ада с мышами как воплощением детских страхов и детского понимания зла.
Детский рай у Гофмана тем более замыкается именно детским мироощущением. Вспомним страну, куда Щелкунчик уводит Мари и где он, собственно, и оборачивается принцем. Это Кукольное царство, которое слагается из самых привлекательных для ребенка вещей. Здесь Леденцовый луг, Миндально-Изюмные ворота, Рождественский лес, село Пряничное, Конфетенхаузен… Ну, и так далее.
У Кончаловского мир детской фантазии сопределен взрослому миру. Кукольные жертвы у него превращаются в далеко не безобидных жертв крысиной акции по сожжению игрушек, которая выходит за пределы детских фантазий, поскольку неизбежно ассоциируется и с нацистскими крематориями эпохи Второй мировой войны.
В фильме Кончаловского, как и у Гофмана, есть Повествователь – симпатичнейший дядюшка Альберт. Он напоминает, пожалуй, фигуры подобного рода из картин Феллини. Эти персонажи устанавливают фамильярный контакт зрителей со странным, условным миром картин классика итальянского кино. И сами они в значительной мере условны.
Но при всей милой домашности фигуры дядюшки он, подобно Дроссельмейру, становится «провокатором» разгулявшегося в рождественские ночи воображения Мэри. Он навевает ей сны, где она становится участницей нешуточного сражения NC (Эн-Си – аббревиатура англ. Nutcracker) с Крысиным королем и его отвратительной мамашей. Фактически он посылает свою любимицу в опаснейшее испытательное странствие для утверждения Добра и Человечности, которое никак не походит на кукольные сражения XIX века.
Дядюшка – воплощение философии и практики человечных взаимоотношений с миром ребенка. В поступках и словах персонажа, сыгранного Натаном Лейном, легко увидеть внимательное и терпеливое вынянчивание детскости в нас, людях, как основы гуманности. Такого рода этика приобретает особый вес во времена бесстыдного разгула насилия, неизменный объект посягательств которого – прежде всего детство.
В фильме и сюжет, и образы персонажей поддержаны юмором, эксцентрикой. На роли главных исполнителей избраны актеры пограничного таланта, не исчерпывающиеся амплуа. По преимуществу это маски, но не застывшие, а готовые к превращениям. Даже отвратительные Крысиный король и его мамаша (Джон Туртурро и Фрэнсис де ла Тур) становятся в какие-то моменты привлекательными (не могу подобрать другого слова) как раз благодаря своей эксцентричности.
Итак, фильм Кончаловского, в моем понимании его жанрового содержания, не вполне сказка. Но его не хочется именовать и музыкальной сказкой, хотя сам режиссер дает такое определение. По мне, эти жанровые рамки слишком узки для фильма. Притом что в нем есть и музыкальность, и сказочность.
Может быть, жанровая неоднозначность картины и вызвала резонные, на первый взгляд, упреки в том, что она не выполнила своей роли и как коммерческий продукт, хотя и замысливалась таковой? Не дотянутый коммерчески, говорит критика, фильм захромал и в художественном отношении, потому что преследовал вовсе не художественные цели.
В этих упреках к картине, как ни парадоксально, содержится перспективно положительный смысл. В сюжет многих созданий Кончаловского закладывается энергия подспудной напряженной борьбы художника с самим собой.
Как художник Кончаловский имеет слабость увлекаться тем миром, который создает, погружаться в него всякий раз с головой, захваченный, как дитя любимой игрушкой. И какие бы трезвые его размышления как делового человека ни предшествовали исполнению замысла и ни сопровождали исполнение, в самом воплощении побеждает художник.
Кончаловский, кроме того, относится к тому разряду людей, которые имеют и вкус, и страсть к размышлению, ценят путь мысли широкого культурного охвата. Берясь за любой проект, он тут же помещает его в многосмысленное поле философско-культурологических ассоциаций. Он с юношеской увлеченностью отдается своим поискам. Его «ведет»! И замысел обрастает разноликими, неожиданными порой и для него самого смыслами, метафорически сосредотачивающими культурный опыт этого человека.
Его, я думаю, «повело» и на этот раз – уже в тот самый момент, когда он только обратился к осуществлению замысла. И «повело» в сторону, противоположную коммерции и стандартам американского зрителя, для которого была сделана мировая премьера фильма.
К тому же Кончаловский «нерасчетливо» предался своей тревоге, вызванной глубоким кризисом традиционных культурных ценностей в новом веке. Хотел искренне поделиться всем этим со своими современниками, которые в большинстве случаев к такому диалогу оказались не готовы.
Но и Гофман в своей самой светлой сказке безжалостно требователен и критичен по отношению к «взрослому» миру. И более всего – к миру филистеров. Он не принимает равнодушия ограниченных взрослых к трепетному миру детской мечты. Не так невинен и образ маленького «милитариста» Фрица в оригинале сказки.
Кончаловский подхватывает неоднозначность фигуры брата Мэри, которого в фильме зовут Макс. В мальчике видна склонность к бездумному разрушению всего «до основания». Он с любопытством и даже наслаждением поджигает наряд сестриной куклы, которая потом превращается в Снежную фею, очень похожую на их маму. С таким же несдерживаемым сладострастием он увечит Щелкунчика. Но как только начинаются серьезные испытания, как только он видит живые детские слезы, вызванные «акциями» крысиного Предводителя, в нем все же пробуждается потаенная человечность.
3
В какой-то момент в фильме Кончаловского все «сказочное», «детское», «игрушечное» отодвигается. Маленькие герои вступают в серьезную борьбу со злом «крысификации» людей. И это – реальное зло, поскольку означает унификацию человека, подавление его индивидуальных свойств и стремлений.
Внешне крысиная армия вызывает знакомые ассоциации из сравнительно недавней истории. Своей серовато-зеленоватой массой, деталями обмундирования она напоминает не только о нашествии нацистов, но воплощает некий собирательный образ военщины как таковой. А если вспомнить, что Кончаловский перенес действие гофмановской сказки в Вену 1920-х годов, еще завороженную музыкой Штрауса и не подозревающую о грядущем аншлюсе 1938 года; что героями картины становятся, в определенном смысле, Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн, два еврея, бежавшие из Германии от преследований нацистов, – если вспомнить это, то фильм приобретет черты фантазии на темы грозного начала XX века, когда легкомысленное человечество прозевало нарождение и становление фашизма, грядущей за утверждением его идеологии мировой катастрофы.
Это фильм-предостережение, вышедший во времена опасно бездумного самоистребления человечества. Как будто детские инстинкты Макса из фильма Кончаловского выплеснулись наружу уже во взрослом мире и обернулись гипертрофией крушения всего и вся.
Между тем режиссер, искренне делая сказку, вовсе не ожидал, по его словам, той реакции, которой отозвалось восприятие фильма вдумчивым зрителем. Сам сказочный феномен «крысификации» (ratification) толковался весьма расширительно и в то же время абсолютно конкретно. Говорилось не только о нынешних формах фашизма, но и о мировой тенденции навязывания сверхгосударствами своей «демократической» идеологии другим.
Современная фильму детская аудитория давно не та, к которой обращался Повествователь Гофмана. Нынешние дети вступают в человеческий мир привычного физического и нравственного самоуничтожения, где проза Гофмана вряд ли предмет массового увлечения в семейном кругу. «Щелкунчик» Кончаловского показал, насколько современникам режиссера не под силу узнать себя самое в аллегории на темы хрестоматийных событий XX века.
Но Кончаловский вовсе не пугает. Он напоминает о катастрофах недавней истории. И главными героями, естественно, становятся дети, поскольку только они со своим мечтательно-наивным восприятием мира могут предчувствовать его глубинные колебания, готовые обернуться той самой бездной, которую хорошо чувствовали зрители еще второй половины XX века в картине Калатозова-Урусевского «Летят журавли», а потом – и в «Ивановом детстве».
Кончаловский в свое время противился введению в финал «Иванова детства» обгорелых трупов семьи Геббельса, среди которых были и тела детей. В начале нового столетия режиссер считает оправданной «рискованную эстетику» Тарковского. Это видно и по фильму о Щелкунчике. Его изобразительное решение построено на умышленно жестком стыке миров: идиллически безмятежного мира легкомысленной Вены, в которой расположился такой же внешне безмятежный дом Мэри, и отвратительного канализационного мира крыс.
В чуткой душе Мэри, в отличие от ее близких, поселяется безотчетная тревога. Она не видит крыс, уже проникших в их дом, но предчувствует их. Предчувствие рождается и оттого, что родители в очередной раз покидают детей, занятые своими взрослыми играми, и оттого, что так неуемен Макс в своей агрессии.
Вся эта тревога обретает форму во сне, который, собственно, и составляет большую часть картины. Режиссер делает едва уловимым переход от яви ко сну, как бы овеществляя выражение дядюшки Альберта о том, что и реальность – это иллюзия, но уж очень убедительная. И сновидение превращается в сражение детей со всеобщей «крысификацией».
Выстраивая сюжет своей фантазии, авторы фильма в качестве образа подавления населения сновидческой страны (той же усыпленной вальсами Вены), где правит принц Эн-Си, превращенный в Щелкунчика мамой Крысиного короля, избирают кремацию Предводителем крыс детских игрушек. И дым, который валит из труб новоявленного крематория, закрывает ненавистное крысам солнце, лишая мир тепла и света.
Игрушки в фильме – воплощенная человечность, а не только наивный светлый мир детской фантазии и игры. Игрушки еще и метафора живого искусства, уничтожаемого Крысиным королем, очень напоминающим в своем парике «короля поп-арта» Энди Уорхолла. В этом персонаже, комплексующем перед мамашей, угадываются и события детства Уорхолла.
В фильме появляется не только «Энди Уорхолл», но и акула Дэмьена Херста, не раз упоминавшаяся в публицистике режиссера как пример современного «искусства». Херст, купив мертвую акулу за гроши, опустил труп в стеклянный куб и залил формальдегидом. Так родилось «произведение» под названием «Физическая невозможность смерти в сознании живущего», которое в 2004 году было продано за 12 миллионов долларов американским коллекционерам, а затем подарено Нью-Йоркскому музею.
«Эта покупка, – сообщает Кончаловский, – сразу поставила Херста в ряд самых дорогих художников в истории, наряду с Кандинским, Малевичем и Джаспером Джонсом. Самое интересное, что об этой, можно сказать, жульнической операции, ничего не имеющей общего с искусством, пишут с восторгом, а Херст снискал славу «супермодного» продукта современной британской культуры».
4
Существует прозаический пересказ фильма Кончаловского, талантливо исполненный Мариэттой Чудаковой и адресованный маленьким читателям как вполне авторская современная сказка. Повествование ведется от лица героини. Здесь читатель найдет и программный «шлягер» Крысаря, исполнение которого завершается уничтожением акулы.
Дядюшка Альберт, рассказывает Мэри, посоветовал содержание «шлягера» «намотать себе на ус и принять к сведению всем, кто действительно хочет жить в Свободной стране. Потому что Свобода нуждается в повседневной о ней заботе – как дети, животные и растения. А без этого она может зачахнуть, и любой тиран легко ее погубит». В этом этический пафос и картины Кончаловского.
Пел же самовлюбленный Крысецкий о том, что у людей БЫЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС, но они жили уж больно весело и беспечно. Люди упустили свою Свободу. И после ее падения кончилось ВРЕМЯ ЛЮДЕЙ и настало ВРЕМЯ КРЫС.
Крысы – хтонические существа, посланцы мрака. Их мир – мир без солнца. Их надо бояться, но с ними и надо бороться. А главное – помнить, как сказал Щелкунчик, поразив этим свою спутницу: «КРЫСЫ ВСЕГДА ГДЕ-ТО ЕСТЬ».
Существует понятие «трагическая тревога». Ее утрата губительна для человека. Добро не должно предаваться естественному человеческому легкомыслию и забывать, что от носителей зла всего и всегда можно и нужно ожидать. Крысы всегда где-то есть! Причем появляются они в кадре как раз тогда, когда Макс ломает игрушку или родители оставляют детей, занятые своими взрослыми увлечениями.
Есть в фильме трагикомичный образ катастрофической беспечности, неготовности взрослых встретиться со злом в его крысином обличии. Когда крысиное войско оккупирует страну принца Эн-Си и уже марширует по ее улицам, сея страх и панику, на строй солдат отчаянно бросается один из граждан и скорее из страха, чем от излишней смелости, колотит по серо-зеленым каскам… букетом цветов. Образ печальный, поскольку ясно говорит нам, живущим в XXI веке, о том, что людей мало чему учит исторический опыт.
Крысарь в исполнении Туртурро фигура непростая. Он весьма образован. Мало того, он в своем роде эстет, художник. Он хороший психолог. Ему знакомы слабости человеческой натуры. Оттого он поначалу и завлекает в свои сети Макса. Зло тем и опасно, что в нем есть своя мрачная эстетика, притягательная сила.
Но Крысиный король внятен Максу еще и потому, что Крысарь сам – подросток-комплексатик. Он у Кончаловского – вечный недоросль, который ненавидит мир и в особенности – счастливых детей. Он испытывает эстетическое наслаждение, коллекционируя изображения детских лиц, искаженных плачем.
Сам же он находится под пятой подавляющей его матери. Тяга его к «крысобайкам» и ко всему подобному – не что иное, как образ увлеченности современного подростка миром виртуальных игр, часто подменяющим живой контакт с действительностью.
5
Режиссер поставил в центр сюжета семейного фильма не застывшее, а созревающее детское сознание. Мэри, впрочем как и Макс, взрослеет в течение фильма. Есть надежда, что и юный зритель станет чуточку взрослее, если – с помощью старших – вживется в картину.
Детское как сюжетообразующее начало, заявленное во вгиковской короткометражке «Мальчик и голубь», с тех пор не покидает картин режиссера.
В «Ближнем круге» именно дитя круто поворачивает сюжет от политической сатиры к драме трудного обретения отцовства. В фильме показан детский спец-приемник, собравший под своей неласковой крышей детей «врагов народа». В кадре одно за другим возникают детские лица вместе с личиком главной героини – Кати Губельман. Эти лица – образ катастрофы, в которую погрузилась страна. «Сталинизация» бьет по самому хрупкому в основах нации – по детскому первоначалу.
И в «Щелкунчике» появятся фотографические изображения плачущих детских лиц – маниакальное пристрастие эстета Крысаря. Фантазийная «крысификация» срифмуется с реальной «сталинизацией».
И там и здесь подавление живого, «детского» – иными словами, растущей жизни в индивидуальном, так сказать частно-семейном, смысле. И там и здесь – слепота взрослого мира, соблазненного миражными ценностями и забывающего, что «крысы всегда где-то есть».
Я думаю, режиссера все более захватывает тревожная мысль о катастрофе, грозящей миру изнутри самой человеческой природы. Есть в нас некий «ген», пробуждение и рост которого ведет к самоуничтожению рода человеческого. Это тот самый «ген», который понуждает маленького Макса с любопытством (что получится?) и наслаждением увечить Щелкунчика. Стоит мальчику чуть сильнее увлечься мощью «крысобайка» – и он окажется в лапах «крысификации». Спасает его естественное сочувствие страдающим, начатки которого посеяны не без помощи мудрого дядюшки Альберта.
Замечу, что слово дядюшка вовсе не существительное, указывающее на степень родства. Это эпитет, определяющий роль и место персонажа в семье. А место мудрого дядюшки – место и роль домового, без оберегающего культурного влияния которого крысам было бы слишком вольготно здесь. Условность этой фигуры и в том, что он домовой, то есть пращур, предок, стоящий в первоначалах семьи.
В связи с этим не лишне помянуть о том месте, которое занимает образ дома в картине. Дом здесь имеет не только внешнюю, светлую сторону, но и оборотную, зазеркальную, так сказать, откуда прямой ход в крысиные подземелья. Об этом зазеркалье не мешает знать и помнить не только детям, но и взрослым. Тогда не возникнет вопросов, отчего падает рождественская елка – в фильме она сродни дереву жизни, вокруг которого, собственно говоря, и организован дом. И тот и другой образ архетипичны для творчества Кончаловского. А падает дерево жизни оттого, что ствол его подгрызли крысы, не замеченные взрослыми, потому что ограниченные своим недомыслием взрослые в существование крыс не верят.
6
То, что у Кончаловского в зрелые годы обернулось притчей-предостережением об утрате взрослым миром чувства трагической тревоги, начиналось даже не с «Мальчика и голубя» и «Катка и скрипки», а с первого «удара наотмашь» – с «Журавлей».
«Журавли» потрясают оттого, что с каждым новым кадром убеждаешься: гармония мира (любовь, семейное благополучие, творческая радость) зиждется на катастрофически хрупкой основе. Всем правит случай, отчего человеческий мир неотвратимо подвигается к бездне, готовый низринуться в нее. Война же – концентрированное проявление случая: стихийной неуравновешенности мироздания. И нет разумных сил, способных предусмотреть Случай и рационально сопротивляться ему. Вот в чем трагизм пребывания частного человека в мире – «над пропастью во ржи».
Как же выжить, как выдюжить осознавшей все это человеческой личности? Вероника из «Журавлей» и не выдерживает, хочет покончить с жизнью. И покончила бы, если бы не… случайно возникший осиротевший ребенок, которого, в свою очередь, героиня случайно спасает от случайной машины.
Но с победой приходит определенное: ее жених погиб. Она навсегда осталась в невестах. И вот во время победной встречи отцов, мужей, сынов плачущая женщина, оглушенная неотвратимостью случившегося, как сомнамбула движется с букетом цветов сквозь общее ликование. Идет, несчастная, против течения. И это есть действительный финал вещи – высокая безысходность страдания одинокого человека в катастрофическом мире. Никакая гармония единения, эмблема которого затем возникает на экране вместе с журавлями в небе, невозможна!
И этот сюжет мне знаком! По фильму Кончаловского «Романс о влюбленных». Вся первая часть его решена один-в-один по памяти (подсознательной?) о композиции фильма Калатозова. Та часть, которая завершается метафорической гибелью героя и погружением во тьму
Смерти. В этой точке финал всех финалов. Дальнейшее– молчание. Но у Кончаловского дальнейшее – воскрешение в новом отношении к жизни. Не в пафосно-плакатном ее прославлении, а в терпеливом приятии стихийной игры с человеком, в каждодневной опоре на спасительность трагической тревоги.
Вот наиважнейший урок кинематографа оттепели. Его хорошо усвоили Кончаловский и Тарковский, но пошли разными путями, воплощая эти уроки.
Знак обретенного Кончаловским – в переосмыслении им финала «Журавлей», где Вероника, еще в слезах, все же воссоединяется с народом, преодолевшим войну. В неоднозначных концовках его картин народное ликование будет окрашиваться то ли печалью расставания, то ли радостью встречи. А из толпы людей всегда будет выбиваться человек, так и не разрешивший всех своих, на самом деле безысходных вопросов. И только присутствие в сюжете ребенка намекнет на нерушимость в нас этической опоры.
Внутренний нравственный механизм «Щелкунчика», как мне кажется, тот же. Я слышу в фильме призыв излить неистраченную родительскую заботу на растущее детство, чтобы спастись от злого наступления случая. «Щелкунчик» в полном смысле фильм семейный, поскольку он требует присутствия рядом с ребенком родителя-путеводителя, который поможет своему дитяти разобраться, против кого на самом деле сражаются дети и принц Эн-Си.
В своих идеях воспитательного воздействия на самосознание нации Кончаловский во главу угла ставит «воспитание поколения родителей, чтобы они не мешали воспитанию детей». Он глубоко убежден в том, что если семья не является для человека неукоснительной обязанностью, то нация обречена.
Глава третья Смех и слезы «иванизма»
Люблю Россию я, но странною любовью…
Михаил Лермонтов1
К своем режиссерскому дебюту в «Мальчике и голубе» Андрей привлек и младшего брата. Никите было поручено наловить четыре сотни голубей и перевязать им крылья. Младший был готов ко всему, лишь бы быть рядом со своим кумиром, старшим братом. «Он так устал, что еле стоял на ногах. Волосы в слипшемся дерьме. Я его причесал, налил пятьдесят грамм коньяку – ну, чем не снисхождение доброго фараона к своему рабу? Удивительная жестокость!..»
В воспоминаниях старшего слышится чувство вины перед младшим. С годами оно становилось, кажется, острее. Неожиданно (а может, ожидаемо – тоска по родному) проглянуло в одном из «голливудских» фильмов Кончаловского – в «Поезде-беглеце» (1985).
Герой картины, крутой зэка Мэнни, совершает побег из тюрьмы, находящейся где-то на Аляске. За старшим увязывается молодой заключенный Бак, влюбленный в недосягаемого Мэнни. Оба садятся в подвернувшийся локомотив, утративший управление. Вместе с ними в промерзшей, несущейся сквозь ледяную пустыню адской машине оказывается и еще один невольный пассажир – юная уборщица локомотива.
На протяжении всего непростого путешествия старший сурово подавляет младшего. Вот фрагмент. Бак, промерзший, в кровь избитый вожаком, сидит, вжавшись в угол, вместе с девушкой-уборщицей, со страхом взирая на «старшого», от которого неизвестно чего можно ожидать в следующий миг. В это время и ему, и зрителю становится ясно, что «старшому» на самом деле никто-никто и ничто-ничто не нужно, кроме этого катастрофического движения в гибель… Молодой заключенный, в трогательно подвязанной под подбородком ушанке, измученный и обиженный, вызывает острое чувство жалости. Зритель видит в нем прежде всего несправедливо притесняемое дитя.
А вот эпизод из жизни братьев, поведанный Андреем. Он ждал девушку и попросил Никиту побыть некоторое время на воздухе. Старший пообещал подхватить младшего потом на машине и вместе поехать на дачу. Но забыл. А была зима. Жуткий мороз. Младший ждал старшего. Тот отправился в кафе и только через час-два вспомнил… «Квартира заперта, ключи у меня. Я вернулся, смотрю – в телефонной будке на корточках спит Никита. Стекла запотели, ушанка завязана на подбородке, на глазах замерзшие слезы. Он всегда был и есть человек исключительной преданности…»
Взаимоотношения братьев Михалковых-Кончаловских, Никиты и Андрона, занимает умы – как в частной их жизни, так и в творчестве. Их неизбежно ставят рядом друг с другом, пытаясь в свете личности одного увидеть другого. Следуя традиции, посмотрим на старшего в зеркале младшего.
Сравнивая отца и дядю, Егор Кончаловский, например, видит их сходство в том, что оба «ощущают себя центром мироздания», «вышли из одного источника». «Оба домашние тираны. Я лично не могу много времени с ними проводить. Но они не соперники. Дело в том, что Никита ненавидит зарубежье… А отец смотрит на Запад – они занимают совершенно разные ниши. Даже отношение к семье у них разное: отец никогда меня не сковывал, отпустил на все четыре стороны, а Никита всех детей держит возле себя, может быть, это им мешает стать самостоятельными».
Кто не помнит роль Никиты Михалкова в легко парящем фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», поставленном по сценарию Геннадия Шпаликова? Никита исполнял песенку о том, как он идет, шагает по оттепельной, лучезарно и свободно снятой Вадимом Юсовым Москве. А шагать легко, поскольку «все на свете хорошо»…
Но легкость персонажа Михалкова, ставшая скоро привычной самому актеру, обнаружила подозрительную ущербность, когда он исполнил свою первую большую роль у брата-режиссера. Это был молодой разгульный князь Нелидов из «Дворянского гнезда». Появлялся он в сцене ярмарки, для фильма резко поворотной. Поднималась на поверхность неприглядная подноготная русской жизни, скрывающаяся за ностальгической декорацией дворянской усадьбы.
«Легкость» князя в эпизоде ярмарки была прямой противоположностью той тяжести раздумий, которые легли на прозревающего Федора Лаврецкого, – о себе, о судьбах родины… Характер Нелидова в трактовке Кончаловского и в исполнении Михалкова был отмечен избалованностью барского дитяти, абсолютно глухого ко всему, что есть не он. И это казалось оборотной стороной русской ярмарочной грязи, из которой персонаж и вырастал со своей равнодушной бездумностью.
В фильме брата Михалков, по существу, опровергал имидж, совершенно отчетливо сложившийся в его актерской деятельности со времен картины Данелии. Потом это «опровержение» подхватил «Станционный смотритель» Сергея Соловьева, где Михалков сыграл Минского. Однако главное было впереди – роль в «Сибириаде».
В Алексее Устюжанине нет и намека на парящий полет. Он мотается из края в край страны по инерции сиротства, тяжесть которого, кажется, уже и не замечает, бездумно имитируя привычную ложную легкость. Но наступает и трагедийное прозрение пустоты, открывающейся за «легкостью», а потом – гибель. Герой расплачивается за слепоту, за позднее прозрение. Таким было очередное опровержение актерского имиджа младшего брата. А далее открывалась не только новая страница (Кончаловский ее уже предчувствовал) в творчестве Никиты, но обнаружилась и новая его ипостась как вполне определенной человеческой индивидуальности.
Наблюдая его жизненный и творческий путь, нетрудно заметить, что он (на первых этапах, во всяком случае) ступает след в след старшему. А старший, желая того или нет, ведет за собой младшего.
«Мне было тринадцать, – вспоминает Никита Михалков, – и больше всего на свете я любил открывать двери, когда к старшему брату собирались гости. Я до сих пор не могу понять, почему я это так любил, все равно никакой надежды, что мне позволят посидеть со взрослыми, не было, но, наверное, то, что можно хоть на мгновение прикоснуться к празднику старших, посмотреть, кто пришел, что принес, заставляло меня вздрагивать при каждом звонке и сломя голову нестись открывать…»
Младший брат вслед за старшим влюбился в сцену, поступил в студию при Театре им. Станиславского. На свой актерский дебют пригласил, естественно, Андрея. Но когда со сцены поймал его мрачный взгляд, в котором виделась убийственная оценка происходящего, Никиту охватил ужас. Андрей без восторга воспринимал и первые кинороли брата. Считал его увлечение кинематографом ребячеством. Но это тем не менее не повлияло на упорное стремление Никиты быть как брат.
Уже в качестве режиссера Михалков, как правило, реагировал на предшествующее кинематографическое высказывание брата и делал это едва ли не с момента своих еще курсовых работ. В 1968 году почти одновременно с появлением «Аси Клячиной» он вместе с Евгением Стебловым снимает ленту «…А я уезжаю домой», очевидно навеянную фильмом Андрея. На главную роль приглашен, разумеется, непрофессионал. Картина снималась методом провокаций. «Начальство ВГИКа встретило фильм в штыки, увидело что-то зловредное официальному курсу», – вспоминал Стеблов. Даже в этом вгиковском скандале, сопровождавшем его картину, младший шел за старшим, деревенская идиллия которого легла «на полку».
Революционная тематика «Первого учителя» откликнулась в творчестве Никиты картиной «Свой среди чужих, чужой среди своих». На поиски Кончаловского в области экранизации классической литературы Михалков ответил своими интерпретациями Чехова и Гончарова. А эпика «Сибириады» была оспорена камерностью «Пяти вечеров», а еще позднее отозвалась исторической мелодрамой «Сибирский цирюльник», съемки которой в Красноярске сопровождались поклонением духам предков. «Ближний круг» аукнулся в «Утомленных солнцем». «Родня» в известном смысле поместилась в художественно-смысловое поле «Аси Клячиной» и «Курочки Рябы».
По мере того как подступало время отбытия старшего за рубеж, братья духовно сближались, насколько можно судить по признаниям Кончаловского. Андрей вспоминает, например, как они однажды встречали восход, когда возвращались из ресторана «Внуково». И он говорил что-то «мудро и долго». А в это время в туманной дымке вставало солнце… Машина остановилась. Вот тогда Андрей почувствовал, что у него есть младший брат, и он его друг. «Я обнял его за плечи и то ли сказал, то ли подумал: «Это утро мы никогда не забудем».
Старший уехал и увез в душе усилившееся чувство вины, что «бросил всех», «бросил, предал» младшего.
Но в то же время в его лице убывал и соперник на творческом фронте, с которым то и дело возникала гласная или негласная «перестрелка». В доперестроечный период она завершилась удачным «выстрелом» Никиты Михалкова – экранизацией гончаровского «Обломова» (1980).
В этой картине, уверен старший, брат изобразил его в образе Андрея Штольца. Нашла отражение пристальная забота Кончаловского о своем здоровье, его вегетарианство, жесткий рационализм и ориентация на цивилизованный Запад. Черты же собственного характера, а точнее, мировидения Михалкова отразились, можно полагать, в образе самого Обломова. Так младший попытался освободиться от творческого (да и всякого иного) диктата старшего.
…Илья Ильич сравнивает себя с листом среди бесчисленных собратьев в кроне дерева. Сколько бы ни было их, а каждый питается теми же соками, что и другие. Он един с родиной своего произрастания. Следовательно, у каждого листочка, каким бы ничтожным он ни казался, есть своя правда и свой смысл. Так и в его, заключает герой, обломовском существовании есть хотя бы тот смысл, что он живет вместе с другими («листьями») соками единого «дерева», единой России. Эта идеология после «Обломова» все чаще звучит и в творчестве, и в публицистических выступлениях Никиты Михалкова.
Андрей полагает все же, что у брата появлялось желание оставить страну, но не пускали заботы о доме, о семье. Что касается собственного отъезда и отношения к нему Никиты, то Андрею всегда казалось, что тот понимает его, что иной путь для него, Андрея, невозможен.
До появления «Обломова» Никита еще заметно учится у брата. В экранизации же Гончарова и после нее он уже с ним спорит. Андрей, в свою очередь, считает, что его отъезд сыграл положительную роль в творческом становлении Никиты, в «Обломове» и «Пяти вечерах» которого он видит стилевое утверждение самостоятельности. «Был внутренний спор со мной. Он делал все по-своему… У Никиты всегда было свое зрение, свое понимание кино, но стиль его обрел полную самостоятельность, я думаю, все же после моего отъезда».
Фильм «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», принятый Госкино СССР в конце лета 1979 года, то есть до отъезда брата, был невольным предупреждением отъезжающему: не отрывайся, не покидай…
Оставив на некоторое время мифологическую эпику «Обломова», младший неестественно быстро делает камерные «Пять вечеров». Пьеса Александра Володина в интерпретации Михалкова входит в русло той же («обломовской») темы самосохранения исконного русского дома-общины. Не побег и не самосожжение, а возвращение и погружение в порождающее (а может быть, одновременно и погребающее) родное лоно.
Вспомним, как вольно или невольно, но неизбежно покидает свою Таю мотающийся по свету Алексей Устюжанин в «Сибириаде». В конце концов она и сама, утратив способность ждать и терпеть, отталкивает его. И Алексей вынужден уйти, уже навсегда – в погибельный огонь. Это – в «Сибириаде».
По-другому – в «Пяти вечерах». И там и тут женскую роль исполняет Людмила Гурченко. Ильин приговорен вернуться к давней своей любви – Тамаре. Так же как неизбежно должен вернуться в лоно Обломовки Илья Ильич (Ильин и Илья – случайное совпадение?). Последние кадры картины – засыпающий на коленях у женщины мужчина, исходивший землю и вернувшийся сюда. Тамара по-матерински убаюкивает своего Ильина: «Лишь бы не было войны… лишь бы не было войны…»
Непредумышленный, возможно, диалог картин братьев тем не менее полемичен «Странническому» тезису «Сибириады» Никита противопоставляет антитезис и одновременно синтез мифа нерушимой Обломовки.
Обломовка, по характеристике Юрия Лощица, – мир принципиального, возведенного в абсолют безделия. Единственный освященный традицией вид труда – изготовление и поедание пищи. Апофеоз насыщения – вкушение громадного пирога. Обломовское существование – обломок некогда полноценной и всеохватной жизни. Это обломок Эдема. Здешним обитателям обломилось доедать археологический обломок, кусок громадного когда-то пирога. А пирог в народном мировоззрении – один из наглядных символов счастливой, изобильной, благодатной жизни. В этом контексте Штольц – своеобразный Кощей. А может быть, и Мефистофель, за которым стоит страшный «железный век».
Или, как толкует все тот же Лощиц, век «промышленный, столкнувшийся в миропонимании и книге Гончарова с неповоротливой Емелиной печью».
Наблюдая завидную активность Никиты Михалкова, его трудно сопрячь с Обломовым. Но идеология гончаровского героя как некий горизонт утопических надежд ему близка. «Обломовская» философия, в понимании Михалкова, – глубинная опора национального менталитета. Она обеспечивает реальную жизнеустойчивость русского человека.
Кончаловский не отрицает «обломовское» происхождение национального мироощущения, его крестьянскую основу. Но, в отличие от брата, с этой философией спорит, видя в ней явный тормоз в развитии нации.
Очередное испытание «обломовской» философии произошло в михалковской «Родне» (1982). Героиня фильма Мария Коновалова выезжает из Елани. Название села вряд ли случайно перекликается с родиной героев «Сибириады». Однако в фильме Михалкова зритель не увидит деревни, потому что она – «обломовский сон». Пространства родины, по которым странствует Мария, – пространства, образно говоря, оставшиеся после финального пожара «Сибириады». По Михалкову, родню от этого «пожара» спасет только корневое национальное единство – образ, проступающий из глубины сюжета. «Родня» завершается сценой «народного единения», по определению критика В. Демина. Нетрудно разглядеть, что это – едва не цитата из «Аси-хромоножки», а вслед за нею – и из «Сибириады». Однако цитата со знаком, обратным тому, что видим у Кончаловского.
Если сюжет картин Кончаловского – пока еще путь в неизведанное, то фильмы Михалкова замыкаются в пределах знакомого родного круга. Нерушимость «круга» («обла») утверждается и в последующих его работах. Символически это выглядит как соборное поедание «обломовского пирога» – ив «Очах черных» (1986), и в «Сибирском цирюльнике» (1998).
Премьера «Сибирского цирюльника», самого дорогого (на момент его выхода) российского фильма, состоялась в феврале 1999 года в Кремлевском Дворце съездов.
Если учесть предшествующий этому прокат картины по России в конце 1998 года и состав публики (в числе которой были представители всех политических партий России, включая экс-президента страны Горбачева), то это соборное мероприятие действительно напоминало общенациональное поедание «обломовского пирога».
Никита Михалков создавал не просто художественное высказывание на волнующую его тему, а скорее выступал в качестве демиурга утопической современной Обломовки, модели монолитного русского бытия, объединяющего славянский миф с современными представлениями художника о единстве нации. Ответ режиссера многочисленным критикам прозвучал в следующем высказывании, которое ясно обозначило его твердую нравственно-эстетическую позицию, мало изменившуюся и в следующее десятилетие:
«…Да, я патриот, но не националист. Когда я говорю, что люблю свою страну, то это означает, что принимаю ее такой, какая она есть. Да, я предпочел бы видеть Россию красивой, стройной и в ясном уме, но если этого нет, буду любить хромую, косую и пьяную. Настоящий патриот должен обладать развитым чувством собственного достоинства и верой в будущее страны… Русская национальная идея невозможна без духовности, обращения к народным традициям. Это трудно понять нашим западникам, прорвавшимся к власти. Американцы гордятся лучшим, а мы умеем любить даже худшее, что в нас есть…»
Кончаловский вряд ли готов принять свою страну «такой, какая она есть», «любить хромую, косую и пьяную». Признавая факт существования «хромой, косой и пьяной» страны, мириться с этим ее состоянием не хочет, а ищет, как может, пути к ее изменению. Он подчеркивает, что любит Россию, но не такой любовью, о которой говорят люди, публично провозглашающие себя патриотами. Их любовь, как образно выражается художник, – незрелая любовь ребенка к своей матери, любовь слепая. Кончаловскому ближе взгляды Чаадаева, который, по его мнению, любил Россию гораздо сильнее, чем те, кто ее восхвалял и продолжает безмерно восхвалять.
Российская ментальность, по его мнению, может быть выражена формулой: триумф мечты над практикой. Все время изобретаются объяснения, не имеющие ничего общего с практикой.
Как и младший, старший брат убежден, что наши соотечественники, как бы им ни хотелось, никогда не будут жить так, как живут в Европе. «Если хочешь жить как они, поезжай туда и живи. Во времена разделения мирового сообщества на Восточный и Западный блоки наших ближних соседей – Польшу, Болгарию, Чехословакию – называли «братья славяне». Но после 1990-х от этих братских отношений остались одни воспоминания. Русский с татарином договорятся быстрее, чем русский с поляком, потому что из славянских племен одни приняли католичество, а другие православие. Железный занавес между Востоком и Западом проходит по линии католицизм-православие…»
И еще: «Я верю в народ, но в тот народ, который есть… Сейчас много говорят о необходимости в стране национальной идеи. Но в России вообще никогда не было таковой. За исключением тех моментов, когда ее пытались завоевать немцы, поляки и т. п. Крестьяне – разобщенные люди, а ведь русские по своей ментальности так и остались крестьянами и не стали фермерами…»
Со временем у Андрея, по его словам, появилась творческая ревность к Никите: находившийся ранее в подчинении хороший мальчик, глядевший старшему в рот, теперь из-под этого влияния вырвался. Признавая профессиональное равенство с собой Никиты-мастера, старший брат никогда не согласится принять его идейные принципы, понуждающие пробиваться на общественно-политическую авансцену.
Непредсказуемость политической жизни страны вызывает у Андрея естественный страх частного человека за себя, за свою семью. Правда, благодаря Никите Андрей, по его словам, стал «больше любить Россию». Но Никита не «интернациональный», а «национальный человек, олицетворение национального героя». И в этой неколебимости веры есть слепота, как считает старший, которая дает младшему силы. «Слепота подчас становится большим источником силы, чем способность к зрению. Ведь знание как-никак умножает скорби. Все это и делает его героем. Герой должен жить больше верой, чем рассуждением. Ему нужна ограниченность пространства, он должен жить эмоцией…» Я бы добавил, что герой такого склада в какой-то точке своего мировоззренческого взросления останавливается: ему несвойственно движение превращений, которое как раз особенно отличает «негероя» Кончаловского.
Никита Сергеевич, в свою очередь, поясняет: «Мы очень разные. Наши дороги в искусстве идут параллельно. Он делает упор на философско-притчевую структуру, я – на погружение в атмосферу создаваемого мира. А вот возрастные грани между нами уже почти стерлись… Однако иногда я чувствую себя мальчиком рядом с ним, иногда зрелым человеком. Как ни странно, в каких-то экстремальных ситуациях я не раз оказывался сильнее его, защищал, брал на себя, в другой обстановке – он более мудр, более тонок. Меня раздражает в Андроне то, что я ненавижу в себе в человеческом плане. Наверное, как и его во мне. То есть я иногда вижу в нем что-то такое, что во мне видят другие. И от этого испытываю чувство раздражения. Но при этом с годами наша близость растет. Я никогда не терял ощущения его присутствия, где бы он ни был…»
На рубеже нового десятилетия XXI века и в его начале фигура Никиты Сергеевича стала для многих одиозной. Ему приходится так или иначе реагировать на скандальные выпады в его адрес, в чем, наверное, можно было и ограничить себя, как старший брат, положим. В то же время Михалков как режиссер выступил с несколькими крупными работами, поднять которые физически и материально не каждому под силу. Он активно занимается общественной деятельностью, в частности вопросами отечественного Союза кинематографистов, что опять же часто оборачивается скандальными историями.
Кончаловский так прокомментировал историю со скандалом вокруг Союза: «Дело в том, что ситуация в кино со времен советской власти очень изменилась. Союз – это организация советская. Раньше это был буфер между жесточайшим государственным контролем и художниками. Сейчас этот буфер не нужен… Когда в союзе появился такой сильный, волевой человек, как Никита Сергеевич Михалков, со своими представлениями о кинематографе, это, естественно, вошло в противоречие с мнением большого количества художников, которые не хотят, чтобы их учили, какое кино хорошее, а какое плохое…
Союз кинематографистов – бессмысленная сегодня организация. Должны быть профессиональные гильдии режиссеров, операторов, артистов, продюсеров, критиков. Гильдия, облеченная властью и авторитетом, – это структура, которая защищает интересы своего клана…
И не надо ничего возглавлять. Должна быть ежегодная смена руководства по ротации. Старая форма выборов, а потом перевыборов существовать не сможет. Сегодня руководители национальных премий… и киноакадемий… должны, как Америка с Россией, сдать все свои ракеты и попробовать построить нечто новое с чистого листа…»
В данном случае очевидно несовпадение позиций братьев. И такие несовпадения возникают все чаще. Очередной скандал в связи с именем Никиты Сергеевича был вызван решением Российского оскаровского комитета выдвинуть в 2011 году фильм режиссера «Цитадель» (третья часть киноэпопеи «Утомленные солнцем») на получение премии Американской киноакадемии. Председатель Комитета режиссер Владимир Меньшов раскритиковал решение, принятое в результате тайного голосования большинством.
Андрей Кончаловский так же дал оценку произошедшему. По его словам, в кинематографическом мире страны произошел раскол, отчего он, Кончаловский, еще в 2008 году написал заявление о выходе из Комитета, который, по его убеждению, утратил легитимность. Что касается выдвижения на премию «Оскар» фильма Никиты Михалкова, то Кончаловскому показалось странным посылать картину, являющуюся лишь частью масштабного кинопроекта.
2
Трудно не поставить рядом кинематографические высказывания братьев на тему сталинизма, появившиеся в последнее десятилетие XX века.
Картина «Утомленные солнцем» (1994), по словам ее создателя, во многом построена «на личных ощущениях, на образе… дома».
Действительно, центральный образ «Утомленных солнцем» – семейное гнездо, фундамент жизни человека. Судьба этой опоры, беды, ее постигшие, составляют сюжет фильма. А личное переживание режиссера придает искренности если не всему фильму, то каким-то содержательно важным его эпизодам. Тем кадрам, например, где зритель видит ласково несомую рекой лодку с легендарным комдивом Сергеем Котовым (Н. Михалков) и его малолетней дочерью Надей (Надя Михалкова), объединенных непридуманными нежностью и любовью родных людей. И в «Голубой чашке» А. Гайдара, вдохновившей режиссера на создание этой сцены, есть образ семейной идиллии на фоне эпохи социально-исторических сдвигов – идиллии, в которой затаилась трагическая тревога.
Дом в «Утомленных солнцем» (дача Котова) – жилище, в котором на исходе 1930-х годов обитают остатки семьи жены Котова – Маруси (имя тоже ведь из гайдаровской «Чашки»). Это обломки дворянской интеллигенции, бывшие ученые, творческие работники… Их дачный поселок не зря именуется ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты) – это и аббревиатура, и указание на то, какое место, с точки зрения государства, занимают в жизни Страны Советов населяющие дачу «бывшие».
Авторы картины изображают их с трогательной иронией. Это те, кому нет применения в рядах строителей социализма с его железной поступью. Сама дача выглядит островком (а может быть, и резервацией), куда отправили доживать оставшийся им недолгий век персонажей чеховского «Вишневого сада».
Персонажи, живущие на даче Котова, действительно напоминают то ли детей, то ли блаженных, которым позволили еще какое-то время насладиться своим легкомысленно безответственным существованием. Но это не «дети Державы» вроде самого Котова. Это, с точки зрения той же Державы, дети уродливые. Это «ошибки природы», которые даже в условиях социализма, с его мичуринской активностью, поправить невозможно.
Таким образом, помещение, комнаты, где эти люди в данный момент обретаются, уже чистая декорация канувшего в Лету быта, по которой гуляет шаровая молния. Образ революции, поражающей все, что движется, то есть тех, кто «высунулся».
Но, кроме Сергея Сергеевича Котова, его жены и дочери, «шаровая молния» революции никого здесь не задевает. Вероятно, потому, что эти люди давно лишились способности «высовываться». Они тени выродившихся чеховских героев, о которых Никита Михалков пытался поведать зрителю еще в конце 1970-х годов в «Неоконченной пьесе для механического пианино».
И растерянность новых Гаевых-Раневских, их младенческая невменяемость в оценке реальных событий – порождение тотальной отмены права индивида на частное существование в рамках советской системы. Надвигающейся катастрофы не в состоянии осознать и Сергей Котов – в этом его драма. Ему не удастся удержать семейную идиллию кровного родства, как это происходило в плавно движущейся по воде лодке.
В героях «Утомленных солнцем» нет ресурсов той нравственной, духовной силы, которая могла бы помочь им сохранить утрачиваемую опору дома. Отсюда настойчивый образ самовольного ухода из жизни, заявленный в начале картины.
Но в самом режиссере этот ресурс как раз есть, отчего он получает право на сострадание к своим персонажам. Самостояние режиссерского голоса в этой картине обеспечено беспрекословной верой Михалкова в нерушимость «обломовского мифа».
Дочь Котова Надя – своеобразный Илюша Обломов, безоговорочно принимающий мир своей Обломовки – таким, каким он его видит: ласковым, солнечным, совсем домашним. Она воистину ребенок, плодотворно не ведающий до поры о трагизме мироздания. Натуральный Обломов! И этот ребенок, как, впрочем, и весь исторический материал известного периода жизни страны, есть отклик на «Ближний круг» старшего брата.
Замысел «Ближнего круга» возник у режиссера еще в советские времена. Он познакомился с человеком, который сообщал о реакции начальства на его, Кончаловского, картины. Это и был как раз «киномеханик Сталина». В перестроечные времена Кончаловский предложил тему Алексею Герману для сценария: «Получится гениальная картина, абсолютно твоя». Герман на эту идею не откликнулся. Но чуть позднее обратился к похожему замыслу.
В фильме Кончаловского есть то, чего нет в картине Михалкова. В ней есть реальный творец мифа «Обломовки» – «простой народ», исполняющий новый вариант Царства Небесного под приглядом Отца-Хозяина. В фильме Михалкова этот «простой народ» подменен фигурой Котова.
В «Ближнем круге» «простой народ» представлен не только как анонимный носитель «крестьянских» мифов, но и как освобождающаяся от власти этих мифов индивидуальность.
Вернемся к тому, о чем уже шла речь. Иван Саньшин– дитя Державы. Наличие родителей в этой системе вообще необязательно. Не случайно герой, видящий в Сталине родного отца, – детдомовец. А дочь его репрессированных соседей, воспитанная в спецприемнике, от родителей отрекается во имя того же Всеобщего Отца. Система кует своих детей сама. Они с рождения несут на себе клеймо безличности. Они никак не повязаны с традициями собственной семьи.
«Ближний круг» как история жизни Ивана Саньшина, поведанная им самим, сродни древнему жанру «повести мертвых». Зритель с самого начала картины как будто проникает в зазеркалье эпохи, в застывший Некрополь отечественной жизни конца 1930-х – начала 1950-х годов. Закадровый текст главного героя звучит как голос «оттуда», из «города мертвых». И этому мертвому у Кончаловского оппонирует живое. Ребенок.
Суровая критика журит режиссера «Ближнего круга» за голливудское «чистописание», сродственное каллиграфии советского «большого стиля». Киновед Виктор Божович прямо так и говорит: фильм Кончаловского не что иное, как «поздний образец социалистического реализма», «с профессиональным блеском выполненный муляж». И «в этом качестве естественно вписывается в панораму постсоветского кино, рвущегося переводить образы, темы, сюжеты отечественной действительности на язык западного массового кинематографа».
Однако вернее было бы назвать мир фильма вплоть до последних кадров финала – не «застывшей натурой», как это делает Божович, а открытой декорацией, которая и хотела бы в реальной жизни казаться натурой, но лишена этой способности. Ведь происходящее в фильме разворачивается в поле зрения его героя – простодушного Ивана, восторженно влюбленного в своих вождей. Это мир, увиденный «простым советским человеком» из окошка кремлевской «кинобудки». А нам, зрителям, дана привилегия отличать друг от друга, а затем и сопоставлять точки зрения героя-повествователя и автора фильма. Они – разные!
К сожалению, профессиональные критики то ли не умеют, то ли не хотят этой привилегией воспользоваться. Они сетуют на то, что им навязывают точку зрения Ивана, в образе которого режиссер якобы унизил народ. Критики принципиально отвергают «поучения» Кончаловского: «Коли печешь слоеный пирог из собственной истории, пеки на здоровье. Но не стоит отрывать от этого пирога кусочки и посылать домой в качестве целительной духовной пилюли».
Ограниченностью «голливудского чистописания» в «Ближнем круге» и не пахнет. Это видно уже по первым хроникальным кадрам, снятым оператором Н. Блажковым в 1930-х. Такого зачина не было в сценарии. Он был найден неожиданно, при просмотре хроники тех лет.
…1939 год. Канун войны. У северного входа на ВДНХ возводят знаменитый монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» – символ мощи и нерушимости Страны Советов, а значит, – и ее Хозяина. Угрожающе величественная декорация, грандиозную искусственность которой одновременно и утверждает, и обнажает кинодокумент эпохи. А еще большее сомнение в нас порождают монументальные нерушимость и мощь, когда в кадре появляется ребенок.
Неуклюже топающая, совсем еще младенец Катенька Губельман. И в этом ребенке, в фигурке и глазах столько живой, трогательной незащищенности, хрупкости, что внешняя достоверность, материальность фактуры этой якобы действительности тотчас оборачивается шаткостью, неверностью или давящей мертвенностью. И вы уже неотрывно следите судьбу живого дитяти в придуманном, изобретенном «иванизмом» мертвом мире.
Самые сильные по тяжести эмоционального воздействия кадры – детский спецприемник для чад «врагов народа». Голые тельца детей, их только что остриженные головки, застывшие в испуге ожидания лица. Ребенок ничего не осмысляет, ничего не понимает. Он только с ужасом обнаруживает, что вот совсем недавно были папа с мамой, дом, его тепло, а теперь все исчезло, стало холодно и одиноко. И так будет всегда в неуютных объятиях мертвого Государства.
Это прямой прорыв взывающего к нам живого сквозь мертвое и вопреки ему. Поэтому так органичны здесь именно наши, отечественные актрисы Ирина Купченко и Евдокия Германова в своих небольших ролях. Они знают ТО, ЧТО изображают. Поэтому я как зритель не ищу здесь режиссерского расчета, в отличие от критика, а отвечаю на открытое чувство своим – таким же беззащитным чувством.
Сюжет «Ближнего круга» – это и рассказ о том, как жена киномеханика Ивана Саньшина Настя, по чисто материнскому инстинкту, по бабьей жалости, не может выбросить из сердца дочку репрессированных соседей-евреев. А ее все время у Насти отнимают! И она опять и опять упрямо находит девочку, несмотря на все грозные предостережения своего напуганного Вани.
Тяга деревенской бабы к дитю не что иное, как опять-таки инстинктивная попытка отвоевать право частной семейной жизни в коммунальном общежитии Страны Советов. Образ ребенка как обещание некой будущей, возможно лучшей, чем настоящая, во всяком случае живой, жизни так или иначе присутствует в сюжете едва ли не всех картин Кончаловского.
В «Ближнем круге» ребенок, по словам историка кино Евгения Марголита, «запускает действительный сюжет вещи».
«Если хотите, действительные похороны Сталина состоялись не в марте 1953 года на Красной площади, но на экране – в фильме Андрона Михалкова-Кончаловского «Ближний круг» в ноябре 1992 года, когда, освободившись от присутствия всеобщего Отца, от страха, который легче было бы объяснить себе как любовь к великому вождю, Иван Саньшин бросился-таки к несчастной Кате Губельман, вытаскивая ее из костоломки, из коллективного детоубийства, называемого в этой Системе общественной жизнью, уговаривая девочку идти… куда? – домой, в тепло. Пришествие ребенка, пришествие Дитяти – не державного – человеческого – завершается актом удочерения как воскрешением героя. Частный человек отбирает у Державы родительские права. Здесь ищут не ту улицу, которая ведет к храму, но ту, которая ведет к дому. На этот сюжет, на эту элементарность надо было решиться…»
И в «Ближнем круге», и в «Утомленных солнцем», и в «Хрусталев, машину!» Алексея Германа коммунальное общежитие, которое возводила тоталитарная Система, населяя его своими «детьми», – образ исторически изжитого, омертвевшего существования.
В «Ближнем круге» и Кончаловский подводит жирную черту под нашим «сталинским» прошлым. Но в противовес своему брату он опирается не на миф чаемых единения и тепла, а на реальное, восстающее из лагерной пыли и пепла семейное единство конкретных людей. Единство добывается в страдании и преодолении.
Именно так Иван Саньшин выпадает из порожденного им и такими, как он, режима. В нем говорит безотчетное стремление спасти девочку как свое, личное дитя, защитить, уберечь стенами своего, частного дома от катка уже фактически мертвой системы.
В финале картины Иван вытаскивает Катю из сталинской «Ходынки», привлекает к себе и называет дочкой. Вот когда героя настигает прозрение, вырывая из «ближнего круга» смерти: нельзя любить вождей больше, чем себя, своих детей, родителей, жену. Это слепота крепи – от страха. Сын за отца и отец за сына отвечают! В этот момент Саньшин становится бесстрашно ответственным отцом, восстает из мертвых. Блеклое небо, переполосованное еще голыми ветками дерев, небо, к которому обращает свое с надеждой вопрошающее лицо Иван, и есть оттаивающая натура. Под этим неласковым небом начинается путь живого Ивана. Но только начинается! Произошло ли это с его прототипом?
Одна из главных претензий критики к фильму состоит в том, что он явился тогда, когда «пресловутая сталинская тема навсегда отошла в прошлое», была «исчерпана до донышка». Что же, «Ближний круг» безнадежно запоздал? В ответ на эти претензии автор картины сказал: «Видите ли, я никогда не снимаю кино вовремя. Я не попадаю во время. Но когда мне говорят, что «Ближний круг» опоздал, то я, грешным делом, думаю: а не рано ли я его снял? Это ведь фильм не о Сталине и даже не о сталинизме. Это фильм о русском характере и его неистребимой тяге к сильной руке. Вот и сейчас все просят-требуют Хозяина. Так что я не считаю, что это фильм о прошлом. Он о будущем».
Кончаловский действительно снимает «не вовремя», поскольку всегда оказывается на сломе времен, на границе между уже уходящим и едва мерцающим приходящим. Он проскакивает застывший в форме «настоящего» временной промежуток.
Недальновидность критики вызывает удивление. Оглянитесь на кинематографическое десятилетие, предшествующее появлению «Ближнего круга». Там мы не найдем ничего в русле «сталинской» темы, что можно было бы поставить вровень с картиной Кончаловского – прежде всего по глубине и значимости затронутой проблемы «иванизма». Но и впереди ничего нет равного по серьезности и глубине, кроме, может быть, картины Алексея Германа «Хрусталев, машину!» (1998). Ни одна картина, кроме этой, в последовавшие после «Ближнего круга» два десятилетия не «дотягивает» как образ нашего «крестьянского» мировидения, травмированного нашим же семидесятилетним социализмом.
Тогда, когда вышел «Ближний круг», его создателю очень хотелось думать, что воскрешение, происходящее с его героем в финале, происходит со всем народом в реальной истории. Собственно, об этом он и хотел сказать в картине. Ему казалось, что наступает историческое мгновение, когда народ обретает «чувство вины».
«В день начала путча, когда мы сидели на «Мосфильме», а мимо окон проезжали военные машины, – рассказывал режиссер, – я сказал Джеми Гамбрелл, приехавшей специально из Штатов готовить с нами книгу к выходу «Ближнего круга»: «Ты понимаешь, что сейчас творится история». Чувствовалось, что именно сейчас, в эти минуты, происходит нечто колоссально меняющее жизнь всего мира. Крах, конец великой мечты. И начало чего-то нового, пока неведомого…»
Очень скоро Андрей покинет страну, куда он приехал из Лондона, где проживал в это время. Приехал на перезапись, и надо было возвращаться, чтобы закончить картину. Как раз перед отъездом в Англию он с братом Никитой сидел на кухне – 20 августа 1991 года, в день своего рождения.
«…Никита, возбужденный, забежал всего на двадцать минут, у него в машине автомат и противогаз – он приехал из Белого дома и сейчас же вернется в Белый дом – защищать демократию……В его глазах светилась решимость. Он сделал свой выбор… Политика уже стала для него делом серьезным и настоящим. Думаю, его очень увлекало ощущение, что теперь в политике вовсе не обязательно быть членом партии, бывшим секретарем райкома или директором завода. В политику мог прийти любой, кто чувствовал в себе силу стать политиком. Он ее чувствовал.
На мой взгляд, идти в Белый дом было бессмыслицей, чистым безумием. Мы обнялись, перекрестили друг друга. Он уехал.
На следующий день я улетел в Лондон. На прощание телевидение взяло у меня интервью в аэропорту, которое безобразно обкромсало, пустило в эфир лишь слова о том, что я уезжаю, потому что боюсь. Действительно, боялся. За жену, за новорожденную дочь, за судьбу неоконченной картины. Страх – самое нормальное, естественное чувство…»
А что чувствовали Шаляпин, Рахманинов, Бунин, когда покидали вздыбленную революцией Россию?
Часть третья Сотворение мира. Тезис
Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен… А. Пушкин, 1827 г.Глава первая Первый учитель
…Но будьте терпеливы, господин Ланцелот. Умоляю вас – будьте терпеливы. Прививайте. Разводите костры – тепло помогает росту. Сорную траву удаляйте осторожно, чтобы не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, то люди, в сущности, тоже, может быть, пожалуй, со всеми оговорками, заслуживают тщательного ухода…
Евгений Шварц. Дракон. 1941 г.1
Диву даешься, насколько насыщенными оказались вгиковские годы для Андрея! Он обретал кинематографическую известность, еще будучи студентом. 1962 год – поездка в Венецию с фильмом «Мальчик и голубь» и, как бы там ни было, роль соавтора по «Иванову детству». Через пару лет на страницах чуть не единственного тогда солидного киноиздания «Искусство кино» появится их с Тарковским многостраничный сценарий «Андрей Рублев». Было от чего стать в позу гения…
Как признавался позднее Кончаловский, заграница сильно его «обожгла».
Маршрут в Венецию пролегал через Рим, где начинающий режиссер пережил первый шок. Повторный состоялся уже в Венеции. «Я плыл по каналу на венецианском речном трамвайчике, смотрел на этот ослепительный город, на этих веселящихся, поющих, танцующих людей и не верил своим глазам. Стоял вспотевший, в своих импортных несоветских брюках, держал в руках чемоданчик с водкой, которую не знал, как продать, смотрел на молодых ребят, студентов, веселых, загорелых, сидящих на берегу, и вдруг меня пронзило жгучее чувство обиды: «Почему у нас не так? Почему я не умею так веселиться! Почему?»… Господи! Если бы у нас тогда, в 1962-м, кто-то из молодых где-нибудь на пароходе вот так же позволил себе сидеть, так улыбаться, так петь, так свободно себя вести, кончилось бы милицией. Да никто бы и не позволил себя так открыто радоваться жизни! Я был ошпарен. Это воспринималось как сон, и сон этот навсегда перевернул мою жизнь…»
После Венеции был Париж – тоже в первый раз. Компания «Эр-Франс», самолетом которой он прибыл сюда только вечером, предоставила ему на ночь отель «Лютеция» на бульваре Распай. Он еще не раз побывает потом на этом бульваре, но тогда, поднявшись в дешевый номер в мансарде, он откроет балкон и… «Напротив, на балконе такой же мансарды, горничная в белом фартуке, белой наколке чистила медные ручки. Слезы навернулись от вдруг нахлынувшего чувства. Значит, есть еще в мире горничные в белых фартуках, медные ручки, мансарды – то, что в России исчезло со времен Чехова! Сколько я потом ни ездил, чего только в Париже ни видел, но сильнее этого чувства не испытывал».
Из зарубежных странствий Андрей привез огромную бутылку дешевого итальянского вина – своему другу Гене Шпаликову. До прихода 1974-го, когда Шпаликов убьет себя, еще было более десяти лет, и друзья работали над сценарием для диплома Кончаловского – с символическим названием «Счастье».
Вгиковскую жизнь Андрея в целом можно было бы назвать счастливой. Не только творчество в паре с Тарковским, но и общение с друзьями, девушки, «романы, бесконечные любовные приключения, пересечения…».
Тогда местом их регулярных посиделок было кафе «Националь». Теплое, уютное, как вспоминает писатель Борис Ямпольский, – и ярко освещенное, с наивными световыми эффектами, где за дальним от оркестра столиком сидел автор «Зависти» и «Трех толстяков» Юрий Олеша, завсегдатай этого заведения. Словом, место легендарное.
Многих увлекал имидж московского «Националя», – пишет в отзыве на книгу А. Макарова «Московская богема» доктор экономических наук Борис Клейн. – В оттепельные годы здесь еще помнили довоенные посещения Михаила Булгакова и его жены Елены Сергеевны. А иные постоянные «сидельцы», как, например, поэт Михаил Светлов, были живы. Там наблюдалось нечто английское в атмосфере – традиционное, надежное. Круглые столы, покрытые белыми скатертями, тяжелые породистые стулья. Обслуживая посетителей элегантно, персонал и кое-что без навязчивости им внушал: в порядочных домах, мол, даже водку не принято подавать бутылками, дурной тон, непременно в графине… Поражало здесь новичка и обилие изящных, стильных и очень подходящих друг другу людей. В молодых женщинах притягивала даже не их красота, а типаж, создающий вокруг себя праздничную атмосферу. Видна была новая, «демократическая красота», которая не подавляла, а, наоборот, пленяла насмешливостью и умом, чего нельзя было встретить уже на исходе XX и в новом XXI веке.
«В самом начале 60-х по Москве запросто шатались неопознанные гении, – читаем у самого А. Макарова. – Если и не в истинном, то в образном, несомненном для своей компании смысле слова. С одним из них, типичным парнем «с нашего двора», я ежедневно сталкивался в проезде Художественного театра, это был, как выяснилось потом, Владимир Высоцкий. Другого, похожего на молодого д’Артаньяна, встречал в окрестностях кафе «Националы – он оказался Андреем Тарковским. Третьего, брюнета с какою-то отстраненной, в никуда обращенной улыбкой, часто видел среди знакомых вгиковцев. Звали его Геннадий Шпаликов…»
Бывал здесь, естественно, и Андрей. Не имевший опыта уличных драк, в отличие от его горячего друга Тарковского, он тем не менее невольно становился их участником. Собирая «низкие истины» вгиковских лет, Кончаловский вспоминает, как, покидая «Националы), они вместе с Тарковским и оператором Вадимом Юсовым, который когда-то занимался боксом, наткнулись на компанию армян. «Андрей (Тарковский. – В.Ф.) стал задираться, замахнулся даже. Вступился Вадим…» Один из армян оказался Енгибаряном, чемпионом мира по боксу в полулегком весе. Обоих Андреев забрали в отделение милиции, но скоро отпустили, поскольку, кроме пьянства, «никакого другого криминала не было».
Кончаловский довольно подробно описывает традиционное население «Националя». Кроме уже упоминавшихся «классиков» кафе Юрия Олеши и Михаила Светлова, он называет легендарного Виктора Луи, журналиста, корреспондента западных газет, «разоблаченного» Солженицыным как агента КГБ; другого журналиста, корреспондента «Ассошиэйтед Пресс» красавца Люсьена Но, владельца французского паспорта и американской машины; сына футуриста Василия Каменского – Васю; других, не менее примечательных, каждую в своем роде, личностей.
«Сидели там люди, настроенные достаточно диссидентски, сидели стукачи. Все приблизительно знали, кто есть кто. Знали, что те, кто ездит на иномарках и, не боясь, общается с иностранцами, связаны с органами…»
Ну, тогда общение было более или менее свободным. Как говорит Андрей, время было относительно мягкое. Диссидентство, в собственном смысле, еще не началось – «были люди левых настроений». То есть все те, кто не принимал официальной идеологии.
2
Второй брак Кончаловского состоялся во время работы над дипломным фильмом «Первый учитель». Его женой стала, как мы помним, дебютантка Наталья Аринбасарова. Связав себя брачными узами с Андреем, она попала в условия жизни, кардинально отличающиеся от тех, в которых жила. Многодетная семья офицера Советской армии перебивалась на отцовскую зарплату. Кочевали с места на место – по всей Азии.
В 1957 году семья переехала в Алма-Ату. Исполнилась давняя мечта девочки: она поступила в хореографическое училище. В сентябре 1958 года узнала, что включена в группу детей, которых направляли учиться в Московское хореографическое училище Большого театра. Здесь и нашел ее начинающий режиссер Андрей Кончаловский.
Нужна была девушка для роли Алтынай в фильме по повести Айтматова «Первый учитель». В число поначалу избранных Аринбасарова не входила. Ее послали уже на зов режиссера из Москвы: «У вас есть девочка из казахской группы – худенькая, симпатичная».
Она не отличалась в ту пору ни образованностью, ни высокой культурой, но была упорна в достижении цели, терпелива, вынослива и аккуратна. Позднее режиссер признавался, что его взволновал овал лица девушки, фарфоровая нежность кожи, женственность. А ее «поразила широта его улыбки, казалось, что видны все тридцать два зуба»…
Вскоре выяснилось, что молодой режиссер влюбился в юную дебютантку. «Ей было восемнадцать – совсем еще девочка, хрупкая, нежная… Я понял, что не могу даже осмелиться поцеловать ее, если не решу, что женюсь. Когда я решил для себя это, мы отпраздновали нашу брачную ночь и на следующий день объявили всем, что женимся».
Андрей хотел, чтобы его молодая жена училась и в конце концов стала одной из самых образованных и интересных женщин. Он настаивал, чтобы она обязательно изучила французский язык, чтобы училась в Сорбонне. Тогда в воображении Андрея уже оформился идеальный образ будущей жены, отчасти напоминающий мать…
– Ах, ну это же абсолютный Гоген! – встретила невестку Наталья Петровна. – Какая хорошенькая!
История взаимоотношений Андрея и Натальи в начальной стадии срифмовалась с событиями картины «Первый учитель». Аринбасаровой пришлось в действительности сыграть роль «освобожденной женщины Востока», а Кончаловскому – роль «первого учителя» на этом пути.
Мать Натальи вызвала ее со съемок к себе, жалуясь на якобы плохое самочувствие. Как рассказывает в своих мемуарах Андрей, девушку заключили под своеобразный домашний арест, грозя изуродовать лицо, чтобы она больше не могла сниматься. Режиссер, он же и жених, пришел в ужас. За помощью обратились к авторитету Чингиза Айтматова. Тот позвонил в ЦК КП Казахстана. Власти вступили в переговоры с отцом Аринбасаровой. Он потребовал к себе Сергея Владимировича для переговоров о женитьбе, калыме за невесту и обо всем прочем – по восточным традициям. Пришлось выписывать ордер на арест невесты – чтобы доставить ее в прокуратуру для дачи показаний. В итоге девушку под конвоем вывезли к прокурору. А затем законно сочетавшихся посадили в разные милицейские машины, довезли до границы с Киргизией. Так они покинули Казахстан.
Строя самые радужные планы насчет дальнейшей супружеской жизни, Андрей отправил жену самолетом в Москву как раз под Новый год и с письмом, которое запретил ей читать. Со временем тайна записки открылась. Там было: «Мамочка, посылаю тебе чистый лист бумаги. Что мы на нем напишем, то и будет». Похоже, Андрей рассчитывал на свою Галатею…
15 января 1966 года в семье появился ребенок. А через три года супруги расстались. Между тем Андрей в супружестве переживал, по его признанию, счастье и полноту жизни. «С этим временем, – говорит он, – связано у меня много светлого…» Воспоминания же Натальи, отредактированные ее дочерью Екатериной Двигубской, – цепочка больших и маленьких претензий к супругу. И главная из них: недостаток внимания к ней и маленькому сыну.
1966 год Наталья встретила в роддоме. Около месяца по состоянию здоровья провела на больничной койке. Андрей же с отцом находились тогда в Англии по делам сценарным. В какой-то момент среди присланных Наташе продуктов она нашла коробочку. В ней, кроме кольца с бриллиантом, было письмо от свекрови: «Это тебе мой подарок за первого внука! Звонила в Лондон, застала Андрона дома. Он сначала заорал, а потом долго молчал, я поняла, что он плачет, и я плакала. Никитка тоже ревет от радости. И мы с ним, конечно, хорошо выпили за Егорушку и за тебя!»
Поворот к расставанию случился после того, как Андрей признался жене, что «перестал чувствовать» ее. Все произошло по пути из аэропорта Домодедово: Наталья возвращалась от родителей с неожиданно заболевшим Егором. Аринбасарова подала на развод. А через какое-то время вышла замуж за друга Андрея – Николая Двигубского.
В жизни Андрея это время было непростым. Как раз тогда возникли серьезные проблемы с выходом его второй картины «История Аси-хромоножки», которая была не только исковеркана насильственным монтажом, но и, по сути, положена «на полку». Все происходило на фоне фактического запрета фильма Тарковского об Андрее Рублева, соавтором сценария которого был Кончаловский.
Следующий его фильм, «Дворянское гнездо», «экспертной» публикой был воспринят настороженно, в нем увидели конформистское отступление в сравнении с предыдущими работами режиссера…
В воспоминаниях Аринбасаровой есть два-три абзаца на тему тогдашних переживаний мужа, которые, похоже, ей были не очень внятны. У Андрея из-за запрета «Аси» начались экзема, бессонница… «Не могу, не могу жить в этой стране! Все нельзя! Не могу!» – часто восклицал он и все сильнее замыкался в себе. Вечерами искал в эфире «вражеские голоса»…
3
Расставшись с Натальей, Андрей не прекращал заботу о сыне. Благодаря его хлопотам Егор в 1990 году закончил Международную школу в Оксфорде, в 1991-м – Кенсингтонский бизнес-колледж. Стал магистром истории искусства Кембриджского университета, специалистом по творчеству А. Дюрера и Рембрандта. Позднее был режиссером-постановщиком рекламных клипов. В 2000 году поставил свой первый полнометражный игровой фильм «Затворник», затем – картины «Антикиллер», «Побег», «Консервы» другие.
Егор, уже вполне созревший и достаточно популярный в своей среде человек, часто встречается с журналистами. Он охотно говорит на темы «секретов семьи Михалковых-Кончаловских», в которой ему повезло родиться. По стилю изложения семейных легенд и анекдотов в рассказах Егора чувствуется традиция. Он признается, например, что «с седьмого класса чувствовал себя профессионалом» в деле общения с противоположным полом, «понял, что главное в отношениях с женщиной – ощущение власти над ней. Женщины любят уверенных в себе и способных на поступок».
Оканчивая школу, Егор уже знал, что учиться уедет за границу. Но решил вначале отслужить в армии, чтобы потом «можно было приезжать на каникулы домой, не остерегаясь, что придут люди в погонах и загребут посреди учебного года». Служил в кавалерийском полку при «Мосфильме». Первый год убирал лошадиный навоз, исполнял строевую.
«…По возвращении из армии я два года просто болтался: числился на какой-то работе, очень активно занимался с педагогами (две замечательные девушки натаскивали меня по английскому и французскому языкам) и прожигал папины деньги. Я готовился к учебе за рубежом и только ждал разрешения деда. Дело в том, что дед к своему 75-летию рассчитывал получить орден Ленина. Мало того что на нем уже было пятно – сын диссидента, да еще внук на Запад «лыжи мылит». В результате деду орден не дали, а я потерял два года. Правда, эти годы я провел с удовольствием, развлекался на полную катушку… Я жил в оставленной мне папой неплохой квартире, сам он жил во Франции, поэтому в деньгах недостатка у меня не было. Я часто ездил к отцу».
Родители Егора и после развода поддерживали связь. Летом мать с ним проживала на Николиной Горе. Он часто виделся с отцом. И с отчимом у мальчика были хорошие отношения. Егор считает, что этот развод состоялся к лучшему – отца и мать отличались непростыми характерами. Его вырастила бабка Наталья.
Когда началась студенческая жизнь за рубежом, Егор почувствовал, как привольно жилось ему дома. Он уехал от обеспеченной, приятной жизни в Москве. И вдруг оказался в маленькой комнатке, ездил сначала на автобусе, потом на велосипеде. Уровень жизни сильно упал. Хотя у него была лучшая комната в колледже. Быт скрашивала некая Галя Макс, подруга отца. Только благодаря ей он не удрал из Англии от ностальгии. После окончания учебы молодой человек покинул студенческую комнату и проживал у своей спасительницы. В конце концов его бросили. Кончаловский-младший вернулся домой и в течение месяца ночевал у сводной сестры, Екатерины Двигубской…
В одном из многочисленных телеинтервью с Егором ему был задан вопрос, в чем он лучше отца, а в чем – хуже. Ответ был таким: «Может быть, я не уезжал бы… Я очень люблю здесь жить. Я не смог бы эмигрировать… Отец передал мне какие-то качества, без которых я не смог бы жить, а именно – здоровый авантюризм. Я считаю, что мой отец – авантюрист, но в хорошем понимании этого слова. При этом я хочу принимать непосредственное, каждодневное участие в воспитании своих детей. У отца, Андрея Сергеевича, такой потребности не было. Это не значит, что он меня не любил… Андрей Сергеевич человек не мягкий. И Никита от него натерпелся в свое время. Я – в меньшей степени, так как мы жили под одной крышей всего месяц. Я имею в виду уже в сознательном состоянии».
В другом интервью (на тему личных вещей) корреспондент предложила Егору, отправляясь к отцу в Лондон, взять ее вопросы и записать ответы отца на диктофон. Получилось, вкратце, следующее:
Егор Михалков-Кончаловский. Андрей Сергеевич… Скажи, насколько большое значение в жизни ты придаешь вещам? То есть насколько важны предметы, окружающие тебя?
Андрей Михалков-Кончаловский. Очень важны. Я очень люблю предметы. Только я не люблю когда их много. Е.М.-К. А любимые вещи – это какие?
А.М.-К. Любимые? Пожалуй, это книги. Но книга – это немножко другое, я не воспринимаю книгу как вещь. Видишь ли, я затрудняюсь сказать, какие именно вещи у меня любимые.
Е.М.-К. Я знаю, что у тебя есть много вещей, которые с тобой путешествуют. Какая-то серебряная коробочка. Из несессера в несессер ты перекладываешь какой-то ножичек, еще что-то…
А.М.-К. Но это же не любимые вещи, а сувениры. Это связано с какими-то картинами или кто-то подарил. Серебряную коробочку мне подарила одна певица после премьеры «Евгения Онегина». Мне просто очень приятно, что большая певица сделала мне такой подарок. И ножичек этот – не любимая вещь, он просто со мной ездит, потому что должен ездить. Если какая-то вещь должна быть со мной, то это вовсе не значит, что она любимая. Таких вещей довольно много, всего и не перечислишь, что я вожу с собой. Например, ремень-замок, которым можно пристегнуть чемодан к какому-нибудь креслу или к батарее в аэропорту и не дежурить возле него, не катать его за собой… А вот еще у меня есть ножик для вырезки статей из газет. Я вырезаю из газет разные статьи. Собираю статьи… Все больше и больше я вожу с собой разных витаминов и лекарств, которые необходимы. Раньше это была коробка, а теперь специальный несессер только для лекарств и для витаминов. В нем стоят разные отдельные коробочки со снадобьями. Еще обязательно вожу с собой пару книжек по диетам, и книжка по определенным физическим упражнениям тоже всегда со мной ездит…
(Из разговора корреспондента с Егором.)
– У тебя есть вещи, которые передаются в вашей семье по наследству? – Ботинки! Их подарил отец, когда я учился в 9-м классе. Тогда он только-только уехал за границу, и я попросил его купить мне там хорошие ботинки. С деньгами у отца тогда было трудновато, и он сказал: «Я тебе свои подарю». Эти ботинки я ношу до сих пор. А отец носит ботинки – он мне их подарит потом, завещает, он обещал, – те, которые носил еще его дед, Петр Кончаловский. Английские ботинки ручной работы. Отец в них всегда встречает Новый год. Иногда он в них просто ходит по улице. И с каждым годом они становятся все лучше и лучше.
Е.М.-К. А как попали к тебе прадедушкины ботинки?
А.М.-К. Когда умер мой дед, Петр Кончаловский, то дядя Миша Кончаловский сказал: «Вот, есть дедушкины ботинки, хочешь, возьми себе, у тебя большой размер». Я их взял с удовольствием. Но это уже не сувенир – талисман.
Е.М.-К. Почему ты в них встречаешь Новый год?
А.М.-К. Не знаю, но мне кажется, что это хорошо – когда встречаешь Новый год в дедушкиных ботинках. В этом году я встречал Новый год в Лондоне тоже в них. Кстати, дедушка их купил именно в Лондоне девяносто лет назад.
Е.М.-К. Скажи, пожалуйста, ты – наследник рода, старший сын старшего сына, это что-то значит для тебя?
А.М.-К. Ничего не значит.
Е.М.-К. Для Никиты это, по-моему, значит…
А.М.-К. Ну, может быть. А для меня это ничего не значит. Я об этом не задумывался.
Е.М.-К. Что такое, по-твоему, быть князем? Мы, Михалковы, княжеский род.
А.М.-К. Мы не князья. Мы дворянский род.
Е.М.-К. Ну как же, Михалковы были князья.
А.М.-К. Нет, не было такого. Это ты наврал. Мы дворянский род. Спроси у дедушки, он тебе скажет. Мы скорее даже не дворянский, а боярский род. Ты ошибся. Были бояре Михалковы. Я себя не ощущаю ни князем, ни боярином, ни дворянином. Я себя ощущаю просто достаточно интеллигентным человеком. В меру порядочным. В очень определенную меру. Вот и все. Я вообще не знаю, что такое дворянская честь, все это для меня полная лабуда. Я вижу дворян, которые просто свиньи абсолютные. Посмотри, на что сейчас похожи дворянские роды…
Е.М.-К. А есть ли в твоей жизни что-то такое, за что стыдно?
А.М.-К. Полно!
Е.М.-К. И это все?
А.М.-К. Все. Ответил. Что же я тебе – все буду рассказывать? Я бы даже священнику этого не рассказал…
Е. М.-К. А что для тебя в жизни неприемлемо? Лично для тебя.
А.М.-К. Ты знаешь, на это очень трудно ответить. Для меня лично? (Повисает очень долгая пауза.) На этот вопрос я не могу ответить, потому что я не хочу говорить о каких-то принципах. Пры-нцы-пах. Есть вещи, которые для меня неприемлемы, но которые все равно существуют в жизни. Я даже не знаю. Мне кажется, что все приемлемо. Нет, я все-таки скажу, что неприемлемо. Я понимаю, что я не свободный человек, но самое неприемлемое для меня, когда на меня накладываются ограничения в свободе. Личной. Даже не в творчестве, а просто личной свободы.
Е.М.-К. А в творчестве что важнее свободы?
А.М.-К. Процесс. Как у некоторых писателей забота – писать, у меня забота – снимать кино. Сидеть и вынашивать шедевр по десять лет – это не мой темперамент. Потом, шедевры нельзя снимать. Шедевры делает публика.
Е.М.-К. Скажи, идеально прожить жизнь – как это для тебя?
А.М.-К. Так не бывает. В жизни не бывает ничего идеального. Мир не идеален, мир прекрасен. А что для меня? Умереть здоровым, и как можно позже.
Е.М.-К. Обещаешь? Ты обязательный человек.
А.М.-К. Да. Обязательный. Другой вопрос, что у меня бывают сбои, но я, в принципе, обязательный человек. То, что обещаю, я всегда делаю. Я редко обещаю вещи, которые не могу выполнить. Но обязательно стараюсь выполнить.
4
«Низкие истины», которые излагает Кончаловский, иногда отодвигают на слишком далекий план тот безусловный факт, что во вгиковские годы (1959–1965) протекало бурное мировоззренческое взросление автора мемуаров как художника и, если хотите, как гражданина.
Судя по тому, как активно на рубеже 1990-2000-х годов Кончаловский обсуждает и в прессе, и на телевидении волнующую его и заявленную еще в начале 1990-х Александром Солженицыным тему «Как нам обустроить Россию», можно думать, что прошедшие с момента его кинематографического дебюта годы были и временем формирования оригинальной культурологической концепции, связанной с будущим его родины.
Особое воздействие на мировоззрение молодого Кончаловского оказали в ту далекую пору и труды его двоюродного деда Дмитрия Петровича Кончаловского, которые он открыл для себя в 1964 году. Дмитрий Петрович, по словам Кончаловского, перевернул всю его жизнь.
Дмитрий Петрович Кончаловский родился он в 1878 году в Харькове. В 1902-м окончил историко-философский факультет Московского университета. Читал курс римской истории в разных учебных заведениях. В 1914–1917 годах оказался на фронте. В 1918-1921-м продолжал преподавание, от которого вскоре должен был отказаться из-за немарксистских убеждений. Занимался переводами и неофициальной научной деятельностью. С 1929 по 1941 год преподавал в ряде московских вузов немецкий, а затем латинский языки. Осенью 1934-го читал курс древней истории в ИФЛИ. Но вскоре его отстранили от лекций…
Андрей рассказывает, что еще в 1939 году двоюродный его дед прогнозировал неизбежность войны. А потом появился в семье в июне 1941 года и заявил, что днями войдут немцы. Вскоре он отправится в Минск, чтобы там их поджидать. Ученый-антикоммунист надеялся, что именно немцы избавят Россию от большевиков…
«…Он действительно дождался немцев, встречал их хлебом-солью, немцы дали ему церковно-приходскую школу. Сын его, офицер действующей армии, узнав об этом, бросился под танк с гранатами. Иллюзии моего двоюродного деда очень скоро развеялись. Увидев, как кого-то за волосы тащат в гестапо, он побежал с криком: «Что вы делаете! Вы нация Шопенгауэра, Ницше и Шпенглера!» Его посадили. Всю жизнь он боялся ГУЛАГа, а оказался в концлагере освободителей от коммунизма. Там он написал свою великую книгу…»
Скончался Д.П. Кончаловский в июне 1952 года в Париже.
Та «великая книга», о которой говорит внучатный племянник Дмитрия Петровича, получила название «Пути России. Размышления о русском народе, большевизме и современной цивилизации».
«Знаем ли мы самих себя? Возможно ли знать Россию и русский народ?» – вопросы, тревожившие ученого во время работы над этим трудом. Словно по наследству, они проникли и в сознание Андрея, особенно волнуя его на рубеже XX–XXI веков.
И вот некоторые фрагменты из многолетнего мировоззренческого диалога внука и деда.
Д.П. Кончаловский. Зарождение большевизма в России – расплата за отклонения от западного пути исторического становления. Особую роль в становлении и утверждении этого «мирового зла» сыграла русская интеллигенция. Большевизм держался на исконной русской общинной психологии.
А. Кончаловский. Русская история не создала потребность в индивидуальной свободе. Свобода для русского человека – прежде всего свобода от государства и воля, то есть стихия. Такова суть русской крестьянской философии.
В России западные ценности, провозглашенные просветителями, были освоены только интеллигенцией, представляющей сугубо русское явление.
Народ в России находился в длительном рабстве и никаких особых неудобств от этого не испытывал. Беда России в противостоянии интеллигенции, освоившей западные идеи, и народа, которому эти идеи непонятны и неинтересны.
Д.П. Кончаловский. Большевизм кончил созданием тоталитарного государства, превратив как общество, так и личность в государственные функции. Страна вернулась в XVII век.
Исторические корни идеологии большевистского социализма восходят к петровским временам, когда и появились ростки будущей интеллигенции. Одновременно с европеизацией высших классов закабалялось крестьянство, судьбу которого разделили торговое сословие и духовенство. Православие и церковь остались уголком дореформенной Руси. Лишь в XIX и начале XX века русское православие начало заявлять о себе. И это начавшееся развитие было прервано 1917 годом.
А. Кончаловский. Фундамент любой культуры, в том числе и отечественной, – религия. Нации, исповедующие православие, идут к демократии с большими потерями, чем нации, исповедующие буддизм или протестантизм. По эмоциональному складу русские ближе мусульманам, чем, к примеру, эстонцам. В православии человек – раб Божий. Рабство избавляет от ответственности, прежде всего перед самим собой. В католичестве и протестантизме чувство ответственности индивида несравненно выше.
Русское рабство неотделимо от православия, как и рабство мусульманское – от ислама. В России на рубеже XX–XXI веков государство и церковь «сомкнулись в объятиях». Любая революция и в мусульманской стране, и в православной России оборачивается диктатурой.
Д. П. Кончаловский. В развитии общественной мысли в России существенны три взаимодействующих фактора: западноевропейские теории, российская действительность и национальный характер носителей идей. Путь развития страны на рубеже XIX–XX веков виделся таким: через капитализм и господство буржуазии – к социализму и господству рабоче-крестьянской массы. Но этот взгляд никогда не соответствовал действительности.
Во-первых, в России никогда не было буржуазии, способной взять в свои руки политическую власть.
Во-вторых, русское дворянство не было господствующим классом, в силу подчинения государству и царю.
В-третьих, Россия как государство держалось царизмом. Страной управляет не закон, а царская воля.
В-четвертых, русское крестьянство не было революционным. Оно главная опора царизма. Но в крестьянах жило упорное сознание, что земля должна принадлежать им. Свое чувство отчужденности и враждебности крестьянство перенесло на все вышестоящие социальные группы, носившие на себе печать европейской культуры.
В-пятых, не был революционным и рабочий класс. Он сохранял прочную связь с деревней, с крестьянской психологией.
В России образовалось два полюса: правительство, стоявшее на традиционной основе и охранявшее существующий порядок, и интеллигенция, воплощавшая передовую европейскую мысль. В качестве фона – косные и пассивные общество и народ.
С течением времени, чем более разночинный характер принимала интеллигенция, вбирая в себя полуобразованные элементы средних и низших слоев населения, тем распространеннее в ней становились крайние теории. В этом заключалось своеобразие русского культурного развития, сделавшего русскую революцию столь непохожей на классический европейский прототип – французскую революцию 1789 года.
После публикации нашумевшей статьи бывшего главы нефтяной компании «Юкос» М. Ходорковского «Кризис либерализма в России» Андрей откликнулся на нее «Катехизисом реакционера». В 2007 году появится публицистическая книга «На трибуне реакционера», объединившая размышления двух авторов: Кончаловского и политолога В. Пастухова.
И вот первый абзац из обращения авторов к читателю: «Не забыто еще время, когда мир делился на «прогрессивное человечество» и «реакционные круги Запада». Но все изменилось. Сегодня прогрессивное человечество больше никого не интересует. Сегодня мир поделился на свободомыслящих либералов, желающих освободить все человечество, и тех, кто не разделяет либерального оптимизма и нетерпения. Эта тенденция коснулась России. В наше время в России всякий, кто не либерал, тот реакционер. Мы – не либералы, значит, мы – реакционеры…»
Так определится умышленно заостренная оппозиционность режиссера современной ему либеральной мысли в стране. «Реакционер» Кончаловский заявит, что либерально-демократические ценности – это иллюзия, оплаченная в XX веке кровью. Западная интеллектуальная элита, породившая эти идеи и прочно укоренившая их в своем сознании, связывает с ними понятие прогресса и цивилизации. Но эти идеи отвергаются восточными культурами (конфуцианской, мусульманской, индуистской) да и многими мыслящими людьми на Западе, считающими, что идеи эти себя не оправдали.
Сам Кончаловский глубоко сомневается в актуальности этих ценностей для России и относит их к либеральным заблуждениям, висящим гирями на ногах человечества.
В России следует попытаться понять систему ценностей русского человека и перестать равняться на либеральную философию Запада. Полезнее положиться на свою философию, отвечающую духу и ментальности народа, его истории, быту, реалиям жизни.
Эту философию Андрей Кончаловский называет РЕАЛЬНЫМ КОНСЕРВАТИЗМОМ.
Д.П. Кончаловский. Интеллигенция в России – самое неопределенное социальное образование. Она не имеет внутри себя ни экономических, ни правовых, ни профессиональных связей. Объединяющее начало – не только определенная умственная настроенность, но и известный психический склад. Ее представители недостаточно образованны, но при этом критически настроены. Цель не в практической деятельности, а в обсуждении теоретических вопросов – в первую очередь общественно-политических отношений.
Большевики, захватив власть, стали в оппозицию демократической прогрессивной интеллигенции, которую Ленин называл «буржуазной». В оппозиции к большевикам находилась интеллигенция, понимаемая как «образованный класс», как группа специалистов, относящаяся в большинстве к буржуазии.
Сталин отождествлял принадлежность к интеллигенции с обладанием знаниями, в особенности техническими, и ограничивал деятельность этих людей практическими, утилитарными задачами управления страной, хозяйством, в особенности строительством социализма. Эта новая интеллигенция изготовляется правительством.
Советская интеллигенция отождествляется с бюрократическим аппаратом, состоит на содержании у государства и получает от него поощрения и награды совершенно так же, как это раньше было с чиновниками. Эта социальная группа становится средостением между народом и правительством, являясь орудием последнего и проводником его политики в стране. Народ инстинктивно чувствует это, и в нем постепенно возрастает ненависть к новому привилегированному классу.
Эти и другие взгляды Д.П. Кончаловского, претерпев некоторые превращения, нашли отражение в том числе и в творчестве его потомка. Их влияние ощущалось уже в первой большой картине Андрея.
5
Вначале диплом задумывался другим. И сценарий для него, напомню, рождался в соавторстве с Геннадием Шпаликовым.
«Сценарий, – вспоминает Андрей, – состоял из моментов счастья очень разных характеров. С момента счастья начать фильм очень трудно. Это возможно в музыке. Так начинается Первый концерт Чайковского – сразу счастье. В кино это сложнее. Получается не счастье, а информация о счастье».
Поскольку музыка всегда вызывала у Кончаловского «активное желание делать кино», он хотел и в кадрах «Счастья» «найти адекватность звуковому ряду». Сценарий получался интересным, но «прочной драматургической связи не имел, распадался на отдельные эпизоды, отдельные новеллы. Сквозной в сценарии была только его чувственная линия».
Фильм не состоялся. А тут подоспел сценарий Бориса Добродеева по повести Чингиза Айтматова «Первый учитель». Но не сценарий, а оригинал пробудил в воображении режиссера нечто в духе Куросавы, наподобие «самурайской драмы» с азиатскими лицами, страстью, ненавистью-борьбой…
«Сценарий я сначала переписал сам, потом позвал Фридриха Горенштейна, заплатил ему, и он привнес в будущий фильм раскаленный воздух ярости…»
Повесть Айтматова далека от того, что происходит в фильме Кончаловского. «Во многом, – признается режиссер, – сценарий был антиподом повести». Тем не менее Айтматов сценарий принял. Он ему даже понравился, и фильм запустили в производство.
Кончаловским был резко изменен взгляд на героя – как с точки зрения авторской, так и со стороны других персонажей. Изменился и сам герой – Дюйшен, «первый учитель».
Книга вольно или невольно идеализировала героя. Именно он посадит вместе с Алтынай два тополька в аиле как символ растущего нового мира.
Иной Дюйшен и не мог появиться в повести, поскольку здесь он посланец иного Ленина, чем тот, который в фильме требовательно, в упор смотрит со стенки душной конюшни на детей и на их косноязычного учителя. У Айтматова Ленин – традиционно «самый человечный человек». И его портрет рифмуется с образом самого учителя и вместе с ним становится воплощенной мечтой о добром мессии, который поведет всех униженных и оскорбленных в царство небесное.
Такой учитель не вызовет к себе и коллективную неприязнь аила, вылившуюся в фильме в жажду скорой расправы после гибели его маленького ученика, спасавшего школу от пожара. Нет у Дюйшена повести такого количества врагов. И нет там страшного жертвоприношения неведомому будущему!
Герой у Кончаловского другой и аил другой: камни и глина. Ни одного деревца, кроме тополя Картанбая, который возвышается здесь испокон века. Он тотем, едва ли не священный прародитель племени.
Режиссер ожесточает и ужесточает мир своего фильма, в сравнении с повестью. Героя делает некрасивым, тщедушным, страдающим комплексом своей нищей некрасивости, невежественности и неумелости. Кажется, его изнуренное тело поддерживает только жертвенный огонь ленинской идеи, тело это на самом деле и сжигающий.
Зачем же понадобилось Кончаловскому так жестко переставлять акценты? Неужели только влияние Куросавы и его «Семи самураев»?
6
«Первый учитель» (1962) – одно из ранних созданий прозы Айтматова. Оно хранит наивный оттепельный лиризм, который тем и привлекателен, что срок его существования недолог. Режиссер вольно или невольно предугадал перемену участи этого лиризма в первой своей экранизации.
Кончаловскому всегда было важно почувствовать в произведении мир его создателя, на который можно было бы проецировать и другие художественные миры. Так, в фильме «Первый учитель» на мир Айтматова наложился не только мир Куросавы, но и Павла Васильева с его «Песнями киргиз-казахов» и поэмой «Соляной бунт», которые открыли Кончаловскому Казахстан и Киргизию.
Яркая фольклорная колористичность отличает поэму «Соляной бунт» (1932–1933). Очевидна в нем и общая для того времени тяга к масштабам древних космогоний, впервые после революции проступившая в поэме Александра Блока «Двенадцать». Космическая борьба белого и черного с пронизывающим эти стихии огнем видна в поэтическом строе фильма «Первый учитель».
Внешне равнодушная демонстрация крови, страданий в поэзии Васильева объясняется уверенностью в том, что, по логике космогонии, это последние жертвы накануне окончательного преображения мира. Для большинства «сирых и босых» и «трижды сирых и босых», еще совсем недавно слепо уничтожавших друг друга, наступает желанный рай, завоеванный и омытый кровью революции.
Большой поэт Павел Васильев сродни Дюйшену, бывшему нищему пастуху, теперь комсомольцу, призванному революцией и Лениным учить детей в забытом Богом аиле. Для Дюйшена бай – всегда враг. А жители аила неизбежно должны переродиться или… погибнуть в огне преобразований. Притупленность чувств героя, вызванную масштабами его задач, режиссер переносит в свой художественный мир из мира Васильева вместе с космическими бесчувствием и жестокостью революции.
Совместный со Шпаликовым сценарий «Счастье» был отодвинут, как и лиризм айтматовской повести, закономерно. Время оттепельных влюбленностей и лирической расслабленности сюжетов проходило. Подспудно вызревал трезвый взгляд на отечественную историю, состоящую из революций и войн, на народ и его лидеров, на романтических «комиссаров в пыльных шлемах». В конце концов открывался действительный трагизм места и роли человека в мироздании. У Кончаловского эта трезвость обрела зрелую недвусмысленность на фоне кинематографа оттепели. Именно у него впервые декорация приподнятого героизма революции, «возвышающего обмана» оттепельных лет на глазах современников опадала.
Уже тогда обозначилась тяга Кончаловского к эпико-трагедийному сюжету. Сам он утверждает, что выбрал как раз жанр трагедии для киргизского материала. А от Куросавы воспринял, с одной стороны, своеобразную театральность, очень условную, в манере старо-японского театра «Но», а с другой – эпичность мифа, когда в художественный мир фильма проникают стихийные силы природы, элементы мира – вода, огонь, земля и т. д.
Дюйшен приходит в мир «остановившегося времени», чтобы задать ему направление и смысл, пока еще очень туманные в стихийном сознании неофита-ленинца. Формирование его личности только-только начинается. Но он с энергией новопосвященного готов отринуть традиции, которым сам недавно следовал. Поскольку зрелой мудрости ему недостает, главным инструментом преобразований становится революционный огонь.
Самоубийственны деяния Дюйшена и потому, что любовь его к юной Алтынай, любовь и сострадание к детям, выросшим и замурованным в этом каменном мешке, – все подавляется фанатизмом недоросля-большевика.
Раскаленный, жестокий мир фильма требовал твердой этической позиции автора. И эта позиция недвусмысленно заявлена в финале. Дюйшен хватается за топор, чтобы рубить священный тополь. На костях порушенной традиции он намеревается возвести новую жизнь, новую школу взамен сожженной. Герой готов к смертельной схватке с теми, для кого старается. Мгновение отделяет его от гибели. И здесь, напомню, его спасает старый Картанбай.
Происходит то же, что и в финале «Расемона» Куросавы. Бездомные, разуверившиеся в ценностях жизни люди, скрывающиеся от буйства стихий под воротами Расемон, находят брошенного кем-то ребенка. Кто-то из них срывает с младенца последнее, чтобы спастись от холода самому. А нищий крестьянин берет дитя и уносит в свою семью, где и без того не счесть детских ртов.
Для Кончаловского, как и для Куросавы, безусловность этической опоры очевидна. Никакая идея: ни политическая, ни религиозная – не может перевесить ценности одной человеческой жизни, совершенно конкретной, рядом явившейся.
7
«Первый учитель» вместе с некоторыми фильмами других наших режиссеров (например, «Зной» Л. Шепитько) стал, по существу, открытием не только нового киргизского, но и нового среднеазиатского кинематографа. По сценариям Кончаловского были поставлены лучшие фильмы казаха Шакена Айманова, киргиза Толомуша Океева, таджика (по отцу) Али Хамраева.
Особое влияние Кончаловский оказал на выдающегося режиссера узбекского кино Али Хамраева, который учился во ВГИКе в то же время, что и Кончаловский, но в мастерской Г. Рошаля. Выразительно и сильно эхо «Первого учителя» отозвалось в историко-революционной трилогии Хамраева «Чрезвычайный комиссар» (1970) – «Без страха» (1972) – «Седьмая пуля» (1973, один из авторов сценария – Кончаловский). Содержание трилогии– борьба неофитов революции с вековыми традиционными укладами жизни народов Средней Азии. Хамраев, вслед за Кончаловским, осваивает «экзотический» материал как катастрофический итог революционных превращений в социально-психологическом укладе этого региона. Существенно для сюжета каждой из картин то, что жертвами революционного насилия становятся невинные существа: дети, женщины, старики.
Нравственный пафос «Первого учителя», впитавшего этику Платонова и Куросавы, заявляет о себе во весь голос в фильме Хамраева «Без страха».
Историческая основа произведения – освобождение женщины Востока от религиозных предрассудков, в частности от ношения паранджи. К финалу фильма намечается крупное мероприятие: коллективное сожжение этой части национального женского костюма в честь проходящего здесь автопробега. Мероприятие завершается кровавой бойней. Вновь гибнут невинные. Но гибнет и инициатор акции – представитель центра Усубалиев, роль которого здесь исполняет Болот Бейшеналиев. И тогда, когда все-таки начинает пылать костер с брошенными в него паранджами («Огня! Огня!» – вопит смертельно раненный Усубалиев), когда вокруг ложатся тела и «наших», и «не наших», к скончавшемуся фанатику подходит старуха, снимает с себя злосчастную черную сетку и укладывает под голову погибшего. Так в фильме А. Хамраева откликается милосердный жест Картанбая. Поверх всех идеологий, поверх идейной борьбы, просто потому что жалко несчастного «огненосца». Милосердный жест прощения…
В комментарии к своей экранизации Айтматова Кончаловский писал в 1965 году: «Основная проблема, которую мы старались исследовать, – проблема «герой и народ», исследование тех противоречий, которые возникают в народе в результате ломки старого, веками отстоявшегося мировоззрения, создания новых понятий, новых идеалов. Нам хотелось, чтобы в образе сконцентрировались все противоречия начинающих революционеров. Страстная убежденность подчас перерастает у Дюйшена в фанатизм. Неграмотность и неопытность подчас толкают его на неправильные, иногда даже жестокие поступки, желание как можно скорее достигнуть цели – к использованию неоправданных средств. Поэтому при всей чистоте помыслов Дюйшена исторически объективное добро порой субъективно выглядит злом».
Сегодня из уст режиссера могло бы прозвучать и уточнение: Дюйшен берется за исторически бесперспективное дело, предпосылки которого еще не вызрели, а потому и жертвы этого дела невозвратимо катастрофичны.
8
В реальности второй половины оттепельных 1960-х что-то неуловимо, но неотвратимо изменялось… Объединяющая всех в единое целое вдохновенная цель – прекрасное светлое будущее – незаметно выветрилась. Маячило все более очевидно запертое, в никуда не ведущее вечное «сегодня» – то, что гораздо позднее стали называть «застоем».
«Наличная реальность», неуклонно снижавшая температуру, могла быть поверена и оправдана лишь одним: прямым и непосредственным творением Истории в виде непосредственных же катаклизмов, и прежде всего воплощенных в стихии огня, которая, как полагает историк кино Е. Марголит, пробивается в некоторых картинах оттепели. И Кончаловский, как художник «поразительной гармонии интуиции и свирепо независимого ума», чуть ли не единственный в эту эпоху смог вполне осознать тенденцию.
В итоге такого осознания и явился «Первый учитель» как первый фильм, открывший принципиально новый взгляд на традиционный историко-революционный материал.
Антитезой «раскаленной реальности» в первых же кадрах фильма стал монтаж мучительно длинных и статичных пейзажных планов, призванных создать образ остановившегося времени.
Эта впаянность в извечный природный цикл грозит растворить в себе человеческую индивидуальность, подчинить безличной жестокой природе. В фильме, кроме того, отмечает Марголит, пресловутый «жизненный поток» обретает вполне конкретное, почти тотемическое воплощение в виде речного потока. Герой является в этот мир в роли своеобразного культурного героя мифов. И в этом качестве он несет в мир камня, глины и воды противостоящий им огонь. Он не просто дарит людям огонь – он им его навязывает силой. Посредством огня Дюйшен прежде всего меняет мир, и огонь тем самым оказывается символом революционного насилия как способа преобразования жизни, внесения в нее индивидуального личностного смысла. Но вот что важно: именно огонь пожирает помещение, в котором устраивает Первый учитель свою первую школу для первоучеников. Школа гибнет в огне, который Дюйшен принес с собой. А на ее месте должна возникнуть новая школа как новая (вместо Тополя!) святыня, но уже коммунистических времен.
Повествование обретает явственно надбытовой характер, черты мистерийного действа. На экране возникает образ времени первопредков как начала времен.
Огню Ленина-Дюйшена в фильме противостоит не только неподвижная панорама окружающих аил гор, но и образ водной стихии. И это не только своенравный горный поток, который приходится круглый год преодолевать учителю вместе с учениками. Он борется с водой и когда сооружает каменную переправу через реку, уже покрывшуюся у берегов ледяной коркой. Как раз в это время появляется первый намек на эротическое сближение Дюйшена и Алтынай – в момент сражения с потоком. Вода сопротивляется Дюйшену-революционеру, будто провоцируя его подчиниться природе – стать мужчиной, мужем и отцом, носителем семени, которое испокон веку символизируют небесные воды.
Вспомним омовение поруганной Алтынай в том же потоке после насилия, совершенного над ней баем. Вот натуральное возрождение-очищение девушки! Водные стихии неба и земли отвергают насилие и как бы замещают ее настоящего суженого – Дюйшена.
Из этих вод Алтынай выходит обновленной для брака именно с ним. Другое дело, что сам суженый не готов к супружеству в огне классовых битв. Дюйшен жертвует ролью мужа и отца ради исполнения миражных ленинских заветов, передавая Алтынай на воспитание безликому Государству.
Трагизм образа Дюйшена в том, что становление его личностного самосознания связано с неизбежными жертвами. Он порывает с традиционным миром, расширяя пространство своего существования. Но он несет этот мир в себе, во всей своей тщедушной фигуре. Огонь идеи, зажженный в нем, ведь это в первоистоке тот огонь, который иссушает и его землю, каменистую, скудную, постоянно требующую влаги. Влаги, но не огня! Однако Дюйшен, как строитель «нового мира», должен покончить со «старым» одним ударом – груз этого поступка (или преступления?) давит его, обезвоживает его тело, превращая его в воплощенный «сухой» дух, в «обезвоженную» идею.
9
В шестидесятых и Кончаловским, и Тарковским владела магия ФАКТУРЫ.
«Нам казалось, что мы знаем, как делать настоящее кино. Главная правда в фактуре, чтобы было видно, что все подлинное – камень, песок, пот, трещины в стене. Не должно быть грима, штукатурки, скрывающей живую фактуру кожи. Костюмы должны быть неглаженные, нестиранные. Мы не признавали голливудскую или, что было для нас то же, сталинскую эстетику…»
Андрей и сегодня убежден в том, что чиновники от
кино отвергли «Андрея Рублева» как раз из-за пресловутой фактуры. Фактура повлияла и на начальническую оценку его собственной «Аси Клячиной», как, впрочем, и «Первого учителя».
Проникновение фактуры в кадр было равнозначно проникновению самой движущейся материи как жизненной энергии, независимо от режиссера формирующей образ.
Не зря Кончаловский с максимальным вниманием относился к работе фотографа на картине. «Застывшие, остановленные мгновенья актерской игры помогают понять, верным ли ты шел путем. Фотография, зрительный образ дает толчок режиссерской фантазии, помогает придумать, найти мир фильма».
Уже во время работы над первой картиной ему попались на глаза несколько снимков, которые стали ключевыми для решения ее образного строя. Один из них, снятый на Тибете каким-то французским журналистом, изображал две маленькие фигурки яков на фоне горного перевала. Причем снимок был сделан с высокой точки, отчего в кадр вошла и седловина перевала и огромная скала, а из-за длиннофокусного объектива возникли необычные, почти фантастические пропорции соотношения этих яков и сидящих на их спинах человеческих фигур с окружающим миром. Длиннофокусная оптика давала ощущение единства живого существа с гигантской глыбой камня, со всем бесконечным миром – единства, но в то же время и несоизмеримости. А именно этого Кончаловскому и хотелось добиться в «Первом учителе».
Были и другие снимки, будоражившие режиссерское воображение Андрея. Например, длинный-длинный коридор с какими-то анфиладами, и в этом коридоре виднелась чья-то рука. Только рука, сам человек не был виден, его можно было довообразить, представить, как он стоит рядом, о чем-то говорит, размахивая рукой.
«Такого рода фотографии вызывают наше чувство показом не человека, но мира, где человек обитает, где остались следы его присутствия. Мы видим как бы не прямой луч, а его отражение – отражение человека в вещественном мире. И это отражение может оказываться подчас сильнее луча, обретать особую глубину, настроение. Оно обращается к нашему воображению, мы сами насыщаем этот неодушевленный мир нашим чувством, эмоциональным смыслом».
Приверженность фактуре поспособствовала и возникновению знаменитой формулы кинообраза у Тарковского: время, запечатленное в форме наблюдаемого художником факта.
Но, питаясь одним источником – идеей воспроизведения на экране неорганизованного потока жизни, художники пошли далее разными дорогами творчества. Если для Тарковского в киноизображении приоритетным было КАК, то есть ЯЗЫК, ФОРМА, то для Кончаловского – ЧТО, то есть СОДЕРЖАНИЕ. Отсюда чувственная музыкальность композиции у второго и умозрительная архитектурность у первого.
У Кончаловского фактура примирялась, как ни парадоксально, с тем, что он называет «возбуждающей красотой театральности» и что всегда творчески вдохновляло его.
Во взаимодействии фактуры и театральности складывался уникальный творческий метод режиссера.
Поделюсь некоторыми мыслями на эту тему.
Один из главных знаков театральной условности – декорация как оппозиция натуре, или тому, что можно назвать и фактурой.
В то же время декорация – своеобразная возгонка реальности до уровня символико-метафорических обобщений. Превращение мира, внешнего по отношению к художнику, в мир его представлений и образов. Декорация особенно ощутима в кино, поскольку оно способно непосредственно документировать живую жизнь. Здесь она кажется чем-то противоестественным. Но крупные художники (Куросава, Феллини), в том числе и Кончаловский, охотно прибегают к декорации, активно вводя ее в свой художественный мир, создавая конфликтное противостояние «декорация-натура» внутри киноизображения.
Кинематограф занят мучительным очеловечением натуры – природного движения. Режиссер творчески превращает это движение в жизненный дух киноизображения. Оно-то и формирует изначальное единство киноизображения. А уже затем человек (зритель) выделяет в нем собственно природное (например, трепет листьев на ветру) и социальное (поезд, идущий по рельсам) движение. И не только выделяет эти формы движения, но и конфликтно сталкивает их в своем восприятии. Так и возникает зародыш киносюжета – непреходящий конфликт социума и природы, декорации и натуры в зрительном образе.
Социальное в киноизображении предстает как форма человеческого существования, относительно организованная и завершенная в сравнении с природным движением. Жизнь человека в киносюжете ограничивается, замыкается конкретным социумом как декорацией. Но сквозь завершенную форму социальной жизни прорывается объективная жизнь природы, естественная жизнедеятельность человека как его натура. Натура пытается взять свое. Но тут же ограничивается, смиряется новой декорацией.
Натура и декорация – два противоборствующих начала в конфликтном единстве киноизображения, на что и опирается всякий киносюжет. Это, я думаю, закон. Им активно пользуется Кончаловский, всматривающийся в движение природы, но вдохновленный «красотой театральности».
Конфликт декорации и натуры хорошо ощущается в «Ближнем круге». Мир, увиденный глазами Ивана Саньшина, – декорация, включая и фигуры обожаемых им вождей. А что же натура? Ребенок. Потому что в нем пульсирует не задекорированное (не подавленное) социумом естество природы.
Режиссер последователен в разоблачении ложного социума как декорации. Доказательство – фильм «Глянец» (2007). Соблазненная глянцевой оболочкой рекламы определенного свойства изданий, девушка из народа пытается завоевать этот искусственный мир, но утрачивает так свою живую суть, свою натуру.
Изобразительно режиссер организует пространство глянцевого мира как открытую декорацию. Это пространство – некий мираж. Аляповатый, в деталях неразличимый, готовый вот-вот испариться интерьер. Независимо от того, где происходит в каждом случае действие, само место действия лишено индивидуальности, конкретности. Это цельная плоская декорация, но и какой-то призрачный лабиринт, бесовски мерцающий мир, балансирующий на грани странных потусторонних превращений, готовый каждую минуту обернуться адом российской провинции. Фильм «Глянец» очень скуп не только на кадры живой природы, но и вообще на любое проявление живой человеческой натуры. Здесь декорация одерживает, кажется, страшную победу над человеком. Как это происходило, может быть еще более выразительно, в «Дяде Ване» (1971).
«Первый учитель» давался физически тяжко. Во время съемок режиссер заболел дизентерией, работал с сорокаградусной температурой. Приезжал отец, растрогавший сына своей неподдельной заботой.
Готовясь к картине, режиссер много ездил по Киргизии в надежде почувствовать ее фактуру, ее дух, ее натуру. Слушал старых акынов, спал в юртах, пил кумыс с водкой. Однажды обронил в беседе с секретарем ЦК Усубалиевым, что хочет снять «настоящую киргизскую картину». А в ответ услышал холодное и строгое: «Вы должны снять настоящую советскую картину».
«Ну, конечно, я напозволял себе того, что в советском кино тех лет категорически не разрешалось. Обнаженная Алтынай под дождем входила в воду. И это – в мусульманской стране, где женщине и лица не положено открывать… По установленному порядку картины, сделанные в республиках, сначала принимало местное правительство, после чего их посылали в Москву. Киргизские партийные власти картину не приняли. Как только она была закончена, ее с грохотом положили «на полку»… я отказался от любых поправок…»
За фильм вступился Айтматов, обратившийся к Суслову, который уже получил письмо об «идейно порочной картине, показывающей киргизов диким, нецивилизованным народом». Суслов, по словам Кончаловского, сказал Айтматову: «Мы вас в обиду не дадим. Если ЦК Киргизии думает, что киргизы не были дикими, то, выходит, и революцию не надо было делать?»
Картину разрешили. А затем она отправилась на Венецианский фестиваль. Здесь исполнительница главной женской роли Наталья Аринбасарова получила «Кубок Вольпи».
Глава вторая «Стык миров»: конфликт натуры и декорации
Меня интересовало только одно – создать ощущение жизни и зафиксировать его на пленке.
А. КончаловскийНадоела грязь… Очень захотелось снять что-то красивое…
А. Кончаловский1
Вторая половина 1960-х. Оттепель торопится к закату. Ощущение финала эпохи – ив «Рублеве», и в «Первом учителе», и, конечно, в «Асе».
Примерно в эти же годы, на излете оттепели, в отечественном кинематографе возникла «первая и единственная», по словам Кончаловского, попытка реформ– Экспериментальное творческое объединение при «Мосфильме» (1965–1975). Художественным руководителем его был Григорий Чухрай, уже снявший к тому времени лучшие свои ленты, завоевавшие мировое признание. Объединение опиралось на новые экономические принципы в духе югославских реформ. Предусматривался хозрасчет, а не государственные дотации. Для работы, в числе других известных режиссеров, был приглашен
и Кончаловский. Он и Горенштейн успели написать для объединения сценарий «Басмачи», который сам режиссер собирался и ставить с участием Николая Губенко и Болота Бейшеналиева. Постановка не состоялась. Позднее сценарий был переделан в «Седьмую пулю для Хайруллы». Взамен же «Басмачей» взялись тогда за другой сценарий, со временем превратившийся в фильм «Белое солнце пустыни». Но работу над ним оставил сам Андрей, соблазнившись прелестями коктебельского отдыха.
Андрею Коктебель всегда казался сказочным. «Я вообще сидел там каждое лето, – вспоминает он, – написал много сценариев – с Андреем Тарковским, с Фридрихом Горенштейном, с Эдуардом Тропининым. Жили в доме писателей, в уютных квартирках, по вечерам шли замечательные посиделки, застолья, хохот, улыбки, потом шептанья по клумбам и по кустам…»
К тому времени Кончаловский был уже достаточно опытным сценаристом. Кроме названных, можно вспомнить сценарий «Серый лютый» (по произведениям М. Ауэзова), превращенный в фильм «Лютый» Толомушем Океевым. Специально для Аринбасаровой написаны «Ташкент – город хлебный» (по А. Неверову), который поставил классик узбекского кино Шукрат Аббасов, и «Песнь о Маншук» (режиссер Мажит Бегалин). Все картины оставили заметный след в истории кино Средней Азии.
Кончаловского редко удовлетворяли чужие сценарии. «Конечно, хорошо бы найти сценариста, с которым можно было бы разделить профессиональные обязанности, – рассуждает режиссер, – он пишет, я снимаю. Завидую Абдрашитову, нашедшему себе драматурга-соавтора…» Ни в России, ни в Америке, ни во Франции найти соавтора, которому он мог бы дать идею и получить готовый результат, – признается режиссер, – не получалось. С удовлетворением он вспоминает работу с теперь уже покойным французом Жераром Брашем, с которым довелось сотрудничать, когда создавались сценарии, ставшие основой «Возлюбленных Марии» и «Стыдливых людей».
Во второй половине 1960-х пришло предложение из Англии написать сценарий по «Щелкунчику» для старейшего английского режиссера Энтони Асквита. К несчастью, Асквит скончался в феврале 1968 года – как раз тогда, когда шла подготовка к съемкам.
Лондонские впечатления, как помнит читатель, оставили глубокий след в сознании Кончаловского. Поразила прежде всего солидность, долгопрочность традиции. «Никто здесь не строил нового общества. Революция случилась триста лет назад, о ней вспоминают разве что на школьных уроках истории. Никто ничего не собирался рушить ни до основанья, ни вообще. Все прочно, надежно. Все следует естественному, заведенному от века порядку. Капитализм ничуть не казался обреченным скатиться в пропасть, стоял неколебимо и незыблемо. Такой, думал я, была бы Россия, если бы не революция…»
В Венецию Кончаловский отправится со съемок своего второго полнометражного фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Если до «Первого учителя» он чувствовал себя еще неуверенно в роли режиссера, то после международного признания картины пришло ощущение владения ремеслом. Но наступил 1967-й, и «Асю» положили «на полку».
2
Пройдет еще немного времени – Наташа и Андрей окажутся в известном учреждении, дожидаясь совершения процедуры развода. Жена попросит мужа честно сказать, изменял он ей или нет. «Нет!» – ответит тот. Но чутье не обманет молодую женщину. Девушка со скуластым лицом, вздернутым носом, раскосыми татарскими, совершенно голубыми глазами, с темно-русыми волосами, по имени Маша Мериль уже успела покорить воображение Андрея. Их знакомство состоится на Московском международном кинофестивале в том же богатом событиями
1967 году. «Когда я увидел ее, у меня внутри все остановилось, остановилось потому, что я был женат, у меня родился ребенок, очень дорогое мне существо…»
После отъезда очаровательной француженки между нею и Андреем наладилась романтическая переписка. Он признается, что именно Маша Мериль стала тем критерием, по которому окончательно оформился в его сознании образ идеальной супруги. Дворянка, княжна, женщина европейской культуры – вот чего жаждала отравленная мечтательным Парижем душа художника!
Много позднее, во время работы над парижской постановкой чеховской «Чайки», в которой Мериль должна была сыграть Аркадину, между режиссером и актрисой возникло странное напряжение. Вспышка ее раздражения, по рассказам Андрея, была слишком острой, злой и резкой. Но все объяснялось тем, что после первого любовного свидания с ним еще там, в Москве, Маша забеременела. Она пыталась сообщить ему об этом во время встреч в Праге. Многое говорила по-французски. А он, взволнованный встречей, по его словам, кивал, но не все понимал. Она казалась ему абсолютно недосягаемой. Молодая женщина ждала реакции. Не дождалась. Подумала, что ребенок ему не нужен. И вышла замуж.
Волнующие встречи с Мериль в Чехословакии происходили как раз накануне Пражской весны. Вспоминая об этом времени, Кончаловский говорит, что в его отношениях к власти очень много изменил Николай Шишлин, которого знавшие его называли «самым нецековским цековцем» и с которым дружили и Кончаловский, и Тарковский. Шишлин работал в ЦК КПСС, в отделе Юрия Андропова, еще до того, как тот стал главой КГБ СССР.
«Коля и люди его поколения – Бовин, Арбатов, Черняев – сделали максимум возможного для того, чтобы к власти не вернулось сталинское крыло партии… Конечно же, это был либерально настроенный человек. Это поколение людей пыталось сделать экономическую реформу и перестройку – в 1968 году! Тогда это не получилось из-за Дубчека. Помню, как встречал на аэродроме Колю Шишлина, приехавшего из Чиерны-над-Тиссой. Он сказал: «Все, мы погибли! Все, что мы двадцать лет делали, пропало. Мы ползли в темноте к окопам неприятеля, а Дубчек, мудак, решил, что уже время. Вскочил и закричал: «Ура!» Они нас всех накрыли. Всех!»
Коля – один из тех, кто изменил мое мнение о системе. Я чувствовал, что система не монолитна. Внутри нее существуют достаточно позитивные и разумные элементы».
К серьезным размышлениям на эту тему Кончаловский вернется в 2000-е в своем документальном цикле «Бремя власти».
3
Второй полнометражный фильм Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1968) до сих пор, пожалуй, остается непревзойденным образцом НАТУРАльности, естественности в отечественном кинематографе. Если «Романс о влюбленных», например, на внешний взгляд казался абсолютным торжеством декорации, то «История Аси Клячиной», напротив, утверждалась в убедительной правде натуры. Подтверждение тому – и ее «страстной» путь к экрану, завершившийся фактическим запрещением картины. Фильм выглядит разоблачительным в своей естественности («фактуре»!) по отношению к тем декорациям лжи, которые порождала сама историческая реальность.
Премьера состоялась в конце декабря 1966 года на «Мосфильме», затем в маленьком зале, в Доме кино. По впечатлениям киноведа Ней Зоркой, «это было больше чем одна талантливая картина… Вслед за «Андреем Рублевым» утверждало себя, поднимало голову русское кино». Тем не менее фильм положили «на полку».
Как это искони водится в нашем отечестве, «мысль народная» совпала с точкой зрения начальства. Кинематографисты, по своей наивности, привезли готовую картину «на зрительскую и общественную апробацию» в Горьковскую область. Два обсуждения состоялись в районном центре Кстово и в Сормовском Дворце культуры. Для съемочной группы, ее болельщиков, это был шок. Картину не приняли. Фактически, не приняли ее герои. «Историю Аси Клячиной» сравнивали с «Кубанскими казаками» и уверяли, что вот там жизнь тружеников села показана замечательно. Возмущались тем, что колхозники все в полевом да в грязном; что много людей с физическими недостатками, инвалидов; что нет механизации и комсомольских собраний…
После этих просмотров картина куда-то исчезла.
«В 1969 году, – с печалью вспоминает Зоркая, – мне удалось выписать в Институт истории искусств фильм, отпечатанный в смехотворном количестве копий (одна? две? три?) под иронически звучащим названием «Асино счастье». Впечатление было такое: вещь, сшитую лучшим портным из прекрасного материала… изрезал какой-то сумасшедший и сшил как попало…»
Сценарий фильма, написанный Юрием Клепиковым (1964), носил название «Год спокойного солнца», родившееся спонтанно. Может быть, по той причине, что 1964-й был назван так астрофизиками. Печатный экземпляр режиссерского сценария был утвержден к запуску в производство за подписью председателя худсовета Третьего творческого объединения М. Ромма в 1966 году. Затем – выход на натуру. Весь фильм сняли за период сбора урожая. 21 декабря 1966 года помечено окончание производства, 30 декабря – акт о выпуске. Небольшие поправки, предложенные студией. Заключение Художественного совета творческого объединения «Товарищ» выглядело так: «В результате поразительного эффекта от сочетания профессиональных и непрофессиональных актеров, крупного и своеобразного таланта режиссера А. Михалкова-Кончаловского, пошедшего на эксперимент, высокого класса работы оператора Г. Рерберга и художника М. Ромадина… – получилась картина не просто хорошая и даже отличная. Родилось произведение принципиально новое в нашем кинематографе».
Госкино потребовало сокращений и монтажных поправок: в сцене «первого хлеба», сцене похорон деда, родов Аси, в финале картины. От 17 января 1968 года за подписью начальника Главка по производству художественных фильмов Ю. Егорова поступила короткая бумажка о том, что производственные поправки «не удовлетворили». Н. Зоркая констатирует, что «архивные документы не говорят правды о том, как и почему картина не только была полностью исключена из обращения, но запрещены были любые упоминания о ней. Запрещены по так называемому «телефонному праву».
Интересны впечатления Зоркой от премьеры картины, состоявшейся через двадцать один год после первых показов. В конце 1980-х фильм выглядит едва ли не идиллическим ретро на темы давно прошедшей сельской жизни. А его создатели? Кончаловский предстал, в глазах Ней Марковны, победителем. Он «пересилил фортуну, вписался в Голливуд, как ни трудно достается это русскому человеку… Он преуспел, в чем можно было и не сомневаться, имея в виду талант, ум и творческую культуру этого истинно «русского европейца». Но… ни один из последующих фильмов, снятых и на «Мосфильме», и в Америке, ни шумно известные, многажды премированные «Романс о влюбленных» и «Сибириада», ни даже задушевный, тончайший чеховский «Дядя Ваня», ни, конечно, голливудский цикл не достигли качества «Аси Клячиной».
Еще несколько штрихов к истории запрещения картины, почерпнутых уже из расследования В. И. Фомина «Полка» (М., 1992). Киновед полагает, что проблемы начались еще на стадии сценария. Во время обсуждения последнего в ГСРК 5 февраля 1965 года подвергся критике тон сценария – «тема неустроенности его героев». С точки зрения обсуждавших, отсутствовала «мысль о том, как благороден труд», показанный «однообразно, монотонно». Сценарий представлялся хоть и талантливым, но «путаным по философии», в которой «глубина постижения жизни не велика». Степана, например, называли «отталкивающим персонажем», не хотели «спокойно относиться к теме безотцовщины». Говорили, что «герои сценария не имеют выхода в большую жизнь» и т. п.
В. Фомин убежден, что решение о запуске картины искусственно оттягивалось, ибо уже в сценарии чувствовалась «опасность». Возник вопрос о смене названия… В конце концов сценарий под названием «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» был запущен в производство.
Посланная в экспедицию в качестве контролера опытный сотрудник ГСРК Э. Ошеверова очень высоко оценила деятельность группы. В частности, отмечалась «интересная работа режиссера А. Михалкова-Кончаловского с непрофессиональными актерами», «четкость режиссерского замысла, умение ввести актера в требуемые драматургией сценария состояния» и т. д. Отмечена была и «очень сложная и тонкая актерская работа» Ии Саввиной, исполнительницы главной женской роли. «Сложность этой работы объясняется не только остротой и психологической глубиной драматургического материала, но и тем, что актрисе приходится работать с партнерами-непрофессионалами…»
Особо отмечалось «содружество режиссера и оператора». «Они работают как бы в одном ключе, на одной волне, являются подлинными соавторами этого фильма».
Картина, получившая 1 марта 1967 года разрешительное удостоверение, исчезла, поскольку правда об отечественном крестьянине, читаем у Фомина, не могла удовлетворить ни партийные органы, ни органы ГБ, никого из советского чиновничьего аппарата. А в условиях советской жизни любое министерство и ведомство имело право вмешиваться в дела кинематографа.
«24 июня 1968 года «Мосфильм» представил изуродованный… вариант фильма, переименованный по указанию Комитета… Дальнейшая судьба картины покрыта мраком: нет документов, официально запрещающих ее, но и на экраны она не выходит. О ней не положено писать. Если не считать материалов, появившихся после завершения работы, – в книге «Парабола замысла» самого А. Михалкова-Кончаловского, усиленно обхаживаемого в ту пору комитетскими столоначальниками, возлагающими особые надежды на «Сибириаду».
4
Предложение поработать над сценарием «Год спокойного солнца» от студента Высших сценарных курсов Юрия Клепикова поступило Андрею Кончаловскому еще тогда, когда он готовился снимать «Первого учителя». Режиссера это удивило, поскольку к тому времени он, кроме короткометражки «Мальчик и голубь», еще ничего не снял. Но Клепиков сослался на сценарий об Андрее Рублеве, по которому он, оказывается, решил, что Кончаловскому будет интересно обратиться к его работе.
Коллега Клепикова, сценарист Наталья Рязанцева, которая помнит его со сценарных курсов, то есть как раз с лета 1964 года, рассказывает, что Юрий пришел на Высшие курсы сценаристов и режиссеров вместе со своим другом Марком Розовским, тоже, кстати говоря, сотрудничавшим с Кончаловским, но уже гораздо позднее. «Тогда про Юру все знали, что он написал замечательный сценарий «Год спокойного солнца». Как мы ему завидовали! Несмотря на то что сценарий был длинный, его взял Андрей Кончаловский…»
Взявшись за сценарий, режиссер сразу же отказался следовать за сложившимся к тому времени жанровым клише «колхозного фильма». Когда дело дошло до выбора актеров, Кончаловский обнаружил, что роли будто заранее расписаны – для Мордюковой, для Рыбникова. «Я понял, что если буду снимать профессионалов, не преодолев штампа примелькавшегося «киноколхоза», и мне снимать будет неинтересно, и зрителю – неинтересно смотреть».
Примечательную оценку соотношения сценария и фильма находим уже на излете нулевых – в связи с сорокалетием картины. «…Кончаловский ставил перед собой не задачу воплощения некоего духовного опыта, а профессиональную задачу моделирования аутентичности, того, о чем говорят «это про меня» или «так оно и было». Его не интересовала ни жизнь русской деревни, ни русская душа, ни по большому счету сама эта история про девушку, которая любила, да не вышла замуж. Главное – чтобы снята эта история была так, как будто бы она не придумана и разыграна, а утащена из жизни во всей полноте случайной фактуры и очарования непреднамеренных подробностей… Для Клепикова подлинность этой истории лежала в этической плоскости, для Кончаловского – в эстетической. На пересечении параллельных подходов к достоверности и появился этот поразительный фильм».
Примечательно, поскольку стойким эхом раздается из 1960-х недоверчиво удивленное: «Как этот благополучный сын высокопоставленного советского деятеля смог такое снять?»
Ответ, на мой взгляд, прост. Он – в уровне таланта и мировоззрения Кончаловского, бывшего до «Аси» соавтором «Андрея Рублева» и постановщиком «Первого учителя». Созрела в нем ко второй половине 1960-х и своя этика, отложившаяся и в «Первом учителе», и во многих эпизодах сценария о Рублеве, в том числе и не вошедших в фильм. Та самая этика, которая формировалась под влиянием писаний Дмитрия Кончаловского и которая уже в нулевые и на их пороге обрела вполне отчетливые как художественные, так и публицистические формы.
В первые десятилетия нового века он широко выступает как публицист, говорит об исторических судьбах России (все на ту же тему, что и в «Рублеве», и в «Асе»!), о возможных переменах в этих судьбах. Идеи серьезные и глубокие – а реакция традиционна. Тут же припоминают, из какой семьи – Михалков (!). Хорошо ему, «барину», живущему чаще за ее пределами, чем в самой стране, рассуждать на тему родных и любимых наших бед и язв…
«Барином» его если и можно назвать, то только в том смысле, в каком были «барами», скажем, его деды Петр Петрович Кончаловский или Владимир Александрович Михалков. В том смысле, в каком «барами» были Пушкин, Чаадаев, Тургенев, Толстой – кстати, тоже о судьбах России, о крестьянстве писали. Авангард отечественной классической (образцовой то есть) культуры! Он оттуда, чудом уцелевший среди недообразованных нас. Для него естественно воспринимать мир так, как Чаадаев, например, читая одновременно на трех языках, считая и заграницу пространством своим, обжитым и освоенным. Естественно для него в контексте своего нормального частного существования – иными словами, в контексте мировой культуры – осмыслять беды и язвы культуры родной.
Напомню, кстати, что режиссер на долгие годы связал себя с реальными жителями села Безводное Горьковской области. Сыграв соответствующие роли в «Асе», они еще не раз вернутся к нему, как и он к ним. Это случится уже в начале 1990-х – в фильме «Курочка Ряба». А затем – в середине 2000-х, в документальном телесериале «Культура – это судьба», поставленном по его замыслу. Там крестьяне Безводного выступят как выражение духовно-нравственного менталитета нации.
Для фильма Кончаловский набирает непрофессионалов. Причем идет за логикой их характеров, их этики – их натуры.
Так произошло, например, с Геннадием Егорычевым, сыгравшим роль безнадежно влюбленного в Асю Клячину Александра Чиркунова. Он был замечательно органичен и неповторим как личность. «Уже после утверждения на роль, – рассказывает режиссер, – я обнаружил у Гены на груди татуировки Ленина и Сталина и просто пришел в восторг – этого бы я никогда не придумал».
Татуировки были «отыграны» вначале в «Асе», где герой использует их в качестве иллюстрации к страницам отечественной истории, которую он по-своему излагает деревенскому мальчонке. Второй раз Чиркунов-Егорычев обнажит свою грудь уже в «Курочке Рябе», отрекаясь от былых вождей. Их портреты как иконы несут его односельчане, выступая на экспроприацию «кулака» Чиркунова. Портреты тех, чьи силуэты самой же отечественной историей врезаны в тело реального человека. Как тут не вспомнить строчки из Высоцкого: «Ближе к сердцу кололи мы профили, чтоб он слышал, как рвутся сердца»?!
Но настоящая правда заявила о себе не только с экрана. Она, спровоцированная фильмом, отозвалась, как я уже говорил, в солидарности героев картины, крестьян, с кинематографическим и государственно-партийным начальством, отвергшим естественность «Истории Аси Клячиной».
И в «Истории Аси Клячиной» эта амбивалентность народного взгляда находит свое отражение. Ведь фактически картина рассказывала про то, какой субъективно счастливой жизнью живут объективно несчастные люди, не желающие, как ни странно, ничего менять в своем убогом существовании, удовлетворенные им. При этом автор картины не чурается «субъективности» мировидения своих героев, а с любовью принимает ее, отчего в картине появляются мягкие интонации пасторали.
Особое доверие вызывают в фильме изустные автобиографические очерки бригадира Прохора, председателя колхоза, Деда, почерпнутые из реальной жизни. Бытовые подробности историй страшны, а манера их изложения, вполне сказовая, иногда спокойно-отстраненная даже, свидетельствует о том, что и такая жизнь принимается вполне.
Истории внешне не связаны с любовным треугольником Степан-Ася-Александр. Но по сути они органично умножают художественный мир фильма, делают его объективно многосмысленным. Все эти истории, в конце концов, о любви. Каждый из персонажей передает повесть о встрече с любимой женщиной, ставшей (или не ставшей) его супругой.
Их жизнь, обремененная нешуточными тяготами, взваленными на плечи этих людей историей, окрашивается их простой любовью, избавленной от кинематографического мелодраматизма и сентиментальности. В момент рассказов лица повествующих одухотворяются, прорываясь сквозь убожество существования. В просветленных этих ликах – оправдание их счастливой слепоты относительно действительного содержания советского образа жизни.
Так и весь съемочный коллектив переносился из унылого равновесия прозаически текущей жизни – в атмосферу праздника, в атмосферу творческого преодоления нищеты колхозного существования. В этом контексте, вероятно, и возникла у режиссера мысль о смеховом, в духе Феллини, развитии сюжета картины. Но задумку эту, как ему кажется, Кончаловский не смог воплотить вполне. Режиссер остался в убеждении, что ему не хватило мужества «сталкивать крайности», отчего «сюрреалистическая сказочка ушла, а документальный рассказ остался».
Но уже само то, что режиссер доверился естественности индивидуального самовыражения крестьянской (читай: народной) натуры, приблизило его к задуманному. Комедийное здесь балансирует на грани печального, а печальное оборачивается смехом. Документ готов обернуться гротесковой игрой, а игра обретает достоверность хроники.
Ию Саввину, например, исполняющую роль Аси, режиссер заставил жить в избе, которую потом и снимали. На стенах жилища висели фотографии, в углу – образ. Старухи, обитательницы избы, рассказывали актрисе, кто изображен на фото. Она запоминала и с первого дубля, без репетиций, воспроизвела. Так рождалась история семейства Клячиных, почерпнутая из реальной жизни. И в неповторимости самих этих судеб, отраженных на фото, проглядывала сюрреалистическая игра. В нее включилось и странно неправильное, но бередящее душу пение Чиркунова («Бьется в тесной печурке огонь…»), по смеховой провокационности равнозначимое татуированным образам Ленина и Сталина на его груди.
Такой же провокацией стал и танкодром. Войдя в звукоряд картины, он напоминал, что «наш бронепоезд» всегда «на запасном пути». Как будто вынырнувшая из 1930-х оборонная тема откликнулась под звуки Гимна и появлением воинов Советской армии в сцене родов Аси.
Феллиниевскую черту под сюжетом фильма подвел празднично-тревожный финал ленты, прозвучавший прощанием с эпохой неверной, шаткой оттепельной свободы.
Художественный мир картины, расположившийся на границе декорации и натуры, был открытием в кино тех лет. Но открытие не восприняла даже «экспертная» публика, увидевшая только разоблачительную стилизацию под документ. И повзрослевшая на два десятилетия та же «умная» публика все еще не может разглядеть плодотворной амбивалентности произведения.
Между тем историк кино Е. Марголит смог увидеть в картине по-настоящему счастливых людей. Мало того, он убежден, что Кончаловский разделял настроение своих героев, любовно с ними сотрудничая и за ними наблюдая. Душевную же приподнятость персонажей картины историк кино связывал с тем, что первое послевоенное десятилетие в нашей стране «прошло в постоянном ожидании праздника, веры в неизбежность его наступления как воздаяние за пережитое». На этой волне появились и «Кубанские казаки», этим настроением живут «простые люди» у Кончаловского. «Между миром и человеком в этой картине нет преград. Я не знаю другой ленты в нашем кино, – писал киновед, – где было бы достигнуто столь пронзительное ощущение общности, слияния всего со всем, всеобщего полета. Отсюда и отсутствие частной жизни. Есть жизнь общая – на миру. И миром. Им живы, то есть друг другом…»
Но эта цельность, общность эта – «натура уходящая», то есть уже миф. И уникальность режиссерского взгляда Кончаловского состоит в том, что он всегда снимает как раз «уходящую натуру». То, что уходит, он снимает в первую очередь и только через него то, что приходит. А отсюда и возникает этически пронзительное сочувственное переживание неизбежно уходящего времени как органической части твоего единственного и неповторимого бытия – каким бы ограниченным и слепым оно ни было. Это – по-чеховски.
Самому режиссеру казалось все же, что искушенный зритель увидел «реальную русскую жизнь, как она есть». «И это потрясало. Ибо жизнь эта была чистая и светлая и в то же время пронзала своей болью, своей нищетой, своей замороженностью. Ибо нельзя было в той, советской, России быть несчастным. Не разрешалось. Все были счастливы. А кровь текла… А стоны не стихали…»
От внутренней боли выбивается из общего праздника Ася у Кончаловского. Разрешенное счастье с кровью и стонами – вот что видит в глубине живущих «счастливым» общинным единством людей режиссер. И его видение проникает в образный строй картины, начиная с ее стартовых титров, развертывающихся на панораме ржаного поля.
…Женский голос окликает ребенка. Полное тревоги лицо актрисы Любови Соколовой. За кадром громыхают выстрелы. Танкодром. С самого начала возникает тема утерянного, забытого, брошенного ребенка. Тема сиротства. В начале фильма ребенка таки находят. Земля отдает его людям. Но тревога удерживается до самого финала ленты – до того праздника, от которого, подобно подранку, отделяется-убегает Ася, оставаясь одна. Ведь праздник этот – проводы. Праздник, утративший соборность, еще до его начала распавшись на одинокие человеческие судьбы.
Работа Кончаловского с непрофессиональными актерами – это не только работа над ролью, это и равноправный диалог, в результате которого человек выдвигается на крупный план достоверностью своего облика и личной судьбы. Каждый из этих персонажей отщепляется от анонимной массы, хотя еще и остается внутри «счастливой» колхозной общины. Самой крупностью (чисто кинематографической, но и духовной) своего лица, личности они подрывают обезличенное равновесие колхозного праздника. Судьбы их действительно не устроены, отмечены общим отечественным сиротством. Но принимают люди свою неустроенность с невероятным стоицизмом, граничащим то ли с великой мудростью, то ли с великой слепотой.
Кончаловский называет свою героиню святой. Киновед Н. Зоркая – праведницей. За образом хромой деревенской святой угадывается образ родной земли.
Земля убаюкивает и прячет в начале фильма в своей ржи ребенка, как бы охраняя и сохраняя от угрозы, звучащей в громе танкодрома. Как земля вынашивает и отдает ею выношенный плод-урожай в положенный срок, так и Ася вынашивает и отдает миру своего ребенка. Сцена родов – одна из сильнейших в картине. Создается впечатление, что плод выходит из чрева самой земли. А вот принимает его не столько конкретный Степан, сколько абстрактные вооруженные силы страны.
Родина у Кончаловского, еще по памяти об «Андрее Рублеве», – юродивая, «дура святая». Не зря постаревшую Асю в «Курочке Рябе» играет Инна Чурикова, героиням которой еще со времен панфиловского дебюта «В огне брода нет» (1968) присвоен этот титул. Образ перекочует затем и в «Дом дураков», закрепившись в творчестве Кончаловского.
Родина склонна любить скорее непутевого, чем путевого, скорее Степана, чем Александра-победителя. От этой обреченности любить кого ни попадя состояние неприкаянности становится фатально непреодолимым. Но и плодотворным в то же время, поскольку колеблет общинное равновесие. Община не в состоянии удержать в себе неустроенную, требующую новых пространств, непредсказуемую индивидуальность.
Как в «Первом учителе», так и в «Истории Аси Клячиной» низовой человек катастрофически выпадает из всех традиционных рамок – будь то рама крестьянского менталитета или рама советского образа жизни. Такова и Ася Клячина, таков и Александр Чиркунов, которому нет пристанища.
Высшая точка развития сюжета – финальный праздник. Проводы в армию подсознательно переживаются как праздник «бездны на краю», бесшабашное бездомное цыганское веселье вечных странников в преддверии грядущих смещений и превращений.
Суть праздника – в разоблачении человека от всех социальных «костюмов». Здесь не остается ничего постоянного, ничего раз и навсегда установленного и завершенного. Вот и сарайчик-времянка – одновременно и декорация отошедшего в прошлое труда, и жилище героев – валится под откос. На что же опереться? А вот на это непрестанное превращение – в нем и есть «настоящая правда» натуры, которой живет художник. Все остальное – временная декорация, достойная исчезновения.
5
Период особенно крупных раздоров в семье Натальи и Андрея – 1968 год. В это время как раз проходят съемки «Дворянского гнезда». На болезненный разрыв со второй женой накладываются, по воспоминаниям Андрея, его переживания от роковой встречи с Машей Мериль, отчего француженка «влезла в картину под своей подлинной фамилией – княжна Гагарина». Ее сыграла Лилия Огиенко, «чудная молодая киноведка из ВГИКа».
Фильм давался трудно. «Боялся сам себе признаться, что не знаю, как снимать…» В такие минуты им овладевало одно желание: «ощутить рядом прерывистое женское дыхание». Так начались романтические отношения с Ириной Купченко, дебютировавшей в «Дворянском гнезде» в роли Лизы Калитиной.
Можно сказать, что «Дворянское гнездо» не только жило памятью о недавней близости с Мериль, но и впустило в себя дух других женщин, в разное время близких его создателю. В фильме снималась, скажем, давняя любовь режиссера – к тому времени уже яркая польская кинозвезда Беата Тышкевич, сыгравшая Варвару, жену Лаврецкого.
«Гнездо» выйдет на экраны в 1969-м, когда Наталья и Андрей официально расстанутся. Кончаловский женится на француженке русского происхождения Вивиан Годэ. Получит французское гражданство. В 1970 году у него и Вивиан родится дочь Александра.
История знакомства с Вивиан, изложенная самим Кончаловским, вкратце такова. Николай Двигубский повел друга в гости к некоему банкиру, с супругой которого художник затеял роман. Банкир жил в «Национале». У его детей была няня – девушка с огромными зелеными глазами, похожая на актрису Ирину Купченко. Она училась в Париже в Институте восточных языков. И была, как Маша Мериль, русских корней. Чтобы поразить француженку, Андрей даже свозил ее в ту деревню, где еще не так давно проходили съемки «Аси-хромоножки» и с жителями которой у него сложилось что-то вроде приятельских отношений. За поездкой, как тогда было принято, внимательно следили органы ГБ. И это придавало романтическому путешествию особо острый привкус. В конце концов все разрешилось женитьбой, и Европа становилась реальностью.
Желание покинуть страну вполне созрело в Кончаловском как раз к моменту работы над «Гнездом». Вероятно, сыграли роль и мытарства, связанные с запретом «Аси». В своих мемуарах он восклицает: «Как хотелось не зависеть ни от какого Ильичева и всего его ведомства! Стать свободным! Неподвластным никакой власти! В 60-70-х это желание становилось буквально непереносимым. Идешь по коридору – я это на себе испытывал– с мягкими ковровыми дорожками, минуешь одну охрану, вторую, третью, читаешь надписи на дверях и чувствуешь себя все меньше и меньше. Меньше просто физически, в размере! Может быть, есть счастливые люди, подобного чувства не испытавшие, – я к их числу не принадлежу…»
Было страстное желание от всего этого избавиться. «Уехать. Выйти из системы. Избавиться от советского паспорта. Жить с ним стыдно. Советский паспорт – паспорт раба. Идешь по парижской улице, видишь клошара, спящего под мостом на газете, думаешь: «Он счастливее меня – у него не советский паспорт».
Решение взять в жены Вивиан родные встретили переполохом. А он был счастлив: «Я женился на Франции!..» Его, конечно, вызвали в КГБ, выразили сомнение: «Может быть, она экономическая шпионка?..» Кончаловский обещал, в случае чего, дать знать…
«Я медленно переползал в иной статус – экзотический статус советского гражданина, женатого на иностранке. Для властей я становился иностранцем. Я чувствовал себя человеком из Парижа. ОВИР стал самым родным местом, я перетаскал туда кучу подарков: там давали частную визу».
Андрей с жадностью поглощал парижские впечатления, всякий раз отмечая про себя отличие этой жизни от отечественной. Подробности быта натуральных французов западают в душу. Он внимательно наблюдает жизнь южной провинции Франции. Его, как всегда, умиляют картины крепко устоявшегося и отстоявшегося быта, из каждого уголка которого смотрит традиция. Особенно впечатляет, сравнительно с отечественными примерами, налаженность повседневности, спокойное, веками упроченное существование.
Почему предметно-вещная сторона зарубежной жизни производит на советского человека такое оглушительное впечатление? – спрашивал себя советский режиссер. И отвечал: отечественная бедность. Бедность, которая проникала в быт даже обеспеченных семей. Унылая скудость существования, въевшаяся в подсознание «родившихся в СССР». Причем бедность, идеологически утверждавшаяся государством как нравственное достояние советского человека, как классовое противостояние «незаслуженной» материальной обеспеченности буржуа, проживающего за «железным занавесом». Советский человек был героически призван совершать подвиг примирения с бытовом убожеством до наступления благоденствия при коммунизме.
Жизнь с Вивиан не была гладкой. Женщина с характером, ревнивая, она чувствовала, вероятно, что играет роль, ей непонятную, отношения к буржуазной семейной жизни почти не имеющую. Вивиан была воспитана иной системой отношений и «разнузданные выходки» своего супруга воспринимала по-другому, чем прежние его спутницы, по-другому мыслила себе обязанности и права мужчины.
В бытовом смысле в Москве они устраивались не очень уютно. Тем более – по французским стандартам. Снимали квартиру у друзей. Переехали в другую. Так что, забеременев, Вивиан должна была отправиться рожать в Париж. Там и появился на свет второй ребенок Андрея – дочь Александра. Крестили девочку в парижской квартире жены. «Была зима, купель с водой я спустил вниз, пошел по рю Вашингтон направо и у церкви вылил ее на зеленый газон. До сих пор помню эту медную купель, этот газон, вид на Сену», – вспоминает Андрей в книге «Возвышающий обман».
С новой своей романтической привязанностью, актрисой Еленой Кореневой, Андрей встретится в начале 1970-х годов, уже будучи женатым на Вивиан. Совсем еще юная Елена должна была играть одну из главных ролей в «Романсе о влюбленных». О том, что у него появилась новая спутница, Кончаловский сообщил жене. Та не собиралась сдаваться. Вскоре Кореневой довелось встретиться с Вивиан и даже сидеть с нею за одним столом. На Николиной Горе. Когда Андрей отвозил Елену домой, в машине обнаружилось письмо, адресованное девушке и завершавшееся категорическим: «Я люблю своего мужа и умею ждать».
6
Экранизацию тургеневского «Дворянского гнезда» восприняли не как изобразительное опровержение предшествующего опыта режиссера, а скорее как сдачу позиций, компромисс перед властями, поражение крупного художника.
Запрет «Аси», а перед тем – «Андрея Рублева» поставил Кончаловского, хотел он этого или нет, как и Тарковского, в ряд гонимых инакомыслящих художников. Ему бы, для закрепления имиджа, продолжать двигаться в том же русле, а он ушел далеко в сторону. Не захотел, на забаву просвещенной публики, «наслаждаться» положением несчастного страдающего гения, упорно сопротивляющегося начальству. Опять, как и прежде, как и всегда будет делать в будущем, пошел своей дорогой, ничуть при этом не изменяя своей натуре творца.
Да, «Дворянское гнездо» было, по существу, заказом. История возникновения замысла такова.
В 1967 году на Московском кинофестивале Андрей увидел «Леопарда» (1963) Лукино Висконти, и захотелось поставить нечто подобное, никак не связанное с баранами, юртами, овечьим дерьмом или избами, ватными штанами и проч. Что могло привлечь режиссера в более чем трехчасовой экранизации исторического романа Джузеппе Томази ди Лампедуза о судьбе сицилийского феодала – князя Фабрицио – в событиях начала 1860-х годов?
Фильм, снятый великолепным Джузеппе Ротунно, удивительно красив, несмотря на то что речь идет о времени гражданской войны между республиканцами, сторонниками Гарибальди, и приверженцами правящей династии Бурбонов. Но вот что существенно: картина повествует о стыке времен, об уходе одной культуры и пришествии другой. Причем исторические катаклизмы увидены глазами людей с древней аристократической родословной. Это касается не только князя Салины, но и автора романа, и самого Висконти. Лирическое самочувствие режиссера, как писал киновед Леонид Козлов, «ощутимо в теме безвозвратно уходящего времени и его ценностей, в теме возраста, личного и исторического, в теме отношений между поколениями». Все это близко Кончаловскому, и все это есть в его «Гнезде».
Но вначале он подумывал о пьесе Тургенева «Где тонко, там и рвется». А Госкино, в свою очередь, предложило снимать к юбилею классика один из его романов – «Отцы и дети» или «Дворянское гнездо». Режиссер выбрал последний, хотя к произведению не обращался со школьных лет. Взрослое прочтение романа не вдохновило: «Пришел в ужас. Сентиментальный язык, романтические пейзажи, идеализированные герои, идеальная девушка Лиза Калитина. Стало не хватать запаха навоза, от которого так хотел избавиться. Полное отсутствие «низких истин» – все сплошь «возвышающий обман».
Радикально подпитанный двумя предыдущими работами, сценарием об Андрее Рублеве Кончаловский не сразу ухватил скромную глубину тургеневской прозы, рисуя в своем воображении образ «певца дворянских гнезд». Суть прояснилась, когда художник, по свой привычке, стал «тащить все в дом», то есть собирать материал, населять «строительную площадку» будущего фильма. Начал читать подряд всего Тургенева. «Записки охотника» потрясли его и восхитили… И в итоге «Дворянское гнездо» стало первым фильмом в отечественном кино, где в центр сюжета поместился любовно воссозданный образ дворянской усадьбы, ее внутреннего строения и исторической судьбы, ее места в истории отечественной культуры, ее драмы, если хотите. Сквозь образ усадьбы прорастал и образ России.
Впечатления же от чтения Тургенева поначалу свелись к идее полярности эстетических вкусов писателя. С одной стороны, Кончаловский увидел «условный романтизированный, идеологизированный мир его романов, с неправдоподобием дворянской идиллии, с другой – натурализм и сочность «Записок охотника». Режиссер пришел к выводу, что существует как бы два Тургенева. Один – умелый мастер конструирования сюжетов, поэт дворянских гнезд, создатель галереи прекрасных одухотворенных героинь. А с другой стороны – великий художник, пешком исходивший десятки деревень, видевший жизнь как она есть, встречавший множество разных людей и с огромной любовью и юмором их описавший.
«Мне захотелось соединить эти два стиля в одной картине. Я задумывал ее как сопряжение двух миров, один из которых как бы дополнял другой. Последней частью сценария была новелла, в которой герои романа – Лаврецкий и Гедеоновский встречались в трактире, где шло соревнование певцов. Цветной, идеализированный, романтический мир «Дворянского гнезда» должен был столкнуться с черно-белым миром «Записок охотника», в какой-то мере пересекающимся с эстетикой «Аси Клячиной».
То есть я собирался создать мир цветов, сантиментов, красивый, роскошный – такой торт со взбитыми сливками, а потом хорошенько шлепнуть кирпичом по розовому крему. Взорвать одну эстетику другой. Преподнести зрителю ядреную дулю: после сладостной музыки и романтических вздохов – грязный трактир, столы, заплеванные объедками раков, нищие мужики, пьяные Лаврецкий с Гедеоновским, ведущие разговор о смысле жизни. И в том же трактире – тургеневские певцы. Как бесконечно далеки друг от друга эти баре и эти мужики: и все хорошие, любимые автором люди, а между ними – пропасть, проложенная цивилизацией и историей. В этой пропасти истоки и судьбы России…»
Вот что находилось в фундаменте задуманного сюжета. Это было зримо оформившееся зерно художественного метода Кончаловского, опирающегося на идею противоречивого единства национального мира России, а в диалектике формы – на условно-театральный «стык миров».
В «Дворянском гнезде» замысел развить не удалось. Сам режиссер считал фильм в этом смысле неудачей. Но задуманное тем не менее не испарилось, не было выдавлено из поэтики фильма, поскольку выражало существо творческого подхода режиссера к материалу.
На пути к фильму Кончаловского вдохновляло и содержание идейных сражений между западниками и славянофилами времен Тургенева, но соприкасавшихся, как вскоре выяснилось, с современностью рубежа 1960-1970-х годов. В размышлениях над текстами Тургенева, фактами его биографии откликались и впечатления, усвоенные во время чтения трудов Д.П. Кончаловского.
Готовясь к съемкам картины, режиссер наткнулся на старую книжку, где описывалась ссора Тургенева с Достоевским, который не мог простить Ивану Сергеевичу Потугина из романа «Дым». В ответ на брань Достоевского в адрес немцев Тургенев заявил, что сам себя считает за немца, а не за русского и возвращаться в Россию не собирается.
Имидж «немца» был сознательно присвоен и самим Кончаловским. «Немец», по исходной этимологии слова, – немой, безъязыкий (иноязыкий). А в традиционно отечественной трактовке – прежде всего чужой, отторгаемый в силу инакости своих взглядов от крестьянско-общинной среды и ее идеологии. «Немец» – человек «не мой» («не наш»), а потому для нас и – «немой». Мысли «немца» Потугина, надо полагать, сыграли свою роль в становлении мировидения художника.
Отставной надворный советник Созонт Потугин неласково отзывался о дворянской интеллигенции, рассуждающей на темы особого пути России и разоблачающей «гнилой Запад». А его нерушимая вера в цивилизацию была и остается, на мой взгляд, созвучной мировоззрению Кончаловского: «…Я западник, я предан Европе;… говоря точнее, я предан… цивилизации… я люблю ее всем сердцем и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово – ци… ви… ли… зация… – и понятно, и чисто, и свято, а другое все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут… Бог с ними!»
Споры, ушедшие, казалось, в прошлое, живо откликнулись в картине, поскольку касались духовных корней русского человека, его отношения к Родине. Отсюда – и резкое столкновение точек зрения современных Кончаловскому западников и славянофилов в дискуссиях о фильме, когда ни те ни другие картины не принимали.
Фильм бескомпромиссно осудили авторитетные критики из двух разных по «партийным» установкам идеологических лагерей. С одной стороны – Вадим Кожинов, ставший позднее самым активным идеологом литераторов, сгруппировавшихся вокруг журнала «Наш современник», а с другой, либерально-западнической стороны выступил один из признанных лидеров шестидесятничества Станислав Рассадин.
Особенно Кожинова раздражала фигура немца Лемма, сыгранного Александром Иосифовичем Костомолоцким, которого Кончаловский «позаимствовал» из легендарной курсовой короткометражки Рустама Хамдамова «В горах мое сердце». Интересно, что актер начинал когда-то ударником чуть ли не в первом отечественном джаз-ансамбле и снялся в фильме Г. Александрова «Веселые ребята» – среди буффонного сборища пародийных музыкантов.
Критик увидел в персонаже «шутовского горбуна». «Нам внушают, что сейчас перед нами явится хор теней прошлого, хор людей, которых можно представить себе лишь в воображении, – и этот шут им дирижирует, как бы вызывая его из небытия. Но неужели же тургеневские герои, в которых отразились черты людей, причастных к созданию одной из величайших мировых культур, – всего лишь марионетки, которыми управляет этот фигляр?»
В итоге В. Кожинов пришел к выводу, что «режиссеру, очевидно, нечего пока сказать об эпохе, запечатленной в романе… Он взялся снимать о ней фильм, потому что она в «моде». Но ему оставалось лишь «поиграть» с ней».
Что касается противоположного взгляда, представленного выступлением Ст. Рассадина, то он именно противоположный тому, что сказано было Кожиновым. Отчего публикация Рассадина и называлось «Экскурсия в прошлое России». Его не печалило то, что Лаврецкий Кончаловского, может быть, не похож на Лаврецкого Тургенева. Его беспокоило, что «нам дали взамен», то есть современный смысл в толковании классики. И тут критик оставался таким же неудовлетворенным, как и Кожинов, ратующий за адекватное постижение героического прошлого России.
Автора картины эти споры страшно изумили. Такого их накала он, по его словам, никак не ожидал. «Уж чего только мне не приписали: национализм, эстетизм, жеманство, почвенничество, русофильство, славянофильство, «антизападничество» и даже то, что я, видите ли, певец дворянства! Что касается русофильства и тому подобного, то у меня сложилось впечатление, будто авторы статей порой сами забывали о предмете своих рецензий и начинали выяснять отношения со своими старыми оппонентами».
Замечательно же было то, что ни роман, ни тем более картина не были «партийно» ограниченными, становясь на чью-либо сторону в споре западников и славянофилов.
Роман проникнут глубоко тревожным переживанием распада дворянского гнезда как целого культурного пласта национальной жизни. В нем есть предчувствие чеховской проблематики. Персонажи – люди расшатанной, надломленной судьбы. Жизнь предков Лаврецкого, включая и его отца, – предыстория разрушения фамильного дома, определенного уклада.
Федор Лаврецкий – герой маргинальный. Сын «сыромолотной дворянки», бывшей горничной его бабки. Она, «тихое и доброе существо, бог знает зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревце, корнями на солнце», скоро увяла.
Справедливо отмечал А. Липков в рецензии на картину, что в ней (в соответствии с романом, кстати говоря) нет людей, крепко вросших в почву. Они все вырваны из нее, все не «почвенники», а скорее «скитальцы». Не в идейном, а в прямом смысле.
По Тургеневу, Федор Лаврецкий возвращается в Россию, чтобы обрести наконец дом, естественную жизнь взамен той искусственной, которой он жил до сих пор. Он как бы опускается к истокам натуральной русской жизни, к материнскому первоначалу, чтобы отсюда проделать путь своего возрождения – возвращения к родине.
Фильм Кончаловского берет за точку отсчета именно это состояние героя – нисхождение к материнским истокам, а отсюда уже – восхождение к осознанию своего единства с Россией, далекой, как и сам Федор Лаврецкий, от духовно-нравственного равновесия внутри себя. Родина в воображении героя представляется девочкой-ребенком, характер которой еще не проявлен и у которой впереди долгое и трудное взросление.
Действительно, именно Лемм открывает фильм в Прологе. Он выполняет роль домового призрачного усадебного мира. Вот почему Федор и Лемм связаны тесными интимно-дружескими отношениями. Они и общаются друг с другом с помощью музыкальных фраз, как бы отделяясь ото всех остальных нишей духовной близости. Несколько иначе эти отношения изображены у Тургенева. Но и в книге, и в фильме фигура старого музыканта-немца – воплощение обреченности на вечное изгнанничество.
Когда Кожинов (да и Рассадин, но уже изнутри своей, либеральной «партии») упрекает режиссера в идейной облегченности картины, он упускает из внимания позицию самого автора. А она заявлена Кончаловским вполне определенно: чувство корней – чувство необъяснимое, алогичное и вряд ли адекватно артикулируемое на уровне идеи, идеологии.
В картине Кончаловского снижающая оценка дается всякой попытке партийно-идеологически определиться по отношению к судьбам России. Вот почему самый малосимпатичный здесь персонаж – Паншин. Его демонстративно идейные речи, как правило, иронически снижаются, как и весь его облик. Кончаловский наделил актера Виктора Сергачева гримом «под Гоголя». Так один из первых русских писателей, впрямую идеологически продекларировавших свою озабоченность судьбами России, в фильме пародийно преобразился в «идейного» манекена с «французским», по выражению Лаврецкого, лицом.
Сюжет картины Кончаловского представляет собой соотношение миров, некую изобразительную полифонию. Это, во-первых, Россия, куда возвращается Лаврецкий, усадебный мир; во-вторых, мир парижских салонов; наконец, мир ярмарки – как след замысла резко столкнуть усадьбу и деревню, барина и мужика. Принципиально то, что ни один из миров не исчерпывает художественного целого картины.
Ностальгическая красота дворянской усадьбы – это скорее желанная, нежели действительная красота. Это образ, рожденный тоской возвращающегося сюда Лаврецкого, а может быть, почерпнутый и из утопических мечтаний Тургенева. Важно только то, что сам автор любит сотворенное им не менее, чем его герой. Но его авторское видение не исчерпывается интерьерами и пейзажами дворянской усадьбы.
Для воспроизведения «многомирия» картины режиссеру понадобилось три художника: Н. Двигубский (парижские эпизоды), М. Ромадин (имение Калитиных), А. Бойм (имение Лаврецких). Кроме того, на фильм в качестве практиканта пришел Р. Хамдамов, маньеризм режиссерских работ которого во многом определил, по признанию Кончаловского, стилевые решения его фильма. Художник занимался костюмами в картине, а в особенности – шляпками героинь. Хамдамовские шляпки станут позднее яркой приметой фильмов и спектаклей Кончаловского.
Усадьба Лаврецкого в картине – это прежде всего родная, материнская обитель. Первое время пребывания здесь окрашено ощущением праздника, который несет в себе герой. Дух домашнего пространства, как было сказано, – немец Лемм. Именно он запускает в начале его птичью музыку. Комнаты усадьбы оживают, наполняются солнцем, как только в них входит Федор Лаврецкий…
Другое дело – усадьба Калитиных. Цветовые решения ее холоднее, приглушеннее. Только комнаты, где проживает бабушка Лизы Калитиной Марфа Тимофеевна, сохраняют глубокие теплые тона домашнего уюта. Примечательно, что на эту роль режиссер пригласил старую мхатовку Марию Дурасову (скончалась в 1974 году), воспитанную на традиции реалистической театральной игры. В гостиной же правит бал Паншин – здесь все искусственно, в том числе и слова и поведение окружающих, кроме, пожалуй, Лизы. Но это опять-таки не авторская оценка, а точка видения главного героя. Точно так же, как и монохромное решение парижских эпизодов есть образ переживаний Лаврецкого, чувствующего себя в европейских салонах неуклюжим медведем, подобно Безухову в салоне Анны Шерер.
Каждый из миров – ограниченная в пространстве декорация, чего и не скрывает автор. Усадебная жизнь то и дело прерывается врезками парижских воспоминаний. Так обнажаются ее границы, но и границы парижской декорации тоже. Скрытая шаткость усадьбы (при всей насыщенности и разноцветье ее красок, а может быть, и в силу этого) ощущается, с одной стороны, в какой-то искусственной скученности вещей, а с другой – в том, что вещи часто оказываются не у места, на что обратил внимание Владимир Турбин в своей рецензии.
Картинки парижской жизни в фильме – это не столько пресловутый Запад, сколько искаженная, противоестественная жизнь русского человека вне родной почвы.
Восприятие Лаврецким мира, в котором живет его супруга и где она чувствует себя комфортно, обостряется вследствие его мужицкого происхождения. Он все время на границе. Он должен был оказаться как раз на стыке миров, если бы Кончаловскому удалось воплотить свой замысел вполне. Большой эпизод, который должен был завершить фильм и не вошел в картину, заменен ярмаркой, возникшей на основе рассказа «Лебедянь» («Записки охотника»).
Здесь пьяный Федор бросает свой «мужицкий» вызов миру Нелидовых и Паншиных. Но этот вызов есть одновременно и проявление рабской неполноты Лаврецкого, от которой ему самому неловко. Его не покидают мучительные шатания маргинала. В этом его драма – уже чеховского покроя. Драма, которую очень хорошо чувствует и переживает Лиза Калитина.
И в книге, и в фильме она чуткий сейсмограф колебаний, которые происходят не только в душе Лаврецкого, но и в жизни самой России, весьма далекой от стабильного процветания, в которое так верил Кожинов. Она жертвует. Она откликается на призыв Бога, которого несет в своей душе.
В фильме есть акцент на религиозности Лизы Калитиной. Но еще более в ней проявляется почти провидческая тревога не только о судьбе Лаврецкого, но и их родины. Ее уход – жертва во имя спасения всего, что ею любимо, во имя предотвращения грядущих катастроф. И здесь как нельзя кстати оказался дебют Ирины Купченко, которая в картинах Кончаловского – уже позднее – как бы продлевала этот образ, но в разных ипостасях.
Предмет художественного постижения Кончаловского – внутренний конфликт русской жизни, подмывающий фундамент национального Дома. И в этом смысле «Дворянское гнездо» есть прямое продолжение, развитие сюжета «Аси Клячиной». Как самоопределиться в этой неустойчивости, как сохранить в себе любовь там, где эту любовь все опровергает и сопротивляется ей?
Неустойчивость национального фундамента России отзывается уже отмеченной пограничностью происхождения самого Лаврецкого. Он в начале долгого пути, когда не угадать, произойдет ли единение начал. Роман завершает путь героя на закате его лет, перед резвящейся молодой жизнью. Иное дело фильм – здесь герой делает первые шаги… Как и его родина, Федор и крестьянская девчонка только начинают свою дорогу в Эпилоге картины…
Но Пролог открывает все же шут Лемм, дирижируя птичьим концертом!
Как тут не вспомнить слова режиссера, сказанные по другому поводу: «В чистом виде клоун – это и есть человек, потому что он – ребенок». Ребенок Лемм – Россия-ребенок. Сюжет обретает совершенство круга.
На рубеже 2000-х Кончаловский критически оценивает эту свою работу. Сценарий, полагает он, был хорош. А режиссер готов к нему не был – «не дотягивал до задачи».
Он чувствовал, что в картине «нет «мяса» – один соус, внешность, декорация». «Может быть, свободные импровизации на «Асе» развратили меня? Может быть, я просто не готов?» – задавал себе вопросы постановщик. Он стал вспоминать, как тщательно готовил «Первого учителя». Сцену ярмарки в «Гнезде» готовил с не меньшей тщательностью, продумывая каждый кадр. Пришло ощущение, что «мясо» наконец появляется. «Зацепившись за это, я стал наращивать вокруг другие сцены – картина постепенно обрастала мускулами. Но все равно не покидало ощущение неминуемого провала».
Много надежд внушала задуманная им кульминация – сцена в трактире, позаимствованная из «Певцов» Тургенева. Для этой сцены он и Геннадия Егорычева (бывшего Сашей Чиркуновым в «Асе») пригласил. Был здесь и «чудный мальчик-студент с лицом Христа» – Александр Кайдановский, который замечательно исполнил «Не одна во поле дороженька пролегла». Была и студентка второго курса ВГИКа для роли «русской мадонны» – Елена Соловей. Нечто подобное она сыграет потом в фильме Ильи Авербаха «Драма из старинной жизни» по «Тупейному художнику» Н. Лескова. Крохотные роли согласились играть Ия Саввина, Евгений Лебедев, Николай Бурляев, Алла Демидова.
Однако режиссер остался при убеждении, что «не удалось главное – выстроить драматургическое напряжение», хотя и «удалось выстроить атмосферу имения, дворянского быта». Но сама по себе эта атмосфера не выражала замысла в целом, ведь создавалась она для того, чтобы показать «грубость русской жизни, ее изнанку». Кончаловский ругает себя за то, что как раз грубость он отрезал, то есть убрал вышеупомянутую новеллу и отдал ее на смыв.
«Мне казалось, что картина с этим финалом разваливается. А может быть, именно благодаря тому, что с черно-белым финалом другого стиля картина разваливалась, она могла бы стать явлением в кино того времени.
Там был художественный ход, серьезный режиссерский замысел. Это не формальный прием, не игра со стилем, а разрушение одним содержанием другого. В этом суть, а не просто в поиске языка. Кишка оказалась тонка. Показалось, что картина слишком длинна, не хотелось осложнений с прокатом».
Здесь есть смелость самооценки, чему Кончаловский, по его словам, учился у Бергмана. Из описанного события своей режиссерской практики Кончаловский делает серьезный вывод, касающийся его творческого «я». Он считает, что поддался страху. Может быть, тот же страх, делает предположение он, помешал ему создавать настоящие шедевры. Страх переступить черту дозволенного. Преодоление этого страха делает человека гением. Таков, по убеждению Кончаловского, Андрей Тарковский, которому, кстати говоря, «Дворянское гнездо» «резко не понравилось». Но здесь преодоление превращается иногда в игру со смертью.
«Все время я писал в своих дневниках: «Перешагнуть черту» – и никогда ее не переступил. Следовал здравому смыслу. Слишком много во мне его оказалось. А шедевры создаются тогда, когда о здравом смысле забываешь».
Но вот что интересно. Уже в зрелом возрасте, после фильма «Глянец» и спектакля «Дядя Ваня» (2010), он говорит о том, что предпочитает эстетику разрушения выстроенного им мира – другим, возводимым на обломках первого. «Я против полутонов. Я не пользуюсь полутонами. Я пользуюсь чистым цветом. От цвета – к цвету. Как удар!» Эта эстетика полным голосом заговорила сразу после «Гнезда» – в «Романсе о влюбленных», где он перешагнул через все возможные на тот момент границы.
По окончании работы над «Гнездом» произошло памятное событие. Кончаловскому довелось сотрудничать с классиком итальянского экрана Витторио де Сика, который приехал в СССР, чтобы снимать здесь фильм «Подсолнухи» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. В составе группы был и знаменитый продюсер Карло Понти. Он посмотрел «Гнездо», познакомился с режиссером – кандидатура его устроила. Дело в том, что де Сика Россию знал мало и ему нужен был «молодой талантливый помощник».
Потом появился сам режиссер, рядом с которым Кончаловский «ощущал себя студентом». Андрей показал именитому итальянцу листы с плодами своих «творческих озарений». Тот похвалил и уехал в Монте-Карло на карточную игру, поручив русскому режиссеру снимать задуманное. «Ну, – мечтал Кончаловский, – сейчас такое для него сниму!» Весь свой опыт он вложил в этот материал. Получилось неплохо, но в картину вошло всего два кадра: крупный план Мастроянни и знамя.
Зато за работу режиссер получил шесть тысяч долларов.
«Это казалось мне немыслимой суммой. Четыре тысячи рублей платили постановочных за картину, над которой надо было потеть целый год. И это еще если оценят по первой категории! А тут за две недели по нормальному чернорыночному курсу тех лет – двадцать четыре тысячи рублей! На это можно купить две «Волги»! Деньги, впрочем, я потратил иначе – спустил их со своей французской женой на Ривьере».
В том же 1969 году Кончаловскому довелось впервые побывать в США по приглашению Тома Ладди, директора киноархива в университете Беркли. Звали на кинофестиваль в Сан-Франциско – с «Дворянским гнездом». «…Америка буквально обрушилась на меня, – рассказывает режиссер. – После просмотра ко мне подходили многие, я был редкой диковиной. Ведь это 1969 год, война во Вьетнаме, расцвет хиппи, «поколение цветов»…»
Утех и впечатлений было через край. Но вот одно из них, казалось бы, незначительное, врезалось в память надолго. Наблюдая как-то проезжающий мимо «фольксваген» с еще мокрой доской для серфинга на крыше, а за рулем молодого загорелого блондина с влажными волосами, тридцатидвухлетний советский режиссер думал: «Почему я не этот мальчик? Едет он на своей тачке и знать не знает, что есть где-то страна Лимония, именуемая СССР, что в ней живет товарищ Брежнев, а с ним и товарищи Романов, Ермаш и Сурин, что есть худсоветы во главе с товарищем Дымшицем, и неужели жить мне в этой картонной жизни до конца своих дней?»
Примерно такие же мысли возникли при встрече с режиссером Милошем Форманом, пару лет тому назад покинувшим Чехословакию, а поэтому возбудившим в Андрее сильное чувство какой-то особой близости…
Сделавшись мужем француженки, Кончаловский мог с полным правом назвать «запретный для советского человека» Париж своим. Но для жизни там нужны были деньги. Он взялся за сценарий «Преступление литератора Достоевского». «Заплатили мне за него копейки – шесть тысяч: рабский труд никогда высоко не ценится. Я работал без разрешения Госкино, а потому писал инкогнито, боялся неприятностей».
Супружеские отношения с Вивиан не складывались не только из-за материальных забот, но еще и потому, что она пыталась «навязывать свою волю», а это «русскому человеку, особенно Кончаловскому, решительно противопоказано». У него, как помнит читатель, завязался новый роман – с юной Еленой Кореневой.
Уже в 1980-х, сама оказавшись в Америке, в центре Нью-Йорка, Елена неожиданно для себя встретит Вивиан. Когда-то оставленные любимым мужчиной женщины – предмета раздора уже не было – «весело обнялись, обменялись телефонами и пожелали друг другу удачи». Потом француженка позвонила… Как заметила Елена в своих воспоминаниях, их встреча выглядела насмешкой над двумя женскими судьбами, поскольку никто из них ничего изменить в прошлом уже не мог… И никто ни в чем не был виноват – совсем как у Чехова. Все несчастны, всех жалко, и некого винить…
7
Герои чеховской драмы по природе своей едва ли не все клоуны. Или впрямую разыгрывающие на сцене клоунаду– как Шарлотта, Епиходов, например; или опосредованно – как прочие иные, как тот же Треплев.
Цирк и его атмосферу писатель любил. Он из жизни переносил эту атмосферу в свои произведения. Знаком был, например, с клоуном-жонглером, с большим комизмом разыгрывавшим неудачника. С ним приключалось «двадцать два несчастья». Жонглируя кинжалами, он шатался, чтобы не упасть, хватался за шкаф с посудою – и шкаф, конечно, валился на него, прикрывая его под грохот разбиваемой посуды. Антон Павлович хохотал неистово…
Персонажи Чехова, подобно жонглеру из «Аквариума», «разыгрывают неудачников». В этой непредумышленной клоунаде они едины. Они, если хотите, коллектив клоунов на ярком пятачке цирковой сцены. Сами они часто ничего не знают о своем «клоунском» происхождении, в чем, собственно, и кроется глубокая драма. Под поверхностью комических кривляний – трагедия.
Чеховские неумышленные клоуны в его пьесах, как правило, интеллигенты, дворянского или разночинского происхождения. Их буффонные соло или хоровые выступления подразумевают некоего зрителя. А это часто так называемый народ. Образно говоря, «простой народ» окружает сцену, где разыгрывается действо. А иногда и сам в ней занимает соответствующее цирковому замыслу место…
В прологе «Чайки», поставленной Кончаловским в Театре им. Моссовета уже в 2000-х годах, угадывались буффонные корни, критику возмущавшие. На сцену являлся «человек из народа», разоблачался и показывал интеллигентной публике голый зад, а затем сигал в воду того самого озера, на фоне которого вскорости должна быть представлена «декадентская» пьеса Константина Треплева…
Но такое понимание Чехова возникло только по прошествии значительного времени. А тогда, на рубеже 1970-х, эта концепция едва мерещилась.
«Дядю Ваню» режиссер решил экранизировать по предложению Иннокентия Смоктуновского. Актера и режиссера «связывали и дружба, и ссоры, и ревность к актрисе Марьяне Вертинской, и обида, что Смоктуновский отказался играть «Рублева»…» Летом 1970-го зашли в кафе, выпили шампанского – и решили ставить «Дядю Ваню».
И вновь, по своей привычке, режиссер потащил в постановку «отовсюду, со всех периферий и окраин все, что могло здесь стать строительным материалом». В работе над «Дядей Ваней» его вдохновлял прежде всего мир фильмов Ингмара Бергмана: взаимодействие условного и реального в киноизображении, крупные планы, композиции мастера. «Достоинства моей картины, как, впрочем, и ее недостатки, во многом от Бергмана. Я делал по-бергмановски мрачную картину, в то время как Чехову неизменно свойственны юмор и ирония». Но уже и тогда режиссер склоняется к смеховой игре, как ни мрачна в его «Дяде Ване» бергмановская театральность.
При всех внешних влияниях режиссер в этой картине был вполне самостоятельным художником. Мало того, его работа заняла видное место в постижении творчества Чехова отечественным кино. По существу говоря, фильм Кончаловского стал первой на отечественном экране серьезной интерпретацией чеховской драмы.
Перенося на экран «Дядю Ваню» (как, впрочем, и «Дворянское гнездо»), режиссер вступал в диалог с отечественной культурой завершающегося XIX столетия. Творчество Чехова он воспринимает как революционный переход от литературы нового к словесности новейшего времени. С этой точки зрения и прозу, и драму Чехова следует воспринимать как критическую переоценку романного мировидения, выразителями которого были «высокие», погруженные в мучительные рефлексии герои русской литературы.
К началу XX века в русской литературе стало общим местом отчуждение такого героя от предметно-чувственной основы жизни, от природы и народа. Впечатляющим образом этой коллизии стало трагическое противостояние в литературе и искусстве мужика-крестьянина и интеллигента-идеолога. Обнаружилось, что две составляющие единого, на первый взгляд, национального космоса как бы не узнают друг друга. Не узнают, не понимают, говорят на разных языках, что с убедительной простотой показал Чехов в рассказе «Злоумышленник».
Чехов сам, подобно его Лопахину, занимал в отечественной культуре пограничное положение. Отсюда и особое отношение его как к понятию «интеллигенция», так и к феномену, запечатленному в понятии «народ».
«Пиетет перед народом, – пишет исследователь творчества Чехова В.Б. Катаев, – искание путей к «почве», к мужицкой «простоте и правде», учение у народа – то, что было присуще Толстому и народническому направлению русской литературы в широком смысле этого слова, – чуждо Чехову-писателю. «Во мне течет мужицкая кровь, меня не удивишь мужицкими добродетелями», «не Гоголя опускать до народа, а народ подымать к Гоголю», «все мы народ» – эти и другие высказывания Чехова выражают новую для русской литературы форму демократизма, природного и изначального, для выражения которого писателю не надо было опрощаться, переходить на новые позиции, что-то ломать в себе».
«Природный и изначальный демократизм» позволяет Чехову по-новому взглянуть на героя-идеолога, интеллигента – центральную фигуру отечественной литературы и отечественной культурной жизни в целом.
Герои Чехова одиноки, отделены друг от друга. Каждый из них если говорит, то исключительно о себе, а то и сам с собой, говорит свое, а не включается в диалог с партнером. Располагаясь в своих социально-индивидуальных нишах, они выглядят чуждыми друг другу как обособленные в пространстве предметы. Одиночество их усилено еще и тем, что у Чехова предмет и природа принципиально равнодушны к человеку, живут своей независимой, непостижимой жизнью.
В фильме «Дядя Ваня» между Иваном Войницким и профессором Серебряковым собственно идейного конфликта как такового нет. Идеи давно не движут ни тем ни другим. Для Войницкого Серебряков – абсолютно материальное выражение его собственной несостоятельности, растерянности перед жизнью. Серебряков – тяжелый, нерушимый предмет, который не сдвинуть с места. Но и для самого Серебрякова все вокруг – предмет. И его молодая супруга, и дядя Ваня – надоедливый, тревожный «предмет», и Астров – «предмет» угрожающий, опасный.
Первоначально на роль Серебрякова был приглашен Борис Бабочкин. Но оказался слишком самостоятельным. У него были свой взгляд на построение роли. В результате актер и режиссер расстались. И это было естественное для картины расставание. Бабочкин уж никак не был бы «безыдейной вещью», «предметом» в роли Серебрякова. Это был бы Серебряков со своей злой идеей, идеей разрушения. Не получилось бы той почти механически передвигающейся самодовольной, слепой к окружающему миру куклы, зациклившейся на реплике «Нужно дело делать, господа!», какую показывает Владимир Зельдин.
Выбор Зельдина на роль продиктовало то обстоятельство, что актер (а тем более его персонаж!) уж очень напоминал Андрею Сергея Герасимова. Режиссер предложил Зельдину в роли Серебрякова присвоить герасимовский жест – поглаживание ладонью лысины.
И Смоктуновский устраивал Кончаловского в этой интерпретации Чехова, поскольку «своей концепции не имел; как настоящий большой артист, был гибок», верил режиссеру.
В фильме Кончаловского персонажи вступают в настоящее сражение с предметами. Сама декорация усадьбы как будто становится то ли все более тесной, то ли превращается в лабиринт, в котором блуждают они. Неуправляемо скрипучими становятся двери. А природа… Ее не то чтобы нет – напротив, она есть. Но или изнуренная, вытравленная человеком, или живущая недоступной свежестью там, за окном, вне досягаемости персонажей.
В период постановки «Дяди Вани» режиссер увлекся размышлениями театроведа Бориса Зингермана о природе времени в чеховской драме.
Ход времени очень тревожит чеховских героев. Часто возникает тема уходящих, пропащих лет. Кончаловский вслед за Чеховым, говоря словами Зингермана, воспроизводит не драму в жизни, а драму самой жизни, ее ровного, необратимого и ужасающе безысходного движения.
Время жизни героев пьесы и фильма сопрягается с вечностью. Вечность проглядывает в мгновении. В такие моменты, как в грозу в доме Серебряковых-Вой-ницких, дистанция между мгновением и вечностью становится особенно короткой. Именно в эту ночь обнаруживается на экране пронзительная духовная близость не похожих друг на друга Астрова и Войницкого. Разноголосие их характеров оборачивается унисоном в их неожиданном дуэте: «Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть».
Кончаловский находит возможность отразить и соотношение бытового времени персонажей с Историей. Историчность чеховской пьесы связана, кроме прочего, с переходом от одной эпохи к другой (рубеж веков). И в фильме Кончаловского, и позднее в его спектаклях по «Чайке» и «Дяде Ване» момент эпохальной переходности отражается не только в переживаниях персонажей, но и в активном внедрении в произведения документов времени.
Для интерпретаторов чеховской драмы камнем преткновения всегда был специфический комизм писателя. Художественный метод Кончаловского позволяет ему успешно преодолеть этот барьер. Режиссер знает, что комедия в своих истоках – перевернутая трагедия, осмеяние героизма в любой его форме. А для чеховской комедии наиболее авторитетный объект пародии – шекспировская трагедия, основополагающий признак которой – гибель героического начала. Персонажи чеховской драмы давно не герои, а тем более не герои в трагедийном смысле. Напротив, здесь слышится насмешка над понятием героизма, которое у Кончаловского рифмуется с «возвышающим обманом».
И при этом во всех чеховских пьесах есть отзвук трагедийной гибели героизма как одинокого духовного противостояния миру. Гибнет герой «Безотцовщины» Платонов, гибнет Иванов из одноименной пьесы – оба «Гамлеты», гибнет Войницкий в «Лешем», гибнет Треплев, на грани самоубийства дядя Ваня, гибнет Тузенбах, а «Вишневый сад» весь пропитан предчувствием погибели.
Персонажи Чехова больны вопросом «быть или не быть?». Они прозревают бесперспективность своего бытия, но как раз потому, что жизнь не героична, как надеялись в молодости, а безысходно прозаична. Прозрение ведет к гибели. Но и гибель далека от трагедийной возвышенности и значимости. Герои как бы растворяются в сюжете или исчезают за сценой, как Треплев, уход которого рифмуется с прозаически лопнувшей в докторской аптечке склянкой.
Низведение героического начала, своеобразного «возвышающего обмана», носит у Чехова почти водевильный характер. С этой точки зрения, усилия человека смешны, поскольку ничтожны, в смысле своей малости. Одинокий человек смеяться не умеет. Смех, не успев родиться, гаснет, оставляя лишь гримасу ужаса на лице человека. «Смеется» вечность. Чеховская драма не комедия в традиционном смысле, а скорее плач по комедии, по полноценному человеческому смеху. Тоска по празднику.
Фильм «Дядя Ваня» – трагифарсовый плач по рушащемуся дому. В известном смысле здесь находит новый поворот проблематика «Дворянского гнезда».
Едва ли не все персонажи пьесы и ее экранизации жалуются на то, что жить в усадьбе Серебрякова невыносимо. Сам Серебряков называет имение «склепом», теряется, блуждает в его комнатах. Елена Андреевна произносит вслед за супругом: «Неблагополучно в этом доме». Астров признается Соне: «Знаете, мне кажется, что в вашем доме я не выжил бы одного месяца, задохнулся бы в этом воздухе».
И Войницкий трудился в имении только потому, что где-то жил Серебряков, духовная надежда дяди Вани. Но… не оправдал надежд! И в пьесе, и в фильме драма дяди Вани – в его неосуществленное™, как и в неосуществленное™ мира, в котором Войницкий живет и на который положил жизнь. Беда-то, конечно, не в Серебрякове, а в российской неустроенности, когда каждый «домочадец» переживает одну и ту же драму. Не зря же в прологе картины возникают страшные фотодокументы конца XIX – начала XX века под жесткую музыку Шнитке.
«Дядя Ваня» – это «сцены из деревенской жизни». Это усадьба, это деревня, населенная крестьянами, – хозяйство, жизнь которого должна была бы быть подчинена неким естественным законам, скажем, земледельческого бытия. В самом начале произведения Соня говорит няне: «Там, нянечка, мужики пришли. Пойди поговори с ними». А затем выясняется, что мужики приходили «опять насчет пустоши». Иными словами, где-то там протекает крестьянская жизнь, вроде бы пытается идти своим чередом. Но уж каким-то тревожным намеком звучит слово «пустошь».
Слово «пустошь» приобретает образную выразительность в монологах Астрова на экологические темы, словесно урезанных в фильме, но восполненных за счет отечественной хроники рубежа XIX–XX веков. Неурожайные годы. В фотодокументах – опустошенная природа, вырождающаяся родина. Снимки возникают уже внутри картины, в руках Астрова. Так одновременно в фильм входят природа и история страны, подвергнутой странному и страшному опустошению.
Михаил Астров отягощается чувством вины – и с течением сюжета все больше и больше. Он рисует апокалиптические картины погибели России, ее народонаселения: «В великом посту на третьей неделе поехал я в Малицкое на эпидемию… Сыпной тиф… В избах народ вповалку… Грязь, вонь, дым, телята на полу, с больными вместе… Поросята тут же». Н. Лордкипанидзе отмечала, что в этом монологе «все мотивы, все темы и едва ли не все определяющие обстоятельства жизни Астрова». «Если выслушивать монолог внимательно, не придется спрашивать режиссера и себя, почему Астров с такой настойчивостью возит с собой фотографию худенькой, наголо остриженной девочки, взирающей на мир печально и отрешенно. И эта девочка, и эти гробы в ряд, и эти убитые горем женщины – нет-нет да проходят перед мысленным взором земского доктора…»
«Дядя Ваня» действительно самая мрачная из всех картин Кончаловского этого времени. Может быть, поэтому на нее и откликнулся Н. Михалков в своем «Механическом пианино», будто попытавшись вернуть Чехову, в споре с братом, утраченные, как ему, возможно, казалось, тепло и смех.
Войницкий в финале фильма Кончаловского – призрак мученика. А сама русская жизнь – холодом закованное пространство земли. Сюда будто бы переносится та зима, которая неожиданно, по какой-то сюрреалистической логике возникает в «Истории Аси Клячиной», когда дед Федор Михайлович (!) вспоминает о времени своего возвращения из сталинских лагерей.
Другое дело – развязка у Михалкова. После кульминационной истерики Платонов, как и дядя Ваня, намеревается покончить с собой. Он это делает, бросаясь, при большом стечении зрителей, с обрыва в реку. И… конфуз! Здесь воды едва ли не по колено. Река превращается в лужу. Клоунский прыжок – комическая цитата из Чаплина, работающая на снижение героя.
Михалкову смеховое низвержение героя-идеолога необходимо для того, чтобы вернуть его к истокам, к женскому (супружескому и материнскому одновременно) спасительному лону. А как иначе можно прочесть финал, где Михаила Платонова уводит с собой («по водам»!) жена Саша, сочувствуя ему и жалея его?
Торжество женского охранительного начала в рамках «обломовской» идеологии – тема принципиальная для Михалкова. Это очень серьезный аргумент в споре со старшим братом. Но это не аргумент в постижении Чехова. Чехов, как я думаю, все-таки не автор Михалкова. Чехов – автор Кончаловского. Михалкову же ближе Гончаров, которого Чехов, кстати, в зрелые годы оценивал довольно сурово.
Но в силу своей домашне-семейной (можно было бы сказать, «обломовской») теплоты «Механическое пианино» стало «властителем лум», а «Дядя Ваня», с его трагедийно-фарсовой трезвостью, зрителя насторожил, был воспринят холодновато. Его трезвость, гораздо более чеховская, чем «утепленность» «Пианино», осталась непонятой, неосмысленной.
Экранизации, осуществленные Кончаловским после фактического запрета «Истории Аси Клячиной», казались компромиссом. «Дворянское гнездо» – в особенности. Но и «Дядя Ваня» в том числе. Характерна здесь позиция классика отечественной режиссуры Г. Козинцева, весьма почитавшего бескомпромиссность Тарковского. Кончаловский же, несмотря на его талантливость, показался мастеру чужим. Почему? Страдать, подобно Тарковскому, не желает. Вот и в «Дяде Ване» его «все поставлено, ничего не выстрадано». «К таким фильмам, пусть и хорошим, – замечает классик в феврале 1971-го в своих рабочих тетрадях, – у меня классовая ненависть: запретили (да еще тихонько, вежливо) один фильм, а они, ах какие нежные, уже и не могут – только что-нибудь изящное, а то не пройдет. Что им всем, жрать, что ли, было нечего? Ареста боялись? Что они такого видели, знали?..»
Точка зрения Козинцева продиктована советской привычкой к «партийной», можно было бы сказать классовой, оценке художественного явления, которое обязано быть идейно безупречным. Кончаловский, как казалось Козинцеву, «идейной борьбы» не выдержал, костьми не лег. Но в словах Козинцева есть и затаенная обида, а может быть, и известная зависть жившего в вечном страхе и напряжении борьбы старшего перед свободным от всего этого младшим. А тот был убежден, что творчество необязательно должно быть страданием. Он, кстати, и в свои семьдесят с гаком говорит, что работа режиссера – счастье. «Я не мучаюсь, я наслаждаюсь тем, что я делаю».
С исторической дистанции в тридцать с лишним лет «Дядя Ваня» Кончаловского вовсе не кажется компромиссом. Напротив, он подводит суровую черту под развитием образа интеллигента в отечественной культуре на рубеже 1970-х годов. Уже из этого времени шестидесятнический пафос казался неубедительным. Дистанция между идеями либеральной интеллигенции и общинным мировидением народа становилась все более очевидной и непроходимой. Образ подмороженной России в финале картины призван был пробудить трезвость взгляда на исторические перспективы «народознания» отечественной интеллигенции.
8
Картина по Чехову шла легко. Это ощущение усилилось еще и тем, как трудно снимал в соседнем павильоне своего Чехова Юлий Карасик. Собрат по прошлым венецианским победам Карасик ставил «Чайку», признаваясь, что все это ему до чертиков надоело.
Правда, в ходе работы над «Дядей Ваней» возникали и конфликты. Я уже упоминал историю с заменой Бабочкина Зельдиным. Не соглашался с режиссерской трактовкой роли Астрова и Бондарчук. Актер пытался сделать из доктора «чистенького и трезвого борца за народное будущее», с чем категорически не был согласен постановщик. «Наш конфликт развивался. Бондарчуку казалось, и он открыто говорил об этом, что я снимаю не Чехова, а какую-то чернуху. Тогда такое слово не было в ходу, но смысл был именно таков. Потом я даже выяснил, что Бондарчук ходил в ЦК и сказал: «Кончаловский снимает антирусский, античеховский фильм». Слава богу, к нему не прислушались».
Не все просто складывалось и в отношениях со Смокутновским. Вот как описывала работу режиссера с актером и ее плоды театральный критик Елена Горфункель.
«Режиссер и исполнитель преследовали разные цели. Смоктуновский тянул к «Шопенгауэру», пусть за конторкой, с очками на носу, со счетами в руках. Кончаловский не видел в нем (в Иване Войницком. – Б.Ф.) даже приличного бухгалтера. Актер мечтал об одном, режиссер настаивал на другом, а результат получился третий. Внутренняя борьба отражалась на образе Войницкого. Режиссер принял желание героя быть кем-то или чем-то значительным как вектор его характера, а изобразил как флюгер. Обаяние и искренность так же свойственны этому Войницкому, как никчемность и непонимание самого себя…В сцене скандала с выстрелом Смоктуновский искал драму, режиссер – трагикомедию. Войницкий неожиданно сближен с Серебряковым… Бунт дяди Вани – смешной и некрасивый семейный скандал… После такого расчета с собой Войницкий окончательно сникает и погружается в дремоту безразличия – видимо, навсегда».
Хотя Смоктуновскому была, по убеждению Е. Горфункель, не близка режиссерская трезвая, даже холодная оценка несостоявшихся судеб, он все же уступил Кончаловскому, однако испытывал к Войницкому неутихающее любопытство. Режиссер видел в актере «человека рефлекторного, нередко в себя не верящего, жаждущего получить энергию от режиссера». А поэтому бывал с ним и груб, орал на актера, говорил, что тот кончился, иссяк. «Ему нужен был адреналин. Не пряник, а кнут. Может быть, потому, что он уж слишком много отдал. Устал. Во всяком случае, работали мы как друзья, и если я порой давал ему психологического пинка, то он сам понимал, что это необходимо».
Между тем, по описанию съемок Лордкипанидзе, кажется, что режиссер «куда-то отодвигается, будто его и вовсе нет, будто это не он, а кто-то другой ведет действие, строит его, определяет задачи актеров». В конце концов киновед как бы спохватывается и отмечает, что постановщик все же «твердо держит в руках все нити – твердо держит и направляет, как правило по-своему, хотя к желаниям исполнителей внимателен и уважителен чрезвычайно. Именно в силу этого тут возможны и пространные разговоры и конфликты – режиссер прекрасно понимает, что без талантливых сотоварищей Чехова сколько-нибудь толково не передать. Однако в пристрастии и доверии Михалкова-Кончаловского к актерам угадывается и нечто иное, не только с Чеховым связанное. Его художественное мышление по природе своей чувственно и конкретно: жизненные проблемы познаются им через житейские судьбы, и исполнитель в его фильмах фигура, как правило, первостепенная…»
На этом фильме произошло печальное событие. Кончаловский расстался с «Гогой» – выдающимся оператором Георгием Рербергом, с которым начинал работать еще на «Первом учителе», а потом и на всех следующих картинах вплоть до Чехова. С ним Кончаловскому работалось легко. И он всегда считал его большим мастером, у которого много чему можно было поучиться. Например, созданию удивительных портретов…
Режиссеру никогда не забыть, как использовал оператор в «Дворянском гнезде» большой дуговой прибор, диг, в сцене с яблоками, насыпанными в театре, где Лаврецкий разговаривает со слугой. Кончаловский никак не мог понять, чего добивается оператор, руководя бригадой осветителей. В снятом материале он увидел, что белый свет в нем какой-то странной емкости. Рерберг объяснил свой секрет. Оказывается, у дугового прибора в периферии луча возникает радуга, весь спектр цвета, и когда край луча попадает на объект, тот становится цветным. «Гога открыл это и играл краем луча дугового прибора – там, где он расщепляется на радугу. Я был восхищен его тонкостью…»
Большого мастера Гогу Рерберга подводила всегда, по мнению Кончаловского, «мальчишеская наглость и мальчишеская огульность в оценках». «Бог с ним, что он появлялся на съемках нетрезвым – на качестве материала это никогда не отражалось, но меня всегда возмущало отсутствие у него тормозов». В конфликте Кончаловского и Рерберга на «Дяде Ване» предчувствовалась настоящая драма противостояния Рерберга и Тарковского на «Сталкере».
На «Дяде Ване» Рерберг работал в дуэте с Евгением Гуслинским и очень критически относился к тому, что делал режиссер. «Говно… Снимаем говно». «И это – из самых мягких подобного рода высказываний. Меня они бесили», – замечает Кончаловский.
«Как-то мы ехали, он был крепко выпивши, а пьяного я его не любил – он терял всякую способность сдерживаться, матерился, себя уж точно считал центром вселенной.
– Андрей, ну ты же понимаешь, что я гений, – сказал он.
Мне смертельно надоело это слушать. Я остановил машину… и сказал:
– Ну, ты, гений, вылезай отсюда к такой-то матери!
Гога опешил. Вылез. На следующий день я его отчислил с картины. Мы расстались. «Дядю Ваню» доснимал один Гуслинский…»
Фильм «Дядя Ваня» побывал на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Но без режиссера, который из газет узнал о присуждении картине «Серебряной раковины». Жаловаться режиссеру особенно было не на что. По его собственным словам, с начала 1970-х он «пошел шастать по Европе», получая «недоступное и упоительное удовольствие».
В 1972 году он устроил показ «Дворянского гнезда» в Риме, пригласив Антониони, Феллини, Лидзани, Пазолини, Лоллобриджиду. До конца просмотра остались все, кроме Феллини и Карло Лидзани. Как раз тогда режиссер завязал приятельские отношения с Джиной Лол-лобриджидой. Актриса подарила ему книгу своих фотографий, специально для него напечатанную.
В Италии же началась дружба Кончаловского с замечательным сценаристом Уго Пирро, автором «Следствия по делу гражданина вне всяких подозрений», который лет на двадцать был старше режиссера.
Постоянные поездки за границу заставили Кончаловского серьезно изучать отечественное законодательство – искал способы «пробить советскую систему». Оказался только один: уехать как частному лицу на постоянное жительство, сохранив советское гражданство.
«Что за наслаждение, – восклицает в своих мемуарах режиссер, – быть «частным лицом»!»
За время своих путешествий Кончаловский познакомился с Марком Шагалом, «великим фотографом» Анри Картье-Брессоном, который и предложил Кончаловскому свести его с не менее любимым Луисом Бунюэлем. Встреча подробно описана в «Низких истинах».
Кончаловский вспоминает, как возвращался из Парижа на машине, решив ехать в Москву самым длинным путем – через Италию, Венецию. Вез кучу пластинок, ящик молодого вина… «Провожала меня до самого советского лагеря одна очень милая голубоглазая, рыжая женщина… У границы Югославии мы расстались, она уехала обратно. Я поехал на север через Загреб, в Загребе пообедал, заночевал. Это был уже «свой город» – пьянство, неухоженные отели. Потом был Будапешт, Венгрия, вся уже покрытая снегом. До советской границы я добрался в самый последний день, когда еще действительной была моя виза, боялся, что меня не впустят. Граница была уже закрыта, я ночевал в каптерке у русских пограничников, мы засадили весь ящик вина. И какого вина! Нового божоле. Так я и не довез его до Москвы. Они пили драгоценную рубиновую влагу и ругались: «Кислятина! Лучше бы водки дал!» Шел густой снег. Возвращение в советскую зиму…
В Ужгороде меня ждала другая женщина, приехавшая провожать меня дальше».
Глава третья Там, за декорацией, или…
Я вдруг почувствовал перед собой не степу, а пространство. В него сначала протиснулась рука, потом – голова и плечо, потом оказалось, что в него можно войти…
Андрей Кончаловский, 1977 г.1
«Женщины, – делится в своих мемуарах Кончаловский, – постоянно присутствовали в моей жизни, были руководителями и организаторами всех моих побед». Близость женщины часто насыщала творческой энергией весь процесс создания вещи, наполняла живой силой любви. Режиссер воспринимал женщину рядом как один из питательных источников для своих творений. Он напрямую связывает творческую состоятельность художника с его дееспособностью как мужчины. Елене Кореневой, например, казалось, что Кончаловский каждую свою картину переживал как бурный роман, страстно влюблялся в своих актеров, а в актрис особенно, превозносил их до небес.
Особым драматизмом наполнено соотношение женских образов в экранизации «Дворянского гнезда». Но и события жизни, складывавшиеся вокруг картины, рифмовались с ее вымышленными коллизиями. Съемки, как помнит читатель, не раз заходили в тупик, и режиссер, «от ужаса перед необходимостью идти на площадку и что-то снимать, выпивал с утра полстакана коньяка». В этом отчаянном состоянии «было одно желание – ощутить рядом прерывистое женское дыхание». Так начался недолгий роман с двадцатилетней дебютанткой Ириной Купченко. В своих мемуарах Андрей признается, что во время съемок, наблюдая за актрисой, крупные планы которой в роли Лизы были наполнены неподдельной одухотворенностью, «чувствовал себя Лаврецким». «Сколько энергии дала мне Ириша Купченко!» – восклицает он.
Молодой актрисе был подарен неувядаемый экранный имидж «тургеневской девушки». Но сам же даритель его и разрушил в «Романсе о влюбленных». На развалинах бывшего идеального образа возникло нечто совершенно иное: подавальщица из «совковой» столовки начала 1970-х. Начиная с «Дворянского гнезда» Ирина Купченко снималась у Кончаловского вплоть до его отъезда за рубеж. И уже в 1990-х – в «Ближнем круге». Она появлялась как раз тогда, когда режиссер оказывался в некотором творческом тупике. Так было, например, во время работы над «Дядей Ваней». Не могли найти подходящую исполнительницу роли Сони. Сергей Бондарчук напомнил Андрею о Купченко: «У тебя же есть такая актриса!» И только тогда режиссер решился сменить не справляющуюся с ролью другую актрису. Он позвонил Купченко: «Ира, выручай!» И она согласилась. Воспоминания Андрея о работе с ней исполнены благодарности.
Женщины в художественном мире Кончаловского – одновременно героини и этого мира, и реальной жизни художника, которая, в свою очередь, есть продолжение художественного мира, его атмосферы. Чувственное начало, всегда очень сильное в его произведениях, несомненно, откликается за пределами творчества.
Маша Мериль, как помним, не была занята в «Гнезде», а образ ее витал в атмосфере фильма. К тому же она могла волновать воображение Андрея своей причастностью к дорогим ему кинематографическим именам. Француженка русско-княжеского происхождения (Мария-Магдалина Владимировна Гагарина), в качестве актрисы (Мериль – ее актерский псевдоним) она к тому времени уже снялась у Годара. Размышления Кончаловского о родине, об отношении русского человека к европейскому миру и своим национальным корням опять же рифмовались с личными чувственными переживаниями, связанными с образом француженки.
Противостояние родного и европейского откликнулось в «Гнезде» «дуэлью» героинь Беаты Тышкевич (Варвара Лаврецкая) и Ирины Купченко (Лиза Калитина). С точки зрения героя картины Федора Лаврецкого, в вокальном дуэте в усадьбе Калитиных спорят две его музы, две его жизни. Загранично-парижская, ставшая ему чужой, с противоестественной русской княжной Гагариной («чистокровная пензенская, степная, а по-русски ни слова»), с изменами жены – с одной стороны. А с другой – его призывающая родина, с неброской, глубоко духовной красотой, целомудренностью. Таков здесь образ Лизы Калитиной, поданный с кроткой нежностью и сдержанным, но влекущим эротизмом.
Другое дело – Варвара Лаврецкая. За ее плечами опыт светской лжи, двойной жизни, в конце концов, предательство родных корней. Для самого Лаврецкого она эпоха пережитая, которая еще цепляет, но к которой он не хочет возвращаться. В фильме Варвару Петровну сопровождает ее камеристка Жюстин – зрительный образ омертвевшей души героини. Кукла, изображающая живого человека. Режиссер обостряет духовно-нравственное соперничество своих героинь как двух женских типов, волнующих его воображение.
Проникающая в «Дворянское гнездо» «чудовищная тоска по Маше Мериль и по Франции» усиливает состояние обреченности. «Все мучения Лаврецкого, все его мысли выросли из того, что я весь этот год чувствовал, думая о том, что там, в залитом светом Риме и Париже, ходит женщина, которую я боготворю и в которой я обманулся. Вся картина об этом – о том, где жить…»
Но французская актриса, вспоминая в 2000-х годах о романе с Андреем, не находит в нем этой мучительной глубины. Ей кажется, что Кончаловский переживает единственный «великий роман» – роман с самим собой. Когда актриса говорит о всепоглощенности Кончаловского собой, любимым, она невольно воспроизводит распространенные клише представлений о нем, хотя понимает, что «вызывающий эгоизм» есть необходимое качество его художнической натуры. С этой точки зрения он поглощен не столько собой, ограниченным известными потребностями, сколько собой, воплощенным в каждый новый момент его существования в том художественном мире, который он в данное время создает.
Если художественный мир «Дворянского гнезда» держится конфликтным натяжением между двумя героинями и вдохновлен любовью и к ним, к исполнительницам этих ролей, и одновременно к далекой Мериль, то совсем иначе чувствует себя мир «Дяди Вани», иначе в нем проявляет себя и женское начало как источник жизни. Женщины в картине о духовно истощившейся России бесплодны, как и земля, образ которой то и дело возникает в кадре в рифму с раздумьями Михаила Астрова. Они бесплодны, хотя и Елена Андреевна Серебрякова, и ее антипод Соня могли бы плодоносить – но не от начала, подобного Серебрякову, подавляющего их своим мертвым безличием. Однако и силы Войницкого, и силы Астрова – силы трудовой русской интеллигенции истощались на сломе времен.
Как раз во времена «Дяди Вани», когда Андрей жил миром Ингмара Бергмана, он впервые увидел Лив Ульман, уже снявшуюся в «Персоне» (1966) и после нее ставшую женой почитаемого режиссера. Образ этой женщины оставил в его душе чувствительный след. По его рассказам, уже в период работы над «Романсом», в тот момент, когда он сильно захворал, его вдруг потянуло туда, к «странному миру Бергмана – к Лив». Свою почти фантастическую встречу с прекрасной норвежкой режиссер подробнейшим образом описывает. Как он, почти в полубредовом состоянии, после ночных видений с участием желанной женщины вздумал позвонить бывшей супруге Бергмана, а затем и встретиться с ней, находящейся в это время в другой, к тому же капиталистической, стране. В конце концов они стали друзьями.
В мемуарах Кончаловского женщина – один из главных персонажей. Ну, хотя бы во вставной новелле «Она», которую и сам мемуарист предлагает воспринимать как беллетристику.
Прибыв всего на три дня на отечественный кинофестиваль в Сочи, шестидесятилетний повествователь знакомится с молодой привлекательной актрисой, причем вполне соответствующей его женскому типажу. Ужинает с Ней и, конечно, приглашает к себе в гостиничный номер. Тогда он испытал редкое наслаждение от физической любви: по эмоциональности, по степени отдачи. Были женщины, с которыми в постели весело, были – с которыми приятно, были – которых он любил, но ревновать не мог. И только потому, что они были индифферентны в любви. Как можно ревновать женщину, когда понимаешь, что она так же спокойно, равнодушно отдается и другому? Иное дело та, которая отдает все и умирает, возрождаясь, поскольку страшно и больно вообразить, что она такая не только с тобой. После этой ночи он чувствовал себя победителем и гордился «своей кавалерийской победой». Но предупредил Ее, что у него жена и что он любит своих детей. И в тот же момент почувствовал, что покинуть Ее не может, не может и дать Ей уехать, не может не видеть Ее еще, не обладать Ею. Словом, он почувствовал, что влюбился…
Кроме беллетристики такого рода, в мемуарах Кончаловского можно найти и примеры философии, посвященные отношениям мужчины и женщины. В последние годы режиссер время от времени адресует своих собеседников к «замечательному философу» Камилле Палья, американской феминистке, которую феминисты как раз и не любят. Как и она, Андрей считает, что женщины и мужчины принципиально разные существа, в том смысле, что мужчина разрушает для того, чтобы построить, а женщина – строит. И если бы женщины правили миром, то человечество до сих пор ютилось бы в хижинах, ибо естественное место женщины – возле очага с ребенком. И даже если она не у очага, а в Совете Федерации, она тем не менее остается существом, гораздо менее агрессивным, чем мужчина, в ней есть целомудренность, которая в мужчине «должна отсутствовать». Мужчина – охотник. Он лучше ориентируется на местности, осваивает пространство. Но язык изобрели женщины, потому что сидели вокруг очага с детьми и от нечего делать общались. Известно, что девочки, как правило, начинают читать раньше мальчиков…
Кончаловский не перестает удивляться феномену эротических влечений, в которых мужчина и женщина опять же диаметрально противоположны друг другу, как Марс и Венера. Вот один из его главных тезисов. Мужчина в своих сексуальных проявлениях утилитарен. Зов плоти гонит его на поиски приключений. Траектория мужских вожделений, исследованная Кончаловским на практике, такова: все начинается гигантским замыслом, а кончается жалким итогом. «Гонишься, распаленный желанием, достигаешь цели и ровно через три минуты после того, как все произошло, думаешь: неужели нельзя придумать какой-нибудь переключатель, чтобы просто нажать кнопку – и она исчезла».
Другой тезис. В каждом мужчине живет Дон Жуан. К числу донжуанов Кончаловский относит, конечно, и себя, всю жизнь обожавшего женщин «и только на шестом десятке понявшего, что это внутренне присуще мужчине, ибо он рожден охотником».
И еще: отношения мужчины и женщины – это игра, совсем необязательно любовь. Пока у мужчины есть иллюзия, что он мужчина, а у женщины – что она женщина, мир воспринимается с надеждой. «Я говорю об иллюзии. Неважно, как обстоит в реальности. Для мужчины, если иллюзия жива, игра продолжается…»
Кончаловский с пониманием цитирует итальянского писателя Альберто Моравиа: у художника может быть только один недостаток – импотенция.
И, наконец, последнее, может быть, наиболее важное в этой философии. Кончаловский вспоминает высказывание Бернардо Бертолуччи о том, что секс для итальянского коллеги – убийство и одновременно страх смерти. Страх – великое чувство, продолжает тему Кончаловский, именно в качестве могучего регулятора творческой энергии.
«Мы не знаем, что там, за чертой смерти. Для человека, как я, сомневающегося, не имеющего непоколебимой религиозной убежденности, черта самая страшная. От нее никуда не уйти. Ее нельзя отменить. Нельзя о ней забыть. Но, может быть, можно попытаться преодолеть? Как? Энергией творчества… Оставить после себя что-то, что «прах переживет и тленья убежит». Хорошо бы на века, но и на десятилетие – тоже ничего. Что оставить?..»
2
Юношескую любовь героя «Романса о влюбленных» Сергея Никитина искали долго, пока не пришла очередь детей киношников, среди которых и оказалась девушка, похожая на американскую кинозвезду Ширли Маклейн.
Конец 1972 года. Девушка сидит в кабинете Андрея на «Мосфильме» и слушает его рассказ о будущей картине. Потом еще встреча – она уже читает текст роли. Наконец, пробы, которые накладываются на время обострения отношений между Андреем и Вивиан. Он просит своих помощников не подзывать его к телефону, когда звонит супруга.
Девятнадцатилетняя Лена Коренева, дочь известного кинорежиссера, сразу угадала не только соотношение сил – своих и обратившего на нее внимание Кончаловского, но и судьбоносность происходящего. «Мне ничего не оставалось делать – только слушать и ждать, наблюдать, как разворачивается написанная кем-то заранее история моего будущего», – писала в своем мемуарном романе актриса.
Для Елены первый приход в дом Кончаловского был сопоставим с посещением музея культурных ценностей, а его речи казались невероятными, уносившими в какие-то фантастические дали. Даже в позднейшем ее пересказе чувствуется завораживающая магия происходившего. Она отмечает в Андрее «что-то мюнхгаузеновское – в глобальном масштабе его планов, только с той разницей, что он мог действительно поехать и во Францию, и в Италию, в Америку… Дерзость его намерений передавалась слушателям, тем, кто оказывался в данный момент возле него».
Кончаловский – просветитель по натуре. Он, как признавался и сам, не упускал возможности образовательно-воспитательного воздействия на своих спутниц. Елена была благодатным в этом смысле материалом и, надо сказать, многое восприняла из его учения. Одним из первых «воспитательных» актов было вручение брошюры под названием «Восток и Запад», отражающей тогдашние увлечения Андрея восточной философией, в частности дзэн-буддизмом. Но в тот момент голова девушки кружилась вовсе не от интеллектуальных нагрузок, а от того, что обложка брошюры была пропитана ароматом его парфюма – «пьяный горьковатый вкус восточных благовоний». На особую роль волнующих запахов в их отношениях с Андреем обращали внимание и другие женщины. Актриса Ирина Бразговка через много лет после расставания с ним вспоминала: «У него в комнате стоял необычный запах, терпкий, ни на что не похожий. Я никак не могла понять, что это пахнет, пока однажды не обнаружила на столе маленькую бутылочку без этикетки. Когда стало ясно, что он вот-вот уедет, я эту бутылочку украла… Этот запах – единственное, что возвращает меня в те дни…»
В образовательную программу для Кореневой входило не только ознакомление с фильмами, фотоальбомами, живописью и музыкальными произведениями. Но также и рекомендации по здоровому питанию, тем более что у него недавно открылась язва и теперь он вынужден был сидеть на специальной диете. Кончаловский приучил юную актрису к сыроедению и вегетарианству.
В 1974-м они отдыхают в Коктебеле. Это был разгар увлечения здоровым образом жизни: разгрузочные дни, йога, традиционная трусца по утрам, нетрадиционное спанье на досках. Глядя на своего учителя, девушка постепенно втягивалась в спартанский режим. Вскоре даже внешне стала походить на него: «внезапный оскал улыбки из-под темных очков, при кажущейся вальяжности – сдержанность и целомудрие в манерах; подчеркнутая особость поведения в любом из имеющихся коллективов».
Внимание как к собственному здоровью, так и к здоровью всех вокруг – было и остается особым пунктиком Андрея, поскольку он верен установке «любить себя», иными словами, любить ту жизнь, которая именно через него, через конкретного человека являет свою неповторимость. Вегетарианством он в те дни, когда я пишу это, уже не злоупотребляет, но питаться старается осознанно. Сказывается, ко всему прочему, здоровый эгоизм человека, организованного страхом смерти, старости.
Культивируемый Кончаловским, этот «жизнеспасительный» эгоизм иногда становится предметом иронической и даже саркастически злой оценки со стороны. Легкая ирония чувствуется и в повествовании любившей его женщины. Иные же его и вовсе не щадили. Известный писатель, сценарист Юрий Нагибин, соавтор Кончаловского по сценарию о Рахманинове «Белая сирень», человек, о котором Андрей всегда отзывался с уважением, в своем «Дневнике» довольно резко поминал знакомца, в том числе и его, как казалось писателю, мнимое вегетарианство.
Сказалось не столько отношение Юрия Марковича к самому его соавтору по сценарию, сколько нелюбовь к родителю Андрея. Вот и в обаянии Андрону не откажешь, записывает Нагибин, и умен, и культурен, и «разогрет неустанной заинтересованностью в происходящем». Одна только беда – Михалков! «Если бы он не был Михалковым, я решил бы, что он не бытовой человек. Но поскольку он Михалков до мозга костей, этого быть не может, просто сейчас он лукаво запрятал бытовую алчность. Надо решать иные задачи…»
Я бы еще раз вспомнил здесь письмо Юлиана Семенова Наталье Петровне в защиту юного «Андрона», где говорилось, что многие смотрят на сына сквозь фигуру его отца. И злословие обращено скорее не столько в адрес сына, сколько в адрес Михалкова-старшего. Юлик как будто предвидел специфику будущих публичных оценок своего «подопечного» в либеральных (и не только) кругах. Следуя дурной традиции («кто не с нами – тот подлец»), грубо искажающей реальное лицо конкретного человека, эти люди никак не могут преодолеть в себе инерцию бессмысленного разоблачения того, кто, даже из присущей ему «львиной» лени, никогда не надевал маску, не суетился. Вот и в поле зрения мудрого Нагибина образ Андрона традиционно колеблется на границе «Михалков-Кончаловский» («бытовое-надбытовое»). Но в интонациях писателя чувствуется нота некоторой растерянности от того, что он не может окончательно «припечатать» приятеля, что в отношении других персонажей его «Дневника» удается вполне.
Хотя увлеченность восточным кодексом жизни в сочетании с трезво-рациональным, вполне буржуазным поведением в быту не смиряла его, по выражению Мериль, «татаро-монгольскую» натуру, готовую завоевать и поглотить все мало-мальски привлекательное, он любил подчеркивать в эпоху работы над «Романсом», что сам еще недавно был «грубым азиатом, способным из ревности ударить женщину», но со временем «начал превращаться в европейца, уходить от иррациональных страстей в пользу здравомыслия». Андрей ссылался на влияние жены-француженки, сам выбор которой казался ему «следствием его изменившихся воззрений»…
Таким его слышала и видела Елена Коренева. Она замечала не только рационализм своего «учителя», но иногда наблюдала, как он впадает, как ей казалось, в состояние мистической тревоги. Рациональное отодвигается, видны колебания и сомнения, неуверенность.
Проходили съемки в Серпухове. Они шли по проселочной дороге. Вдруг перед ними вырос объятый пламенем дом. Андрей застыл, потрясенный зрелищем разбушевавшейся стихии, на глазах безжалостно пожиравшей человеческое жилище. «Весь вечер потом он находился в смятенном состоянии – то погружался в свои мысли, то принимался о чем-то рассказывать или вдруг осенял себя крестным знамением. Меня поразила его реакция: он воспринял пожар как зловещий знак, символизирующий, очевидно, сожженные корабли – сожженное прошлое. Этот случай не только подтвердил мистический настрой самого Кончаловского, но и стал примером, как работает ассоциативный механизм художника. Привыкнув зашифровывать реальность в образы и метафоры, он получает обратную реакцию своего сознания: вид горящего дома превращается для него в знамение, которое он связывает с его собственной жизнью…»
Но окажись этот эпизод в биографии Андрея Тарковского, он, безусловно, был бы вполне определенно истолкован и самим режиссером и в том же эзотерическом духе тиражирован его почитателями и биографами, как это и на самом деле случилось со многими похожими происшествиями в жизни Андрея Арсеньевича. Ни сам Кончаловский, ни другой кто, кроме Елены, о вышеописанной мистике и не поминает. Между тем в его творческой биографии это не первый и не последний эпизод такой окраски. Но не пристает к моему герою мистическая избранность…
Роман Кончаловского и Кореневой набирал обороты. Она сопровождала Андрея на Московском международном кинофестивале, видела его поведение в мире специфических тусовок. Он успевал улыбнуться несметному числу знакомых, переброситься с ними несколькими фразами. Но легко избегал и настырности подобных встреч. Как замечает Елена, он был мастером сложной науки: не дать людям сесть тебе на шею и при этом не оставить никого в обиде.
Между тем девушка не могла не чувствовать, что их отношения колеблются на грани, как сюжет «Романса» между цветовой и «серо-серой» частью, в которой бывшей возлюбленной героя Тане делать уже нечего. Однако вернувшись в Москву с севастопольских съемок «Романса», Кончаловский принял решение, что они будут жить вместе. Поселились в небольшой квартире на Красной Пресне. Елена стала бывать на Николиной Горе. Никита, незадолго перед этим женившийся во второй раз, осуждал старшего брата за новую связь. При этом Елена, стремясь быть похожей на героиню, рожденную воображением Кончаловского и перенесенную в фильм, разумом осознавала, что о разводе Андрея с Вивиан не могло быть и речи. И прежде всего потому, конечно, что у француженки была маленькая дочь от Кончаловского. Вивиан в этих условиях никогда не согласилась бы на развод.
«Отчаявшись, как мне казалось, найти истину в вечном конфликте полов, – пишет Коренева, – Кончаловский-мужчина игнорировал предъявляемые ему обвинения морального толка, сосредоточив лучшее, что в нем было, на профессии. Он готов был пойти на любые жертвы… ради воплощения своей мечты – кино. И даже отъезд на Запад, как я тогда понимала, был задуман им для поиска большей свободы в профессии – на том единственном поле боя, на котором он готов был сразиться с пугающей его реальностью. Проезжая как-то по Красной Пресне, он взглянул за окно своего «Вольво» и робко признался: «Я этого совсем не знаю!» «Это» – спешащие после работы советские служащие, перекошенные сумками и заботами. Встретить в Советском Союзе человека, который «этого» не знал, само по себе было большой ценностью. Он знал другое – чего не знали те, кого он видел из окна своей машины…»
Кончаловский боялся советской реальности тогда, страшится он и постсоветского отечественного раздрызга, может быть, еще более. Но это вовсе не означало и не означает, что он не знает того и другого. Знает. Или, как говорит он сам, чувствует мозжечком, подобно тому, как чувствовал Пушкин Пугачева. И чувствует-знает, как я могу судить, лучше, чем эта реальность себя самое. Он действительно сражался с нею своими методами и на знакомом ему «поле боя». Каждый из его фильмов, в большой степени тот же «Романс о влюбленных», был любовно-разоблачительным укором стране за страх перед ней.
Оттого что роман Андрея и Елены складывался на стыке с художественным миром и испытывал его несомненное влияние, отношения приподнимались на некие «котурны». Она верила, что может остаться для него ангелом-хранителем навсегда. Особенно в те моменты, когда они были наедине, и ее тридцатипятилетний возлюбленный исповедовался перед ней, как она выражается, девятнадцатилетней «нимфеткой». Она стремилась выглядеть в пространстве воображенного им мира «гением чистой красоты», «бестелесной Музой». Полтора года она обращалась к нему на «вы», ощущая в нем породившее ее отцовское начало.
Иногда казалось, что он видит в ней дочь, своего ребенка. Хотя у него были дети, свои отцовские чувства как будто впервые он испытал во взаимоотношениях с нею, своей героиней. Тем не менее, просыпаясь иногда ночью от того, что чувствовала его бессонницу, она слышала: «Ты мой ангел, помни это, ты нужна мне, я очень плохой человек, не будь хуже меня!»
Но ни супругой, ни матерью ни в его художественном мире, ни в реальности Кореневой не суждено было стать. Она так и останется маленькой клоунессой, напоминающей Ширли Маклейн, на пороге того мира, в котором может править и смерть. Так происходит и в «Романсе», и в «Сибириаде» – она остается по сю сторону, не переходя грань миров, а оставаясь на ней.
К моменту завершения работы над фильмом у Елены появились опасения за свое психическое состояние: слишком резкие переходы от экзальтированного счастья к необъяснимой тревоге. Андрею, с которым она поделилась своей обеспокоенностью, пришло в голову окрестить молодую женщину, что и было сделано с привлечением его матери. Но тревоги не исчезали…
…Осенью 1974 года «Романс о влюбленных» шел в рамках Недели советского кино в Париже. В составе делегации были Кончаловский, Киндинов и Коренева. Режиссер и актриса путешествуют по Европе со своим фильмом. И годы спустя она будет взахлеб вспоминать, как любимый человек знакомил ее со своими парижскими друзьями. А среди них были поэт, композитор и певец Серж Генсбур и актриса Джейн Биркин; актриса, певица и астролог Франсуаза Арди и ее муж – актер и певец Жак Дютрон…
Вслед за Парижем «Романс» отправится в Рим. Здесь актриса познакомится еще с одним приятелем Андрея– итальянским режиссером Бернардо Бертолуччи. Он покажет им свой «XX век», не на шутку взволновавший Кончаловского и, вероятно, как-то отозвавшийся в «Сибириаде». Во время прощания с итальянцем Андрей прослезится. Бертолуччи, оказывается, скажет ему: «Я люблю тебя и всегда думаю о тебе». В то же время маститый итальянец «Романса» не примет, посчитав его буржуазно-конформистской картиной.
В новом, 1975 году роман Андрея и Елены еще продолжался, будто бы вопреки предсказаниям «доброжелателей». Но ей самой перспективы казались все более туманными, поскольку в спутнике своем она видела «независимость от долгосрочных связей», длительность которых он определял сам, и противиться его авторитету было бессмысленно. Он всегда и во всем был безусловным лидером, ревнив, а вернее, как казалось ей, властен в отношении своей женщины. Придерживаясь норм личной свободы «на западный манер», он «хотел видеть рядом с собой умную, талантливую, образованную женщину и при этом желал ее полного подчинения собственной воле».
…Весной 1976 года начались хлопоты по обеспечению Елены собственным жильем. Какой-то кооператив отстроил дом, где Андрей предполагал поселиться сам – в двухкомнатной – и поселить ее – в однокомнатной квартире. И едва ли не сразу вслед за этим они расстанутся.
Летом 1979 года состоялась премьера «Сибириады». А вскоре Андрей покинул страну. После отъезда Кончаловского за рубеж сама Елена, оформив фиктивный брак, осенью 1982-го отбыла в США. Смогла вернуться оттуда только в 1986 году. За границей она несколько раз встретится с Кончаловским. Режиссер пригласит ее на маленькую роль в «Возлюбленных Марии», а позднее – в массовку на фильм «Гомер и Эдди», предоставляя возможность заработать какие-то деньги.
«Гомер и Эдди» был закончен в 1989 году. Небольшое время спустя у Андрея появится новая семья. Родятся дочери. А потом наступит разрыв и с этой женщиной.
В мемуарных рассказах Кончаловского о женщинах, с которыми так или иначе сводила его судьба, находится место как «низким истинам», так и «возвышающему обману». Заканчивается же дилогия очень лиричными и по-своему загадочными строками, которые намекают на некое особое, может быть даже мистическое, место, занимаемое женщиной в духовной жизни автора мемуаров…
«Есть в деревне Уборы Одинцовского района, под Москвой, церковь XVII века, изумительной красоты, работы крепостного архитектора Бухвостова. В начале 50-х она стояла разоренная, облупившаяся, зияющее напоминание о варварстве коммунистов.
В церкви тогда был сеновал. Чисто, пахло душистым сеном, жужжали шмели. Одним из любимых развлечений ребят с Николиной Горы было пробраться через окно в церковь, залезть на хоры и прыгать вниз, соревноваться, кто выше залезет и сиганет в мягкое пыльное сено, принимающее бережливо потные детские тела. Визг, крики, смех… Потом приходил сторож и палкой гнал всех прочь…
Так вот: самым большим счастьем было прыгать вдвоем с девочкой, в которую влюблен. Держась за руки, глядеть в ее расширенные глаза и проживать эти считаные мгновения как вечность, с перехваченным от счастья дыханием.
Однажды, прыгая вдвоем с девочкой, я своим же коленом разбил себе нос. Он распух и посинел. До свадьбы зажило…
Этот эпизод я вспомнил недавно… и вдруг запнулся, словно меня током ударило…
Я подумал, что вся моя жизнь, может, и есть один такой прыжок. Ведь что такое несколько десятилетий, даже сто лет с точки зрения жизни нации, мира, Земли? Так, считаные доли мгновения. Но мне они кажутся достаточно долгими, растянутыми во времени. Вот так бы и лететь, с перехваченным духом, падать, держась за руки, глядя в любимое, нет, родное лицо… Жаль лишь, что невозможно в конце не расквасить носа, как ни ловчись…»
3
«Романс о влюбленных» появился в 1974-м.
Явление резко поворотное в творчестве Кончаловского. Обнажающее суть его художественного метода, открывающее дальнейшие пути мастера.
Поворотным фильм стал и для сценариста Евгения Григорьева (1934–2000). Может быть, потому, что он в первый (и в последний, пожалуй) раз встретил режиссера, всерьез пытавшегося постичь его, Григорьева, художественный мир.
Диалог-спор со сценаристом продолжился и после картины. Так на свет появилась первая книга Кончаловского «Парабола замысла» (1977), целиком посвященная одному фильму.
Похоже, режиссер и сам пытался осознать, что же такое он сделал, основательно перепахавшее его как художника, но обрушившее на его же голову невиданное доселе количество упреков и разоблачений. Именно после «Романса» последовал поток его собственно теоретических посланий о природе кино, о сценарном и режиссерском творчестве, об актерском мастерстве, о специфике жанров комедии и трагедии. Происходило осознание и закрепление метода.
Встреча с Евгением Григорьевым, по словам Андрея, произошла спонтанно. В начале 1970-х сценарист обратился за советом к Кончаловскому: кто из режиссеров мог бы взяться за его «Романс о влюбленных сердцах», лежавший на «Мосфильме», кажется, с 1968 года. Кончаловский решил сам познакомиться с произведением.
«Начало чтения оставило ощущение бреда. Но чем дальше я углублялся в сценарий, тем более он захватывал меня. Я уже заразился авторской эмоцией, проникся удивительным настроем вещи. А когда дошел до сцены смерти героя, то уже не мог сдержать слез. Я был потрясен. Сценарий стал преследовать меня. Какой-то непостижимый, сказочный мир мерещился мне за страницами григорьевской поэмы в прозе. Страстный. Чистый. Неповторимый. Яркий. Я уже чувствовал, что не могу не снимать этот фильм. Решение ставить сценарий Григорьева было зигзагом совершенно неожиданным. Взялся потому, что был в него безоглядно влюблен, не видел и не хотел видеть в нем никаких недостатков…»
Внешне фабула сценария казалась расхожим общим местом. Юноша уходит в армию. Девушка ждет, а затем, не дождавшись, выходит замуж и т. д. До «Романса» нечто похожее было создано, например, во Франции. «Шербурские зонтики» (1964) Жака Деми то и дело упоминались рядом с фильмом Кончаловского с прозрачными намеками на плагиат. Язык сценария выглядел абсолютно противным кино: высокопарный, странный для слуха гекзаметр. Но покоряло мироощущение, ярко и ясно выраженное.
«О простых вещах он говорил с поистине первозданной чистотой, страстью, и нельзя было не поразиться мужеству и таланту автора, взявшегося открывать новое в самом обыкновенном… Сценарий уже предлагал совершенно определенный мир. Не надобно было никаких усилий, чтобы его разглядеть, – надо было его осуществить… Собственно, это и есть, пожалуй, главная задача режиссера – развить, умножить мир сценария…»
Кончаловский, подготовленный опытом своих предыдущих работ, нашел в сценарии Григорьева столкновение миров: мир счастливый, праздничный, увиденный глазами влюбленного, и мир, потерявший смысл, цвет, душу, – мир без любви. «Каждый из этих миров был вполне завершенным, заведомо исключающим, отрицающим саму возможность другого. Это и было для меня главным: стык миров…»
Так и строит свою картину режиссер: на столкновении первой, цветовой части картины со второй, «серо-серой», по его выражению, частью, как бы опровергающей первую.
Неповторимость и остроту сценарного хода «Романса» режиссер видел в том, что «безоблачность первой части снималась скепсисом второй. Здесь автор и его герой прозревали. Когда жизнь била Сергея под дых с такой силой, что в глазах темнело, к нему возвращалась способность видеть вещи такими, каковы они есть. Он обнаруживал бездну пустоты вокруг себя и свое одиночество в мире, который еще вчера был для него единой семьей друзей и братьев. То есть и Григорьев и я вслед за ним шли по пути героя – от ослепления к прозрению…»
4
Фундаментальная особенность композиции «Романса о влюбленных» в том, что его сюжет открыто обращен к жанровой памяти мировой художественной культуры. Древний обряд инициации, героический эпос, шекспировская трагедия, роман – вот вехи становления, взросления героя фильма.
Жанровое содержание картины действительно как замечал режиссер, напоминает слоеный пирог.
Попробуем и мы, идя путем героя, снять слой за слоем, постигая смысл этого пути.
Первый слой – обрядовый.
Фильм начинается в первозданности утра. Герой пробуждается-рождается в начале картины как в начале мира, обновленного, готового для единения с ним в любви и благостности. И это мир детства, юности не только самого Сергея Никитина, а как бы всей Страны Советов. В начальных кадрах можно расслышать и эхо оттепельной атмосферы, эйфорической легкости ее лирического кинематографа.
Первые эпизоды фильма не только напоминают нам об обрядовом прошлом человечества, но и демонстрируют ритуальность советского образа жизни. Здесь счастливый человеческий коллектив – обязательное мерило
для любого его представителя. «Простой парень» Сергей Никитин обязан быть счастливым, ежеутренне пробуждаясь под торжественный мажор Государственного гимна.
Вот влюбленные герои, омываемые-очищаемые коротким летним дождем, в посвежевшей, пронизанной солнцем зелени, где так естественно звучат признания в любви, как бы сливаются с природой. Мир первобытного существования, чуждый рефлексиям, – с обвалом чувств, с бессвязной, как и положено «природным» существам, речью, высший взлет которой – пение. Виртуозная камера Левана Пааташвили захватывает зрителя и несет его в потоке стихий.
Пролог любовного слияния с природой завершается. Сергей и Таня перемещаются в мир своего Дома и Двора. И обряд всеобщего единения продолжается. Из уст героя с одинаковой всеприемлющей радостью звучит и языческое восхваление природных стихий («Какое солнце! Какие облака!»), и бравый отклик будущего воина на призывную повестку («Долг выполню, что должно выпить – выпью…»).
Двор-семья – образ Страны, как ее чувствуют и видят поначалу герои. В соответствии с чем и подбирались костюмы для обитателей страны-семьи. «В единой теплой гамме, они составляли одно большое лоскутное одеяло– старое, выцветшее, но опрятное, приглаженное и очень уютное». Так возникал мир как бы патриархально-кре-стьянской общности, рифмующейся с советским образом жизни.
Мир двора-семьи – декорация общинного образа жизни. И режиссер очень скоро и безжалостно разоблачает условность созданной им идиллии общинного мира. «В кадре вдруг появился диг, чуть приоткрывая, что мы показываем не «жизнь», а «поставленную жизнь». Потом даже показали самих себя у съемочной камеры. По выходе фильма я не раз объяснял интервьюерам, что все эти диги в кадре нужны для того, чтобы по-брехтовски обнажить прием, показать, что на экране некое разыгрываемое «действо», напомнить, что показываемое – «ложь»…»
…Лето любви завершается. Подступает осень. Герой должен «исполнить долг», нести бремя армейской службы. Режиссер фактически воспроизводит логику древнейших посвятительных обрядов, чтобы показать переход своего героя из одного социального состояния в другое.
Так возникает новый жанровый пласт в сюжете.
Советская армии – в своем роде «страна предков». Ритуал подразумевает суровые испытания, в которых герой обретет новую и возрастную, и общественную роль.
Образ армии прямо связан с мифами о героических предках, в том числе и предках героя. Этими мифами живет дом Никитиных. Вот семья за ритуальной трапезой: мать и три ее сына. Старший – под портретом покойного отца. Отец отошел в «страну предков», но при этом присутствует как своеобразный незримый жрец.
Армейская служба героя – жанровый слой уже героического эпоса. Зритель видит былинно-гиперболические полковые учения, перемежающиеся с фрагментами любовной игры героя и героини, по логике фольклорного параллелизма: битва-трапеза, битва-любовь.
Морская пехота, в которой служит герой, – привилегированная часть обрядового коллектива страны, своеобразное воплощение мифа о фронтовом братстве, перешедшем в мирное время из былых сражений.
Герой, как и положено в посвятительном обряде, пройдет испытание «временной смертью», то есть «погибнет», исполняя долг перед Государством, чтобы возрожденным войти в пантеон предков, завершив свою ритуальную героическую миссию.
Но: «Морская гвардия не тонет!» – и советский воин победит даже Смерть.
Однако вначале семья получит извещение о его гибели в этой борьбе. Только позднее придет весть о неизбежном воскрешении.
Эпический героизм Сергея Никитина зеркально отражается в героической же сюжетной линии хоккеиста Игоря, давно влюбленного в Таню. Спортивные подвиги хоккеиста выглядят великими сражениями богатыря, но уже не со стихиями (как в случае с Сергеем), а – в рифму им – с иноплеменниками.
И девушка, в свою очередь, должна пережить посвящение. Жизнь в Тане, якобы потерявшей любимого Сергея, замирает. Затем она возрождается в ипостаси невесты. Но уже для нового, давно прошедшего инициацию жениха! Им и оказывается как раз хоккеист – победитель чужеземцев.
Здесь Кончаловский шел за своим любимым Довженко. Вспомним финал классической «Земли» (1930): героиня спокойно обнимает нового жениха, явившегося взамен ее Василя, погибшего в сражениях с классовым врагом. Она будто и не замечает подмены!
Так у Довженко, а затем и у Кончаловского воспроизводится древнейшая метафора обрядовой подмены жениха в традиционных обществах, не знающих личностного самосознания.
По обрядовой логике двора-семьи встреча и брак Татьяны и Игоря, подменившего Сергея, вполне легитимны, а потому – не отменимы. Но согласится ли с этим «воскресший» Сергей?
Так завершается эпико-героический цикл. Его персонажи или уходят из сюжета, или неузнаваемо преображаются.
Наступает трагедийный слом.
Кончаловского уже в те годы очень занимал вопрос «о содержании и условиях возникновения чувства трагического». Ему было интересно, органично ли появление трагедии именно тогда, в середине 1970-х.
Он пытается дать свое определение социально-исто-рической почве, на которой вырастает жанр трагедии: революции, эпохи социальных сдвигов. В такие моменты, поясняет режиссер, отдельный человек переживает свою «причастность к мировому процессу», а значит, рождается «чувство трагического». Такая «сопричастность с процессами внутри собственной страны», «умение их оценить», пускай ошибочно, подчиняясь иллюзиям революционной эйфории, «есть явление, связанное с трагическим».
Кроме того, режиссер, убежденный, что пафос трагедии определяется гибелью героя «во имя чего-то», трактует эту гибель как переход скорби в радость. Необходимая черта трагического – праздничность. Смерть, порождающая чувство праздничного перерождения, обновления.
Коллективное героическое, олицетворенное в подвигах Сергея Никитина, становится историческим прошлым. Герой погружается в трагедийное одиночество. На первый план выходит ЛИЧНОЕ переживание происходящего, а не чувства коллективного МЫ. Герой покидает мир анонимного единства с его пафосом коллективных побед.
Равновесие в мироощущении героя сохраняется только до тех пор, пока в нем удерживается баланс природного и общественно-государственного, любви и долга. Но вот родной коллектив требует от героя личной, а не ритуально-уставной жертвы – безропотно отдать возлюбленную «подменному» жениху. Во имя Долга перед Двором нужно пожертвовать Любовью.
Герой прозревает ложность картины мира, которую он держал в своем сознании. Нет и не было равновесия взаимопонимания в его отношениях с Двором! Открытие потрясает. Он бросает вызов всем, всему миру, с которым недавно накрепко был слит. Он всех обвиняет в разладе и противопоставляет себя целому как его отторгнутая часть.
В трагедийном слое сюжета проступают масштабы замысла Григорьева-Кончаловского. Создатели фильма задумываются о феномене исторического становления мировидения советского человека. О трагедийном переходе этого человека от коллективистских ценностей к ценностям частного существования.
Как в образцовой трагедии, герой произносит свой монолог. В устах «простого парня» Сергея Никитина, водителя троллейбуса и старшего сержанта морской пехоты, он звучит почти пародийно. Но, с другой стороны, и оправданно. Ведь он только что пережил эпические события своего богатырского вознесения к пантеону предков! Исполняя долг, он представительствовал от лица всей Страны, сосредоточенной для него в пространстве его единого и неделимого дома-двора. И вот – его, исполнившего безличный долг, лишают заслуженной личной награды!
Не бунт, а космическое восстание Сергея Никитина против «все и вся» не может не разрешиться его символической гибелью – гибелью богатыря, представительствовавшего от лица Государства, от имени «МЫ», гибелью героического.
Гибель этого героизма, завершающая цветовую часть «Романса о влюбленных», есть прекращение общинно-коллективистской предыстории героя.
А по отношению к реальности, в которой жила страна в 1970-х годах, – это объективное предчувствие событий, грянувших через десять с небольшим лет.
Сцену ритуальной смерти Сергея Никитина снимали на железнодорожной платформе. Зимой. «Хотелось, чтобы во всем были библейская простота и яростность трагедии, чтобы пахло эпосом».
Сцена на платформе – предчувствие грядущей бездны, если не сама бездна. Холод. Темень. Мертвые лучи прожекторов. Различаются лишь главные лица: Сергей, Трубач, Альбатрос, Младший Брат, Таня, Игорь. Остальные – стертые светом пятна. Общее ощущение пронизывающего холода делает сцену трудной – в смысле преодоления человеком всего этого каменно-металлического пространства. А вырывающийся пар изо рта Сергея, который шатается, падает, вновь поднимается, – это ведь последний след исходящей жизни…
Случайно возник и финальный отъезд от платформы– как в темноту небытия.
«Мы кончили снимать объект, была какая-то грусть во всем окрестном пространстве, да и нам самим было печально расставаться с этим прекрасным условным миром, с героем, способным умирать от любви. И от этого родилась мысль снять прощание – уехать с камерой вдаль от этой платформы, где праздничная жизнь и праздничная смерть, сделать этот праздник угасающим островком среди бездны тьмы. Так мы и сняли…»
…Островок света исчезает. Подземная тьма Аида. Трагедийная смерть Любви, Героя, героического начала этого мира.
5
Один из опорных образов фильма – мать, но в нескольких ипостасях. Вот первая – мать братьев Никитиных.
«Мать – не просто мать, – поясняет режиссер, – а праматерь, наставница своих сыновей. Она аристократка духа. В такой семье муж не мог бросить жену. Он мог погибнуть на войне или умереть от фронтовых ран. В доме Сергея – ни одной лишней мелочи, даже занавесок там нет. Во всем прямолинейная ясность. На столе молоко и хлеб – не еда, а причастие. И три сына, как три библейских отрока…»
Отцы же в картине отсутствуют – как физические лица. Но присутствуют как миф – память о долге перед предками.
Во время работы над фильмом режиссер спрашивал у автора сценария: «Где в этом доме мужчины, где отцы?» – имея в виду и дом Тани, и дом Сергея. «Ты понимаешь, – отвечал Григорьев, – эта картина не только современная – она символична. В ней для меня – история нашей нации. А у большинства из нас отцов не было. Погибли – кто на Гражданской, кто – во время Отечественной. В общем, последние пятьдесят лет вся тяжесть лежала на русских матерях…»
В фильме портрет отца в доме Никитиных висит, что называется, в «красном углу». Как икона. Зритель видит его, когда мать сообщает сыновьям о гибели их старшего брата, исполнившего свой долг перед Отечеством. Тогда она и произносит фразу, позаимствованную режиссером из кубинского гимна: «Смерть за Родину есть жизнь».
Так акцентировалась высокая ритуальность происходящего. Потомок пошел дорогой Предка – исполнил свой Долг, погиб на службе Государству, обеспечив себе вечную жизнь в пантеоне Предков.
С окончанием первой части фильма ритуальные отцы покидают сюжет. Теперь уже сам герой должен отстоять право на свое, действительное отцовство.
Если на живых отцов в «Романсе» дефицит, то женщины, взвалившие на себя и отцовский груз, как раз в изобилии его населяют.
Мать Тани едва ли не насильно принуждает дочь исполнять природное предназначение женщины, когда та утрачивает интерес к жизни, узнав о гибели возлюбленного. Ее монолог дышит матриархальным пафосом.
Мать – естественное наше начало. Как природа, земля… Здесь истоки и рода, и народа. В то же время это естественное начало жизни травмировано всей нашей историей. С наибольшей силой откликается эта травма в образе матери Сергея Никитина.
Ее наставления иные, нежели те, которые звучат из уст Таниной матери. Она призывает к неукоснительному исполнению государственного долга. Образ сына и отца сливаются в представлении этой матери в образ Служения. Воссоединяя сына с погибшим отцом, мать как бы отдает его в жертву Отечеству.
И еще один женский образ – Люда, жена Сергея Никитина. Тоже – мать. Ее реплика, кульминационная в развитии образа, стоит в отчетливой оппозиции к цитате из кубинского гимна, которую произносит мать Сергея. Люда, обращаясь к младшему брату мужа, говорит: «Ты еще не знаешь, что жить – большее мужество, чем умереть». По сути, она отвергает запрограммированную необходимость жертвы во имя Государства.
Итак, Сергей Никитин пережил трагедийную гибель. Что далее? В какое жанровое пространство он входит в «серо-серой» части картины? Возможно, это пространство романной прозы – «эпоса частной жизни»?
…Унылая столовка средины 1970-х годов. Ее суета и незатихающий гул. Человек, сосредоточенно жующий, как будто совершающий глубокий мыслительный процесс. Затем этот же человек – водитель троллейбуса.
Звучат названия остановок: «Школа», «Нарсуд»… Вехи короткой жизни, тонущей в непроглядных буднях.
Это Сергей Никитин. Ему надлежит узнать, как достаются дети в прозе повседневного существования. Собственно, эта проза повседневности может прочитываться и как царство мертвых (герой ведь умер!) – образ той самой «страны предков», из которого выветрился пафос декорации первой части. «Мне и хотелось показать эту столовку как царство теней, людей в ней – тенями самих себя. Здесь у героев не отношения, а не более чем иероглифы отношений… Идет привычный автоматизм жизни…»
Но это именно жизнь без лозунговой пафосности. Застой. Жизнь муравейника, знакомого по первой части, но увиденного иными глазами. Здесь нет прошлого любовного единения. Рушатся дома старой, допотопной патриархально-общинной жизни. В этом «муравейнике» люди друг от друга отделены частными хлопотами, бедами, радостями.
Именно здесь совершенно автоматически в Сергее рождается: пора обзавестись семьей… Но даже тогда, когда на руках у Сергея появляется его ребенок, он, подобно Степану из «Аси-хромоножки», не вполне понимает, а что же далее. Не ощущается готовность взять на себя груз отцовской ответственности.
«В начале второй части мы показали мир без любви, мир, вроде бы неспособный дать человеку ничего, кроме материального достатка. Но затем надо было показать, что и в этом мире человек может найти свое счастье. Очень важна мысль о том, что легче идти до конца в отрицании чего-то, вплоть до гибели, чем принять выстраданную необходимость терпеливо преодолевать трудности, соразмерять себя с окружающим миром, с обществом, делать для живых то, что в твоих силах, и стараться менять к лучшему то, что можно изменить. Понимание всего этого и есть выстраданный результат зрелости, которая приходит на смену категоричности и нетерпению юности. С этой вот точки зрения и хотелось проследить, как постепенно, медленно вырастает в человеке приятие мира, помогающее найти силу жить».
В этой философии авторов картины отозвалась коренная переоценка идеологии шестидесятничества. Она заключалась в переходе от романтической иллюзии овладения миром к стоическому примирению с ним. Причем такое примирение могло состояться только как результат индивидуального выбора, осуществленного частным лицом.
И вот – новоселье семьи Никитиных. В новой квартире героя собрался весь бывший двор. Казалось бы, реанимируется единый мир прошлого. Но нет, люди отделены друг от друга. Крупные планы. Каждый как бы в ожидании чего-то, в предчувствии перемен.
Люда находит Сергея у кроватки ребенка. Он вновь говорит жене слова любви и благодарности. Похоже, кроме своего дитяти, женщина вынашивала и супруга все это время. Тут герой произносит слово, с которым и возвращается в мир долгожданный цвет…
Эта сцена и стала кульминацией становления индивидуального самосознания героя.
«…Бывают такие паузы, наполненные неуловимостью и трепетностью ощущений, о которых в старину говорили: «Ангел пролетел» – люди растворяются в вечности и друг в друге. Я написал себе в тетради: «Весь фильм – это ожидание чего-то. Это пристальное внимание друг к другу. Из глаз – в глаза. Переглядывание, словно узнают друг друга, словно видят друг друга в первый раз. А вернее – как в последний раз».
…Мне достаточно было, чтобы зритель ощутил минуту просветления… Я записал в дневнике, что в картине должно быть слово «вечно». Я хотел, чтобы конец картины был размытым, просторным для дыхания, рождающим ощущение незавершенности. И здесь в финале вместо точки – многоточие. Приглашение к раздумью…»
У кроватки дочери муж говорит жене то же, что и при первом свидании. Но это уже итог пережитого, выражение накопленного частного опыта. Только теперь он является перед женой в том качестве, в котором она ждала его: отцом ее ребенка. «Я так долго ждала тебя!» – говорит она с благодарностью.
И тогда Сергей, на фоне довольно унылого экстерьера за окном, произносит: «Ничего. Мы посадим здесь деревья. И лет через… десять здесь будет сад». В этот момент и возникает неяркий, но глубокий цвет. Возникает он одновременно с детьми, шумно врывающимися в комнату, где у окна, обнявшись, стоят Сергей и Люда. Дети застывают у порога, глядя на взрослых.
Так они достаются – дети.
И это драма не только возрастного преображения человека, но и переход из одного возраста эпохи – в другой. В этом эпизоде много от Чехова, с его паузами, в которых проглядывает вечность. Сопряжение мгновения и вечности. Оттого и цвет – тихий цвет перерождения. Звучит колыбельная Люды («Бродит сон…»). Сергей возвращается к общему столу. Окидывает взглядом лица. Подходит к окну. Он смотрит на свою руку, будто бы от него отделенную, чужую. Он смотрит на нее, как бы не узнавая в ней себя нового.
Образ строгой силы! Передающий драму отчуждения от человека его дела и одновременно – прозрение этого отчуждения, назревшую жажду его преодоления. Вот еще одна веха в эволюции «темы рук» у Кончаловского, заставляющая вспомнить и то, как толковал образ его дед-живописец. Вспомните, в его портретах руки, напротив, были всякий раз не отторжением, а возвращением человеку плодов его деятельности.
Финальные кадры фильма – неторопливая панорама лиц. «Тихий ангел пролетел!» Состояние глубочайшей медитации. Люди еще не вошли в ту «реку», которая для них уже иная жизнь. Они лишь на берегу. Но для реальности, которую они духовно покидают, они уже тени.
Последние кадры – своеобразное вознесение дома Никитиных. Поэтому люди действительно смотрят друг на друга (и в глаза зрителя), как в последний раз – на пороге иного этапа их исторической жизни. И в этой новой истории советскому человеку предстоит осваивать ценность одинокого частного бытия.
В произведении Григорьева-Кончаловского разворачивается не локальный мелодраматический конфликт вроде того, который есть в «Зонтиках» француза Жака Деми, а масштабная социально-историческая коллизия пробуждения частного самосознания в «простом советском человеке». Событие – чреватое, как выяснилось уже и на рубеже XX–XXI веков, мировыми катастрофами.
С этого момента, с момента появления «Романса», художественный метод Кончаловского сознательно требует «стыка миров». Режиссер всякий раз строит свой художественный мир и на границе языков разных культур. Поэтому и рождается иллюзия отсутствия у него авторского языка.
Кончаловский не монологист формы, подобно Тарковскому. Его кинематограф – полифоничный кинематограф. Любую языковую систему он воспроизводит как чужую и в этом смысле не полную, не охватывающую, не выражающую мир человека целиком, не способную до конца исчерпать его. И потому любой язык в его системе требует другого, в противовес. Его содержательный язык – разно– и многоязычие художественных, культурных форм. Отсюда и его творческий постулат: «Язык – вторичен, смысл – первичен».
Отсюда и его, Андрея Кончаловского, ода разрушению как одному из главных принципов, как ни парадоксально, построения-созидания художественного мира. Находясь в чрезвычайно узком пространстве между умножающимися чужими мирами в составе его собственного, Автор произведения видит не только начало грядущего мира, но и конец, гибель уходящего.
Есть еще один образ, к которому прибегает Кончаловский, когда хочет дать определение своему художественному методу. Образ человеческой жизни как лабиринта, по которому блуждает и Автор, и его герой в надежде постижения сути этой жизни, но всякий раз делая открытия в форме тупика – там, где, может быть, ожидался свет выхода.
Так что же, выход принципиально невозможен? Возможен. Как взгляд на лабиринт сверху, что и происходит в «Романсе». Да, по существу, и в любом другом его фильме. По слову поэта, взгляд с высоты вознесенной души на ею оставленное тело.
Для тех, кто пытается толковать созданное Кончаловским, существенно понять: у него важно не как есть, а как может быть. В стыке миров своего «лабиринта» Кончаловский, оглядываясь на порушенное, на то, что осталось в прошлом, то и дело искренне удивляется: «Неужели это был я?!» И увлеченно, пренебрегая опасностью, бросается вперед, к очередному открытию… Тупика? Неважно. Захватывает сама энергия броска.
6
Мне уже приходилось говорить о том, с какой фатальной предопределенностью сходятся друг с другом «Зеркало» и «Романс о влюбленных», две такие разные картины таких разных, но невозможных порознь художников. Смысл их сближения, с моей точки зрения, усиливается звучащим рядом голосом третьей картины, созданной так же близким и далеким для первых двух мастером, как и они друг для друга. Речь идет о Василии Шукшине и его «Калине красной».
Сам тип «низового» человека, которого я бы назвал «шукшинским типом», – феномен, объединяющий большое пространство отечественного кино. И в этом пространстве в одном ряду находятся герой Кончаловского и герой Шукшина. Эту близость легко обнаружить в «Асе», в «Сибириаде». Последний фильм дает зрелую ипостась героя «шукшинского типа», корни его происхождения вполне «шукшинские».
В 1990-2000-х годах стала очевидной заинтересованность Кончаловского судьбами отечественного крестьянства – в силу озабоченности и судьбами России, выросшей, как полагает режиссер, на фундаменте крестьянской культуры. В статье «Недомолотая мука русской истории» (2012) Кончаловский фактически пытается дать ответ на мучавший Шукшина вопрос: «Старая деревня уходит, но куда она приходит?»
«Новейшая история России показывает, что перемещение огромных крестьянских масс в города необязательно делает из них горожан и граждан, – это изменение места прописки, а не ментальности, и, скорее всего, – даже усиление негативных черт той же крестьянской ментальности… Город как скопление незнакомых в основном людей – анонимен. Люмпенизация русского крестьянина, после революции массово бегущего из деревни в город, наделяла этого крестьянина прежде незнакомой ему анонимностью: ведь в деревне все друг друга знают – чужаков нет. Наполнение города массой людей, сознание которых не претерпело формирования правосознания европейского векового горожанина, создавало для этих людей незнакомую им прежде анонимность и легко превращало их в криминальный элемент, который паразитировал на этой почве. Криминальность выражается необязательно в насилии над людьми – это может быть просто использование крестьянской смекалки для нарушения того или иного правила (помните, вечные потравы в барских лесах и лугах?), несоблюдения закона, легкой наживы за счет незнакомого соседа или анонимного государства (знаменитая халява!), – в любом случае это действие, которое не мог себе позволить право осознающий европейский горожанин. Не это ли является объяснением, почему Россия, будучи в своей массе крестьянской страной, не проявляла своего криминального сознания, пока жила по деревням? В деревне – в отсутствие анонимности – всегда знали, кто «тать», кто вор, кто распутная вдова. Люмпен же получил анонимность города. Если бы западный психолог мог проникнуть в русскую голову, он поразился бы мотивациям и действиям русского, легко идущего на нарушения любого рода, на сотрудничество с криминалом ради выгоды или собственной безопасности. То, что для русского человека кажется понятным и естественным, – с западной точки зрения характеризуется как проявление криминального мышления. И это мышление в России свойственно ВСЕМ – от лифтера до государственного мужа!»
Если брать за точку отсчета 1974 год, когда в советском кинематографе определился упомянутый тип героя благодаря появлению картин Василия Шукшина и Андрея Кончаловского, и отсюда следить его дальнейшее становление, то легко увидеть, что катастрофичность и гибельность стали определяющими чертами сюжетного становления типа – в уже значительно омоложенной ипостаси. Начало этому положила картина В. Пичула и М. Хмелик «Маленькая Вера» (1988).
А в 2007 году вышел на экраны уже не раз помянутый здесь фильм Кончаловского «Глянец». В нем нашел развитие женский вариант судьбы такого типа героя.
Замысел фильма начал оформляться, когда режиссер узнал о «бизнесе» Петра Листермана. Листерман – владелец «эскорт-агентства», занимающийся организацией знакомств самых богатых бизнесменов с молодыми девушками.
Затем размышления Кончаловского перешли в область превращений с «простым советским человеком» крестьянской ментальности (homo soveticus).
Кто же такой homo soveticus в толковании автора «Глянца»?
«Это, по сути, русский человек, но им правит советская ментальность: «Дорваться!» У человека западного, да и у российского человека дореволюционного такого желания не было: потому что не было такого отсутствия всяких возможностей, какое было при советской власти… Свобода ведь тоже создает проблему – проблему выбора. «Глянец» в определенном смысле – картина распада. Это декаданс в варварском государстве. Это даже не римская империя, это или «до», или «после». Я задумал комедию, а получилась черная сатира. Вроде сначала смешно, а потом страшно…»
В центре картины молодая женщина Галя, живущая в российской глубинке, где-то под Ростовом-на-Дону. Отец-пьяница. Замордованная домашней работой, вечно злая мать. Галино сомнительное изображение попадает на последнюю страницу «Комсомолки». Это подталкивает героиню к поискам счастья в столице. Она покидает дом, родное швейное производство и отправляется в путь. А поскольку ее дикое низовое сознание травмировано рекламой, невероятно разросшейся виртуальной стороной современного существования «простого человека», она мечтает войти в этот глянцевый мир и занять фанатически желанное место в нем…
Легко различить в этом коротком пересказе фабулы архетип сюжета с шукшинским героем. Существенно, что в путь в данном случае отправляется женщина. Есть ощущение, что герой-мужчина исчерпан на этом пути. Его горизонты сильно приблизились, и неутешительные варианты странствий с их финалами хорошо просчитываются. В том, что женский персонаж отправляется в посвятительное странствие, я вижу предчувствие полной катастрофы. Женщине странствовать не пристало. Ее изначальная миссия – дом и место, место в доме. Пространство инициации для нее и есть дом, пространство поиска себя в роли жены и матери.
В этом, кстати говоря, убежден и сам автор картины. Он с сожалением констатирует тот факт, что «институт брака свои функции теряет», что женщина «становится все более независимой». «Женщина, – поясняет он в интервью, – не может быть независимой просто в силу своей биологии. Грудной ребенок каждые двадцать секунд ищет лицо матери. Контакт глазами создает ему комфорт…»
Ни Ася Клячина, в исполнении Ии Саввиной, ни постаревшая Ася, в исполнении Инны Чуриковой, из дому не бегут, хотя там и дома-то никакого нет, по сути. Все вокруг цыганским табором вздымается или охватывается пламенем, рушится, детей в утробу нужника засасывает. Но эта женщина места не покидает. Помните философию: травка, она и есть травка, она и тысячу лет тому была травкой и сегодня травка, растет, корешками к этой почве привязанная? Что ей сделается? В системе понятий такого сюжета странствие женщины – окончательное разрушение дома.
Дело, однако, в том, что Галя «травкой» быть уже не хочет! Трудно ей сегодня оставаться в том месте, которое лишь формально можно именовать домом. Что делать на этом пепелище, на этих развалинах только начинающей свой путь молодой женщине пусть с глянцевой, но мечтой? Мать ей предлагает роль, испытанную всей ее жизнью: козу подоить, дров наколоть надо, яйца на рынок снести.
Такою жизнью живет и Ася из «Курочки Рябы». И по-другому жить не хочет, иной вариант судьбы, предлагаемый, например, Чиркуновым, не принимает. Из этого круга не выскочить, получается? А что в этом круге остается для души, да и для тела тоже? Не лучше ли все-таки сорваться и бежать, куда глаза глядят? Ну, а героиня «Глянца» тем более знает, куда глядят ее глаза… Однако результат почти предугадан уже в начале сюжета: крушение глянцевого мира.
Новый фильм Кончаловского ожидаемо карнавален. В нем, как и в предыдущих его лентах, откровенно балаганно-площадная атмосфера. А персонажи ленты напоминают маски ярмарочных увеселений. И вновь, как в теперь уже далеком «Романсе», сюжет держится на условно-театральном, резком стыке миров. Вызывающе стыкуются столичный мир глянца и убогий, чудовищный до гротеска мир российской провинции, откуда держит свой испытательный путь к завершающей это странствие маске Грейс Келли героиня картины Галя Соколова.
Однако, как это всегда и было у режиссера, ни один из стыкующихся миров не является, если можно так сказать, истиной в последней инстанции. Мир, в котором живет семья Гали, при всем убожестве и нищете, та же условная декорация, что и мир глянцевый, с его внешним блеском и привлекательностью.
Режиссер, похоже, умышленно заостряет до гротеска скелетообразные фигуры отца и матери героини. И само пространство, и образ жизни, и их внешность – это адовы погреба под глянцевой оболочкой столичных тусовок. И это тот ад, откуда, собственно, и прорастает, как ни странно, отечественный глянец. Исток глянца – в убожестве и рабской нищете так называемого простого народа.
И по сюжету картины едва ли не все персонажи глянцевых тусовок, которые носят здесь своеобразные маски модной «светскости», происхождением связаны с той средой, откуда движется Галя Соколова. Все они бывшие крестьяне, вовсе не расставшиеся со своей ментальностью. Так, влюбленный в Галю местный ростовский авторитет Витек в финале фильма оказывается одним из «быков» Миши Клименко, миллиардера, владельца алюминия, портов и проч., как бы дублируя путь и самого Клименко из тех же провинциальных глубин. А Критик Мирового Класса, знаток моды и обладатель гениального чутья на конъюнктуру ее рынка Стасис – тот самый, которому принадлежит концептуально определяющий для фильма афоризм «То, что нельзя продать, – то не искусство», – и он в столицу прибыл из тех же ростовских мест, что и Соколова…
Эти два мира – сросшиеся в единое уродливое тело сущности, внешне противостоящие друг другу, но по сути друг другу родные. Кентавр российской жизни. Только находясь на отечественном дне, можно поверить в сказку «сладкой жизни» на рекламной поверхности страны. Собственно, это соотношение миров мало чем отличается от жизни нашей в советское время, когда погруженный в нищету повседневного существования «простой советский человек» истово верил в «зияющие высоты» Коммунизма, проповедуемые партийно-государственной идеологией.
Уподобленный кентавру мир «Глянца» – итог, плод вырождения, распространяющегося из советских, а может быть, и досоветских времен. Мир глянца – мерцающая потусторонность, готовая каждую минуту обернуться адом российской провинции. А «дирижирует» («правит бал»!) этим миром маленьких и больших бесов, похоже, именно Стасис, который в исполнении А. Серебрякова и в придуманной для него маске действительно напоминает юркого, хитрого, умного беса, хорошо знающего всему цену, в том числе – и себе. А ведь в прошлом он скромный интеллигент, прибывший из тех же мест, что и Галя, в Москву без гроша и с тремя книгами – Вольтером, Бердяевым и Камю, – но, на свое счастье, как ему кажется, оказавшийся в нужное время в нужном месте.
Все персонажи фильма живут в пространстве ложном, выморочном. Оно – продолжение реальной столичной тусовки, поскольку на экране то и дело возникают «знакомые все лица», точнее, не сами лица, а – имиджи. Модельера Макса Фишера играет неунывающий Ефим Шифрин, заслоняя глаза огромными, в пол-лица, очками. Модного пластического хирурга – музыкальный критик Артем Троицкий и т. д. Среди мелькающих на экране масок зритель видит хорошо известные ему по телеэкрану и изрядно, надо сказать, поднадоевшие личины. Авторы фильма как бы выворачивают наизнанку имиджи завсегдатаев отечественного глянцевого мира, обнаруживая действительную пустоту этих образов.
Но гораздо важнее многолюдного парада масок те, кто выступает по сюжету на первый, крупный план. Они, подчиняясь законам глянца, осознают в то же время его пустоту и убожество, но освободиться из этого капкана не могут. В какой-то момент зритель видит в каждом из них несчастного «хомо советикус». Особенно тогда, когда для этих людей становятся насущными вещи, которые не купишь за деньги: молодость, любовь, жизнь… Тогда сквозь маску проступает человечность лица, надломленного болью. Они ощущают неполноту свою, невоплощенность, подобно персонажам Чехова. Но человечность эта – робкая, что не может отменить чувства сострадания, рождающегося в сердце зрителя.
Драма этих людей фокусируется в образе главной героини фильма и так значительно укрупняется.
В начале сюжетного пути молодая швея Галя Соколова, южно-русская казачка по происхождению, страстно мечтает, как уже было сказано, вырваться из той бедности, унылости существования, в которых обретается ее семья. На ее взгляд, мир, прямо противостоящий ее образу жизни, – это влекуще прекрасный мир глянца. И все наличные силы души и плоти она прилагает к тому, чтобы вырваться из родного ада. Сил у нее, надо сказать, немало. «Я казачка, я упертая!» – рекомендует она себя.
И что же? В конце картины, кажется освоив мир глянца, героиня фактически возвращается на круги своя, утратив ту энергию, те силы, ту начальную святую наивность, которые и хранили ее до сих пор. Она оказывается проданной хозяину своего бывшего покровителя и любовника из числа братков – Витька. Духовно-нравственные силы, хранившиеся в ее натуре, источаются. Происходит омертвение души. Натура человека, его естество, его душа не в состоянии сопротивляться декорации глянца, вообще декорации социума, в котором живет человек.
Да, декорация у Кончаловского – это мир глянца, конечно, как превращенный мир российского убожества. Но вот натура…
Когда Галя после ночи, проведенной с Клименко, прозревает всю меру своего душевного опустошения, она, покинув машину своего хозяина, оказывается в чахлом придорожном лесу. Идет к какому-то мутному озерцу, захламленному приметами пластиковой цивилизации. И это уже не природа, не натура – это ее жалкие останки. Природа издыхающая. Как когда-то в интерпретации Кончаловским чеховского «Дяди Вани». Убогий ее клочок едва проступает сквозь декорацию отечественного социума. В этой натуре нет спасения. И то небо, которое здесь простирается над головой героини, небо туманно-беле-сое, пересеченное безжизненными ветвями иссушенных деревьев, – это небо без Бога. Некому молиться. Точно так же, как пьяный Клименко не находит Бога в небе, простирающемся над декорацией Рио-де-Жанейро (сбылась мечта идиота?), его не находит и Галя.
Выразительная сцена следует далее. За Галей, как бы в поисках ее, бросается обуреваемый ревностью и желанием отомстить Витек. Он видит ее у озерца. Целится, чтобы выстрелить. Но убийства не происходит. Героиню убить нельзя, поскольку она уже мертва. Мертва душой.
Кончаловский, сознательно или нет, цитирует финал классической «Бесприданницы» А. Н. Островского. Трагедия Ларисы Огудаловой – в ее открытии. Она понимает, что ею манипулируют как вещью, что вот-вот она сама превратиться в вещь. Определение найдено! На этой грани превращения и застает ее Карандышев. Выстрел его не дает героине превратиться в вещь. Она погибает живой.
Юлия Высоцкая, похоже, играет свою героиню в момент ее полного «овеществления». Здесь выстрел ничего не решит. Может быть, поэтому живая сущность героини, ее душа, представшая фигуркой девочки (это она сама в детстве), прощально машет Гале рукой и скрывается вместе с еще молодой ее матерью среди деревьев. Таково последнее видение героини.
Трагедийные конвульсии души перед смертью даются в фильме в фарсово сниженном ключе. Она, полупьяная, в слезах, будто исповедуется перед своим хозяином, ползая на четвереньках по полу его спальни, напоминая зрителю об одном из «источников» «Глянца» – «Сладкой жизни» Феллини. Юлия Высоцкая выдерживает этот напряженный уровень пограничной игры, действительно возвышая свою героиню до трагедийной исповеди не перед Клименко, конечно, а перед Богом и зрителем. Во всяком случае, зритель остается в убеждении, что с Галей Соколовой происходит нечто чрезвычайно важное, жизнеопределяющее, что она переходит в какое-то новое качество, переходит безвозвратно.
Но это окончательное опустошение и духовное омертвение героини предотвращается… спецификой дарования актрисы. А дарование это – дарование клоунессы, на которое сознательно рассчитывает и режиссер еще с «Дома дураков». В первых эпизодах «Глянца» его героиня действительно клоун – ив откровенно безвкусном макияже, и в манерах поведения, и в речи. И в этом качестве она еще вполне живая.
Но по мере развития сюжета героиня переоблачается, надевая на себя все новые и новые «костюмы», которые предлагает ей мир глянца. Она становится все более серьезной, все более деловой, все более хваткой, подавляя в себе ту наивно буффонную стихию, которая заложена в ее натуре изначально, как присуща она и натуре самой актрисы. Подавляется и все живое в ней, крепко повязанное с клоунским началом. И когда она надевает на себя маску и костюм прекрасной принцессы Монако, приобретая нужный товарный вид для «покупателя» Клименко, небесный облик Грейс Келли будто бы окончательно заглушает в ней клоунессу. Маска небесной
Келли и есть та граница, за которой происходит полное превращение в предмет. Платье Келли – как футляр чеховского персонажа для Соколовой. Такова логика сюжета. Но в героине происходит серьезная борьба жизненной энергии, которой она держится, и требований глянцевого мира. Эту-то борьбу выразительно показывает актриса, подтверждая независимую от ее режиссера меру своего таланта.
Однако завершение, тем не менее, катастрофично. Ни одна картина Кончаловского не вызывала у меня столь мрачных переживаний. Возникали вопросы: что станет следующим творческим шагом художника при таком взгляде на жизнь? как выйти из этого тупика? Может быть, как раз естественно то, что Кончаловский уже начинал ставить сказку – гофмановского «Щелкунчика».
Вместе с тем «Глянец» обладает таким запасом жизненной энергии, который все-таки позволяет преодолеть глухую закупоренность глянцевой декорации. Во многом, я думаю, благодаря актрисе.
Событийная канва фильма откровенно пересекается с некоторыми фактами из реальной жизни Юлии Высоцкой. Она, как и ее героиня, покинув российскую провинцию, затем оказавшись на белорусской театральной сцене, в конце концов попала, кажется, в тот глянцевый мир и на те его этажи, где терпит нравственный крах Галя Соколова. Но в том-то и дело, что жизненный путь Высоцкой разворачивается в прямо противоположном направлении, сопротивляясь пустоте и обезличенности глянца. И все потому, что в самой актрисе есть человеческая избыточность, есть дар, который дает ей силы оставаться личностью на границе с полностью задекорированным миром. Ее дар того качества и уровня, который позволяет ей захватывать с одинаковой уверенностью как буффонное, так и трагедийное пространства сюжета. Карнавально-праздничная энергия клоунессы, живущая в актрисе, исподволь насыщает героиню и не дает поверить в ее окончательную духовную погибель. Клоун побеждает.
Для героя «шукшинского типа» ситуация «Глянца» – тупик в его историческом становлении. Он оказывается в мире перевернутых, ложных ценностей, в тенетах карликовых иллюзий, в плену подмен, на которые он охотно соглашается в силу дремучей девственности его сознания. Но вот декорации опадают. Какая натура выступит из-под них? Какое лицо явится?
Глава четвертая Глава четвертая…или Умножение миров
…Каждый думает, будто знает, что хорошо, а что плохо, но в конце концов, как и в жизни, всегда ошибается. Мир изменили шестеро евреев. Моисей, Соломон, Иисус, Фрейд, Маркс: каждый принес свою истину. Потом появился Эйнштейн, который сказал, что все относительно…
Андрей Кончаловский1
В одном из номеров журнала «Искусство кино» за 1997 год я наткнулся на монолог про сказку, принадлежавший одиннадцатикласснице московской школы № 20 Дарье Бразговке.
Девушка писала о том, как хочется удержать и не отпускать от себя сказку, потому что никто не желает взрослеть, а сказка всегда напоминает о детстве, о маминых поцелуях на ночь. О том, как сказка создает внутри человека целый мир фантазии, где свои законы, свои жители, свои злыдни. Она и сама, став постарше, стала придумывать сказки для младшей сестры, начиная свое «жили-были» (и почему-то всегда «жили-были три гномика в маленьком пеньке…») и еще не зная, чем все закончится… Сказкой, писала Даша, можно назвать все, где реальностью становятся превращения, которые пока в жизни не встречаются, потому что, кто знает, может, эти чудеса станут возможны…
Гораздо позднее я узнал, что размышления о сказке принадлежали дочери Андрея, третьему его ребенку.
Дарья уже давно не дитя. У нее самой четверо. Она носит фамилию Михалкова. Какое-то время жила в Сан-Франциско, где должна была совершенствовать свой английский. По рассказам ее матери, Ирины Владимировны Бразговки, хозяйка квартиры оказалась психически не уравновешенной и после очередной попытки суицида угодила в больницу. Даша вместо учебы в университете нянчилась с ее пятилетней дочерью. Затем искала другую квартиру. В результате оказалась в семье священника русского происхождения. Проучилась полгода и вернулась, чтобы на следующий год поступить в какой-то колледж в Санта-Барбаре – на юридическое отделение. Но выдержала только четыре месяца и вернулась в Москву. Здесь она окончила лингвистический факультет Международного университета. Живет в квартире, купленной отцом.
Она и внешне, и по характеру ближе скорее к отцу. «Она всегда была достаточно эгоистична, – признается Ирина в интервью. – Ей нравилось общаться с людьми активными, красивыми, веселыми, немножко не нашего круга. Для меня это было в диковинку. Я нерешительная, закомплексованная. Все время кажется, что не знаю того, сего, не справлюсь, недостойна… А Даша знает все. И всегда идет напролом. После Америки она стала еще проще относиться к жизни. Нет проблемы – хорошо, есть проблема – она ее решает. Надо улыбаться, общаться с людьми весело, бодро, и тогда у тебя будет много друзей. Это все здорово, правильно, но я так не умею…»
Некоторые события в жизни Даши отчасти напоминали сказочные, но с привкусом горьковатым…
Ее мать, Ирина Бразговка, сниматься начала с детства. Окончила актерский факультет ВГИКа. Считалась одной из самых красивых актрис Москвы. Оказавшись еще студенткой на концерте фольклорного ансамбля
Дмитрия Покровского, была околдована тем, что увидела и услышала. После ВГИКа распределилась не на киностудию, а в полюбившийся ансамбль. Проработала там двадцать пять лет…
Как-то, это было уже в конце 1970-х, накануне отъезда Кончаловского из страны ей позвонил актер Александр Панкратов: «С тобой хочет познакомиться Андрей Сергеевич Кончаловский».
Режиссер обратил внимание на Ирину, которой тогда было лет двадцать пять, когда она стояла у Дома кино, ожидая, кто бы ее провел на какой-то нашумевший фильм.
В ответ на звонки Панкратова Ирина отказывала, пока не позвонил сам Андрей. Первая встреча произошла в том же Доме кино, и девушка сразу почувствовала, какого рода интерес испытывает к ней известная личность. Было ясно и то, что все это скоро закончится, что она просто маленький эпизод в его жизни.
Уже в нулевые в многочисленных интервью Ирина Владимировна признается, что «особенным» в Кончаловском ей показалось «все». «И в глазах огоньки, и улыбка совершенно удивительная, и голос – вкрадчивый, бархатный… Но больше всего мне нравилось, что он умный. Я до сих пор считаю его одним из умнейших людей нашего столетия. Нормальный мужчина, как все, – я имею в виду определенные отношения, но за этим стоял очень мудрый, глубокий человек. Он говорил, что на самом деле хотел бы стать доктором. И мне кажется, из него вышел бы хороший врач. Помню, однажды я к нему пришла, Андрей поднес руку к моему лицу, и я вдруг почувствовала жар. У него руки излучают какие-то биотоки – врач из него точно получился бы. Психиатр…»
Тогда ей казалось, что с ним можно поделиться всеми своими терзаниями – поймет, потому что «ему нет равных ни в чем».
Она никогда не пыталась занять в его жизни какое-то особое место, соперничать с другими его женщинами. «Радовалась тому, что есть». На людях вдвоем они появлялись редко – и это ей нравилось. Но с матерью Андрей Ирину познакомил, как знакомил с Натальей Петровной многих своих женщин. В этом, возможно, было безотчетное сравнение новой подруги с «эталоном», каким для него всегда оставалась мать.
Ирина признается, что с Кончаловским она никогда не была естественной, хотя тот и не подчеркивал своего превосходства, держался просто. Но все связанное с его судьбой, семьей, фамилией не давало вести себя как обычно. «Он был для меня далекой звездой, а в интимных отношениях это очень мешает… Но все произошло так, как должно было произойти, и я об этом абсолютно не жалею…»
За месяц или два до отъезда из страны Андрей оповестил о своем намерении и Ирину. Она уехала на гастроли, а когда вернулась, его уже не было. К тому времени они встречались довольно редко, потому, как ей казалось, что он хотел «обезболить расставание». «И все-таки я сильно переживала, было такое ощущение, что меня лишили дорогого мне мира. Мира патриархальной семьи, покоя и комфорта – я в нем ненадолго очутилась, и вдруг все забрали. Нюансов не помню, потому что рождение Даши и ее страшная болезнь вышибли из головы все начисто… Полгода мы провели в разных больницах… В больнице я Дашу крестила – сама… Через год болезнь вроде бы ушла, а потом все началось сначала. При переливании крови Дашу заразили гепатитом нескольких видов… Так что выкарабкивались мы очень долго…»
Ей не раз задавали вопрос: почему в столь трудный час не обратилась к отцу ребенка? Вот ответ: «Было четкое ощущение, что это моя жизнь, мои проблемы, в них не виноват никто, кроме меня самой. При чем тут Кончаловский?» Она и отца своей второй дочери, Саши, ни в чем не обвиняла, хотя претензии к нему были. Она и ему за все благодарна. «Если Кончаловский – очень красивая теория, то тут была полезная практика».
О Даше Андрей (к тому времени у него появились еще две дочери – Наталья и Елена) узнал в год своего 60-летия… Ему позвонили и сообщили. После этого он набрал номер Ирины.
К тому времени род ее занятий сильно изменился.
Поскольку жили очень трудно, приходилось заниматься «ювелиркой». Потом она устроилась на фармацевтическую фабрику, освоила профессии секретаря, менеджера… «Дети выросли, мы жили втроем, дружной такой семейкой. Поэтому звонок Кончаловского я восприняла как катастрофу: было совершенно очевидно, что в семье начнется если не война, то полный разброд и шатание…»
Андрей и Ирина встретились. Ей казалось, что он не очень верит, что Даша его дочь. Но сама она никаких требований, а тем более претензий не выдвигала. Разговор завершился предложением Кончаловского помочь дочери получить «нормальное образование» в Америке.
«Но для этого Дашке, – рассказывает Ирина, – надо было выучить английский язык. Мы нашли лучшие языковые курсы в Москве. Даша начала учиться, донимая меня вопросами: «Откуда деньги?» В какой-то момент она просто приперла меня к стенке. Я поняла, что мое молчание странно и смешно, и все ей рассказала. Она тут же побежала с этой новостью к Сашке, не пощадила сестру… Вместо радости – оцепенение: что дальше? Как мы будем жить?
Дальше все стало еще сложнее, потому что Даша, естественно, хотела общаться с отцом. А дистанция-то была очень велика. Это потом она стала сокращаться, а тогда… Кончаловский ей признавался: он не верит, что она его дочь. Не часто, но пару раз об этом говорил…»
…Ирину Андрей не видел семнадцать лет. По его словам, именно от нее он узнал всю историю мытарств женщины после их расставания. Узнал и о болезни дочери. О том, как у Ирины появился мужчина, ставший отцом Дарьи, а у девочки – сестра. О том, как мать заметила, что старшая дочь уж очень пристально интересуется творчеством режиссера Андрея Кончаловского. Продолжение истории услышал уже из уст самой Даши. Все сказанное ею записал на магнитофон. А потом перенес в свои воспоминания. Более всего Андрея тогда поразило, что девочка лет в пятнадцать, без чьей-либо подсказки со стороны, стала серьезно интересоваться его творчеством и даже изучать его. Когда отец начал звонить им, девочка уже, конечно, узнавала. По голосу.
И ее мучила обида, что отец не интересуется, кто поднимает трубку…
Андрей признавался, что в тот момент, когда он встретился с Ириной Бразговкой после стольких лет разлуки, ему было все равно, его это дочь или нет. Он думал о том, что если женщина в течение стольких лет не позволила ему узнать, что имеет от него ребенка, то для него теперь уже и неважно, чья эта дочь. Но сделать что-то для девушки хотелось… Однако отцу было страшно увидеть дочь, отделенную от него такой дистанцией. Он очень волновался, откладывал встречу. Не хотел, чтобы она знала, что он уже помогает ей. Но долго скрывать это было невозможно…
«Когда готовил на Красной площади действо к 850-летию Москвы, я очень хотел, чтобы Ира с Дашей пели в этом шоу. Попросил пригласить их, когда увидел Дашу, сразу понял, что это моя кровь. Эта – моя. Вот так неожиданно у меня оказалась семнадцатилетняя, взрослая, умная, обаятельная, красивая, замечательная дочь, прекрасное существо. Я отправил ее учиться в Америку…»
Ну, чем не кинематографическая сказка в духе текущего столетия? «Почти неправдоподобная история», – признается и сам ее непосредственный участник.
2
Охлаждение отношений с Еленой Кореневой после «Романса» и в период работы над «Сибириадой» Кончаловский объясняет тем, в частности, что ему хотелось домашнего уюта, еды в доме, жены, которая рядом. А Елена «не для этого была создана: самолюбивая, порывистая, талантливая, она любила поэзию, не любила прозу быта». Было ясно, что ей, как и ее Тане, не дотянуться до героини Ирины Купченко – Люды…
Начинался новый период жизни. Все определеннее становилось желание покинуть страну. В «Возвышающем обмане» он пишет: «Сибириада» была для меня мостом ТУДА… Я знал, что кончу картину и уеду». Помимо того, фильмом этим он хотел «встряхнуть» современное ему отечественное кино. Объективно – встряхнул. Заметили ли? В печати событие не нашло достойного отражения. Но звание народного артиста РСФСР в 1980-м он, тем не менее, получил…
В 1978-м, за год до выхода «Сибириады», ему довелось быть членом жюри Каннского кинофестиваля. Его оценка происходящего на именитом кинофоруме – своеобразное свидетельство художественных предпочтений, творческих позиций, сформировавшихся к тому времени у него как режиссера. Тем более что Кончаловский мог, по его словам, наблюдать здесь «широкую панораму современного мирового кино».
Прежде всего его поразила картина Эрманно Ольми «Дерево для башмаков». Снят был фильм на ничтожные деньги с участием непрофессиональных актеров, игравших, по сути, самих себя. Возможно, картина итальянца напомнила Кончаловскому его «Асю-хромонож-ку». Бесспорный победитель фестиваля, этот фильм был близок советскому режиссеру «бесконечным гуманизмом», точностью выбора типажей на главные роли, достоверностью атмосферы жизни этих людей, «простотой и бесхитростностью». «Все четыре времени года проходят перед нашими глазами; весь круговорот человеческого бытия – и смерть, и жизнь, и рождение». Не этот ли «круговорот бытия» он сам попытался воплотить в образах «Сибириады»?
Характерно, что на фоне гуманиста Ольми Кончаловский абсолютно не принял другого итальянца, Марко Феррери, его картину «Сон обезьяны» – из-за ее претенциозности и безнадежности. «Если Ольми в своей картине говорил о том, что люди в любых обстоятельствах способны оставаться людьми, то Феррери пытался доказать прямо противоположное… Он пытается внушить чувство страха и беспросветности жизни, но, как говорится, он пугает, а нам не страшно…» Кончаловский, по его словам, резко выступал против присуждения этому фильму второй премии, но коллег своих переубедить все же не смог.
Оценивая работы французских режиссеров, Кончаловский приходит к выводу о том, что тогдашнее французское кино страдает отсутствием вдохновения, поэзии, лиризма, то есть «выражения авторского идеала, веры, без чего искусство невозможно». Те же кризисные явления видит он и в Англии, и в Италии, но «во Франции кризис кинематографа наиболее глубок и очевиден». «Я говорил на эту тему с самими французскими кинематографистами, и все они согласились со мной, что во многом виной общая печать усталости, ощущаемая во всех областях общественной жизни. Молодые люди, еще не успев ничего сделать, уже устали. Рассудочность мешает им быть наивными, делать глупости. А без бесстрашия, без отваги делать глупости, мне думается, искусство умирает. Феллини в каждой своей картине не перестает удивляться и открывать для себя новое, а современные молодые кинематографисты Франции не удивляются ничему. У них нет стимула творчества, нет восторга познания, в их фильмах не ощущается радость акта творения».
Подводя итог своим наблюдениям над мировым кинопроцессом, отраженном тогда в Каннах, режиссер предсказывает появление интересного кино в странах, испытавших важные общественные перемены, – в Греции, Испании, Португалии.
«Сибириада», представленная уже в 1979 году на Каннском фестивале и получившая Специальный приз жюри, начиналась летом 1974 года. Ф.Т. Ермаш вызвал режиссера к себе и предложил поставить фильм к съезду партии – о нефтяниках Сибири. А Кончаловский как раз собирался делать экранизацию русской литературной классики с Лоллобриджидой в главной роли… Но его «идея заинтересовала».
Перед началом съемок кинопоэмы режиссер говорил, что в картине будут представлены два старинных рода – Соломиных и Устюжаниных. «Соломины – крепкие люди, накопители, строители, охранители нажитого и приобретенного. А Устюжанины – бунтари, мечтатели, вечные искатели правды. Но и те и другие нужны истории, все они имеют свою правоту, все делают свое полезное дело – одни тем, что строят, другие тем, что разрушают. Это две стороны единого процесса: невозможно разрушение, если не было уже построенного, как невозможно строительство нового без разрушения отжившего. Соломины и Устюжанины ненавидят друг друга, но не могут друг без друга жить. И из этой любви-ненависти, из единства противоположностей, из столкновения правд, из ошибок, вольно или невольно совершаемых каждым в борьбе за свою правоту, и рождается драматический накал фильма, движение его сюжета».
Картину стали снимать в Томской области. Искали обобщающий образ всей Сибири.
В 1978 году режиссер говорил о том, что драматизм картины вытекает из «конфликта между цивилизацией и природой». «Эта картина многому меня научила. Она потребовала выхода на иной пласт размышлений – о человеке и среде, породившей его. Нефть, как и все прочее, на что направлены усилия производства, не самоцель. Она лишь средство сделать жизнь на земле лучше. А это значит, что она должна способствовать прогрессу в человеческих взаимоотношениях – между человеком и человеком, между человеком и природой».
В постсоветское время он так комментировал материал фильма: «Еще не было Чернобыля, но результаты неграмотной политики уже давно давали свои кошмарные плоды. Именно тогда я открыл для себя работы Александра Чижевского, ученого, десятилетия проведшего в ссылке, не публиковавшегося, не переиздававшегося. Он писал о неразрывности связи человека и космоса, о «земном эхе солнечных бурь», о взаимосвязанности существования человека, его психологии с породившим его миром».
Съемки фильма проходили с 1976 по 1978 год. Вот воспоминания некоторых участников.
Людмила Гурченко (Тая Соломина в зрелом возрасте) снималась в «Сибириаде» после тяжелейшей травмы, полученной во время съемок советско-румынской картины «Мама». Вот как она описывала свой первый съемочный день у Кончаловского.
«…Я первый раз стояла без палки… Здесь, в картине, долго переносили сроки съемок – ждали, когда я начну ходить. В этой группе я еще никого не знала, с палкой стыдно было как-то приезжать. И вот я в первый раз стою без опоры.
Травма была ровно год назад, я потеряла форму, чувствую себя совершенно беспомощной. В ноге сидят шесть шурупов и титановая пластинка – она держат осколки сломанной ноги, и я думаю о них постоянно.
Нога болит нестерпимо. А мне сейчас нужно быть победоносной, эксцентричной, разбитной и завлекательной. Мой партнер (Михалков) моложе меня на десять лет… Теперь ему тридцать, он сильный, красивый, здоровый. Нам сейчас предстоит дуэль-состязание, мы должны вот-вот сойтись в сцене и подняться на самую высокую ноту, попасть в «жанр».
Нет сил ничего доказывать, нет желания. Такая разбитая, хочется скорее лечь… Что делать, как уйти от неминуемой сцены?
Стою за домом. Меня никто не видит. Отсюда я пойду на камеру, навстречу роли, партнеру, людям, которые мне потом станут родными, навстречу режиссеру, который заставит меня писать про папу и мое детство… Ой, ну не могу… ну нет же сил…
– Ты прекрасна, ты самая красивая. Ты все можешь, все. Не думай об этом, пусть твоя героиня хромает. Это даже интересно. За двадцать лет с человеком Бог знает что может произойти, а тем более с ней. Ты моложе выглядишь, чем он. Посмотри, у него уже и складки у рта, и лоб… Ты не бойся, дави его. Возьми его и задави – ты же актриса! Раскрепостись, делай что хочешь. Захочешь закружиться – кружись, отвернись от камеры, смотри в камеру – что хочешь. Для этой сцены мне пленки не жалко. Ну, дорогая моя, помни, что ты самая прекрасная, самая красивая… Ну давай, милая моя, красавица моя… Я тебе доверяю полностью – делай что хочешь, в любую сторону, – говорил, отходя все дальше и дальше, режиссер.
Какой он красивый, как прекрасно улыбается. Какие прекрасные люди живут на земле! Я посмотрела на себя в деревенское окошко. Свет падал мягко, теней под глазами не было. А я вроде сейчас действительно ничего, вполне, а? Ведь он прав – я и пою, и играю! Почему я все время в себе копаюсь, сомневаюсь? Что это со мной? На улице жарко, а по спине, между лопатками, поползла ледяная струйка. Вот и во рту пересохло, вот уж и забил озноб. Началась знакомая трясучка – уже сигналит мой актерский профессионализм моему разбитому больному организму, что он уже готов… Сейчас, сейчас, подождите. Я сейчас соберусь… Я вспоминаю, что кумиром Таи мы с режиссером решили сделать звезду пятидесятых годов Лолиту Торрес.
Мотор!..»
Каскадер Николай Ващилин вспоминает о подготовительном периоде, о беседах с режиссером по разработке сцен драки на берегу, войны, взрывов на нефтяной скважине и гибели в огне героя, которые были для него «настоящим праздником».
«Так творчески и доброжелательно я еще не работал ни с одним режиссером за десять лет…
В июле 1976-го начались съемки в Твери. Андрон определил мне несколько дней для репетиций драки на берегу с актерами Сергеем Шакуровым, Виталием Соломиным, Александром Потаповым и Леонидом Плешаковым…
По замыслу Андрона все должно было сниматься одним кадром, с использованием принципа внутрикадрового монтажа. Экспрессию драки в кадре было решено подчеркнуть опрокинутой корзиной с живой прыгающей рыбой. Рыбу привезли, она оказалась свежей, но неживой. Когда посмотрели материал, драка тоже была без нерва… Рыбу Андрон велел пожарить со сметаной и устроил маленький пир. Приехала Лив Ульман и какие-то французы. Я был приглашен на ужин. Появился Никита Михалков, и, увидев меня за столом, спросил Андрона, кто я такой. Я чуть не вышел из-за стола. Андрон одернул Никиту и уговорил меня не обращать на него внимания. Андрон ко мне хорошо относился. Я был счастлив.
Обдумав материал, я предложил Андрону сцену драки переснять, внес предложение разжечь на берегу костер и уронить туда героев, потом за это «порвать» Устюжанина и убить его веслом, но, промахнувшись, залепить удар своему брату, и т. д., и снимать все одним кадром, но с руки, двигающейся камерой. Андрон послушал и спросил, представляю ли я себе, сколько эта пересъемка будет стоить. И пошутил: если сцена будет плохой на экране, то я ее и оплачу. Я согласился. Пересняли. Вышло замечательно.
…Однажды, подготовив трюк перепрыгивания с сосны на сосну за Виталия Соломина на высоте 20 метров, я задрал цену для каскадеров до 100 рублей за дубль. Наглость в то время неслыханная. Эрик Вайсберг (директор картины. – В.Ф.) запротестовал. Тогда Андрон посадил его с собой в люльку крана и поднял на половину этой высоты. Эрик сразу согласился выплатить по сотке. В другой раз забастовал мой друг каскадер Коля Сысоев, и из-за него сорвалась съемка. Я думал, меня выгонят. Нет. Андрон простил, понимая, что такое бывает в жизни.
…Съемки на болоте в Тверской губернии, съемки в Тюмени, работа с пожарными на нефтяных вышках, главная трюковая сцена фильма – взрыв на нефтяной скважине. Андрон хотел снять что-то невероятное. Гибель героя Алексея в сценарии была прописана как конец света, проваливался герой вместе с трактором под землю, в горящий Ад. Я ничего сверхъестественного предложить Андрону не мог. Работа с огнем была и остается самой сложной и опасной не только для кинематографа. Мы судорожно искали выход.
Ситуацию спасли операторы. Леван Пааташвили с группой комбинаторов предложили кадры комбинированных съемок монтировать с натурой на фоне ночной темноты. Да к тому же вся земля была залита водой и давала живописные блики огня. В итоге снимали общий план основного пожара в Тюмени, взорвали «фок» с тонной бензина. Киногруппа, снимавшая взрыв с расстояния 100 метров, спалила себе брови. А сцены пожара с людьми снимали во дворе «Мосфильма» на фоне забора, завешанного горящей паклей. Темнота, блики в лужах, горящий забор на фоне создали на экране атмосферу ошеломляющей катастрофы. Риск нулевой. Это и есть профессиональная работа в кино. Нет риска. Нет травмы. Но есть ошеломляющий эффект, иллюзия. Кино, одним словом.
Андрон остался очень доволен. Он пригласил меня на премьеру, и я стоял на сцене рядом с ним. Мы подружились и стали общаться в жизни по разным поводам. За годы работы на «Сибириаде» я приобрел статус высокого профи и получил приглашения на многие известные фильмы…»
Актер Сергей Шакуров (Спиридон Соломин) убежден, что в постсоветское время такую картину уже «поднять невозможно». «Она по тем временам чудовищно тяжелая… И он (режиссер. – В.Ф.) с этим замечательно справился и работал очень легко. Да, как ни странно. Есть очень мучительные режиссеры, которые все вымучивают, и себя в том числе. И с языком набок потом заканчивается каждая съемка. А Андрей работал очень легко, весело, играл в футбол с нами в перерывах между съемками».
3
«Романс о влюбленных» – образ исторического становления самосознания «простого советского человека». Он, а вслед за ним и «Сибириада» предугадывали события, когда социальная активность (или, напротив, пассивность) именно этого человека должна была определять дальнейший путь страны и его собственную на этом пути судьбу. Уже в 1980-х годах и следующих за ними десятилетиях.
Отработанная социалистическим реализмом фабульная схема «сибирской эпопеи» преодолевалась гораздо более сложным жанровым содержанием кинопоэмы Кончаловского. «Сибириада» следовала тем же принципам «слоеного пирога», что и «Романс», где героикоэпический слой занимал свое место, но вовсе не поглощал картину в целом. «Ода Сибири» была песнью, но не славящей Государство. Она была скорее песнопением, скорбящим по Природе. Сибирь толковалась как метафора Природы. В более узком понимании речь шла о естественной родине героев (семей Соломиных и Устюжаниных), из которой они вырывались в странствие, грозящее невиданными и часто для них катастрофическими превращениями.
Жанр эпоса, поэмы подразумевает развитое героическое начало. Героями социалистических преобразований кажутся поначалу Николай Устюжанин и Филипп Соломин. Но их «богатырство» как исполнителей государственной воли терпит крах, невозможный в «чистом» советском эпосе. В «Сибириаде» традиционная героика строителя коммунизма развенчивается. Она образ исчерпанной социальной формы.
В «Сибириаде», как и в «Романсе о влюбленных», гибель героического начала трагедийна. Гибелью Алексея Устюжанина в пламени нефтяного фонтана, вырвавшегося из недр Елани, исчерпывается его слепая роль Исполнителя государственной воли. Его смерть – символ исторического завершения эпохи отечественного социализма.
Фильм Кончаловского прощается с отечественным социализмом как с изжившим себя, неразумным социумом, а потому и погибающим в пламени собственных слепых преобразований. Поглощает этот социум, по образной логике картины, взбунтовавшаяся против него природа.
Развенчивая слепой героизм «простого советского человека», авторы дают образ героики иного типа. Если эпос как таковой смотрит вперед, утверждая приоритет государственного начала, то «Сибириада» обращена назад, к природным, материнским первоосновам человека. Фильм Кончаловского героизирует Елань – проклятую, по выражению самих еланцев, но все же родную землю, их дом. Сибирская природа в фильме говорит своим, нечеловеческим голосом. Ее возмущенная речь– это и «грифон», ведущий к судному пожару, поглотившему еланского отпрыска.
Елань – родовое место Соломиных-Устюжаниных – область скрепления человека и природы пуповиной взаимопользования. Режиссер подчеркивает, что село в «Сибириаде» – «архетип всей жизни». «Вырывание из села, насильственное или добровольное, есть вымывание из жизни, прямой путь к смерти».
Афанасий Устюжанин слышит, как жалуется тайга на «беззаконную» дорогу, которую он, человек, торит «на звезду». Но если Афанасий в состоянии внять жалобам родной природы, поскольку еще не оторвался от нее вполне, то его отпрыску Кольше это уже не под силу. Для него сосны не «сестрички», а просто – глухое и немое дерево. Тем более зыбка связь следующего потомка Устюжаниных, Алексея, с Еланской землей. Поэтому весь фильм и пронизан тревогой, порожденной осознанием неизбежности отрыва человека от материнского тела природы, а уже поэтому – и родины.
Образы Звезды и Дороги, как поясняет режиссер, определяют существо коллизий фильма: «Дорога на земле, звезда в небе, падают со стоном деревья, звезда задает дороге направление и приводит ее на Чертову Гриву, в непролазную топь, к дьяволу. Дорога, которая должна была увести из этой деревни к жизни, приводит в самую смерть. Герои жаждут вырваться отсюда. Но убегание ведет к смерти. Те, кто покинул село, погибают».
«Сибириада» всем своим строем, как и позднее «Курочка Ряба», «Дом дураков», утверждает консервативную приверженность дому в любых жизненных испытаний. Тревога неизбежного отрыва от еланской почвы всякий раз подкрепляется обрядовой свадебной песней-рефреном, сопровождающей уходы героев. Песня, по отечественной традиции, такова, что в ней явственно звучит и оборотная сторона свадьбы – обряд погребальный.
Соответствующим настроением окрасится и сюжет, потому что погребальный мотив не найдет в нем существенного опровержения. Похороны девичества и невозможность для невесты стать супругой – вот одна из черт развития женского образа в картине. Женщина (Настя ли, Тая ли) так и останется брошенной, выключенной из естественного цикла.
Кто же здесь врачующиеся стороны? Чей брак так и остается незавершенным, оборачиваясь похоронами? Соломины и Устюжанины. Фильм начинается неразрешимым противостоянием Соломиных-Устюжаниных. Не только классовым (первые – богатеи, хозяева, а вторые – голь, мечтатели, так сказать, «Хори» и «Калинычи»), но и природным. Противостоянием мужского (отцовского) и женского (материнского) начал, обостренным историческими коллизиями.
Как тут не вспомнить мысли Николая Бердяева о загадочной противоречивости России, в которой сходятся и равноправно живут два взаимоисключающих начала: «И здесь, как и везде, в вопросе о свободе и рабстве души России, о ее странничестве и ее неподвижности, мы сталкиваемся с тайной соотношения мужественного и женственного. Корень этих глубоких противоречий – в несоединимости мужественного и женственного в русском духе и русском характере. Безграничная свобода оборачивается безграничным рабством, вечное странничество – вечным застоем, потому что мужественная свобода не овладевает женственной национальной стихией в России изнутри, из глубины. Мужественное начало всегда ожидается извне, личное начало не раскрывается в самом русском народе».
Род Соломиных – консервативная прочность материнского дома, почвы; стремление удержать, остановить, в пределе – оставить в самой земле (убийство Спиридоном Соломиным Николая Устюжанина) разрушительную, увлекающую от ворот Елани энергию Устюжаниных («чертова племени»).
Род Устюжаниных – воплощенная энергия отцовского (мужского) социального порыва, обернувшаяся фанатизмом исполнителей государственной воли, во имя миражного Города Солнца (тоже ведь – «звезда»).
Революционные порывы окупаются дорогой ценой: насильственным отрывом и погибелью в чужих краях. Николай Устюжанин, увлекая с собой Анастасию Соломину, образно говоря, сжигает ее в огне своей революционной страсти. А она ради Николая готова бросить и дом родимый. В судьбе Анастасии отзывается судьба Аси Клячиной, отдающей себя Степану, обрекающей тем самым своего ребенка на хроническую безотцовщину. И дитя Насти – Алексей, человек вне рода и племени, доходит до предела сиротской доли, как и мать, гибнет в огне.
Режиссер так комментирует формирование родословной и судьбы своего героя: «Мы пришли к тому, что не сумеем его понять, если не проследим, как он исторически формировался. Да, он не помнит своего родства, но почему не помнит? Одно стало цепляться за другое. Чтобы понять, каков рабочий 1970-х, надо понять, кто его родители, отец и мать, их архетип. Наш герой родился примерно в 45-м, значит, его мать должна была родиться в 20-м. Стали думать о людях двадцатых. Какие они, каково время, их воспитание. Энтузиазм, классовая борьба в деревне… Очень типичны были судьбы энтузиастов, потом за свой же энтузиазм и пострадавших – либо от классового врага, либо от государства. Стали думать дальше, пришли к тому, что надо понять и характер энтузиаста: откуда он возрос, какие у него корни? Что связало его с революцией? Стали копать, кто кинул зерна революции, кто занес в Россию этот вирус. Стало ясно, что картина будет об истории века. Вся история эта должна умещаться в одной деревне».
Алексей, не успев познакомиться с Таей Соломиной, поспешно оставляет ее и устремляется, подобно отцу, в объятья Государства, отправляющего своих сыновей на убой под «чутким» присмотром «отца народов». Возвратившись на материнскую землю в шестидесятых, Алексей, надорванный сиротским странствием, демонстрирует дурную холостую силу: сковыривает трактором вековые ворота Елани. А позднее, так же поспешно и жалко, овладевает Таей. И, конечно, предает ее, за что получает от ворот поворот. После этого и работа «бурилы» не ладится. Тоже ведь своего рода насилие над матерью-землей. На буровой происходит авария.
В фильме речь не только о натуре женщины, но и о женщине как натуре. Брачная тяжба Соломиных-Устюжаниных – это спор Природы и Государства. Открывается трагедия так и не состоявшегося в новых социально-политических условиях брака между природой и социумом.
Крушение утопических «космостроительных» претензий рода Устюжаниных намечается еще в истории Афанасия. Он творит свой эпос еще как настоящий богатырь: превращает тайгу в мощеную дорогу. Но вместе с бревнами и себя укладывает в дорогу, цели так и не достигая. Он оставляет полуразрушенным свой дом, подтачивает и свою, и сыновнюю родовую плоть, обрекая мальчика на жизнь без матери, в сиротстве.
Афанасий – последний бунт первобытного богатырства. Манящая звезда еще не Город Солнца. Афанасий и боевик Родион Климентов движутся из разных социально-сословных пространств, но – в одном направлении, к истреблению традиционного дома. Родион, поманив мечтой маленького Николая Устюжанина, становится невольным «могильщиком» Афанасия. Ведь он первый распахивает ворота села для ухода.
Смерть Афанасия – конец национальной архаичной богатырской сказки. Конец досоциалистической предыстории крестьянства. Конец мифа и начало эпоса. Нового Святогора погребают в муравейнике. Коллективное пиршество-праздник насекомых, поедающих бездыханное тело богатыря Афанасия, рифмуется с образом коллективистской эпохи, где такому богатырству уже нет места. В фильме муравьиное «погребение» Афанасия сменяется хроникой других похорон – похорон Ленина, из-под гроба которого выныривает новая государственная армия, армия «тонкошеих вождей» во главе со Сталиным.
Действующее лицо нового витка истории (1930-е годы) – Николай Устюжанин. В наследство от кровного отца он получает сиротскую маяту по «звезде». А от «духовного» отца, революционера Родиона Климентова, – мечту фанатика об утопической цивилизации Города Солнца. За Николаем закрепляется качество бездомного мечтательного странника и одновременно исполнителя государственной воли.
Николай – тень декорации крепнущего тоталитарного государства. Именно таким – миражной дурной тенью – всплывает он в ядовитых испарениях Чертовой Гривы перед замутненным взором перепуганного подростка Алексея Устюжанина. Одурманенный таежным болотом, мальчик не узнает в этой тени отца. Сама Природа как будто обнажает «подмену»: вместо родной крови Алеше видится призрак, передавший (предавший) свою отцовскую за сына ответственность Государству.
Вот и получается, что Алексея Устюжанина, по выражению Таи Соломиной, мать родила, да не облизала. Он целиком дитя государства – детдомовец. И родная земля не принимает Алексея, грозит ему смертью. Образ Смерти то и дело возникает в кадре к финалу картины, как бы сопровождая Алексея. Прозрение ужаса бездомья наступает, когда его отвергает женщина, в утробе которой уже начал свой путь ребенок Устюжанина.
Угрожающе предупреждающая тень отца, смешиваясь с образом Сталина, явится Алексею в болотах Чертовой Гривы уже в 1960-х. В фильме этот эпизод окрашен мистической тревогой, рифмуясь с походом отца и сына в эти же странные и страшные места еще в 1930-х.
Трагедия конкретной человеческой судьбы Алексея Устюжанина в том, что ему не дано увидеть свое дитя, которое носит в себе Тая. Он весь остается в том социуме, которым и был порожден. Под его обломками и гибнет.
События «Сибириады» хронологически завершаются 1964 годом, ясно обозначившим конец недолгой оттепели. В этом же году явятся на свет дети Алексея Устюжанина и Таисии Соломиной, Степана и Аси Клячиной. В момент выхода на экраны фильма (1979) этому поколению исполнится 15–16. А в нравственно-психологической атмосфере общества, несмотря на всю унылую убедительную застойной «стабилизации», уже будет витать предчувствие катастрофы, твердо осознанное Кончаловским еще в первой половине 1970-х.
«В «Сибириаде», – комментирует уже в конце 1990-х свой фильм режиссер, – нет плохих героев. Все хорошие. Нет палачей и жертв. Все жертвы. Картина о том, как история, революция, веления государства, цивилизация за волосы отрывали человека от родного дома, от земли. И оторвали, он стал перекати-полем, ценности этой земли оказались ему чужды и недоступны… Вот тогда он эту землю и сжег.
С этой точки зрения картина была не только не «госзаказовской», но изначально чуждой официальной идеологии. Это была история о том, как техническая цивилизация убивает культуру, природу и человека. Когда в финале картины нефть сжигает все – кресты на кладбище, могилы, где покоятся поколения жителей села, отцов и дедов героев, из глубин земли, от самого ее духа возникают души погибших и похороненных, – для меня совсем уже мистический и поэтический ход, своей сущностью отрицающий идею госзаказа и политропа».
Комментарий сильно запоздал, конечно. Да и вряд ли мог быть усвоен критикой конца 1970-х – начала 1980-х. Что же касается носителей официальной идеологии, они исполнению заказа уже тогда отчасти изумились. «Не то заказывали», – слышалось несколько растерянное в хвалебном, в общем-то, отзыве Г. Капралова на картину в газете «Правда».
Директор «Мосфильма» Н.Т. Сизов, как вспоминает режиссер, после просмотра первых двух серий вызвал к себе постановщика и сказал: «Ты понимаешь, что ты делаешь? Ну, хорошо, я на пенсию уйду. А Филиппу (Ермашу. —В.Ф.) куда деваться, ему как это расхлебывать?..»
Косыгину – после «дачного» просмотра членами Политбюро – картина не понравилась. Со слов Ермаша, премьер вынес следующую резолюцию: «Мы не позволим Кончаловскому учить нас, как развивать индустрию и строить социализм». А кому-то из Политбюро, как полагает режиссер, фильм все же пришелся по душе. Может быть, Андропову?.. Во всяком случае, Сизов пригласил на просмотр заместителя Андропова генерала КГБ Бобкова, начальника идеологического отдела. Тот заключил: «Хорошая картина. Глубокая. Ничего антисоветского в ней нет».
Остановлюсь еще на самом, может быть, «сомнительном» образе картины – партийном функционере Филиппе Соломине. Секретарь обкома партии, по своему «соломинскому» (женственному) происхождению, склонен к терпеливому приятию жизни. Нелегко этому герою даются индивидуальные решения, стремление говорить собственным языком, а не заученными штампами советского новояза. Филипп Соломин должен разделить с Алексеем Устюжаниным груз трагедийной вины за слепую веру в нерушимость декорации «развитого социализма». Поэтому именно ему суждено принять последний парад-прощание родных душ, когда запылает родовое кладбище Елани. Прозрение-постижение невозможно без катастрофы самосожжения, без жертвы «проклятой, но все же родной» Елани.
В этой катастрофе – образ последних времен Системы, которой Соломин служил. За этим образом зритель увидел бы, если бы хотел и мог увидеть, конец всякой государственности, производимой на отечественной «кухне». Как видит (прозревает) это государственный человек Филипп Соломин, когда для прощения и прощания являются души его народа из глубин самых древних исторических времен и по время его собственной жизни.
Финальный эпизод на Еланском кладбище переходит в монтаж хроникальных кадров, запечатлевших трогательные встречи-расставания разных времен и разных народов. Последние кадры – объятие мужчины и женщины. Зритель оказывается как бы у начал бытия, когда еще ничего не случилось – и все впереди.
4
«Сибириада» была представлена, как мы помним, на Каннском кинофестивале и соперничала там с «Апокалипсисом» Копполы. В беседе с советским режиссером Коппола выразил готовность поделить с ним «Золотую пальмовую ветвь». Он уже знал, что ее получает, о чем доверительно сообщил Кончаловскому – за полгода до фестиваля ему это гарантировали. Со слов Андрея, дело было так.
«Жюри разделилось. Говорили, что нельзя делить «Золотую пальмовую ветвь» между Россией и Америкой, надо дать европейской картине. В итоге разделили ее Коппола и «Жестяной барабан» Шлендорфа. Франсуаза Саган, в тот год президент жюри, заявила, что уйдет из жюри и устроит пресс-конференцию, если «Сибириада» останется без «Золотой пальмовой ветви». Чтобы как-то успокоить ее, а возможно, и кого-то еще, спешно придумали Гран-при спесиаль. Такого до «Сибириады» не было».
Уже значительно позднее Дэйв Кехра в «Нью-Йорк тайме» писал: «С тех пор как в 1979 году грандиозная киноэпопея Андрея Кончаловского «Сибириада» завоевала Специальный приз жюри Каннского фестиваля, картине пришлось многое претерпеть: лента из четырех частей, общей продолжительностью более четырех часов, к нью-йоркской премьере в 1982 году… была урезана до 190 минут, а сама ее структура подверглась значительным изменениям. Хронометраж последующих видеоверсий составлял 206 минут».
Чтобы показать художественный уровень картины, обозреватель прибегает, как это принято в критике, к доступным его восприятию аналогиям, которые всегда, как известно, «хромают». На его взгляд, Кончаловский «хотел создать «сибирскую Илиаду» – региональный эпос, который смог бы вписать картины сибирской глуши в историческую перспективу и наделить собственной жизнью. Однако «Сибириада» привлекает не столько «гомеровским» размахом, сколько своей пронизывающей мелодраматичностью и визуальной эффективностью – это своего рода славянский вариант «Унесенных ветром», снятый под мистическим влиянием русского провидца Андрея Тарковского… Фильм опьяняет размахом и буйством красок, кружением камеры над поверхностью топи, кадрами кинохроники, безукоризненно смонтированными в манере дзиговертовского «Киноглаза» 20-х годов».
«Сибириада» завершает большой, отечественный период кинематографического творчества Кончаловского.
К ней и «Романсу» вплотную подступает экранизация чеховского «Дяди Вани». В картине хорошо ощущалась исчерпанность сил отечественной интеллигенции в преддверии новых вызовов со стороны грядущих, еще неведомых времен. Это касалось не только собственно чеховских персонажей и их времени, но более всего интеллигенции 1970-х годов, которой история готовила испытания гораздо серьезнее, чем реакция властей на традиционное либеральное инакомыслие.
В постсоветскую эпоху борцы за демократию увидели, что их соотечественники в массе своей не такие уж и охотники до демократических перемен.
Художественные высказывания Кончаловского 1970-х не стыковались с либеральным мировидением, оформившимся на короткой волне оттепели и с той поры оставшимся неизменным. Критики отвергли не столько художественное видение режиссера, сколько миросознание его героя. Они не приняли его, потому что таким его не знали. Таким он выламывался из представлений, воспитанных опытом оттепельной борьбы за демократические приоритеты.
Кончаловский как художник не ограничивал освоение «низового» человека его внутренним миром и отношениями с ближайшим социальным окружением, как это гениально делал Василий Шукшин. Кончаловский взял «шукшинский тип» вместе с породившей его культурой в контексте культуры мировой. Он посмотрел на него, образно говоря, глазами «немца», человека, освоившего и иные принципы существования и мироотношения, для крестьянской культуры русского народа, в известном смысле, чужого, но плодотворно чужого.
Передовая же общественность если еще в состоянии была воспринять в отдельности Тарковского, вечно противостоящего государству, и Шукшина, приговоренного к «съехавшему с корней» крестьянству, то стык полярных полюсов отечественной культуры «в одном флаконе» кинематографа Кончаловского она на ту пору осилить не могла. Вероятно, не созрели условия для такой зоркости…
Часть четвертая Сотворение мира. Антитезис
…Он беспощадно современен, но что-то человеческое живо в нем. Он сам освободился от своей огромной семьи, бывших и действительных жен, детей, полудрузей, знакомых и способен жить так, но, видно, не может человек, чтобы к нему совсем не поступало тепло из окружающего…
Юрий Нагибин о Кончаловском, июнь 1985 г.Глава первая Человек в белых носках сероватого цвета
…Я тогда еще не знал, что если носки белые, то должны быть ослепительно-белыми…
Андрей Кончаловский, 1999 г.1
Еще ближайшие предки Андрея свободно пересекали границы своей страны… В советскую эпоху как отрезало. Уже первая волна эмиграции ощутила резкий дискомфорт, хотя для нее европейское пространство не было чужим. Свое отбытие за границу эти люди воспринимали как изгнание. Складывался комплекс, с которым вжиться в пространство чужое, пусть и гостеприимное, было непросто.
Александр Вертинский, например, обрисовывая свое прибытие в Голливуд, обратил внимание на большое число среди встречающих – «бывших» и заметил, кроме прочего: «Русский человек, потерявший родину, уже не чувствует расстояний. Кроме того, ему нигде не нравится и все кажется, что где-то лучше живется. Поэтому за годы эмиграции мы стали настоящими бродягами…»
С утверждением советского режима Россия оказалась для своих заграничных чад вдвойне потерянной. Для насильственно убывших «бывших» страна превратилась в «бывшую» родину. Оставшихся замуровали, лишили глубокого осознания своего, отрезав от чужого. Состояние вынужденной закрытости рождало мифы. Во второй половине 1960-х отбытие за рубеж положительно воспринималось либерально-демократической интеллигенцией только в форме политического изгнания. Официальный же взгляд был исключительно отрицательным. Если же индивид добивался юридически законного отъезда, да еще приватным образом, то такой феномен вызывал, как правило, недоверие с любой точки зрения. Либералы видели в нем идейного отступника, предателя. Власти, даже позволив отбыть, – лицо подозрительное по определению. Уезжает – значит, недоволен, держит фигу в кармане…
Когда с средины 1980-х годов замаячила возможность просто путешествовать в те пределы, стереотип отношения к отправляющимся на Запад, сформированный советским образом жизни, преобразовывался все же медленно и трудно. Киновед Владимир Дмитриев, размышляя в 1988 году на темы rendez-vous отечественной кинематографии с пресловутым Западом, утверждал, что там не нуждаются в талантах наших актеров, режиссеров, операторов. «И своих там хватает, и заботиться в первую очередь там хотят о своих». Вспоминая об эксклюзивной попытке Кончаловского, снявшего к тому времени в Америке четыре полноценных картины, киновед заметил с акцентированной печалью: «Мне очень хочется, чтобы Михалков-Кончаловский сделал картину о Рахманинове, поскольку ничто так не разрушает художника, как невозможность воплощения одного из главных замыслов жизни. Но, признаюсь, я заранее боюсь американской картины с американским актером в роли Рахманинова, американской конструкции биографического фильма, американского взгляда на русский характер. Словом, боюсь тех же правил игры, ленты-полукровки».
«Рахманинова» режиссер на момент написания процитированных строк еще не снял. Но когда в 1992 году появился его «Ближний круг», всецело обращенный к отечественной проблематике, он вызвал среди соплеменников, как помнит читатель, именно ту реакцию, которую предсказывал Дмитриев. Да и в последующие годы созданное режиссером воспринималось как «чужое письмо» равнодушного к «нашим» болям иностранца. И это «письмо» действительно было чужим исторически запоздавшему в своем взрослении соотечественнику режиссера, который, родившись в этой же стране, успел повзрослеть быстрее даже коллег по ремеслу из своего поколения.
Но вопрос на самом деле существен: что влекло художника в страну, для советского человека «незнаемую», «чужую» и «опасную»? Как следует оценивать его творческий прибыток, накопленный там? В каком соотношении он находится с предшествующим периодом его творчества и как проецируется в будущее?
Расширение профессионального полигона было не из последних аргументов в решении Кончаловского, когда он отправлялся в свою зарубежную дорогу. Но было и другое. Помните? По его словам, после первого знакомства с Венецией и Парижем он вернулся «обожженный Западом». Он даже дачу пытался отделать на парижский фасон, что оказалось неосуществимым.
«…Что это за наказание – рабское чувство униженности перед начальником! Можно, конечно, по-разному себя вести, давить понт, выступать, но все равно, куда деться от ощущения своей зависимости? От желания сказать начальнику: «Пошел ты…» А само это желание есть признак рабства. Когда люди разговаривают на равных, ни у кого не возникает желания посылать собеседника «на» или «в»…»
Его ведет почти рефлекторное стремление к независимости частного существования. Нетерпимость к малейшему унижению. Болезненная реакция на всякую необходимость рабского пресмыкания. Человек, не склонный к идейно-политическим протестам, живет страстным желанием избавиться от советского паспорта, который делает его «бесправнее клошара». Но в советской стране всякая попытка обозначить свою независимость от власти государственного бюрократического аппарата – «диссидентство», которое, тем не менее, Кончаловский всем своим образом жизни категорически отвергал.
Андрей «отыгрывался», получив право, при жене-француженке, законно выезжать за границу. Когда официально это свершилось, он, полный ощущения вдруг явившейся независимости и свободы, отплясывал где-то в горах лезгинку. Любые невзгоды, выпавшие на его долю за пределами СССР, казались пустяком на фоне общения с кинематографическим начальством вроде Филиппа Ермаша на родине.
Судя по всему, Кончаловский на первых порах вовсе и не собирался связывать свою творческую судьбу с Голливудом. Он направился в любимый Париж. Во Франции у него наладились деловые связи с Симоной Синьоре. Писался сценарий. И вдруг все расстроилось. Отечество настигло и здесь. Синьоре отказалась сниматься. А французский продюсер режиссера объяснил, что, оказывается, кто-то доложил ей, что Кончаловский агент КГБ…
Историю эту Кончаловский прокомментировал следующим образом: «Бывает больно, бывает обидно. Но когда ты знаешь, что подозрение никак тобою не заслужено, оно больнее и обиднее в тысячу крат. Никому ничего не объяснишь. И подозревающие к тому же имели кое-какие основания: из советских (или бывших советских) за границей в то время жили или диссиденты, или агенты КГБ. Практически я был первым нормальным человеком, нормально приехавшим жить за рубеж, не клял Россию, не хвалил ее – просто нашел способ уехать».
Французский продюсер Кончаловского решил попытать счастья в Америке с несостоявшейся во Франции картиной. Но и здесь, в смысле известных подозрений, было не все гладко. Режиссер долго сидел без работы. Приходилось подрабатывать. Преподавал теорию и историю кинодраматургии в каком-то маленьком американском университете. А тут вдруг появилась публикация «Выкормыш КГБ» – в «Лос-Анджелес Уикли» – с его большой фотографией на обложке. Автором был человек, которого Кончаловский хорошо знал и которому доверял. «Было так плохо, что я чуть на вой не срывался от бессилия. Что делать – оправдываться, каяться?..»
…В начале перестройки, рассказывал он, Михаил Горбачев спросил у режиссера Элема Климова, тогда занимавшего пост секретаря Союза кинематографистов, кто из работающих на Западе российских режиссеров представляет интерес. Ответ был: «Тарковский». Горбачев назвал Кончаловского. Климов категорически отверг: нет. «Сегодня отношусь к этому спокойно, – говорил Андрей в мае 1998 года, – но тогда меня это действительно потрясло. Был и еще один эпизод, связанный с Элемом. Я вернулся в Москву, пришел в кабинет к нему и говорю: «Хочу снимать «Рахманинова»…» – «Снимай. Только не в России. Здесь мы тебе этого сделать не дадим». Я чуть со стула не упал: как? Элем мысль развил: мол, ты нас бросил, когда было трудно, теперь не жалуйся». Я лишь спросил: «А Тарковский?» Климов пожал плечами: «Андрей – другое дело».
2
Заметную роль в «дальних странствиях» Кончаловского сыграла знаменитая американская актриса, сестра не менее знаменитого актера, продюсера, режиссера Уоррена Битти Ширли Маклейн, на которую так была внешне похожа Елена Коренева. Знакомство с ней состоялось во время поездки режиссера в Нью-Йорк (подбирал документальный материал для «Сибириады»), при посредстве Лив Ульман. Вместе с Лив, которую пригласила американка, они оказались на концерте актрисы. Восхищенный ее танцевальным даром, Андрей преподнес Ширли трехкилограммовую банку драгоценной черной икры. Советский режиссер не предполагал, конечно, что совсем скоро Ширли Маклейн станет тем прибежищем, которое будет спасать и оберегать его, когда он сделает свои первые шаги вне пределов Отечества. Через какое-то время после этой первой встречи он позвонит ей и предложит сняться в «Сибириаде», в роли Таи Соломиной, которую потом сыграют, в разные возрастные периоды, Коренева и Гурченко. Ширли откажется.
И вот уже в Америке, когда Андрей ощутит «страшную пустоту одиночества – ни мамы, ни родных, ни друзей – никого» и на него навалится депрессия, Ширли появится. «Она вытащила меня из этого состояния. Отношения с ней для меня стали отдушиной, я нырнул в них…» В «депрессивную» пору он жил в гостинице, где в основном обитали звезды богемы. Режиссер описывает это место как мрачную крепость, в которой ему, под шум проливного весеннего дождя, приходилось писать сценарий, а перед ним лежало письмо матери о том, что нельзя жить без Родины, нельзя отрываться от дома…
С Ширли Маклейн он встретился на просмотре «Сибириады», который организовал для голливудских коллег актер Йон Войт, чтобы продемонстрировать уровень русского режиссера. Естественно, актриса отреагировала на свое сходство с Кореневой. Прошло время, Андрей и Ширли стали жить вместе.
«…Вокруг каждой звезды существует какое-то число людей, при ней пасущихся и кормящихся. Я как бы попал в ту же когорту, чем вызвал неприязнь к себе ее окружения. Появился новый человек, посягающий на их кусок. В это время я выпивал каждый день – от возбуждения и оттого, что возбуждение надо было погасить. Я вел себя как русский любовник. Часто ревновал Ширли, особенно когда выпивал. По натуре я человек независимый, устраивать через Ширли свою карьеру мне и в голову не приходило, я и сам себя считал звездой, хотя было ясно, что в Америке я никто. Я пытался работать. Писал для Ширли сценарий, получалось интересно, с отличной для нее ролью. Она выступала по всей Америке. Мы много раз ездили в Нью-Йорк, жили в Лас-Вегасе, в Неваде, на озере Тахо. Почти каждый вечер я ходил на ее шоу. Приятно было сидеть в самой лучшей ложе, с ледяным мартини в руке, слушать ее пение. «А теперь я пою, – каждый раз непременно говорила она, – для моего сладкого медведя». Чтобы держать уровень независимости, нужны были деньги. Он преподавал в университете Пепердайн, получал гроши. Заработанное тратил на обеды с Ширли. Нет, он не жил на содержании у актрисы. «Я не так воспитан. Я – мачо. Американцы считали, что с ее помощью я пытаюсь сделать себе карьеру. Бесконечно это продолжаться не могло. Я сказал Ширли, что с меня хватит…»
Пройдет немного времени, и русский режиссер получит наконец предложение снимать в Голливуде полноценное кино. На его пути в «американский» период будут встречаться разные женщины, но едва ли в такой роли, в какой выступала Маклейн, – в роли необходимой опоры на время трудного освоения чужого, но все-таки желанного мира.
Андрей отправился в Америку из Франции с обычным советским заграничным паспортом, но как частное лицо. Никого не спрашивал, не ставил в известность, не регистрировался в консульстве. Он оказался в Голливуде с французами. Жил в доме художника-постановщика Тавулариса, работавшего с Копполой. Замечательно почти животное ощущение свободы, которое переживал на какое-то время прибывший в Калифорнию русский режиссер. «Помню, я взял на кухне сэндвич, вышел в трусах из дома на улицу… Сел с сэндвичем на газон и понял: это моя страна. Здесь я буду жить. Было ощущение свободы и пространства. Это ощущение немыслимого пространства и немыслимой свободы каждый раз поражало меня в Америке…»
Гораздо позднее к нему на съемки «Гомера и Эдди» (1990) явится Юрий Нагибин для работы над сценарием о Рахманинове. Фильм снимался в штате Орегон, местах, по ощущению первозданности напоминающих Западную Сибирь. Обозревая пространство, писатель видел и реку, похожую на отечественную, и тайгу такую же, и чайку – и все это было «беспартийным», в отличие от родного, российского. От осознания этого, признавался Нагибин режиссеру, на душе у Юрия Марковича становилось гадко. Тогда никто, кроме Кончаловского, не мог ни услышать, ни понять этих переживаний писателя. Отношения их были достаточно близкие и доверительные. Тем более трудно было Андрею воспринять ту, совершенно «партийную», неприязнь, какую Нагибин изливал к его семье, к отцу в обнародованном своем «Дневнике».
В то же время из этих записей писателя видно, что никакие иные мотивы отъезда за границу, кроме его частных планов и намерений, Кончаловским не владели. Безрезультатность попыток вернуть его в Страну Советов была обусловлена еще и его собственным нежеланием менять в своих планах что-либо. Вернуть, а вначале удержать очень хотели – с помощью того же «Рахманинова». Прямо на пышной премьере «Сибириады» Ермаш предлагал ему снимать картину: «Сейчас запущу, если хочешь!..» Он отказался.
Резонанс, произведенный отъездом Андрея, имел две стороны. В официальных кругах – настороженность, попытка удержать, в конце концов оставленная, а с грянувшими перестроечными процессами и вовсе канувшая в Лету. Точка зрения либеральной интеллигенции совпадала, в главном, с позицией Элема Климова. А многие из тех, например, кто работал с ним на «Сибириаде», были глубоко и искренне огорчены.
Вот какой представляет ситуацию в начале 1984 года тот же Юрий Нагибин: «…Очевидно, семья сплотилась против него и сумела перетянуть на свою сторону мать… И все же, надышавшись тем воздухом, невозможно вернуться в нашу смрадную духоту. И я начинаю думать, что он пойдет на все: на разрыв с семьей, потерю наследства, на смертельный риск, лишь бы не возвращаться к тому медленному самоубийству, которым является наше существование, точнее сказать, гниение».
Кончаловский «тем воздухом» начал дышать, образно выражаясь, еще до своего рождения как воздухом предков. И надышался достаточно, чтобы, живя в своем Отечестве, ощущать себя гражданином мира. Так случилось – и этого Нагибин, при всей его проницательности, не мог угадать, – что «гниение» вошло в ту фазу, когда не могли не произойти превращения. Словом, жизнь Андрея за границей не имела тех мрачных последствий, какие рисовал его суровый друг-писатель. Были другие проблемы. Получалось так, что с одной Системой он расстался (расстался ли?), чтобы принять правила игры другой. Не сразу, но довольно скоро пришлось убедиться, что «Голливуд – тот же самый ЦК КПСС, только в зеркальном отражении». «Голливуд – это собрание хорошо выглядящих или старающихся хорошо выглядеть загорелых, наглаженных, наманикюренных перепуганных людей».
Сам он явился здесь с иллюзиями, но вполне обоснованными. Приехал с континента, где его уже признали. В 1978 году был членом жюри Каннского кинофестиваля. В 1979-м – реальным претендентом на Гран-при того же фестиваля. Вообще, полагал, что искусство в состоянии смести все преграды. В перевальные сорок лет он готов был строить свою американскую карьеру. Но выяснилось, что ничего из этого не имеет веса. А действуют аргументы совсем иного рода. Он рассчитывал на помощь здешних друзей. Поэтому прежде, чем отправиться к президенту «Парамаунта», попросил Милоша Формана написать ему рекомендательное письмо. У Формана к этому времени за плечами уже были «Полет над гнездом кукушки» (1975), получивший «Оскара», мюзикл «Волосы» (1979), «Рэгтайм» (1981). Он удивился, но письмо написал. Письмо не имело последствий.
Бывшему советскому режиссеру подсказали: хочешь построить карьеру – заведи бухгалтера, адвоката и агента. Все это нашлось, но взыскующий искусства жил по «совковым» законам. В конце концов он понял, что не умеет продавать свой талант. Сказывалось советское воспитание, отучившее русских художников видеть и рассчитывать цену своему дарованию, уметь распорядиться им.
В его окружении были такие же, как и он, неудачники. Жили весело, интересно, но работы ни у кого не было. Для Кончаловского, с его жаждой деятельности, это было трагедией. К тому же исчезали деньги. Замаячила депрессия. Какие-то средства добывались с помощью фарцовки. Из Москвы, куда он, правда, ездил нечасто, привозилась черная икра. Шесть килограммов – шесть тысяч долларов. На полгода этих денег хватало. Дома как такового, естественно, не было. Снимал маленькую комнатку за чертой Лос-Анджелеса. Ходил в одних и тех же джинсах. Купил подержанную машину.
Но если бы не отсутствие работы, угнетавшее его деятельную натуру, то чувствовал бы себя вполне счастливым человеком. Опять же по причине неиссякаемой жажды жизни и ощущения (все-таки!) свободы. Он радовался поглощению впечатлений, приобретению опыта. Словом, учился, и это вселяло надежду, тем более что недостатка в идеях и творческой энергии не было. Угнетала непроясненность его гражданской ситуации. В Париже он написал в советское посольство заявление с просьбой выдать паспорт на постоянное проживание за рубежом, поскольку он хочет остаться на Западе. Это, кроме всего прочего, позволяло бы ему заключать зарубежные контракты и окончательно прекращалась бы зависимость от советской Системы.
3
Наконец появился первый большой заказ. Кончаловский был в полной к нему боевой готовности. Оказалось кстати желание актрисы Настасьи Кински, которой нравились фильмы русского режиссера, сниматься у него. Ей на ту пору было чуть более двадцати. Долгие странствия с семьей по миру позволили ей овладеть английским, немецким, французским и итальянским языками. Испанский и португальский она знала в рамках бытового общения. Известной в киномире актрису сделал фильм Романа Поланского «Тэсс». Тогда ей было 18 лет. В 1979 году фильм вышел в Америке и получил шесть оскаровских номинаций. Ее снимали Ф. Коппола, Д. Тобак, П. Шредер в фильме ужасов «Люди-кошки». С таким багажом она пришла в картину Кончаловского «Возлюбленные Марии».
Вначале Андрею предложили сделать с Кински спектакль по чеховской «Чайке», в котором позднее Заречную сыграет Жюльет Бинош, кратковременное увлечение Кончаловского. Режиссер и актриса встретились в отеле «Шангри-Ла» (Лос-Анджелес) и пошли в ресторан. Кончаловский напряженно прикидывал, хватит ли ему наличных ста долларов на обед с Кински. В разговоре выяснилось, что актрисе очень хотелось бы сняться у него. И он предложил ей уже готовый сценарий по «Реке Потудани» Андрея Платонова.
Гораздо позднее, находясь в России, Кински так говорила в интервью о фильме Андрея, о дружбе и сотрудничестве с режиссером: «Это особенный фильм, пронизанный любовью к человеку. Война уничтожает не только тех, кто погибает физически, – многих выживших она превращает в живые трупы, которыми руководит одно – желание мести. Что может вернуть к жизни солдата, переполненного тяжелыми военными воспоминаниями? Любовь – единственная сила, дающая человеку надежду, особенно в моменты, когда кажется, что жизнь закончилась… Кончаловский – очень близкий для меня человек. Мы не общались уже очень давно. Но если душевное родство настоящее, то его не нужно поддерживать постоянными звонками. Меня всегда восхищала способность Кончаловского к сопереживанию. Когда мне было 20 с небольшим, он помог мне понять, что невозможно всегда и во всем быть безупречной, каждый человек имеет право на ошибку. Но важно помнить, что существует момент истины – когда каждое твое слово имеет значение, когда нельзя обманывать и бросать в беде. С Кончаловским связано одно очень дорогое мне воспоминание: мне тогда было 22, мы оба работали в Америке, много общались, говорили о жизни, вере. Однажды он подарил мне православный крестик, украшенный фигуркой голубки. Я сказала, что хотела бы принять крещение, и Андрей отвез меня в маленькую русскую церковь в Пенсильвании. Меня крестил русский православный священник. Все произошло спонтанно. Я была очень счастлива…»
Замысел упомянутого сценария возник еще в середине 1960-х годов. Написан был позднее в соавторстве с французом Жераром Брашем, сценаристом «Тэсс», французских фильмов О. Иоселиани. Его Кончаловский знал с начала 1980-х и очень любил. Сценарий писался для Изабель Аджани. Но денег на съемку не дали. Все из-за слухов, что режиссер – агент КГБ.
Кончаловский с Кински поехали в Канны «продавать сюжет». Состоялось знакомство с продюсером Менахемом Голаном, который согласился подписать контракт. Так началось сотрудничество режиссера с компанией The Cannon Group, которой вместе с Голаном владел и его кузен Йорам Глобус. Затем появились исполнители: Джон Сэвидж, Роберт Митчум, Кит Кэродин. Бюджет был небольшой – около трех миллионов долларов. Притом Кончаловский сильно удивил своих продюсеров, когда закончил картину на два дня раньше срока.
Режиссер работал, как никогда ранее: «Двенадцать часов – это у группы, у меня – пятнадцать, три часа на репетиции, на отсмотр материала. Напряжение непередаваемое. Как в профессиональном боксе». От этого зависела, по его словам, сама жизнь. За сорок два дня была снята актерски сложная картина, с массовкой, с приметами времени после окончания Второй мировой войны в жизни сербской общины в Америке. Фильм снимался в маленьком городке, недалеко от Питтсбурга (штат Пенсильвания).
Кончаловский характеризует владельцев «Кэннона» как аутсайдеров кинематографического мира Америки. Они «гнали поток коммерческой макулатуры», фильмы серии «Б». В то же время работалось у них легко, хотя и платили немного.
В 1984 году картина «Возлюбленные Марии» была показана на Венецианском МКФ. И вслед за этим Глобус предложил Кончаловскому контракт на миллион долларов за одну картину поставленную и одну – спродю-сированную. «Трудно объяснить, как чувствовал себя советский деятель культуры, недавний голливудский безработный, получив такое предложение. Передо мной открывалась карьера режиссера с миллионом долларов в год. Пусть ненадолго, но я ощутил себя нормальным преуспевающим человеком Голливуда. Мне дали кабинет, секретаршу, место для парковки машины, выделили бюджет на разработку проектов. Я уже был своим в американской киноиндустрии».
Он снял небольшую однокомнатную квартиру в Лос-Анджелесе «за свои, профессией заработанные деньги». Купил новую машину. И это было счастье.
Интонации рассказа Кончаловского о его работе в Штатах вызывают двойственное чувство. С одной стороны, речь идет вроде бы об удовлетворенности профессионала, человека, владеющего ремеслом и истосковавшегося по нему, нашедшего, наконец, рукам своим работу. Человек этот получил возможность более или менее прилично жить (частным образом!) на честно заработанные деньги. Тут нет ни слова о высоком искусстве. Но, с другой стороны, есть привкус некоторой самоиронии: «Я как бы стал тем, кем хотел быть». Это очень созвучно по интонации рефрену его мемуаров: «Неужели это был я?» Вряд ли пределом его мечтаний был портрет на обложке «Миллионера». В самооценках он как бы со стороны моделирует реакции именно советского режиссера, попавшего в Голливуд и неожиданно, может быть, для себя самого одержавшего первую, скромную по тамошним меркам, но значительную, в «совковом» толковании, профессионально-материальную победу.
Не будем забывать, что слова эти произносит большой художник, с мощной родословной, знающий свои силы, обладающий притом чувством независимости и определенной внутренней свободы. В «костюме» советского режиссера, попавшего в Голливуд, – это «волк в овечьей шкуре». Это не сразу, может быть, разглядели там, а вероятнее всего, вообще не увидели. Но суть прочитывалась в фильмах – о чем позднее.
Строго же говоря, и Кончаловский это отчетливо видел, контракт с «Кэнноном» особой радости не внушал, поскольку права работать ни с кем другим режиссеру не давал. Ограничение свободы выбора при неограниченности свободы творчества.
«Возлюбленные Марии» в американском прокате провалились. А в Европе фильм прошел успешно. В Париже, по словам Кончаловского, картина встала в ряд постоянно идущих престижных фильмов Ренуара, Феллини, Уэллса. В отечественном прокате в год своего выхода и ближайшее к нему время картина идти не могла. Да и позднее «голливудские» ленты Кончаловского, кроме, может быть, «Танго и Кэш», не были абсолютно доступными нашему зрителю.
Но вот критическая оценка картины, оформившаяся в момент ее появления, хотя и обнародованная уже в конце 1980-х. В ней выражена некая общая точка зрения на творчество Кончаловского этого периода. Она принадлежит киноведу Андрею Плахову.
В 1984 году ему довелось впервые побывать на Венецианском кинофестивале. Группа советских кинематографистов увидела броское фотопанно, на котором среди портретов других режиссеров были Отар Иоселиани, Кончаловский. Однако им настоятельно не рекомендовали ходить на фильмы «отщепенцев». Киновед Плахов и режиссер Сергей Бодров пренебрегли предостережением.
«Перед нами, заинтригованными метаморфозой Кончаловского, его первая зарубежная картина множила вопросы и не давала ответов. Его было принято держать за «интеллектуального режиссера», и хотя, по моему убеждению, уже в Союзе им были сделаны два компромиссных фильма, верилось, что он еще себя покажет. Не хотелось следовать обывательской логике, объяснявшей уход Кончаловского на Запад тщеславием и тягой к плейбойской жизни».
Следует уточнить, что ко времени, когда Плахов окончил ВГИК (1978), уже вышел «Романс о влюбленных», поставивший крест на репутации Кончаловского в среде либералов, поэтому «интеллектуальным» режиссера, якобы решившегося на компромисс с властью, вряд ли могли считать. Суровое отрицание усугубилось после «Сибириады». Действовала не столько обывательская, сколько логика «партийной» принципиальности советских интеллигентов.
В 1984 году «Возлюбленные Марии» разочаровали критика «по всем статьям». На его взгляд, фильм никак не соответствовал духу рассказа Платонова «Река Погудань». История «была выстроена по канонам классической, апробированной Голливудом мелодрамы – с контуром любовного треугольника, с легким фрейдистским изломом прямых и сильных страстей, с умелой дозировкой сентиментальности и роковых велений плоти».
Особенно шокировала Плахова сцена, где герою фильма сербу Ивану Бибичу «на грудь пробирается крыса, ползет, залезает прямо в рот». «Собрав остатки сил, человек хватает мерзкое животное, разбивает его об пол, делает из него кровавое месиво…» Критик не соглашается сопрягать эту, очень выразительно описанную им сцену с аналогичным эпизодом у Платонова. «Разительное несоответствие между «наивной» натурфилософией Платонова и натуралистическими шоковыми эффектами современного кино, – пишет он, – налицо».
Позднее Плахов «точнее ощутил предложенные режиссером правила игры». Он увидел, как в картине «смешиваются органика и экзотика: славянский и американский элементы». В нелицеприятной, но ожидаемой критике киноведа особенно существенным кажется наблюдение над смешением «языков» в кинематографе Кончаловского, на которое Плахов обратил внимание только после вторичного просмотра. Он так и не смог вынести решающее определение «продукту» (то ли то, то ли это), отметив лишь единство его «иммиграционной» атмосферы.
Самой большой удачей своей голливудской практики Кончаловский считает «Поезд-беглец», поставленный по сценарному замыслу Акиры Куросавы. О том, что Куросава ищет американского режиссера, который мог бы заняться его сценарием, Андрею сообщил, со слов Френсиса Копполы, Том Ладди. Известно, с каким почтением и любовью относился Андрей к великому японцу, занимавшему место одного из авторитетнейших учителей в его становлении как кинематографиста. Можно представить волнение русского режиссера, собиравшегося на встречу с Куросавой. «Куросава – мой любимейший режиссер. Когда что-то не получается, не ясно, как снимать, смотрю Куросаву. Достаточно двух-трех его картин, чтобы пришло понимание, как решать эту сцену, этот образ. Шекспир, шекспировский художник – по силе. По ясности, по мужеству взгляда на мир».
Куросава согласился с тем, что фильм должен снимать Кончаловский. Но после окончания работы отказался от встречи с ним, полагая, как считает Андрей, что постановщик переписал сценарий и как бы пошел на соглашение с «империалистической идеологией» США.
Съемки фильма проходили трудно. Снимать приходилось в апреле на Аляске. Один из пилотов разбился вместе с вертолетом. Но работа радовала Кончаловского: снимал то, что хотел, и с кем хотел. На этом фильме, кстати говоря, режиссер познакомился с Эдвардом Банкером (1933–2005), писателем, отсидевшим в свое время восемнадцать лет в тюрьме, где он и начал писать свою первую книгу. Кроме того, что Банкер участвовал в написании «настоящих тюремных диалогов» для фильма, он сыграл в «Поезде», а затем – в «Танго и Кэш». Он привел на фильм и Дэнни Трехо, хорошо известного нашему зрителю по фильмам хотя бы Р. Родригеса.
Дэнни в молодости сам грабил банки, а находясь в тюрьме, стал чемпионом по боксу среди заключенных Калифорнии. Вначале ему предложили сыграть зэка в «Поезде-беглеце», затем тренировать Эрика Робертса, который по роли должен был боксировать на тюремном ринге. А уж затем посулили 320 долларов в день, чтобы он сразился с персонажем Робертса. «В общем, – рассказывает актер, – когда Кончаловский впервые крикнул «Мотор!», я почувствовал тот же прилив адреналина, что и в молодости, когда грабил банки. Только оружия для этого не нужно, и в тюрьму за съемки не попадешь! А когда мне впервые еще и деньги за это заплатили – я вообще выматерился: «Твою мать, раньше меня сажали в тюрьму за то, что я плохой парень. А сейчас отваливают кучу денег за то же самое!»
После «Поезда-беглеца», говорит режиссер, началось его восхождение. Фильм выдвинули на премию «Оскар» по трем номинациям: Йону Войту – за лучшую мужскую роль, Эрику Робертсу – за лучшую мужскую роль второго плана, Генри Ричардсону – за лучший монтаж. Однако премию не получили. Все по причине, полагал
Андрей, отношения американской общественности к компании «Кэннон». Не смогла кинокомпания Голана-Глобуса обеспечить фильму и достойный коммерческий прокат. «Поезд-беглец» в американском прокате «был убит, – считает режиссер, – как и все, что я для них снял».
По выходе картины у нас ее многие восприняли как типично американский фильм. Плахов, например, в уже процитированной статье «Метаморфозы Кончаловского» обнаружил несоответствие между «почтенным» именем Акиры Куросавы и «вполне добротным триллером, разыгранным на пустынных пространствах Аляски… Вольно видеть здесь метафору заблудшей цивилизации, но Кончаловский ни на миг не забывает об эффектах и специфике триллера, о его брутальной ауре… И все-таки вместе с инеем на стенках холодильной камеры оседают совсем не американские, а чисто русские комплексы. Комплексы несвободы, страха, ущемленного достоинства».
Характерно, что критик вновь отмечает стилевую разноязычность Кончаловского: с одной стороны, стремление режиссера держаться в русле жестких жанровых требований Голливуда, а с другой – собственно отечественную маргинальную атмосферу. Однако на вопрос, что же, в конце концов, формирует художественное целое кинематографа Кончаловского, критик не дает ответа.
Внешне по заключении контракта с «Кэнноном» материальное положение режиссера укреплялось. В значительной мере помогала реклама, которой определенное время успешно занимался Кончаловский. Он купил квартиру в Париже, дом в Лос-Анджелесе. Но в произведениях его жила и не исчезала неистребимая печальная, может быть ностальгическая, нота. А может быть, он понял, как говорил его Вечный дед из «Сибириады»: от себя не убежишь, и дальше Сибири не сошлют…
Следующий фильм Кончаловского лежал в совершенно, кажется, иной плоскости – и по атмосфере, и по жанру, – чем предыдущие два. «Дуэт для солиста». Пьеса Тома Кемпински, с креном в психоаналитическую проблематику, имела успех на театральной сцене, что и привлекло внимание Голана. Однако Кончаловский, погружаясь в материал вещи, нащупал иную логику и стал лепить свой мир. Режиссер расширил пространство жизни героини-скрипачки, наполнил его людьми. По его словам, вещь приобретала «чеховско-бергмановские черты», противоположный пьесе настрой. Фильм говорил о бессилии психоанализа перед живой жизнью, в смыслы которой перед смертью и пытается проникнуть героиня.
В фильме, кроме Джули Эндрюс, снялись прекрасные, даже выдающиеся актеры вроде Макса фон Сюдов, Алана Артура Бейтса. Сыграли здесь и будущие звезды – Руперт Эверетт и Лиам Нисон. Будучи сам музыкантом, Кончаловский требовал предельной достоверности во всем, что касалось этой области. Так, Эндрюс, чтобы сниматься в картине, училась играть на скрипке. «Но в игре на скрипке движения очень сложны: поэтому на крупных планах мы сажали актрису на стул, рядом с ней снизу садилась профессиональная скрипачка с хорошей рукой: Эндрюс правой рукой водила смычком, а левой – играла скрипачка… планы эти снимать было очень сложно, но они дали фильму подлинность».
В американском прокате картина, чего, собственно, и следовало ожидать, провалилась. И она оказалась излишне русской, излишне «чеховской». Может быть, поэтому в нашем Отечестве те немногие, кто ее видел, считали ее удачей, пусть скромной.
Режиссер не был удовлетворен. По внешним признакам, он проигрывал Голливуду, который демонстрировал своему неофигу, что завоевывать этого монстра нужно всякий раз заново. Набор определенной высоты с «Поездом-беглецом» еще не обеспечивал твердой карьеры…
«Возвышающий обман, иллюзия – то, что ты добился успеха и отныне уже навсегда ТАМ!.. После «Поезда-беглеца» все дороги были для меня открыты. Я мог бы делать все, что хочу. Первой моей глупостью был эксклюзивный контракт с «Кэнноном». Голан и Глобус почувствовали во мне многообещающего режиссера, способного на большую карьеру в Голливуде. Я не мог понять, почему карьера не складывается. Не складывалась, потому что я делал авторские картины и потому что «Кэннон» не умел их прокатывать…»
Любопытная вещь! На первый взгляд, он твердо нацелен на самоутверждение в системе Голливуда. Очень переживает, что ему не удается это сделать вполне, – главным образом, кажется, по недомыслию «Кэннона». И вместе с тем упорно возвращается в рамки собственной темы и собственного кино, вопреки требованиям системы, в которой оказался по собственному же волеизъявлению.
Оставим «Кэннону» кэнноново и спросим себя: мог ли Кончаловский делать другие, а не те картины, которые делал, будучи всякий раз влюбленным в свой художественный мир и верный этой любви? Меня не покидает чувство, что режиссер как бы назло системе делает то, что ее требованиям никак не отвечает. Он и внутри голливудской «бойни» действует по своим правилам. Он и здесь остается на стыке, не поглощенным махиной американского ширпотреба.
Прямое доказательство тому – следующий фильм, «Стыдливые люди» (1987). Картина еще менее голливудская, нежели все предыдущие. Замысел ее рождался в период съемок «Сибириады». А снималась она в местах, где и в конце XX века могли царить патриархальные нравы – на юге Америки, в Луизиане.
«…Болота, аллигаторы. Идет старик, тащит через плечо за хвост аллигатора. Такие вот картинки можно увидеть из окна машины. Особая психология. Порцию раков в луизианском ресторане накладывают в тарелку выше головы. Во всем – безумство юга. Жара. Все влажные. Чувственность обострена. Блюз. Диксиленд… Мне очень хотелось передать это ощущение в картине. Но по философии это было во многом продолжение «Сибириады»: в мире луизианских лесов и болот разлит такой же пантеизм, метафизика природы, человек так же ощущает себя лишь частицей этого мира… Полкартины происходит в болоте. На воде очень трудно снимать. Пока поставишь свет, кадр, все уже уплыло, все поменялось – с ума сходишь…»
Этот фильм, как и «Дуэт для солиста», мало или совсем не знаком отечественному зрителю. В статье Плахова, едва ли не единственной в отечественном киноведении, пытающейся обрисовать целостный контур голливудской практики Кончаловского, отмечается прежде всего, что «Стыдливые люди» были показаны в Канне вместе с «Очами черными» Никиты Михалкова (от Италии) и «Покаянием» Тенгиза Абуладзе – от советского кино. С чуть приглушенной иронией критик восклицает: «Надо было стать американским режиссером и добраться до Луизианы… чтобы выкроить на экране причудливую параллель и нашему «Прощанию с Матерой», и даже… нашему «Покаянию».
А далее следует концептуально окрашенный пересказ ленты. Позаимствую его у Плахова. «…Забытый богом цивилизации уголок земли, наполовину затопленный водой и заросший буйной растительностью. Там и обитают, вдали от центров и столиц, «застенчивые люди» – вдова-воительница Рут, настоящий рабовладелец в юбке, и трое ее сыновей, знающих только тяжкий физический труд, не испорченных ни телевизионной болтовней, ни наушниками с дикой музыкой, ни коварными наркотическими штучками. Правда, патриархальная идиллия грозит не сегодня завтра накрыться медным тазом: в национальном парке уже орудуют браконьеры, тяготится убогой жизнью невестка героини, а четвертый сын, Майкл, предав освященный традицией уклад, бежал в город. И все же крепки устои доморощенной мифологии: недаром в семье принято считать Майкла мертвым, зато ушедший из жизни папаша Джо остается полновластным хозяином Ноева ковчега. Его образ зримо витает над топями и разливами… в этом имеет возможность убедиться даже пришлая гостья – журналистка из Нью-Йорка, приехавшая сюда вместе с дочкой к дальним родственникам.
Последовательности противопоставления города и деревни у Кончаловского могут позавидовать наши ортодоксальные деревенщики. Журналистка, продукт интеллигентной богемы, давно потеряла контакт с дочерью, та без пяти минут наркоманка и едва не сбивает с пути истинного забитых диктатом матери парней… Но самонадеянной Грейс вскоре придется поплатиться за свою эмансипированность, а вовремя вернувшаяся Рут с помощью железных прутьев быстро приведет в чувство взбунтовавшихся сыновей. И даже отщепенец Майкл после двенадцатилетнего пребывания в городе вернется в родную обитель и разобьет источник мирового зла – ввезенный происками невестки телевизор.
Когда в финале происходит откровенный женский разговор, выясняется, что Отец-хозяин был на самом деле пьянчугой, мотом и садистом. Однако эта правда не важна ни для вдовы, ни для журналистки, готовящей статью о реликтовой семье из Луизианы. Жизненно важнее оказывается миф о папаше Джо (напомню: так на Западе называли Сталина), так же как на семейных фотографиях проще затушевать лица «грешников», чем разбираться в их действительных или мнимых грехах.
Вот такая американская вариация на тему корней, экологии, морали и наследия сталинизма! Это-то и есть в фильме самое интригующее, ибо с точки зрения художественной он «оставляет желать»… Снята картина грубовато, словно бы наспех, что вообще нередко сопутствует зарубежным опытам Кончаловского…»
Несмотря на иронию, традиционный скепсис в оценке творчества Кончаловского, здесь видна увлеченность сюжетом, оттого и многое верно угадано в нем. Тогда, в 1989 году, Плахов мог догадаться, если бы был более внимательным в свое время к «Сибириаде», что не столько с «Прощанием» Элема Климова, а тем более не с «Покаянием» Абуладзе перекликается американская лента Кончаловского, сколько с его собственным отечественным фильмом. Оттуда в луизианский эпос перешла коллизия природа – человек. Причем в этой оппозиции образ цивилизации рифмовался как раз с цивилизацией советской, сформировавшейся на разрушительном авторитете Отца-Хозяина.
В замысле предполагалось столкнуть две семьи: одна основана на принципах свободы, другая – на долге и любви. Сначала планировали снимать в Греции. Но затем в Америке стали искать места, где могла бы возникнуть полярность психологий. Было ясно, что представительница цивилизации должна быть из Нью-Йорка. Вторую поселили в Луизиану.
В противопоставлении семейных миров Кончаловский видел метафору двух государственных устройств – России и Америки. «Я делал картину о взаимоотношениях, принятых в разных культурах, о необходимости взаимной терпимости. Демократия – это, прежде всего, терпимость. Терпимость, думаю, – чуждое России понятие. Терпение – да! Терпимость – нет». Нью-йоркская семья – модель США, где члены семьи друг друга уважают, но не любят. А семья из Луизианы – модель России, где люди друг друга не уважают, но и любят, и ненавидят. «Луизианская семья, – разъяснял замысел режиссер, – имеет своего «Сталина» – отца, который то ли умер, то ли жив – призрак его витает над болотами. В этой семье были свои диссиденты, своя Чехословакия, свое подавление восстания – все как в социалистическом лагере…»
Уже эти черты замысла говорят о том, что фильм может быть и значителен, и глубок. Он органически вписывается в кинематограф Кончаловского как художественное целое, никак не претендует на звание голливудской продукции. А станет, скорее всего, новым «пограничным» детищем режиссера, в котором отразится спор мировосприятий, культур, стилевых языков, что вовсе не сулит кассовой прибыли. Режиссер, оказавшись в Голливуде и внешне принимая его правила, по сути, ведет свою игру, что может быть вполне сознательным актом, но может быть и непреодолимым глубинным противоречием его творческого «я», с которым он как профессионал справиться не в состоянии.
«Стыдливые люди» «казались мне тем главным, что я так долго вынашивал, самым сокровенным, что более всего хочу высказать. Но по зрительскому восприятию не чувствую, что сказанное мной нашло отклик. Может, я слишком пересимволизировал картину, может, загнал важные для себя мысли в слишком семейную историю, может, был слишком рационален, решая проблему выбора – любовь или свобода. Но не оставляет ощущение, что я что-то утерял».
4
Пришло время освобождения от эксклюзивного контракта с «Кэнноном». Хотелось иметь прокат, который компания не умела организовать. В условиях обретенной свободы появился продюсер, предложивший снимать фильм «Гомер и Эдди».
Вся картина – это дорожные странствия простодушного Гомера, получившего в детстве травму бейсбольным мячом и после этого нелепого случая оставшегося «вечным ребенком», которого бросили родители, люди весьма зажиточные. Он как раз и направляется к своему больному отцу, с глубокой, почти неосознаваемой надеждой воссоединить семью. Утратив по дороге жалкое имущество, он натыкается на Эдди, взбалмошную неуправляемую негритянку с опухолью в мозгу, которая по дороге совершает несколько внезапных убийств. Два, по сути, несчастных человека, два юродивых объединяются и уже вместе продолжают свой путь, завершающийся гибелью Эдди…
Сюжет очень заинтересовал Кончаловского. Он видел в нем мотивы феллиниевской «Дороги», «Очарованного странника» Н. Лескова, мотивы творчества Андрея Платонова, У. Фолкнера, «даже беккетовское жестокое обаяние». Привлекала странность сценария, его вдруг открывающаяся в финале мистика, связанная с появлением фигуры символического Христа, изображаемого бродячим актером во время каких-то празднеств…
«Я не снимал таких картин – из современной жизни, где сюжет развивается в путешествии. Мне захотелось показать американскую природу, жизнь провинции. Мы ездили по стране, искали натуру. В каком-то городке снялись у фотографа-пушкаря, выставив головы в прорези размалеванного холста – совсем как было в лучшие годы на наших базарах. Постепенно нащупывался стиль будущей картины… Хотелось попробовать себя в жанре «черной комедии».
Кончаловскому кажется, что на этой картине он сильно ошибся с исполнителями. Сначала хотелось сделать дешевую, по американским стандартам, картину, с неизвестными актерами. Но потом на сценарий клюнули звезды. У него была встреча с Робином Уильямсом, звездный взлет которого тогда только начинался. Что-то режиссера не устроило в актере. И он решил взять Джеймса Белуши и Вупи Голдберг.
Белуши сыграл совершенно противоположный его собственному темперамент. Гомер – человек «асексуальный, абсолютный ребенок». «Для меня этот характер был очень важен, – пояснял режиссер. – Ведь вся культура XX века строится, по сути, на возмездии, на том, что добро должно покарать зло силой. А герой Белуши обладает той же способностью, что дети и святые, – он прощает. А сила прощения, терпимость – это то, что нам, по-моему, необходимо, ибо мы привыкли нынче защищать духовность дубиной. Как говорил Достоевский, легко обвинить злоумышленника – трудно его понять».
Большая ошибка, считает режиссер, произошла как раз с приглашением Голдберг. Вначале на этом месте планировался мужской персонаж. Но, в силу обстоятельств, пришлось резко поменять ситуацию. С Вупи отношения у режиссера сразу не заладились. Ему понадобилось прибегнуть к всевозможной дипломатии, «чтобы как-то утихомирить страсти». «Я никогда не работал с теми, к кому испытывал неприязнь. Жизнь, в конце концов, одна – зачем семь-восемь месяцев жить в обществе людей, которых не любишь». Вупи «из породы «самоиграющих» актеров» и не любит, чтобы постановщик вмешивался в то, что она делает на съемочной площадке. «Думаю, на съемку она шла с ощущением тяжелой повинности. Считала, что я фашист, что нельзя так жестоко обращаться с актерами. После расслабленной американской режиссуры подарком я, конечно, не был».
Из-за интерпретации, на которой настаивала звезда, уходившая из-под контроля режиссера, картина складывалась иной, чем задумывалась. «Сценарий был о том, как эпилептик с приступами неконтролируемой ярости верит в Бога, ищет пути к нему. Но начинается приступ, и Бог забыт. Конечно, это должен был играть актер, от которого исходит опасность. А от Вупи физическая опасность исходить не может. Она очаровательна, смешна, обаятельна. Она талантливая актриса, большая звезда. Но не «Эдди».
Не был доволен режиссер и продюсером фильма, который зажал постановщика в бюджете. Продюсеру не нравилось, что картина получается грустная, и пришлось переснимать финал. «Нелегкое испытание – смиряться перед силой обстоятельств, выслушивать неумных, вульгарных людей – с такими в Америке мне пришлось сталкиваться намного чаще, чем дома».
«Гомер и Эдди» получил «Золотую раковину» в Сан-Себастьяне, но от фильма остался горький осадок. Лента, в сравнении с замыслом, оказалась, в представлении режиссера, на несколько порядков ниже. Проката в Америке она не имел никакого. Как выразился режиссер, картина год пролежала на американской «полке», так как считалась абсолютно некоммерческой.
Между тем Андрей Кончаловский уже до нее фактически подписал себе приговор: взялся снимать блокбастер «Танго и Кэш».
…Читатель помнит, что, оказавшись в Штатах, Андрей три года мыкался в поисках работы. А выполнять любую работу, на что и следует жестко ориентироваться прибывающим сюда, он не мог, не был готов. Самое большее, что удалось сделать за это время, – короткометражный фильм «Сломанное вишневое деревце» (1982) для образовательной программы. Фильм, поставленный по рассказу Джесси Стюарт, был, кстати говоря, номинирован на премию «Оскар» по разряду короткого метража. И это казалось даром свыше. «Я был счастлив, что мне доверили камеру, что я опять режиссер, что могу показать всем это».
На ту пору у него уже развился комплекс бедного человека. Стали появляться мысли о возвращении в Москву. Так что компания «Кэннон», пристроившаяся на обочине голливудских магистралей, в этих условиях была божьей милостью. «Кэннон» был подарком еще и потому, что именно здесь сохранялось авторское лицо режиссера.
Кончаловский следующим образом описывает опыт, вынесенный им из деятельности в условиях американского кинопроизводства: «За годы поисков работы в Голливуде я понял одну простую вещь: смотрят и знают кино совсем не те люди, которые дают деньги на него. Эти не знают режиссеров, актеров. Единственный критерий для них касса. В американском кино горбят спину не за совесть, а за страх. Нужно гнать и гнать, а если потребуется хоть день досъемки, получить не надейтесь… Можно ли при этом сохранить свой авторский мир?.. На площадку надо приходить, зная досконально от а до я, готовым пусть по минимуму, но все же сделать задуманное в пределах отпущенных возможностей. И тогда со временем, может быть, удастся завоевать право работать в условиях, позволяющих чувствовать себя художником. Я на себе испытал, как голливудские условия, необходимость быть все время мобилизованным, сказываются на самом языке фильма. Какой бы опытный, сверхпрофессиональный режиссер ни делал картину, стилистика всецело утилитарна… Американский кинематограф, очень эффективный с точки зрения производственной и коммерческой, расплачивается за это тем, что лишь немногие его мастера сумели в какой-то степени сохранить свободу самовыражения. Я понял, что нет иного выхода, как жертвовать своим авторским языком во имя содержания, которое хочешь выразить. Чтобы хоть отчасти сохранить свою орфографию, свой синтаксис, приходилось преодолевать огромное давление».
Философия, которую приходилось усваивать, была чрезвычайно проста: «Не в деньгах счастье, а в том, что они есть». А зарабатывание денег – занятие не для слабаков.
«И если ты уже на этом ринге, если рвешь зубами чье-то мясо, продираясь к контракту, считай себя счастливцем. Все другие стоят в бесконечной очереди, и им никто ничего не предлагает. Ну, может быть, есть контракты поменьше, но суть, в общем и целом, такова. Снаружи цивилизованный лоск, фраки и смокинги, внутри джунгли, где каждый каждого норовит съесть. В Голливуде это особенно очевидно. Там гигантские деньги, которые могут прийти и уйти в одночасье, и драка за них титаническая».
Кончаловский вышел на «ринг» и сошелся один на один с правилами игры, так сказать, Большого Голливуда. Победил или проиграл? Или закончил ничьей?
Он очень подробно рассказывает о том, как снимался фильм «Танго и Кэш», желая, вероятно, и сам понять, каков был результат «генерального сражения». Началось все со звонка его агента, предложившего от имени «Уорнер бразерс» постановку с Сильвестром Сталлоне. Сценарий режиссеру показался наивным, но не лишенным юмора, за который можно было ухватиться. Ныне этот популярный полицейский боевик представляет двух вечно конфликтующих копов, роли которых исполняют Сталлоне и Курт Рассел. Рэя Танго и Гэйба Кэша, полицейских-соперников из Лос-Анджелеса, объединяет стремление каждого быть лучше другого. Мафия решает избавиться от них самым коварным путем: засадить за решетку и там прикончить. Копы действительно оказываются в тюрьме. Их пытаются убить. Они совершают побег. За ними организована погоня. Пока их не настигли, они должны снять с себя обвинение и покарать мафию.
Кончаловский надеялся облагородить трафаретную фабулу стилевой элегантностью, профессиональным подходом к сценарию прежде всего. Помимо прочего, режиссер соглашался работать только на том условии, что Сталлоне, известный своими капризами, не станет вмешиваться в процесс создания картины.
И вот встреча с продюсером Джоном Питерсом. Питерс получил уличное образование. Позднее выбился в парикмахеры голливудских звезд. В этом качестве познакомился с Барбарой Стрейзанд. Так началась его головокружительная карьера. «Обессмертил» себя продюсированием «Бэтмена» Тима Бертона. Фильм, как известно, пользовался оглушительным успехом и при бюджете в 48 млн долларов собрал 400 млн.
В беседе с режиссером Питерс заверил, что любит его кино, пообещал замечательно сработаться и в результате выдать грандиозную картину. Тревоги Кончаловского покрывались репликами: «Не волнуйся. Все сделаем. Начинай работать». Питерс убеждал режиссера, что сам будет контролировать картину. Сталлоне не даст и пикнуть. О деньгах просил не беспокоиться, заключив: «Уорнер бразерс» – это я!» Но это не успокаивало, а, напротив, настораживало режиссера. Фактически начинался поединок с легендарным Джоном Питерсом.
В сознании Кончаловского укреплялась уверенность, что в Голливуде дело решает не реальная цена творческой личности, а принадлежность к номенклатуре: связи, общение, некие «клубные» правила. Вот они: ни с кем никогда не ругайся; никого публично не критикуй; имей высоких покровителей; не выноси сор из избы и т. п.
Во время встречи со Сталлоне выяснилось, что звезде нравится все, что режиссер говорит о картине. И на режиссера звезда произвела впечатление человека разумного. Словом, они друг другу понравились. Начало казалось обнадеживающим: он пришелся по душе двум суперзвездам – продюсеру и актеру.
Сроки были, по разным причинам, сжатыми. Фильм должен был выйти к Рождеству. Питерсу выгодно было выпустить картину в поставленные сроки, поскольку, по прокатным прогнозам, рынок к Рождеству оголялся. Свободное пространство нужно было занять во что бы то ни стало. Это и был фактор решающий.
Между тем сразу же возникли проблемы со сценарием. Сценарист Роберт Фелдман прибыл в Париж, где в это время Кончаловский работал над спектаклем по чеховской «Чайке», и сразу же огорошил режиссера, доложив, что имеет инструкцию все выслушивать, но ничего не писать. Предложения, которые высказал Кончаловский, в сценарий так и не вошли. Фелдман действительно записывал все, что надиктовывал ему Питерс, а потом переписывал с учетом предложений Сталлоне. И после этого переписывал еще раз, реализуя новые идеи продюсера. Уже сложилась съемочная группа, но сценария все не было. Он только писался. Бюджет картине был дан по существующему варианту сценария, в то время как режиссер ориентировался на новый его вариант, до конца съемок так и не появившийся.
В скором времени выяснилось, что Питерс склонен манипулировать всеми, в том числе и самим Кончаловским. С этой целью был взят режиссер второй, параллельной группы, который формально должен был работать под руководством Кончаловского. Но фактически этой группой управлял Питерс. А с другой стороны наседали звезды. Режиссер делал все, что они просили, точно зная, что никогда не вставит этого в картину.
Между тем с картины сняли оператора и заменили другим. Был сменен сценарист. Новый, опытный и очень дорогой вскорости запротестовал, не желая больше менять в сценарии ни строки.
Все это, рассказывает Кончаловский, походило на сновидение. Происходило нечто неподконтрольное, нерегулируемое…
Снят был с картины преданный режиссеру монтажер. Кончаловский лишался возможности личного влияния на результат работы, хотя им по-прежнему, по его выражению, «руководило глупое желание или утвердить себя как режиссера, добивающегося реализации своих идей, или уйти с картины».
Фильм монтировался без режиссера. Он то и дело оказывался в вынужденном простое. А перерасход по фильму составлял двадцать миллионов долларов. Финал этого безумия Кончаловский описывает так: «Руководители «Уорнер бразерс» понимали, что аналитики с Уолл-стрит наверняка заинтересуются, откуда такой перерасход, запросят совет директоров, тот, в свою очередь, потребует отчета, что происходит, почему так затягиваются съемки, так непроизводительно работает группа? И тут все факты будут не в пользу Питерса…
Руководители «Уорнер бразерс» не подозревали, что Питерс уже их предал. Они хотели его защитить, им нужен был козел отпущения. Козлом был выбран я. Мне предложили уйти…
– Конечно, мы выполним все, что записано в контракте. Твоя фамилия останется в титрах. Заплатим тебе все, что положено. У нас нет и не будет к тебе никаких претензий. Но так надо…
Надо было, чтобы полетела чья-то голова. Пусть моя, я не возражал. Спустя ровно две с половиной недели мир кинобизнеса вздрогнул от обвального известия: «Сони» за полтора миллиарда купила «Коламбию», Губер и Питерс стали ее президентами».
А фильм был завершен другим режиссером.
Эта почти анекдотическая катастрофа подводила черту под голливудской одиссеей Кончаловского, первые шаги которого здесь начинались так: «…я на Беверли-Хиллз, выхожу из агентства, которое почему-то согласилось меня представлять. Хожу в белых носках сероватого цвета (я тогда еще не знал, что если носки белые, то должны быть ослепительно-белыми), делать нечего, работы нет, по советской привычке заходишь в какую-нибудь организацию и, как в отечестве, хочешь с кем-нибудь потрепаться. На тебя смотрят как на эксцентрика… Так вот, выйдя из агентства, вижу человека, катящего по улице тележку с сэндвичами. Денег – ни копейки. Перспектив на работу нет. Что делать? Неужели продавать сэндвичи?..»
Сэндвичи он, ясное дело, продавать не стал. Стал снимать – в 1984 году вышел фильм «Возлюбленные Марии». Но в систему все же не вписался. Так и остался, образно говоря, «в носках сероватого цвета»…
Глава вторая Наши люди в Голливуде
Я думаю о том, что вернусь домой.
Возлюбленные Марии, 1984 г.Да, я странник до конца. Я в пути. Дело в том, что горизонт для меня – самая важная вещь. Если нет перспективы, причем во всем, мне неинтересно жить…
А. Кончаловский. Из интервью. Октябрь 1997 г.1
Андрей Кончаловский оставался если уже не советским вполне, то все же русским человеком. В нем всегда жило неуемное, абсолютно отечественное стремление к поискам Правды-Истины. Стремление это на рубеже XX–XXI столетий превратилось в какую-то маниакальную страсть достучаться уже с открывшейся ему правдой до сердец и умов соотечественников.
В творчестве желание «разобраться» выразилось в пристальном интересе к нашему «низовому» человеку. Интерес этот не увял и тогда, когда режиссер оказался за рубежами своей страны. Фактически все его ленты, созданные там, так или иначе возвращаются к этому маргинальному типу, но только поставленному на границу с иной культурой, однако в чем-то главном родственной культуре отечественной. Уже первый большой фильм режиссера, созданный им за рубежом и открывший третий период его кинематографического творчества, подтверждает это.
В основе сюжета «Возлюбленных Марии» лежит, как помнит читатель, платоновский рассказ «Река Потудань», главных персонажей которого, сюжетные линии и ключевые образы переносит в свой фильм Кончаловский. Но если у Платонова события связываются с окончанием Гражданской войны в России, то в фильме – это 1946 год. Герой-серб спешит домой, в Америку, из японского плена. Вместе с другими, возвращающимися со Второй мировой войны, он, вероятно, мог переживать и те чувства, какие владели его далеким прототипом Никитой Фирсовым из «Реки Потудани».
«Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге; душа их уже переменилась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы, – они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были три-четыре года назад, потому что они превратились совсем в других людей и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду…»
«Точно впервые жить» шел из плена и Иван Бибич. А главной идеей и надеждой и его, и всех, кого выгнала из-под родной крыши война, было именно возвращение домой как очищение от грязи и крови мировой бойни и утверждение новой жизни. И так же, как у Платонова, возвращение затягивается на все произведение. У Кончаловского оно становится сюжетом не только этой картины, но всех сделанных в Америке. Творчество «голливудского» периода превращается в эпос странничества-возвращения.
Герои, как правило, люди пограничного психологического склада и существования. Гомер – то ли ребенок, то ли взрослый, то ли наивный Иванушка-дурачок, то ли мудрец; герои «Стыдливых людей» принадлежат одновременно и природе, и цивилизации, располагаясь на границе культур; Иван Бибич – серб, но проживает в Штатах, а возвращается из японского плена…
Как в рассказе Платонова, так и в фильме Кончаловского слышится отзвук мифа о непорочном зачатии. Травма, нанесенная Ивану войной, становится преградой на его пути к семейному счастью. Он не в состоянии оплодотворить Марию – от слишком большой и трепетной любви к ней. В фильме, как, впрочем, и в рассказе, речь идет не об импотенции героя в медицинском смысле, а о неспособности в превращенном войной мире вернуться к себе, к родной почве. Его сознание тревожит призрак отвратительного животного. Крыса, увиденная им в плену, питающаяся жертвами войны. Мерзкий, страшный образ мировой катастрофы заставлял его, пленного, спасаться в любви к Марии, в воображении овладевая ею.
Агрессивная животная плоть мира противостоит Ивану Бибичу и в образе его отца, иных мужчин, посягающих на девственность Марии. Тема отца-соперника – тема не столько фрейдистская, как полагал А. Плахов, сколько платоновская. Тема старого мира, посягающего на начала мира обновленного. Для Кончаловского же тема «отцовства-безотцовства», поиск героем само-осуществления – одна из самых важных едва ли не с первой картины.
Отец в исполнении опытнейшего Роберта Митчума получился не таким, каким задумывался. Из картины пришлось вырезать многие куски именно с этой ролью, с ролью отца героя. «Я видел его чудаковатым, странным, все время пьяным, земным, плотским, сумасшедше плотским. Это должен был быть террорист-бабник, врубелевский Пан с корявыми руками или Вечный дед из моей «Сибириады», сыгранный Кадочниковым, но только с угадываемой в нем могучей эротической потенцией… В сценарии он страшно свирепел, узнав, что Мария все еще девушка. Он бил сына и орал: «Что ж ты делаешь! Да я ее за три дня обрюхачу! А ты, дурак, не можешь! Я внуков хочу!» И начиналась драка, они в кровь били друг друга. В конце отец падал на колени, с расквашенной мордой, и говорил: «Нет, все-таки ты – мой сын». Ренессансный характер. Митчум этого не мог сыграть. Он играл американский характер, а у меня был написан славянский……Мне казалось, что это мог бы сыграть Берт Ланкастер… Теперь я понимаю, что и Ланкастер бы не сыграл. Просто потому, что этот характер не свойствен англо-саксонскому поведению…»
Что же такое произошло с Иваном в плену, отчего он не может духовно собрать свое тело, разваливающееся, по его словам, на части из-за великой любви к Марии, не может собрать плоть дома?
Герой рассказывает об этом, истязая свою больную память. И рассказывает, кстати говоря, женщине, которая гораздо старше его и, вероятно, любовница отца, еще полного мужской силы. Рассказывает, оказавшись с ней в постели, но так, как если бы он исповедовался матери.
«…Мы были в лагере. Японцы каждому провинившемуся сносили башку. Когда ночью шел дождь – там все время шел дождь, как будто в комнате кипел чайник, – было так сыро, что пальцы распухали и между ними образовывалась плесень. Я услышал этот крик… Они схватили одного парня… Все произошло за десять секунд. Он кричал будто целую вечность. А затем воздух рассек меч. Послышался хруст. Затем глухой стук, будто спелый арбуз упал в грязь. А потом опять тишина. Только шум дождя. Я лежал на циновке и думал: может, это померещилось мне. И тут я увидел крысу. Я подумал, что это самка. Беременная. Она волочила лапы и оставляла кровавый след. Шерсть ее была в крови. Брюхо ее было так набито, что она еле волочила лапы. Я понял, что она ела на обед. После этого я… Я женился на Марии. Нет, это, конечно, было только в мыслях. Потому что я не хотел больше видеть лагерь, я везде видел Марию. Куда бы я ни взглянул. Днем я работал для нее, ночью я занимался с нею любовью…Да, в мечтах…»
Война сталкивает далекие друг другу национальные миры, обостряет их враждебное разноязычие. Зритель фильма легко вспомнит, что в том же 1946 году, когда герой Кончаловского возвращается из плена, на Японию будут сброшены две американские атомные бомбы.
Эту трагедию, но уже на уровне художественного постижения, режиссер мог почувствовать, когда смотрел полюбившийся ему фильм Алена Рене «Хиросима, моя любовь» (1959). Речь в данном случае идет о том, что человеческая индивидуальность в XX веке, с какой бы национальной культурой она ни была связана происхождением, оказывается в пересечении силовых полей культуры мировой. И Кончаловский это хорошо понимает, сопрягая через историю своего героя эти силовые поля.
Содержание монолога Ивана перекликается с образным строем платоновской прозы. Так, герой «Чевенгура», оказываясь на краю погибели, орошает своим семенем родную землю, как бы воссоединяясь с нею в последнем порыве плоти, стараясь удержать на ее поверхности угасающую жизнь. Понятно, что абсолютной рифмы у «Возлюбленных Марии» и платоновской «Реки Потудань» нет и быть не может. Платоновский мир поднимается из абсолютной разрухи, можно было бы сказать, восстает из пепла в самом элементарном, материальном и, конечно, духовном смыслах. Там люди на грани выживания. Они спасают друг друга еще хранящимся в них теплом тела. «Люди умирают потому, – говорит героиня «Реки» Люба, – что они болеют одни и некому их любить, а ты со мной сейчас…»
У Кончаловского мир иной, где люди живут, как бы не ведая ничего о разверзшейся под их ногами пропасти мировой катастрофы. Вряд ли в этом мире можно говорить об опасности умереть от голода… Но и Иван, и Мария безотчетно больны предчувствием беды, и их, как и героев Платонова, спасает любовь. Мария, как и Люба, вполне готова сказать: «Как он мил и дорог мне, и пусть я буду вечной девушкой!.. Я потерплю…»
Мария в фильме как ждущая и жаждущая (по-платоновски!) оплодотворения земля, плодоношение которой приторможено мировой катастрофой. Поэтому так агрессивно требовательны по отношению к ней все мужчины – герои картины. Но она не может их любить, поскольку эта агрессия и есть на самом деле война человека с человеком. Вот почему она остается «кристально чиста» даже тогда, когда отдается «бродячему цыгану» Кларенсу Бактсу, этому странствующему фаллосу, лишенному и намека на духовное.
Иван возвращается домой только тогда, когда приехавший к нему отец сообщает о предстоящей своей кончине, как бы уступая отцовское место сыну. Он возвращается к уже беременной Марии. Но в том образном контексте, в каком разворачиваются события, это зачатие выглядит и воспринимается героем как непорочное. Воссоединение мира, разъятого катастрофой войны, происходит с появлением ребенка, которого рожает Мария, оставаясь, в высшем, нравственном смысле, девственницей. Это дитя как бы от «святого духа», возлюбившего Марию в образе ее мужа Ивана.
Вновь заявляет о себе этика Кончаловского, формировавшаяся еще в годы работы над «Первым учителем» и соприкасающаяся с этикой Куросавы. Жизнь заслуживает приятия в любой своей форме – в этом смысл феноменального подарка Природы и Бога, к чему в конце концов склоняется и сам автор картины. Жизнь – вечное возвращение домой, в женское лоно, в материнскую утробу, в утробу матери-земли. Финальные кадры «Возлюбленных Марии», по существу, самоцитирование последних сцен «Романса о влюбленных». Сергей и Люда у колыбели ребенка. Вот итог жизнепостижения.
2
Бег, вечное странничество – состояние героя и следующего фильма Кончаловского «Поезд-беглец». Закоренелый рецидивист Манихейм бежит из неприступной тюрьмы на Аляске в тридцатиградусный мороз, захватив молодого заключенного Бака Логана, боготворящего своего кумира. Беглецы садятся на случайный дизель, который по пути следования теряет управление и несется в беспредельность, подобно дьявольской стихии. Вместе с двумя заключенными на потерявшей управление машине случайно остается и девушка-уборщица. Взбесившуюся громадину настигает начальник тюрьмы, фанатик сурового режима, у которого личные счеты с неукротимым Мэнни. Но после короткой схватки начальник оказывается прикованным наручниками к приборам поезда и должен погибнуть вместе со своим противником после того, как тот отцепит дизель от вагонов, где находятся его молодые попутчики.
Образ загадочного, как сама стихия, Мэнни родился в воображении режиссера под воздействием светлой и трагической «Глории» Вивальди. Художник видел перед собой мохнатого человека, с всклокоченной бородой, голым торсом. Видел его стоящим среди волн на спине дельфина, а может быть, кита. «Я подумал, что Мэнни в конце должен как бы укротить это дикое существо – поезд, и представил его на крыше этого дизеля, стремительно несущегося к гибели. Соединение этого образа с героем фильма и дало толчок к рождению финальной метафоры «Поезда-беглеца». На крыше локомотива, несущегося сквозь снег под музыку Вивальди, стоит сумасшедший человек с развевающейся бородой, гордо и по своей воле летящий навстречу смерти… Летит на страшной скорости поезд, монстр, пожирающий рельсы, обгоревшая ракета, прорывающаяся сквозь атмосферу в космос. Чудовищная скорость, но при этом – никакого грохота. Бесконечность, тишина и Вивальди… Только когда возник этот образ, я всерьез понял, про что снимаю кино…»
Откуда и куда, в метафизическом смысле, бегут герои картины Кончаловского?
Мэнни – воплощение неуправляемой стихии. Голая натура. В тюрьме он демон беспокойства и хаоса. Всякая попытка покорить его, взять над ним верх, ограничить его свободу оборачивается взрывом. Тогда он не щадит не только того, кто на его свободу посягает, но и себя, но и тех, кто рядом. С ним рука, об руку ходит погибель. Он готов слиться с хаосом природы, иными словами – умереть. Мэнни принципиально одинок поэтому. Куда бежит он? Да он просто не хочет и не может остановиться!
Главный конфликт картины можно толковать как противостояние Мэнни начальнику тюрьмы Рэнкену, тоже в своем роде пленнику страсти. Его страсть – всех закрыть, закупорить в железобетонной декорации Порядка. По той простой причине, что человек – дерьмо. Мэнни говорит своему антагонисту: «Делай то, что должен, а я сделаю то, что должен сделать я». Но между ними находятся, во-первых, все иные заключенные, а они – разные. И, во-вторых, молодой заключенный Бак и юная уборщица локомотива. Появляется важный как в творчестве, так и в жизни самого режиссера мотив хрупкости человеческих контактов, взаимоотношений старшего и младшего, опять же – отца и сына, а может быть, брата и брата.
Манихейм ведет Бака Логана за собой в ту бездну испытаний, которые в состоянии выдержать только он один. Все это – испытания не столько для Мэнни, сколько для Бака. Способен ли он выдюжить тяжесть истинной свободы, которая есть уже свобода стихии, свобода гибельного пути? Бак оказывается неспособным на такой подвиг. И это естественно для нормального, обыкновенного человека. Его «отцепляют» – и младший, по существу, остается в тюрьме, откуда пытался совершить побег, который для него абсолютно невозможен, потому что это побег в смерть. А старший как раз и несется туда, куда никогда и не прекращал нестись. Для Кончаловского здесь, вероятно, был очень важен в личностном смысле опыт испытания последней свободой – свободой от страха смерти. Тема смерти как критерия в последнем, решающем определении смысла жизни – постоянная тема его картин. И, кстати говоря, в большей степени тех, которые сделаны в Штатах.
«Быть вместе со мной глупо – я воюю со всем миром. И тебе не поздоровится», – наставляет Мэнни своего юного спутника.
Для понимания их взаимоотношений, а может быть, и конфликта вещи в целом, важен следующий диалог.
Бак. Да… Я об этом давно мечтал… о хорошем куше… Понимаешь? Поеду в Вегас… заявлюсь с такими денежками в кармане, чтобы набрать отличных сучек… Понимаешь меня? Почти каждую ночь я мечтаю о таком вот дерьме…
Мэнни. Мечтаешь?.. Мечтаешь… Полная чушь! Ничего подобного тебя не ждет. Я знаю, что ты будешь делать. Ты получишь типовую работу – для бывшего зэка. Что-то вроде мойщика посуды или чистильщика туалета. И ты ухватишься за эту работу, как за золотую жилу. И вот что я тебе скажу: это и есть золотая жила. Ты меня слушаешь? И когда твой хозяин придет в конце дня проверять, что ты наработал, ты не будешь смотреть ему в глаза, ты уставишься в пол. Потому что не захочешь увидеть в его глазах страх, что ты схватишь его за грудки, повалишь на пол и заставишь молить о пощаде. Так что ты будешь смотреть в пол. Запомни, что я говорю! Он станет проверять, как ты выполнил работу. Он скажет: «А вот здесь пятнышко… И тут осталось… Почему ты не очистил пятнышко?..» И ты подавишь в себе боль и очистишь пятнышко. И будешь оттирать его до тех пор, пока все не заблестит… А в пятницу ты заберешь свою получку. И если ты поступишь так… если ты так поступишь, то можешь стать президентом какой-нибудь крутой корпорации… если поступишь так…
Бак. Только не я… мне такого дерьма не надо… Лучше в тюряге сидеть!
Мэнни. Тем хуже, юнец, тем хуже…
Бак. А ты мог бы так?
Мэнни. Хотел бы я… Хотел бы…
Зритель видит, как по мере развития «темы» Мэнни, на глазах у Бака наворачиваются слезы. Может быть, он чувствует, что его кумир говорит правду. Что нет ничего, что соответствовало бы его, Бака, игрушечным мечтам, а есть унылая проза повседневной жизни, сама по себе тюрьма, выдержать бытовой груз которой – тоже своего рода подвиг. Вырваться из этой тюрьмы, чтобы попасть в ту, из которой совершен побег? А полная свобода – это то, что ждет Мэнни, – свобода от всего, осознанный полет в неминуемую гибель…
Но ведь и Мэнни вроде бы соглашается на повседневное прозябание: хотел, но не может. В чем тут дело? А в том, что в «унылой прозе» осуществляется естественное («чеховское») течение нашей жизни. В ней – наличие оседлости, своего места – того, к чему человек может прийти, где его ждут. И в такой жизни Мэнни оставляет своих юных спутников. Жизнь, прикрепленная к месту, – клетка, тюрьма. Но вне ее – погибельная стихия.
Интересно, что пространство значительной части картин Кончаловского организовано как противостояние закрытой для большого мира среды и самого этого мира, влекущего, но и угрожающего. Герой пытается преодолеть закрытое пространство: зажатый горами аил, отгороженное от мира тайгой селение, затерянную в болотах Луизианы лачугу – и выйти в некий, более просторный, много обещающий, но и много требующий, опасный мир. Такой выход часто оборачивается погибелью.
Собственно, и сам Кончаловский заражен тягой к иным пространствам, к авантюрному их освоению. Он, подобно своим персонажам, то и дело пересекает границу дома, отправляясь в опасное странствие – как в прямом, так и в переносном смысле. Не зря же у себя в офисе, уже подступая к 70-летию, он захотел повесить на стене портрет неуправляемого романтика Че Гевары…
Однако на путь, избранный Мэнни, его создатель вряд ли решится, хотя и примеряет эти «одежды» на себя. «Поезд-беглец» стал экспериментом с героем, претендующим на абсолютную свободу (на волю!), у которого пристанища не может быть по определению. Такое существование пугало, грозило растворением в злой стихии мироздания – подталкивало к возвращению в дом как к единственной ценности, каким бы он ни был.
Мэнни – разрушительное мужское начало, которому нет укороту. Он может выглядеть привлекательным на крыше несущегося в бездну локомотива. Но рядом с ним вряд ли кто решится встать. Да и ни к чему это. Гораздо существеннее и, если хотите, героичнее делать то, к чему зовет Люда из «Романса о влюбленных»: терпеливо возводить и укреплять дом. Жить в неизбежной прозе повседневности – больший подвиг, чем неукротимо мчаться в смерть. Такой путь – привилегия гения. Вроде Тарковского, скажем. Или Высоцкого.
3
Но как дом этот укрепить, если он лишен мужской, отцовской опоры? Если отец не любовь, не спасение, а призрачный ужас жестокого насилия, витающий над домом? Этот вопрос тревожит, когда смотришь одну из самых значительных, на мой взгляд, «голливудских» работ Кончаловского – фильм «Стыдливые люди» (1987).
Обе семьи – и нью-йоркской журналистки Даяны Салливан, и ее луизианской дальней родственницы Рут – именно таковы. Ни у той ни у другой нет мужей. Правда, их объединяет почти мистическая мрачная фигура покойного мужа Рут – Джо Салливана. Даяна, вероятно, согласилась с этой «половинчатостью» семейного существования. Иона, и дочь живут каждая сама по себе– по сути, одиноко. Даяна, то ли следуя принципам демократии, то ли от материнского бессилия, предоставляет Грейс полную свободу. И когда дочь практически умоляет мать забрать у нее наркотик, Даяна отказывается, ссылаясь на то, что Грейс свободный человек, должна жить без полицейского за спиной, а опираться исключительно на чувство собственной ответственности.
Другое дело – Рут. Эта хранит и культивирует в семье миф патриарха. Все основано на суровом подчинении авторитету матери, заместившей собой умершего (или погибшего?) отца, портрет которого неусыпным всевидящим оком висит в доме (далекий отголосок отцовских портретов в «Романсе»). А сам Джо в виде призрака инспектирует водную окрестность и как бы соблюдает нерушимость ценностей мира, основанного на его, отцовском, авторитете. Не случайно рифма этому образу видится и Кончаловскому, и его критикам в фигуре Сталина.
Образ мужа-отца, переплавленного в миф, конечно, роднит «Стыдливых людей» с «Романсом» и «Сибириадой». Как и в картинах 1970-х годов, в «Стыдливых людях» зритель видит саморазрушение матери, взявшей на себя отцовский груз. Однако и мужчина как опора жизни становится все менее основательным и все более призрачным. В «Стыдливых людях», как и в «Сибириаде», отец – тень, подмененное призраком живое начало. В «Сибириаде все мужчины устюжанинской ветви погибают (Афанасий, Николай, Алексей), а у мужчин соломинской – нет детей. Отцовское начало повреждено собственной саморазрушительной силой. Тема отцовского саморазрушения из «Сибириады» переходит в фильм, созданный в Америке. «Отечественная» тема Кончаловского становится темой общечеловеческой.
Так и хочется напомнить в связи с этим последние кадры «Сибириады», когда зритель слышит вздох облегчения Спиридона Соломина после гибели Алексея: «Наконец прекратился род Устюжаниных-разрушителей». «Нет! Не прекратился», – опровергает его Тая, поскольку она уже носит под сердцем ребенка Алексея. И здесь у меня – постфактум, правда, – рождается чувство, что в утробе женщины из рода Соломиных зреет нечто подобное тому, что носила в себе и отчего удавилась другая героиня Кончаловского – из «Ближнего круга».
Каков тот самый отец, семейный миф о котором блюдет Рут, читатель помнит по описанию критика А. Плахова. В дополнение скажу, что Джо Салливан прибыл с Севера. Взял Рут в жены, когда та была подростком. «Я жила в его аду», – рассказывает женщина своей родственнице. Беременную младшим из сыновей, он избил ее так, что сын родился слабоумным. Она боялась его и ненавидела. Но именно потому, что он был не «теплым», а «холодным и жестоким», семья спаслась в тяжелых испытаниях перед лицом природы Юга.
Мать строго блюдет миф отца, чтобы не нарушить природные основы дома. Она пытается удержать то, что удержать уже невозможно. В этом великий героизм Рут, в сдержанно-суровом исполнении Барбары Херши, в этом ее слабость и сила. Под прикрытием маски, умноженной стоицизмом давно изжившей себя отцовской суровости, эта женщина скрывает необыкновенную нежность и любовь даже к отщепляющимся от семьи ее сыновьям.
Таков Майкл, старший из сыновей. В этом образе отдаленно откликнулась история самого Андрея, покинувшего семью для манящей свободы Запада. Можно сказать, что режиссер, как это он постоянно делает со своими героями, примеряет его судьбу на себя: «И я бы мог».
Майкл ушел из семьи в город, не принимая идеологии «папаши Джо», культивируемой матерью. «Они сумасшедшие. А я нормальный. Нормальный! Я сбежал вовремя. Теперь независимый. Свободный!» Но эта свобода оказывается в конце концов в тягость Майку. И в финале фильма он возвращается в семью, фактически занимая место патриарха. Но взгляд, брошенный на него матерью, выражает сомнение в том, что сын «потянет» этот груз.
…В фильме есть эпизод, когда три женщины: Даяна, Рут и ее беременная невестка Кэнди – отправляются из заповедного угла семьи Салливан в город, некий Вавилон цивилизации. Не случайно по пути их следования зритель видит нефтедобывающие строения, напоминающие о родстве картины с «Сибириадой». Одновременно их проезд на «моторке» мимо городских пристаней можно воспринимать как цитату из «Соляриса» Тарковского с проездом Бертона и его сына по фантастическому городу XXI века. И там и здесь город, в метафорическом сопоставлении с природой, становится чудовищным символом бессмысленного саморазрушения человека.
В кинематографе Кончаловского уже не только его родина страдает хроническим безотцовством, порожденным революциями, гражданскими и отечественными войнами. Трагедия эта затронула мир, разорвав его надвое. И теперь мать должна взять на себя умноженный, а потому непосильный груз сохранения фундамента человеческого мироздания от его неминуемого разрушения.
Наиболее часто звучащая в картине фраза: «Есть как есть, и по-другому не будет. Здесь живу, здесь и умру». В конце концов и Даяна принимает эту стоическую философию Рут как единственную опору в «безопорном» мире.
И в этой ленте, как и вообще в творчестве Кончаловского, есть начало, по определению противоположное разрушительному. Оно в наивной, на грани юродства, святости Аси-хромоножки. В «Стыдливых людях» это и сама Рут, удивительно нескладная фигура в огромных мужских ботинках, придающих ей нечто чаплинское. Женщина, героически сражающаяся с подавляющей ее мужской ролью – на грани трагедийной клоунады.
4
Простодушную буффонаду разыгрывает и Гомер («Гомер и Эдди», 1989). Он типично русский персонаж, своеобразный Иван-дурак, из тех, кто населяет «смеховой мир» Древней Руси. Его драматический контакт с миром происходит в странствии, куда он отправляется из Аризоны, чтобы, по его словам, навестить в Орегоне «папочку», который оказался в больнице, поскольку у него рак.
Снова киносюжет у Кончаловского превращается в дорогу, ведущую к дому. И как ни опасна дорога, на которой Гомер встречает безумную и угрожающе разрушительную негритянку Эдди (не вполне состоявшаяся рифма Мэнни?), еще менее гостеприимным оказывается его дом. Именно здесь нанесли ему травму, из-за которой он превратился в идиота. Именно здесь от него отказались, когда это случилось, и довольно зажиточная семья избавилась от своего отпрыска. И именно здесь, через двадцать лет возвратившись, он застанет гроб с телом отца и поймет, что в этих краях не будет ему приюта…
Так же, собственно говоря, бездомна и Эдди из Окленда, ничуть не более гостеприимного для странников, чем Орегон. Пронзительно трогательна сцена ее прощания с матерью на кладбище. Тот мир, в котором оказываются Гомер и Эдди, раскрывается в глазах зрителя как огромное пространство, населенное сиротски блуждающими людьми… Может, права Эдди, когда бросает обвинения Богу в неустроенности мира, где несчастны и она, и ее неожиданный попутчик Гомер, которому ни за что ни про что вышибли мозги?..
Но, как бы опровергая неверие Эдди, в Орегоне, среди какого-то очередного местного праздника, очень напоминающего грустно-карнавальный сумбур картин Феллини, ей то и дело является видение: Некто в терновом венце, несущий на себе крест. Эту фигуру видит только она. Видит она ее и в финале картины. Уже с пулей в животе, видит своим угасающим взором: действительно Иисус, весь в сиянии склонившийся над ней и как бы все ей прощающий.
Это потом, когда мятущаяся разрушительная негритянка затихнет навсегда, зритель узнает, что не Иисус вовсе предстал перед ней, а полусумасшедший бродяга, изображающий Спасителя, вроде того Бога из психушки, который появится в фильме Кончаловского «Дом дураков». Не зря вслед этому, с крестом на плечах, из уст какого-то старика, вышедшего посмотреть на происходящее, раздастся: «Жалко чудака…» Правда, не совсем ясно будет, к кому это больше имеет отношение: к странной фигуре с распятием на спине или к несчастному блаженному Гомеру с остывающей Эдди на руках… Или к самой «безбашенной» Эдди, до конца своей жизни сражавшейся с робко проклевывающимся внутри нее Богом.
Хочу напомнить, что для самого режиссера его Гомер– как лакмусовая бумажка терпимости и всепрощения в мире, где никто никого не терпит, никто никого не склонен прощать даже на пути к Богу. Гомер – сниженный Лев Николаевич Мышкин. А мир, спешащий к своей погибели, как Эдди, безумен по определению. И мало утешительного, кажется, в сцене, описанной выше…
Но, как всегда бывает в картинах Кончаловского, глубокая печаль по поводу происходящего едва ли не на грани отчаяния сопровождается же и глубоким состраданием, жалостью к человеку, не по собственной воле оказавшемуся на земле, на вечно мучительном пути к дому. Жалко чудака… Но ведь явился все же перед затуманенным смертью взором человека так долго жданный им Бог! Вот финал, заставляющий вспомнить чеховскую «Палату № 6» и последнее видение Рагина.
Очень трудно понять, по каким «показателям» описанные здесь фильмы были отнесены к голливудской продукции, не предусматривающей ничего, кроме крепкого не рассуждающего ремесла, рассчитывающего на серьезный коммерческий успех? Для такой продукции незащищенная человечность картин Кончаловского – очевидный избыток. Она и есть та этическая «нагрузка» его созданий, которую не перешибить никаким «Голливудом», не замутить никакой критической близорукостью.
В «американских» картинах режиссера видят стилевую неряшливость из-за поспешности, как представляется критикам, с которой они делались в условиях тамошнего производства. Он и сам соглашается, что этим его работам не хватает поэтичности, имея в виду не «поэтический кинематограф», а «темноту стиха», «высокое косноязычие». Упрекают картины Кончаловского этого периода, в том числе, и в жанровой однозначности, якобы продиктованной (опять же!) их сугубо коммерческой ориентированностью. Но как только критики делают попытку определить жанр какой-либо его работы, тут же попадают впросак, не находя окончательного определения, что, впрочем, тоже вменяется в вину режиссеру.
Кончаловский пришел в кинематограф второй половины XX века с ощущением жизни на сломе двух эпох – и это было главным предметом художественного постижения с первой большой работы по прозе Айтматова.
«…Мучительное ощущение распада привычного Дома-Мира, которым жило наше кино 1970-х, превращается у него в знание, – пишет историк кино Е. Марголит. – Он напоминает человека, который стоит на пороге родного дома, пока прочие мечутся, пытаясь наладить разваливающийся быт, поскольку в отличие от всех твердо знает, что всем без исключения предстоит покинуть его навсегда. И там, где для остальных – провал, обрыв в никуда, для него – стремительно развертывающееся, абсолютно необжитое пространство, дыхание которого он постоянно чувствует. Он уже не здесь и еще не там. Он – между. Он – бездомный…В этом смысле Михалков-Кончаловский – самый диалогический режиссер нашего кино. Даже в фамилии это запечатлено. Он одновременно – и Михалков, и Кончаловский, наследник двух традиций, противоположных, неслиянных и с обеими – кровная связь. Он неизбежно и неизменно двоичен во всем».
«Пограничность» творений режиссера и создает необходимую искусству «темноту стиха», не исчезавшую в его кинематографе никогда, даже и в «голливудский» период. Речевая «двоичность» «американских» картин
Кончаловского была неизбежной уже потому, что сюжет большинства из них формировал маргинальный герой шукшинского типа, но поставленный в условия стыка миров разных национальных культур.
Часть пятая Сотворение мира. Синтез
Все, что не имеет традиции, становится плагиатом.
Эухенио д’Орс, каталонский философГлава первая Судьба и культура
Свобода есть драгоценный дар, но не абсолютное благо, доступное всякому и всякому нужное…
Д.П. Кончаловский. Пути России. 194-1949 г.Неразвитость – это состояние ума…
Лоуренс Э. Харрисон. 1985 г.На рубеже 1990-х Андрей создает новую семью. Родятся дочери Наталья (1991) и Елена (1993). Четвертой его женой стала Ирина Иванова, диктор московского телевидения. Познакомились они в Москве, потом он пригласил ее в Америку, потом поехали еще куда-то. Поженились… Их дом в Штатах чем-то напоминал дачу на Николиной Горе. Во всяком случае, так он выглядел в описании журналистов, посетивших режиссера в начале лета 1992 года.
Встретившись здесь с гостями, Андрей искренне признавался: «У меня годовалая дочка… Очень желанный ребенок, очень! И что интересно: когда ребенок желанный – он непременно счастливый, улыбается все время… А ведь я уже в возрасте дедушки. Мой брат Никита, кстати говоря, уже стал дедушкой. Я значит, двоюродный дедушка. И когда в таком возрасте появляется ребенок – это абсолютно другое ощущение, абсолютно! Я никогда не был так счастлив в семье, с детьми… В молодом возрасте женишься – дети становятся как бы будущим препятствием к разводу, почти всегда предполагаемому. Хотя о нем еще вроде и не думаешь…»
Примерно то же приходилось слышать от него уже тогда, когда он был женат на актрисе Юлии Высоцкой и имел двоих детей – девочку Машу и мальчика Петю. Он говорил о том, что раньше чуть дотягивал до времени, когда его ребенку исполнялось шесть, и уходил. Теперь – совсем другое дело. Теперь он привязан к семье и счастлив…
Однако к быту, в его повседневном течении, Кончаловский, как видно, не привычен. К тому же работа у него, как он всегда утверждал, на первом месте и только на втором – семья. Попутно замечал: «Это достаточно горькое признание». Профессия, требующая, с одной стороны, производственной и общественной публичности, а с другой, – перемещений по миру. «Так и живу, – говорил он в «американском» интервью, – между Москвой и Америкой… Францией… Англией…» Но внутренний диалог-спор с родной стороной никогда не прекращался: с покойным Тарковским; с родственниками – с братом прежде всего, по поводу того, прав был или не прав, что уехал…
«Я неизбежно отношусь к России… Я часть русской культуры, и ничего с этим не поделаешь. Я по ментальности русский человек, и с этим тоже ничего не поделаешь… Русская ментальность связана с двумя вещами: во-первых, жить миром, и никакого индивидуализма – индивидуализм презираем в России. Все в деревне знают про всех, и все смотрят друг на друга. Обрабатываемая земля была вокруг, а все жили в центре ее вместе, миром. В Америке же в центре надела стоит мой дом, я. Это индивидуальное сознание: если кто-то ступит на мою землю, я буду в него стрелять! Мой дом – моя крепость. А в России моя деревня – моя крепость. «Мне обувки на коже не надо, но и ты, сука, на кожимите ходи!»
Вот и я хочу снять фильм о человеке, вырвавшемся из этого круга и пытающемся кем-то стать. А его все ненавидят…»
1
История с «Танго и Кэш» обозначила конец капиталистической «инициации». Открылось последнее десятилетие XX века. Оно было отмечено неожиданными преобразованиями на Родине, то ли благодатными, то ли опасно разрушительными. Казалось, можно и нужно возвращаться. Вехами на возвратном пути были «Ближний круг» (1992), «Курочка Ряба» (1994), «Одиссея» (1997).
«Первый учитель» на исходе оттепели стал образом революционного мировидения, из которого вылупилась идеология нового государства, идеология неофитов доморощенного коммунизма. «Ближний круг», на новом витке исторических превращений, уточнил корни этой идеологии и подвел итог ее историческому становлению. Родилась формула пройденного советским человеком пути: «иванизм» породил «сталинизм».
В «Курочке Рябе» осознание корней «иванизма» углубилось. Экран воспроизвел гротесковый образ русской деревни конца XX века как наследницы вековой крестьянской ментальности, преодолеть которую оказалось не под силу ни либеральными, ни иными политическими усилиями. Явилась и коллективная неприкаянность нации, по старой общинной привычке категорически отвергающей частный образ жизни.
Но «аналитический» опыт режиссера, сложившийся в последние десятилетия XX века, в том числе и за пределами родины, в Отечестве был истолкован как отрицательный. Андрей Плахов так завершал уже не раз упоминавшуюся статью «Метаморфозы Кончаловского»:
«Когда Кончаловский отъезжал на Запад, ему наверняка виделись перспективы Милоша Формана. Действительность не воплотила этих ожиданий. Но и не опровергла правомерность предпринятой попытки……Теперь Кончаловский, одним из первых разрушивший политические стереотипы и национальные предрассудки, может работать и здесь, и там, может свободно путешествовать, о чем он всегда мечтал, и это больше всех удивляет, наверное, его самого.
Он сам выбрал свой путь, сам заплатил за это, и никто не вправе его осуждать. Что из того, что из фильмов, снятых Кончаловским в Голливуде, ни один не отличается той творческой оригинальностью, которая побуждала видеть в нем когда-то режиссерскую звезду будущего? Да, теперь он делает заведомо коммерческое кино. Стараясь при этом, чтобы оно было интеллигентным. Лишенным вульгарности. Иногда это удается, иногда – нет…»
Милош Форман, которого упоминает здесь критик, исподволь противопоставляя «буржуазному примиренчеству» Кончаловского, оказался за рубежами родной Чехословакии, как известно, не в начале 1980-х, а в конце 1960-х, на пороге известных августовских событий. Время было другое, и другим было отношение к художникам-иммигрантам. Уже в 1971 году Форман получил приз в Канне за фильм «Отрыв». Но жесткая картина о странствиях по Нью-Йорку сбежавшей из дому девочки-подростка в американском прокате провалилась. Мало того, режиссеру по обвинению в неуважении к американскому флагу грозили выдворением из страны… А в первой половине 1980-х и Форман сильно сомневался, что его русский коллега приживется в Голливуде. Но сразу после «Возлюбленных Марии» сказал: «Я думал, ты не выдержишь. Думал, ты уедешь в Европу. Тут мало кто выдерживает – практически никто».
Значит, все-таки выдержал?..
Опыт его поныне остается уникальным. Голливуд не знает русской режиссуры вообще, не знал и не знает и такой режиссуры, какую предложил Кончаловский. Осевшие за границей Иоселиани и Тарковский работали в западноевропейском кинематографе: во Франции, Италии, Швеции. Кончаловский по этому поводу в 1989 году говорил: «В Европе ситуация другая – может, там нет такого культа режиссера, как в Москве, но отношение к нему гораздо более уважительное. Режиссер сам выбирает сценарий, артистов, снимает так, как считает нужным».
Действительно, в Голливуде была возможна ситуация, подобная истории со съемками «Танго и Кэш», но вряд ли повторилась бы такая, как на съемках картин Тарковского «Сталкер» или «Жертвоприношение». В последнем фильме не получился финальный пожар, и пришлось сооружать еще один дом главного героя – мятущегося Александера, чтобы жилище сгорело «правильно». Деньги, как известно, были добыты приватным образом, а на двухсерийный «Сталкер» – выданы государством.
Америку Тарковский открыто и стойко не принимал. Но и в Европе, кажется, неожиданно для себя почувствовал жесткую капиталистическую хватку. Он попал в совершенно непривычную для него среду. Увидел, что на Западе деньги решают все, столкнулся как режиссер с проблемой чисто финансовой, которой у него не было в Союзе. Оставалось, как пишет А.В. Гордон, только ждать. «Необходимость писать гневные письма о том, что его травят и годами не дают работать, отпала. Здесь, на Западе, нужно уметь ждать. Ждать денег. Там травили, но деньги давали. Здесь превозносят, но денег нет».
После смерти Андрея Арсеньевича вся его творческая деятельность в Европе воспринималась и продолжает восприниматься как тяжкий путь страстотерпца, не отступившего от своего лица. В противоположность этому и отъезд Кончаловского, и его «тамошние» картины порицаются, что глухо угадывается даже в статье сравнительно объективного Плахова.
«Теперь он делает заведомо коммерческое кино»… Какое «коммерческое кино» имеется в виду, если ни один из фильмов, созданных Кончаловским в Америке, не имел настоящего проката, кроме, пожалуй, «Поезда-беглеца», который тоже с большой натяжкой может быть отнесен к кассовому ширпотребу? Кстати, сам режиссер о прокате «Поезда» сообщает следующее. После того как Йорам Глобус похвастался ему, что нашел самый «крутой» кинотеатр в Нью-Йорке для демонстрации фильма, Андрею позвонил Форман с комплиментами картине и удивлением по поводу того, что ее показывают почему-то «в самом хреновом кинотеатре». Оказывается, продюсеры остановились на кинотеатре, где «идут только индийские фильмы, и ходят туда только индийцы».
Отечественная «высокая» критика скептически воспринимает зарубежный опыт Кончаловского, во-первых сокрушаясь по поводу отрыва мастера от отечественных корней, а во-вторых ностальгируя по эпохе «Аси Клячиной», которая сменилась, как представляется критикам, периодом компромиссов с властью и рынком.
Так, киновед Виктор Божович, сурово разоблачив «муляжность» «Ближнего круга», классифицирует фильм как «поздний образец социалистического реализма», сформировавшийся в рамках американского кино. «Что касается профессионализма, то с этим все в порядке и у актеров, и у режиссера, не говоря уже об операторе и всей технической группе. И может быть, стоило бы отнестись к «Ближнему кругу» не как к произведению нашего соотечественника, а как к обычному американскому фильму и не предъявлять ему завышенных требований. Но как забыть, что поставил его создатель «Аси Клячиной», произведения, где были потрясающая прозрачность фактуры, где происходило неповторимое самораскрытие жизни на экране? И речь ведь не об одном А. Кончаловском, с именем которого было связано не меньше надежд, чем с именем А. Тарковского. Неужели все это в прошлом?»
Трудно согласиться с оценкой творчества художника, явления живого, становящегося, ставя его работу в зависимость от того, оправдал ли он надежды просвещенной публики или не оправдал. Когда-то читающая публика считала высшим достижением Пушкина его романтическую поэму «Кавказский пленник», а произведения последнего десятилетия жизни и настоящей зрелости художника на этом фоне отвергались. Может быть, эта тенденция свойственна нам по той причине, что искусство (литература) в России традиционно подменяло всю область общественных наук, а от художника требовалось быть прежде всего властителем дум? Он мог не быть поэтом, как выразился классик, но обязан был быть гражданином, оправдывающим надежды передовой интеллигенции и народа. Художнику, в привычной для отечественного национального самосознания роли, положено было мучиться, страдать, жить в нищете, заканчивать Сибирью или чахоткой, а то и тем и другим совместно.
Андрей убежден, что творчество необязательно должно подразумевать мучение, страдание. Есть люди, которые не хотят мучиться. Пастернак мучился, а Пушкин – нет. «Вообще есть люди, которые не хотят быть несчастными. Не потому что они конъюнктурщики, а потому что просто не хотят. А есть люди, которые хотят быть несчастными».
Но нет пророка в своем отечестве. В начале 1990-х годов режиссер Алексей Герман, один из тех, чье творчество в советское время подвергалось постоянному прессингу, говорил: «…Вот Кончаловский уехал и научился снимать американское кино. Но представить, что автор «Гомера и Эдди» и автор «Аси-хромоножки», и он же автор сценария «Рублева» – один и тот же человек, невозможно… Конечно, от Кончаловского нет ощущения, что он уже мертвый художник. Он настолько талантлив, и кто знает, быть может, еще снимет своего нового «Дядю Ваню»… Но сейчас он себя вот так ограничил, загнал в такие ужасные тиски – американские рамки…Кончаловский замечательный режиссер, и я себя с ним не сравниваю, но только мне кажется, что на сегодня мы с ним покуда оба проигравшие. Потому что, с одной стороны, так, как я, который давно ничего не снимал, но с другой стороны, так, как он, кому, быть может, необязательно было снимать то, что он снял в последние годы? Ну, деньги – это, конечно, хорошая вещь. Я бы тоже хотел снять в той же Америке кино, заработать много денег, и все такое прочее. К чему тут фарисействовать? Хотя я вряд ли сумел бы снять так, как Кончаловский. Но эти его американские картины я не люблю и никаких достоинств в них не вижу…»
В отличие от Тарковского ранее, а позднее и от Германа, которыми каждое их создание переживалось (и переживается) как последнее – от страха скатиться в неудачу, «предать» божественный дар неверным движением, – в отличие от них Кончаловский не боится ошибки, не боится сделать неудачное кино. Он профессионал («делатель», а не «пророк»!) и в этом смысле. Он отважно начинает «с нуля», иногда идет почти вслепую, поскольку ремесло и есть его жизнь, а в профессии (не миссии!) может случиться всякое. Притом и его неудачи – это неудачи мастера, в которых видна высота и значительность замысла.
Когда самого Кончаловского спрашивают по поводу его «американского опыта», он, как правило, говорит о том, что «лишился иллюзии о западном образе жизни как о некоем феномене, противостоящем нашему». Он убедился, что «их» образа жизни не существует – «есть бесконечное количество разных ментальностей, образов мышления, восприятия жизни, искусства, кинематографа. Итальянец от шведа или американец от француза отличаются не меньше, чем русский от любого из них». Отсюда у него, у художника, появляется «более дифференцированное ощущение мира: по-разному любишь разные нации и по-разному их не любишь». В то же время весь этот период в нем продолжало формироваться свое «ощущение России и русского народа». И вряд ли этот процесс был бы более интенсивным, живи он дома. Вводится новая точка отсчета. «Я просто размышлял. Читал. Думал о том, о чем все эти годы не осмеливались говорить у нас в России. О русском народе. Нам еще предстоит познать нашу скверну, как сказал один философ…»
Режиссер научился смирению. И это самое важное, на его взгляд, в приобретенном. «Такого понимания себя, своего места у меня прежде не было. Мы все же привыкли к деформированной системе ценностей. Режиссер в России – борец, страдалец, диктатор, художник, артист. Он борется за свободу творчества, его давят. Чем больше давление, тем сильнее его ощущение собственной значительности». В Штатах же режиссер увидел, что его никто не знает. Мало того, он понял, что в глазах окружающих как режиссер он стоит ровно столько, сколько вложено фирмой в фильм, создаваемый им. «Тут-то и выясняется, кто ты есть, иллюзии испаряются, приходит иной взгляд на жизнь. Приходит способность к смирению».
Мне «американский» период Кончаловского представляется временем жесткого самоанализа – хотя бы с точки зрения феномена социально-психологической, творческой свободы индивида, к которой он так стремился. В «Поезде» он ставил вопрос об «относительности свободы». В «Стыдливых людях» задумывался «о конфликте между свободой и обязанностью, между любовью и уважением, между правами человека и теми обязанностями, которые накладывает на него культура». «Бывает, человек пытается освободиться от обязанностей и не может, а случается и наоборот: человек страдает от свободы, хочет и не может обрести обязанности, готов отказаться от свободы, чтобы узнать любовь». И какой бы ответ ни находил он на поставленные вопросы и тогда, когда он его просто не находил, его герой возвращался. Возвращался к исходной точке пути – домой.
Новый этап его творчества, начиная, может быть, с «Ближнего круга» – этап в философском смысле куда более глубокий, нежели времена «Первого учителя» и «Аси Клячиной». Я бы отнес его к периоду синтеза, когда зрелый художник собирает в единое целое художественного высказывания все то, о чем он размышлял на протяжении долгого пути домой. Другое дело, оказался ли он на самом деле дома, то есть там, где его любят, среди своих? Может быть, «мы еще в грядущем»? Ответ на этот вопрос существен, поскольку именно он – в положительном смысле – позволяет надеяться на рождение высокого синтеза, действительной гармонии, какой живут великие творения.
В сентябре 1989 года, когда режиссер должен был начать монтаж «Танго и Кэш», но так и не завершил его, в одном из интервью им было сказано, что если бы он задумал сейчас снимать в России, то выбрал бы вещь вроде «Голубой чашки» Гайдара. Затем поправился: «Нет, сначала надо сделать «Рахманинова», «Киномеханика» (имелся в виду – «Ближний круг». – В. Ф.), а «Голубая чашка» – потом.
Что заставило включить гайдаровскую прозу в этот совокупный образ поворота: «Рахманинов», «Киномеханик»? Считаю необходимым высказаться на этот счет.
Проза Гайдара – та самая, которая традиционно считается детской, – пронизана недетской трагической тревогой, эхом уже навсегда, казалось, отгремевших сражений, предчувствием грядущих катастроф. Его дети – одинокие дети, лишенные матери (чаще всего) или отца, а то и обоих родителей. В «Голубой чашке» (1936) отец и дочь как бы в шутку покидают мать, уходят из дому, обидевшись несправедливому обвинению в том, что якобы они разбили материнскую любимую «голубую чашку» (мечты?). Но даже в шутке, как говорят, лишь доля шутки. И здесь – совсем малая, поскольку в рассказе хорошо слышен страшный голос близко громыхающей войны.
«Голубая чашка» по настроению удивительно напоминает «Историю Аси Клячиной» – та же благостность природной среды, трудового единства колхозников и одновременно тревожный гром «танкодрома» невдалеке.
В «Военной тайне» (1935), в «Судьбе барабанщика» (1939), «Тимуре» война – вот она. Оставленные без родителей дети или сочиняют сказки о близких битвах, или сами в них участвуют, то сражаясь с врагами, едва ли не ими самими в тревожных снах воображенными, то выступая благородными «разбойниками», защищающими таких же, как они, осиротевших – стариков, старух, детей и женщин.
Все это мне очень напоминает атмосферу фильма Кончаловского о Щелкунчике. Как и эта картина, создания Гайдара, погибшего в самом начале Отечественной войны, на мой взгляд, – предчувствие и предупреждение катастрофы, порожденной тем самым мироустройством, которое казалось поначалу избавлением от всех бед, чуть ли не Царствием небесным. В этом смысле и творения Аркадия Петровича, и фильм «Щелкунчик» настолько же «детские», насколько и «взрослые». Жаль только, что такого рода произведения чаще всего ждет участь Кассандры.
Поясняя в своем дневнике, какие ценности отстаивает его «Военная тайна», Гайдар говорил, что повесть его стоит «за любовь к нашим детям. И просто за любовь». Эта любовь была смешана с тревогой за то очень близкое будущее нового, уже абсолютно советского поколения детей, за будущее, которое ясно видел писатель и которого в глубине души ужасался. Переживая этот страх, он посылал своих одиноких мальчиков и девочек навстречу очень близкому ужасному завтра. Может быть, именно так пытался, с одной стороны, «приучить» своих «барабанщиков» к тому, что их ждет, привить им иммунитет к близящемуся «завтра». А с другой – надеялся, что их детский зов услышат взрослые и проникнутся той самой трагической тревогой. Не услышали.
Не о том ли думал и режиссер Кончаловский, когда создавал своего «Щелкунчика» и населял его отвратительными крысиными мордами?
Три замысла – фильмов о Рахманинове, Киномеханике и экранизации «Голубой чашки» – сопрягаются, в моем представлении, как художественное осмысление единого социально-культурного пространства первых трех-четырех десятилетий XX века в истории нашей страны.
Гайдаровские персонажи вечно находятся на этой границе, на стыке миров, как выразился бы сам Кончаловский. Воображаемое утопическое будущее всеобщего благоденствия и реальность настоящего, в котором зреет близкая, очень близкая катастрофа. Но поскольку они люди и так же любимы своим создателем, как и персонажи Кончаловского своим, дорога их – из дому и в дом. Трудная, жертвенная дорога туда, где семья всегда вместе, где золотая луна сияет над садом. И где «жизнь, товарищи…совсемхорошая!».
2
В пространстве и времени «Ближнего круга» и «Курочки Рябы» и коммерческий проект экранизации поэмы
Возвращения, то есть «Одиссеи», кажется закономерным.
«Одним из существеннейших для меня моментов был образ матери. Мать – синоним Родины. Она провожает героя, уходящего на войну. Мать упоминается у Гомера не единожды, но в событиях участия не принимает. Сильнее всего тронуло меня в эпосе то, что она, не дождавшись сына, скончалась от отчаяния. Удивительно человеческая деталь! Она позволила мне развить образ. Мать не выдерживает и от отчаяния кончает с собой, а потом сын находит ее в Аиде…
Мы хотели сделать эту историю понятной всем. Одиссей – муж, воин, вождь, мужчина, отец, сын. У него есть друзья, есть враги. Есть обязанности – перед семьей, перед племенем, перед страной. Он уходит на войну – таков его долг человека, воина, вождя. Он воюет, становится героем. Мать ждет его. Ждет жена. Ждет сын…Герой сталкивается с волей, которая сильнее его, вынужден идти наперекор ей. Он стремится домой, но уже не надеется вернуться. И дома уже перестают верить в его возвращение. Появляются женихи, убеждающие Пенелопу перестать ждать… Абсолютно понятные земные вещи… «Одиссея» вполне может происходить и в наши дни. Это путешествие человека к самому себе. Делая первый шаг от дома, мы одновременно делаем его к дому: земля круглая, и уходим мы, чтобы вернуться».
В пересказе сценарного замысла – смысловой сгусток того пути, который в 1980-1990-х годах прошел сам художник. Формула опыта, приобретенного на этом пути, на границе разных культур, разных миропониманий. Уходим, чтобы вернуться. Вернуться преображенными.
К работе над картиной Кончаловского подтолкнул Коппола еще в 1992 году. Но и само произведение, и тем более сценарий, довольно плоский и искусственный, ему казались скучными. Вернулся он к этому предложению в тот момент, когда застопорился проект экранизации «Королевского пути» Андре Мальро – и только на том условии, что со сценарием он может делать все, что угодно.
Естественно, режиссер, как делал это и в других случаях, погрузился в глубокое изучение эпохи, стараясь понять мир, в котором жили гомеровские герои и сам великий слепой. Его захватила культура Средиземноморья, где скрещивались, обогащая друг друга, три континента – Азия, Африка и Европа. «Взаимодействие культур – вот что захотелось передать в фильме… В принципе, законы взаимоотношений вождя и племени не изменились со времен Одиссея. Не было никакой возвышенной роскоши, белого мрамора…, люди ходили голые и чистые. Чистые именно потому, что не носили одежду… Люди были закалены, открыты солнцу, ветру. Я подумал: «Одиссея» – о вожде и племени…»
Режиссеру хотелось, чтобы в многогеройном фильме каждое человеческое лицо на экране имело бы характер. Была проделана скурпулезнейшая работа, когда выуживали каждое слово, так или иначе характеризующее персонажа. «В команде Одиссея у меня в фильме шесть характеров – все они остаются в памяти зрителя».
Гомеровская поэма не сказка, а миф, и в ней действуют, с одной стороны, выдуманные чудовища, а с другой – реальные люди и реальные боги. Соединить фантазию, миф и реальность так, чтобы не возникало ощущение эклектики, было сложной задачей. «Я не знал, как это получится, – признавался режиссер, – а просто шел, закрыв глаза, вперед. И интуиция мне подсказывала, что и как надо делать. Я многому научился…»
Особая проблема – образное решение фигур античных богов. Хотелось избежать «оперности» в их изображении, наделить их реальными чертами. «Бог реален, если его воспринимают реальным. Как богов воспринимал древний грек? Как живых людей… Чем же боги отличны от простых смертных? Способностью понимать то, что смертным недоступно. Боги знают все – и не только про прошлое и настоящее, но и про будущее… Поэтому и к людям они относятся как к малым детям, толком еще ничего не понимающим… Мы решали богов как людей, современных нам… на роли богов мы искали актеров, способных сыграть человека, глядящего на далекую эпоху с высоты всей человеческой истории…»
В этот период своего творчества режиссер, по его словам, обрел ранее неведомую свободу ремесла. Если раньше, работая над фильмом, он делал множество записей, заметок, выписок из книг, то «Курочку Рябу» (1994) и «Одиссею» (1997) снимал «на автопилоте». Все уже заготовлено внутри и открывается, начинает работать автоматически.
В картине снималось много звезд: Арман Ассанте, Изабелла Росселлини, Грета Скакки, Ирен Папас, Эрик Робертс, Джеральдин Чаплин, Кристофер Ли. Особые отношения у режиссера сложились с исполнителем главной роли – Арманом Ассанте, который подписал контракт только на том условии, что фильм будет снимать именно Кончаловский.
«Он знал почти все мои работы. Увидел впервые в середине 70-х «Дядю Ваню» в Нью-Йорке и с тех пор смотрел все. Он вообще очень интеллигентный человек. Если б не он, я не смог бы добиться того сценария, который хотел снимать. Мне бы выломали руки, и я, скорее всего, ушел бы с картины, как это позднее случилось на проекте «Клеопатры». Там у меня не было актера-звезды, столь же во мне уверенного. Притом что наши отношения с Ассанте бывали и очень напряженными, мы остались лучшими друзьями».
«Одиссея» – первый опыт работы Кончаловского на телевидении. Он оказался удачным – «Эми» за лучшую режиссуру 1997 года. Это был самый дорогой проект в истории телевидения. Американская премьера на NBC получила самые благожелательные отклики. Европейская состоялась на Московском МКФ и была названа самым громким событием кинофестиваля.
На телевидение Кончаловский вернется в начале 2000-х годов и снимет вместе с американцами фильм «Лев зимой» (2003) по пьесе Джеймса Голдмена. Впечатляюще яркая Гленн Клоуз, сыгравшая в картине супругу Генриха II Элинор Аквитанскую, получит приз «Золотой глобус-2004» в номинации «Лучшая женская роль в телесериале».
Ремейк знаменитой ленты 1968 года Кончаловский, по его словам, сделал, что называется, «по найму».
Роберт Холми, возглавлявший команду исполнительных продюсеров, после «Одиссеи» с режиссером работать не хотел. Считал, что тот плохо управляем, неудобен. Надавил на Холми исполнитель главной мужской роли в фильме Патрик Стюарт. «Он считается в Англии одним из серьезнейших шекспировских актеров и думал, что будет великолепен в роли короля Генриха». Правда, по меркам режиссера, «Стюарт оказался актером ограниченным – ни страсти, ни юмора, ни обаяния. Зато самовлюблен, самоуверен, упрям…»
Бродвейская пьеса Джеймса Голдмена казалась Кончаловскому неглубокой. Он поставил перед собой задачу «решительно увести эту историю с Бродвея в XII век. Так, чтобы происходящее на экране имело «вкус и запах» канувшего времени, чтобы герои были такими, как люди этой эпохи, – неуемные, края не знающие, хорошо приспособленные к тогдашнему диковатому миру. Голые на морозе. Как викинги. Животные. Прекрасные!»
Кончаловский признается, что его «страшно возбуждает» «живописание эпохи, вкус и запах иного мира», который режиссер ощущает, готовясь к картине. «Если искать в моих картинах что-то общее, то это страсть к живописанию эпохи в ее плоти и подробностях – будь это сталинское время в «Ближнем круге» или мир Одиссея». В этой своей страсти Кончаловский видит наследственную черту. Его прадед Василий Суриков «очень серьезно занимался изучением исторических корней и реалий, когда писал свои полотна. Собирал предметы, оружие, читал. Писал массу набросков: ткань, халат, головной убор. Очень обстоятельно занимался бытом, в который погружал своих героев. Его картины – «Боярыня Морозова» или «Утро стрелецкой казни» – как многосерийные фильмы. Я думаю, он был бы очень интересным режиссером».
Кончаловский старался преодолеть комплекс узкосемейной драмы, к которой тяготеет оригинал Голдмена. «До конца историю перессорившейся семьи преодолеть не удалось, но я старался».
Старания не пропали даром: материальность времени, его «вкус и запах» в фильме хорошо ощущаются. Особенно тогда, например, когда Генрих II поднимается утром с супружеского ложа и перед умыванием взламывает корку льда в тазу с водой. Или тогда, когда, собираясь покинуть замок, король на ходу хватает только что испеченный хлеб и ломает его, а на морозе видно, как вкусно поднимается пар из надломленной булки. Примеры такого рода можно множить. Но главное в этом фильме, может быть, то, что здесь есть своеобразная проба на создание атмосферы шекспировского мира, что вскоре и понадобится режиссеру в спектакле по «Королю Лиру». Проба в том, что все конфликты королевской семьи в фильме Кончаловского вырастают из стихийной, языческой неуемности цивилизационно только еще формирующихся, а по сути, диких характеров. Здесь все страсти открыты, все они – на стыках. Эти люди и друг друга любят самозабвенно, и за власть друг с другом борются не менее отчаянно, отчего конфликт между зовом крови, зовом любви и жаждой власти оголяется, принимает особо обостренные, «шекспировские» формы.
3
Годы дальних странствий дали плоды, свидетельствующие о напряженной творческой деятельности. С 1983-го по 1992-й Кончаловский снял пять с половиной полнометражных и одну короткометражную картины. Были поставлены два оперных спектакля («Евгений Онегин» и «Пиковая дама») и один драматический («Чайка»).
Театральные опыты были для режиссера внове, хотя и очень привлекали. К своей первой опере – «Евгению Онегину» Чайковского – он пришел по приглашению директора Ла Скала. Постановку предложили вначале Никите Михалкову. Но тот был занят – позвонили старшему брату. После «Онегина» (1985), спустя три года, Кончаловский вернулся в Ла Скала – делать «Пиковую даму», премьера которой состоялась в июне 1989-го.
Когда предложили сценарий «Танго и Кэш», он работал, как помнит читатель, над постановкой чеховской «Чайки» (парижский театр «Одеон», 1987). Почти через десять лет он повторит этот опыт, но уже на сцене Театра им. Моссовета и с Юлией Высоцкой в роли Нины Заречной.
Возвратившись, режиссер продолжает так же интенсивно работать – и не только на поприще любимого кино. На сцене Мариинского оперного театра в Санкт-Петербурге появляется его спектакль по «Войне и миру» Прокофьева (2000 г., музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев), в 2002 году показанный в Нью-Йорке, в «Метрополитен-опера». Перед отечественной премьерой оперы режиссер, выступавший на родине в непривычном амплуа, был атакован интервьюерами, тем более что на спектакле обещались быть Тони Блэр с Владимиром Путиным.
Режиссер говорил, что не привык тщательно отрабатывать концепцию сотворяемого и не любит знать, что создает. «Для меня важен процесс делания, а не реализация какого-то замысла…» И если говорить о подготовке к спектаклю, то ею можно считать все прожитые годы. А с этой точки зрения, в конце концов, не имеет значения, что ставить. «Никому не важно, что движет мной. Важно, что получается в итоге. Конечно же, патриотическая тема – основа романа и оперы. Война всегда была в России моментом возникновения национальной идеи. Как только война кончалась – идея исчезала. Русских всегда объединяла война с иноземными захватчиками».
Спектакль будет актуальным, если будет волновать, пояснял художник свою творческую установку. «Нужно сделать спектакль, который бы создал впечатление, будто композитор сначала посмотрел его, а потом написал музыку».
Уже позднее, на официальном сайте режиссера, можно было увидеть такой комментарий к постановке: «Соединить XIX век с современной музыкой непросто. Вдобавок эта опера написана по роману гигантскому, написана как киносценарий: эпизоды сменяют друг друга так быстро, что статическая оперная традиция затянула бы эту оперу на лишних два часа. Мне нужно было создать текучесть действия, его трансформацию из одной декорации в другую, происходящую на глазах у зрителей и незаметную для них. Эта текучесть сцен требует очень больших усилий режиссера и художника-постановщика. Нужно было создать архитектуру пространства. Земля и небо – вот два пространства, две сферы, первичные для человека. Они и существуют в моей постановке этой оперы как ее идея».
Оригинальные режиссерские поиски были замечены критикой.
«Решение Кончаловского оказалось блестящим: действие разворачивается на выпуклом куполе, напоминающем изогнутую поверхность Земли. Эта сферичность перекликается с закругленностью вальсовой музыки в темах «мира», в то время как непрерывно изменяющийся пейзаж позволяет прочувствовать головокружительную, захватывающую динамику тем «войны». Добавим сюда великолепное использование кинематографических приемов: под взвихренными небесами в стиле Тернера солдаты обеих армий и крестьяне бесконечно передвигаются…; на этом фоне эпизоды случайного насилия и безнадежного героизма рисуют жестокость и хаос войны…» (Ирена Лейна, «Культура».)
Через год Кончаловский ставит «Бал-маскарад» Верди – в рамках Вердиевского фестиваля в Парме, а затем – ив Мариинке.
Комментируя замысел этой последней работы, далековатой от русской как оперной, так и литературной классики, к которой всегда так влекло художника, он заметил, что во время создания спектакля его «не оставляла идея мечты, пронизывающей оперу», «мечты возвращения домой».
В 2002 году появляется фильм «Дом дураков» – еще одно убедительное подтверждение последовательности в разработке главной темы Кончаловского, что бы он ни говорил об отсутствии у него склонности к концептуальному подходу в творчестве. И эта тема – судьбы его страны в потоке мировой истории.
Замысел сценария возник, когда режиссер увидел в 1995 году телерепортаж о том, что в одиноком психинтернате во время военных действий на границе (на стыке!) Чечни и Ингушетии власть перешла в руки больных. Ни врачей, ни медсестер не осталось – все сбежали.
«…Не было различий в том, кто наш герой – чеченец или русский, военный или штатский, начальник или рядовой. Рубеж проходит не по линии фронта, не по ограде психлечебницы, главного места событий картины, а внутри каждого из героев. Мы не хотели потрясать зрителей ни ужасами войны, ни воспеванием героизма любой из сторон. Самым важным было привести зрителей к самой простой и необходимой во все времена истине: человек и в самых сложных обстоятельствах должен и может оставаться человеком».
Во время съемок фильма в прессе появилась информация о том, что прототипом героини Юлии Высоцкой, «христовой невесты» Жанны, была реально существовавшая девушка с тем же именем. За пять лет до съемок она начала звонить режиссеру на дом и молчать в трубку. Обычно это происходило глубокой ночью. Но Кончаловский телефон не выключал. А через полгода девушка заговорила. Она рассказала о себе, о жизни, о своей любви к режиссеру. Общение продолжалось и во время съемок. Пять лет Кончаловский мечтал использовать этот характер в каком-то из своих фильмов – наконец нашел.
Фильм был удостоен ряда наград на международных кинофестивалях. Особо отмечалась работа исполнительницы главной роли. На родине картину оценили в рамках традиционного подхода к созданному Кончаловским. По поводу чего режиссер с грустью заметил, что в России «принято оценивать кино, исходя не из его художественных достоинств, а с точки зрения того, кто именно его сделал. Раньше, в советские времена, про меня говорили – папа ему помог. Сейчас говорят – брат ему помог…»
Целый ряд проектов был осуществлен Кончаловским в рамках его Фонда (позднее – продюсерский Центр). Один из них – телецикл «Гении» – рассказывал о вершинах русской музыкальной классики: Прокофьеве, Рахманинове, Стравинском, Скрябине, Софроницком и Шостаковиче.
«Мы хотим провести в этом телесериале параллели между той жизнью, которая окружала каждого из героев, и той музыкой, которую он писал. У каждого по-своему трагическая судьба, творчество каждого из них значительно повлияло на мировой музыкальный процесс».
Так, первый фильм цикла, посвященный Сергею Прокофьеву (сценарий и художественное руководство Кончаловского), интерпретировал трагическую жизнь композитора как «беготню от страшилищ». В 1917 году Прокофьев уехал за границу, но не смог там организовать свою творческую судьбу. Возвратившись в конце 20-х на родину, он не имел больших иллюзий «относительно революции и всего, что за ней последовало». «От одного страшилища он бежал к другому». Пришлось ему пережить и драму взаимоотношений «гений и тиран», подобную той, которую пережил в свое время Сергей Эйзенштейн.
Как автор сценария и режиссер Кончаловский выступил в создании еще двух фильмов цикла – о Скрябине и Шостаковиче.
Через год появились первые картины нового документального кинопроекта «Бремя власти», в котором Кончаловский принимал участие как их полноправный автор. В интервью режиссер говорил, что содержание цикла связано с именами крупных государственных деятелей, принимавших в разные времена и в разных странах непопулярные решения. Алиев, Андропов, Ата-тюрк, Бисмарк, Столыпин, Тито – вот некоторые из этих имен. Хотя их решения были далеки от демократических, – замечает режиссер, – но, тем не менее, эти люди жили и действовали во благо своего народа. Проект возник, когда в сознании художника оформилось концептуально целостное представление о взаимоотношениях власти и народа в разных национальных культуpax. Кончаловский пытается постичь природу власти – основы ее приятия или неприятия народной массой.
Постижением национального менталитета соотечественников, роли народа в формировании социально-политического пространства жизни страны можно назвать и телецикл «Культура – это судьба» (2006).
4
Судя по тому, как активно на рубеже 1990-2000-х годов Кончаловский обсуждает и в прессе, и на телевидении волнующую его и заявленную еще в начале 1990-х А.И. Солженицыным проблему «Как нам обустроить Россию», можно думать, что время, прошедшее с момента его кинематографического дебюта, было и временем созревания оригинальной философско-культурологической концепции, связанной с будущим России.
Уже шла речь о воздействии на мировидение молодого Кончаловского в 1960-х годах идей его двоюродного деда Дмитрия Петровича, что, конечно, вовсе не отменяло и другие влияния. Например, П.Я. Чаадаева, русских философов начала XX века, в том числе Н. Бердяева, М. Гершензона, идей, высказанных в знаменитом сборнике статей о русской интеллигенции «Вехи».
Новым источником культурологической концепции, оформившейся к концу 1990-х годов, стало, кроме прочего, произведение американского ученого и государственного чиновника Л.Э. Харрисона «Кто процветает? Как культурные ценности способствуют успеху в экономике и политике». В ней изложен принцип оценки успешности или, напротив, неуспешности народа в экономике, что связано с сущностью его культуры.
Харрисон выделяет четыре фактора культуры, способствующих или препятствующих реализации творческих возможностей людей и воздействующих на продвижение универсальной модели демократического капитализма либо ухода от нее.
Радиус доверия, то есть степень отождествления себя с другими членами общества, чувство общности.
Строгость этической системы.
Способ реализации власти в обществе.
Отношение к труду, инновации, бережливости и прибыли.
В большинстве бедных стран радиус доверия ограничен рамками семьи. Все, что за пределами семьи, – объект безразличия, а зачастую и враждебности. Такие «семейные» сообщества характеризуются кумовством, семейственностью и прочими формами коррупции, а также антисоциальным поведением.
Корни этической системы, как правило, уходят в религию. Так, по формуле немецкого социолога, историка и экономиста М. Вебера, бог кальвинизма «требует от верующих не просто отдельных хороших поступков, а целой жизни, в течение которой хорошие поступки будут объединены в стройную систему». У этого бога «нет места для весьма гуманного католического цикла греха, раскаяния, искупления и отпущения, вслед за которым позволяется новый грех».
Авторитарная власть предполагает иерархическую картину мира, в котором воспитывается патернализм, отношения «патрон-клиент» и социальная жесткость – отношения, обычные для стран Третьего мира.
Позитивное отношение к труду предполагает, во-первых, веру в то, что при рациональном подходе к вещам можно манипулировать миром и увеличивать богатство, во-вторых, важную роль образования и, в-третьих, ориентацию на будущее, что поощряет планирование и бережливость и т. д.
Харрисон считает, что существенные различия в политическом, экономическом и социальном развитии стран мира обычно можно объяснить различной мерой доверия, разницей в этических кодексах, методах реализации власти и ценности, присваеваемой труду, нововведениям и планированию. Здесь он ссылается на аргентинского журналиста и ученого Мариано Грондона, который разработал типологию, определяющую около двадцати культурных или идеологических факторов, оказывающих различное влияние в общественной среде в зависимости от того, способствует или препятствуют такая среда процессам развития.
Грондона считает, что важное влияние на меру доверия оказывает то, как та или иная культура рассматривает ценность каждого индивидуума. Способствующая прогрессу культура уважает индивидуума и доверяет ему, на чем и строятся равноправие и децентрализация. Препятствующая прогрессу культура подозрительно смотрит на человека, что дает почву недоверию, авторитаризму и централизации.
Способствующее прогрессу общество характеризуется системой этики, основанной на ответственной за свои поступки личной нравственности и взаимном уважении.
В «положительной» культуре человек получает спасение на том свете, совершая добрые дела на этом. «Отрицательная» же культура гласит: «Спасение души – в уходе от всего мирского, в отстранении от рисков и опасностей этого мира».
В «положительном» обществе способность к совершенствованию всегда присутствует как цель, над которой надо постоянно трудиться и которую очень нелегко достигнуть в полной мере. При этом следует ожидать и принимать возможные неудачи и недостатки.
В «отрицательной» культуре все неизбежные промахи и ошибки используются духовными и политическими лидерами как предлог объявить того или иного человека врагом.
Уважение к закону – характерная черта способствующих прогрессу обществ. Здесь закон является основой власти. В культуре, противостоящей прогрессу, закон подчинен власти, а зачастую и диктуется ею. При этом к власти приходят, как правило, силой.
В «положительной» культуре демократия – неизбежный исход развития. Она растворяет силу авторитаризма и консолидирует плюрализм. В «отрицательной» культурной среде так называемая «демократия» превращается в витрину, прикрывающую собой новые формы авторитаризма.
Ученые-социологи называют определенные ценности, мировоззрения и институциональные уклады, которые весьма схожи в крестьянских сообществах по всему миру и созвучны с типологией Грондона. Здесь корень феномена универсальной крестьянской культуры.
Для Кончаловского определение этого феномена принципиально, поскольку он твердо убежден, что отечественная культура как раз и относится к типу культуры крестьянской.
Крестьянин рассматривает свою социальную, экономическую и природную вселенную как место, где все нужные для жизни вещи существуют лишь в ограниченном количестве и всегда дефицитны.
В типичном крестьянском обществе отдельная личность или семья могут процветать исключительно за счет других. Типичный крестьянин практически не видит взаимосвязи между трудом и технологией, с одной стороны, и приобретением достатка-богатства – с другой. Он трудится «для пропитания», а не для накапливания богатства.
Крестьяне индивидуалистичны, и каждая их общественная ячейка видит себя в непрерывной борьбе с соседями за свою долю дефицитного достатка. Преуспевающие личность или семья рассматриваются как угроза стабильности общины. Точно так же крестьяне избегают занимать лидерские позиции, боясь, что их мотивы вызовут подозрение. В таком окружении вовсе неудивительно обнаружить, что крестьяне ищут богатых покровителей.
Крестьянские общины кооперативны лишь в той мере, в какой они уважают взаимные обязательства. Совершенно чуждыми для них являются концепции общинного благосостояния и общинной ответственности. Взаимная подозрительность ограничивает выработку кооперативных решений.
Культура не только является существенным элементом, помогающим формировать общество, но и самым важным фактором из всех. Такова исходная установка реального консерватизма, который, как мы помним, исповедует Кончаловский.
Формула «Культура – это судьба», вытекающая из вышеописанных и других «источников и составных частей» философско-культурологической концепции национального «домостроя» Кончаловского, – фундаментальная для него мировоззренческая опора.
Почему из так замечательно задуманных российских преобразований либо не получается ничего, либо получается черт знает что?
Убежденность наших преобразователей и реформаторов, формулирует свой культурологический ответ Кончаловский, в том, что политика способна изменить культуру, безосновательна. Русская история, напомню его точку зрения, как процесс развития культуры еще не создала ментальность, готовую к принятию идеи как социализма, так и капитализма. Культура формирует политическую реальность.
Поскольку культура русского народа относится к крестьянскому типу, постольку она очень консервативна и малоподвижна. Этим типом культуры определяется и грязь в общественных туалетах в стране, и страсть к неуплате налогов. И то и другое – выражение безответственности индивида перед обществом. То, что можно назвать анонимной ответственностью человека, чуждо крестьянскому сознанию. Русское крестьянство исповедовало уравниловку, воспринимало государство как врага, поскольку оно всегда было чем-то внешним по отношению к крестьянину, чужим, насильственным. А раз государство враг, то и ответственности перед ним нет.
В России, в отличие от стран протестантской (или конфуцианской) культуры, к закону всегда относились без уважения. А раз человек относится к закону легко, то и закон пишется так, чтобы его не могли выполнить. Отсюда, по Кончаловскому, и особая истовость русского человека в вере. Русский человек так истов в вере, потому что не уважает законов – в том числе и Божьих. Поэтому русскому человеку ближе Бог прощающий.
Вот почему в России бороться, например, с коррупцией можно только путем устрашения, с помощью мощных силовых институтов. Иначе нечего думать о построении сколько-нибудь стабильного общества. Ведь у крестьянской ментальности либерализация законов ассоциируется со слабостью власти, а слабость власти провоцирует анархию. По убеждению Кончаловского, в постсоветское время в нашей стране произошла либерализация законов с параллельным развалом силовых структур. Страх исчез. Никто ничего не боится. Хорошо еще, с горькой иронией замечает режиссер, что русские до сих пор живут в XVI веке, а не организованы в классы. Поэтому вероятны только стихийные восстания, не способные всколыхнуть всю страну.
В России происходит сращивание политической власти с предпринимательством, что открывает огромные возможности для коррупции. Это очень свойственно азиатской авторитарной традиции. Осваивая западный стиль капитализма, народы этого региона далеки от борьбы за права человека, потому что людям здесь в массе своей права не нужны. Коррумпированность и сращивание капитала с политикой здесь неизбежны, как неизбежно и возникновение новой аристократии.
Новая аристократия формируется из простых людей – неважно, кем они были, профессорами или бандитами. Новый российский высший класс не знает кастовости. Движение снизу вверх нигде не стопорится. В этом отношении потенциала у России современной заметно больше, чем у России дореволюционной.
Поскольку в России никогда не было буржуазии, жить здесь как в Европе – невозможно. Но в этом нет исторической обреченности. Просто нужно ставить реальные задачи. Можно хорошо жить и в обществе без демократии.
Русский народ, полагает Кончаловский, нуждается в перевоспитании. Но для этого нужна воля государства. В этом смысле возврат к «сильной руке» может быть и благотворным. Есть вещи важнее пресловутой свободы.
Главное – нужно знать себя. К сожалению, поясняет режиссер, мы всегда думаем о себе, что мы либо лучше, либо хуже, чем есть на самом деле. Человек в серединке себя реально понимает. Каждая нация должна понять себя, чтобы куда-то двигаться. А уж правительству тем более надо знать нацию. По левой стороне в стране с правосторонним движением ехать очень опасно.
«Думаю, у нас не получится ни успешной экономики, ни самодостаточной национальной политики до тех пор, пока не возникнет потребность в осуществлении самого грандиозного Национального Проекта – реформы национального сознания…»
5
Мысль о том, что «можно хорошо жить и без демократии», нашла отражение в документальном цикле Кончаловского «Бремя власти», в двух первых фильмах которого, посвященных Юрию Андропову и Гейдару Алиеву, он был и автором, и ведущим. По его словам, эти картины – аргумент в споре с отечественным либералами на тему преобразований в стране на современном этапе ее истории.
Каждый из двух первых фильмов цикла начинается с известного изречения, что власть развращает властителя, абсолютная же власть развращает абсолютно. «Действительно, – продолжает Кончаловский в качестве ведущего, – в истории немало примеров, когда люди, наделенные абсолютной властью, использовали ее во зло. Но время все ставит на свои места, и то, что современники воспринимали как зло, в исторической перспективе нередко оказывается не только необходимостью, но и благом. Власть – это не только права, это и обязанности. И они тяжким грузом ложились на плечи тех, о ком мы будем говорить в этой серии телефильмов…»
К таким деятелям режиссер причисляет Юрия Андропова и Гейдара Алиева.
Кончаловский пришел к парадоксальному убеждению, что с средины 1960-х годов КГБ «из органа подавления инакомыслия постепенно становился инструментом борьбы с коррупцией в обществе и, в частности, в высших эшелонах партийной элиты… Сама деятельность этой организации, в силу своего закрытого характера, требовала соответствия не принятым идеологическим клише, а действительности. В своей борьбе с коррупцией КГБ подготавливал… реформы. В недрах КГБ возникло осознание необходимости перестройки и гласности. Не секрет, что КГБ сыграл существенную роль в утверждении тех горбачевских концепций, которые привели его к власти».
Главную роль в изменении функций Комитета Кончаловский отводит Ю.В. Андропову, значение фигуры которого для современной России, как полагает режиссер, было «недооценено, не проанализировано и соответственно не донесено до общества».
В каждом из упомянутых фильмов, как мне кажется, существен конфликт, неизбежный во взаимоотношениях государственного деятеля, носителя благих помыслов, и той политической системы, внутри которой ему приходилось эти помыслы осуществлять.
Юрий Андропов, например, как политический деятель начинал свой путь в рамках советской системы и был предан ей. По фильму, его становление в качестве реального зачинателя преобразований начинается после смерти Сталина, с того момента, как в октябре 1953 года он назначается советником-посланником в Венгрии, свидетелем и участником «венгерских событий».
Именно в результате этих событий у Андропова, как следует из фильма, сформировалась мысль о необходимости реформы политической системы социализма. Андропов способствовал выдвижению в Венгрии Яноша Кадара и сочувствовал проводимым им реформам. Венгрия для Андропова стала плацдармом, на котором он испытывал реформаторские идеи уже применительно к СССР.
С целью проведения в жизнь своих идей Андропов, находясь в ЦК КПСС, окружает себя прагматиками-интеллектуалами, по самой своей сути чуждыми системе– ее чиновничьему аппарату. Среди них Кончаловский называет Николая Шишлина, Александра Бовина, Георгия Шахназарова, других, многих из которых он знал лично.
Постепенно Юрий Андропов начинает понимать, что наиболее сильным тормозом в проведении реформ в стране является сам партийный аппарат. Но логика косной системы принуждала играть по ее правилам.
Андропов же и не помышлял жертвовать карьерой аппаратчика.
В то же время у Андропова были далеко идущие амбициозные планы – стать первым лицом государства. И он понимал, что в настоящих условиях без технологического раскрепощения экономики нельзя выиграть соревнования с Западом, нельзя развить и укрепить не столько демократию, сколько военно-промышленный комплекс, главную опору в этом «соревновании». Такого рода реформы были невозможны без отделения сталинского партийного аппарата от его властного влияния на все сферы жизни в стране. Возможность сделать серьезные шаги в этом направлении Ю.В. Андропов получает, когда Л. Брежнев ставит его во главе КГБ СССР.
Фильм показывает, в какую сеть бюрократических интриг попадал Андропов, если он и на самом деле всерьез думал о реформировании аппарата. Бюрократические «игры» не могли не обессиливать человека как физически, так и психически, притупляя и нравственное чувство. Не зря же сквозным образом картины, возникшим впервые как раз в описанной точке сюжета, становится неверный подвесной мост, по которому, инстинктивно хватаясь за канаты, пытается двигаться аппаратчик Андропов.
Основательно встроенный в систему, Андропов не мог не быть ее охранительным инструментом.
«Представим себе, – говорит Ведущий, – Андропова-человека. Сейчас даже трудно себе вообразить лицемерие и жестокость эпохи, в которую он жил. Он Председатель КГБ, его функция – защита государства, подавление антигосударственной деятельности. Вообразим, что он встает на заседании Политбюро и говорит: «Давайте не будем давить диссидентов, давайте дадим всем свободу…» Думаю, что через короткое время он оказался где-нибудь в Карелии, откуда начинал, на должности инструктора райкома. И это в лучшем случае… А это значило навсегда расстаться с амбициями, угробить реформы в Венгрии… Андропов должен был делать то, что требовала власть. Иначе бы она его выкинула. И это тоже бремя власти…»
В начале 1980-х Ю.В. Андропов наконец получает возможность осуществить свои реформаторские планы. Он занимает место Генерального секретаря. Но горькая ирония исторической ситуации в том, что он уже не в состоянии воспользоваться этими возможностями, смертельно пораженный болезнью почек. Карьерная борьба и борьба за власть источила силы.
Если видеть в Андропове человека, глубоко обеспокоенного идеями реформ и ждущего только момента, когда у него будут развязаны руки в должности главного лица в стране, то драма его – а я именно так понимаю нравственную коллизию картины – состоит в простодушном, как ни странно для опытного аппаратчика, «возвышающем» самообмане. Ибо проведение каких бы то ни было реформ внутри партийно-государственной системы Страны Советов было попросту невозможно, как показала история, без разрушения самой системы.
Приходишь к мысли о фатальной невозможности проводить какие бы то ни было позитивные реформы не только из-за чудовищной неповоротливости партийно-правительственного аппарата, а в силу духовно-нравственной, культурной малоподвижности страны в целом, ее народа. К этим мыслям подталкивает и сам фильм, и более поздние публичные выступления автора картины, который в 2000-х годах то и дело возвращается к феномену ментальности нашего соотечественника.
В качестве примера можно вспомнить одно из представительных обсуждений проблем модернизации в стране, где прозвучало и выступление Кончаловского, объявленное речью «русского барина о невежестве русского народа». Между тем Кончаловский рекомендовал не сбрасывать со счетов при обсуждении подобных вопросов «систему ценностей русского человека». «Никакая модернизация Петра I не изменила ментальности русского мужика, – сказал он в частности. – Она осталась та же и сейчас… Есть нации, которые легко идут на изменения, и нации, которые им сопротивляются. Без гражданского общества какая может быть модернизация? Кущевская по всей стране. Средневековье».
А ранее Кончаловский писал о том же в нашумевшей статье «Страна братков». Вот показательные строки фрагмента в ее начале: «…в РОССИИ НЕТ ГРАЖДАН, А ЗНАЧИТ, НЕТ ГОСУДАРСТВА. Вернее, государство есть, но оно само по себе – оно не может опереться на своих граждан в решении каких-либо вопросов, касающихся строительства более совершенного общества. Вот где можно увидеть драму Высшей Власти!»
Существенно, как в контексте этих представлений Кончаловский видит место государственных лидеров, пришедших к власти на рубеже нулевых. «Да какая разница: Путин, не Путин… У России свой генокод, к которому Путин не имеет никакого отношения. Это страна XVI века – такой была, такой осталась. При нас было другое, это называлось советской властью, хотя было по сути инквизицией… Советская власть прижала зверя раскаленной решеткой. И никому не объяснишь, что при всех ее издержках и кошмарах она была все-таки рывком вперед, в будущее, ко времени, когда зверь дикости и эгоизма будет загнан на место. Сейчас он вырвался и ликует. Никакого атеизма при советской власти не было – это было то же православие с той же нетерпимостью к инакомыслию и призывом «верить, а не размышлять», только поставленное с ног на голову…»
Вот квинтэссенция того, что формировалось в сознании Кончаловского в истекшие десятилетия его жизни за рубежом и на родине. Он хорошо понимает, что «вышли мы все из народа», из того самого народа, чей крестьянский менталитет не поддается либеральным реформам, поскольку исполнение их всегда оказывается в руках в полном смысле «народной» элиты.
Вернусь к фильму об Андропове.
«…Да, Андропов был человеком осторожным, – звучат финальные слова ведущего. – Но у него были цели, у него были идеалы. Он верил в то, что систему можно улучшить… Он был человеком чести. Он был человеком долга. Так он понимал свою миссию и так служил своей стране. И за это мы должны его помнить и быть ему благодарны».
Понимая пафос этих заключительных слов, прежде всего потому, что в них есть сострадание к человеку, образ которого держит в своем сознании автор картины, невольно склоняешься к «чеховскому» взгляду на вещи. Я вновь вспоминаю фотокадр фильма с изображением его героя, который то ли осторожно, то ли неуверенно движется по колеблющимся навесным мосткам. Человек на середине пути, и у нас нет твердого убеждения, что он преодолеет этот путь. Может быть, из-за того, что ему, как обыкновенному человеку, не хватит на это ни решимости, ни сил.
6
Есть в фильме об Андропове кадры, которые, как мне кажется, никогда не могли бы появиться в киноповествовании об Алиеве. Создатели первой картины проводят опрос на улицах Москвы 2000-х: «Кто такой Юрий Андропов?» Никто из опрошенных не может дать внятного ответа. Новые поколения наших граждан не знают человека, стоявшего, по мнению автора фильма, в истоках перемен, происшедших в стране на рубеже XX–XXI веков.
Ничего похожего, я думаю, не могло бы произойти на улицах Баку, обратись те же люди к азербайджанцам с тем же вопросом, но уже об Алиеве. И не потому, что Алиев скончался двумя десятилетиями позднее Андропова. А потому, что в этой картине мы имеем дело с иным человеческим типом, иной культурой, его взрастившей, а главное – с народом иной ментальности, не успевшим социально и психологически состариться в ходе своей исторической жизни.
Вот начало картины об азербайджанском лидере. Алиев является в переломный момент своей политической карьеры – как спаситель народа, во время так называемого «Черного января» 1990 года. На пресс-конференции в постоянном представительстве Азербайджанской ССР в Москве он осуждает ввод советских войск в Баку и обвиняет Михаила Горбачева в нарушении Конституции. Он и представился здесь с далеко идущим смыслом как персональный пенсионер, бывший Глава КГБ АзССР, бывший Первый секретарь ее Коммунистической партии, бывший заместитель Председателя Совета Министров СССР и т. д. Алиев демонстративно сбрасывал с себя все высокие чиновные одежды Союза и выступал уже не «бывшим», а настоящим политиком, готовым принять из рук своего народа груз новой миссии.
«В этот день бывший азербайджанский лидер заявил о своем возвращении в политику, – комментирует автор фильма. – Человек, раздавленный тоталитарной системой, он бросил вызов этой системе. Он знал, что он нужен своему народу, и это придавало ему силы. Я не знаю другого государственного деятеля в советской истории, которому хватило бы смелости сделать подобный шаг и при этом победить. Недаром Гейдар Алиев остался в нашей памяти великим политиком и великим азербайджанцем…»
Кончаловский искренне восхищается Алиевым как глубоким, мудрым человеком, как политическим гением. И все последующее движение сюжета не что иное, как развитие и утверждение этого тезиса, когда герой картины на наших глазах оформится в образ мудрого патриарха большой народной семьи.
Точкой отсчета политической карьеры Алиева стал 1967 год, когда он был назначен главой КГБ республики. Его дальнейший рост как политика и государственного деятеля в советское время можно назвать головокружительным. С приходом к власти Андропова после смерти Брежнева он назначается первым заместителем председателя Совета министров СССР. А в ноябре 1982-го становится членом Политбюро ЦК КПСС вплоть до своей отставки в 1987 году.
Переломный момент наступил после смерти Андропова и вслед за ним К. Черненко. В этих условиях на пост Генерального секретаря реально претендовали три кандидатуры: М. Горбачев, Г. Романов и Г. Алиев. Избран был, как известно, Горбачев. И это было начало (если не продолжение) глубокого конфликта Алиева с верховной союзной властью, главным образом с Горбачевым.
По фильму очевидно, что в ходе скрытого соперничества в борьбе за власть с Горбачевым Алиев вполне мог ощутить, что он чужак в этой системе, как бы он ни мимикрировал, на какие бы компромиссы ни шел, какими бы покровителями ни обладал. И это был тот самый «момент истины», который поначалу обернулся для него драмой, а затем – инструментом для нового возвышения.
Автор фильма противопоставляет политической мудрости и в то же время смелости Алиева близорукость и легкомысленность Горбачева в решении сложнейших задач, вставших перед страной. Кончаловский убежден, что, подстегиваемый «доверием» Запада, Михаил Горбачев затеял реформы поспешно и непродуманно. В картине резко критически оценивается деятельность Горбачева у руля СССР. Он прямо обвиняется в тех кровавых конфликтах, наиболее полным выражением которых была проблема Нагорного Карабаха.
Торопясь с реформами, Горбачев, убежден автор картины, лихорадочно очищал поле деятельности от настоящих и мнимых своих противников. Целенаправленно вытеснял из властных структур Алиева, что в конце концов обернулось для того инфарктом и последующей отставкой.
Вторая серия фильма возвращает нас к его началу, но теперь кульминационное событие возрождения Алиева как народного лидера предстает результатом трудных преодолений. Легко увидеть, что в других условиях вряд ли было возможно такое Возвращение изгнанного из рядов Системы. Система издыхала. Вполне может быть, Алиев ранее всех почувствовал запах тлена. И, обладая тонким политическим чутьем, правильно и в своих интересах этим воспользовался.
Весной 1992-го, опираясь на силы Народного фронта Азербайджана, президентом республики становится Абульфаз Эльчибей.
Фигура Эльчибея показательна, с точки зрения Кончаловского, как образ либеральной власти, которую тогда брали в руки в бывших республиках Союза представители национальной интеллигенции гуманитарного толка.
«Иллюзии, которыми питался Эльчибей, часто свойственны интеллигентным, искренним людям, которые не имеют абсолютно никакого опыта в управлении государством. Им кажется, дай им только власть, они построят процветающую демократическую страну, в которой все будут счастливы. Но часто самые прекрасные либеральные идеи на практике оборачиваются анархией, кровью и разрухой. Реальная власть – тяжелейшая ноша, которая далеко не каждому по плечу…»
В конце концов правление Эльчибея потерпело крах. Алиев становится главой республики. «Народ хотел правителя. Народ хотел своего национального лидера и спасителя. Это был глас просто: «Кто же нас спасет?!» Так говорят авторитетные свидетели событий.
На экране – Гейдар Алиев, произносящий президентскую клятву.
Собственно, все, что ни совершает Алиев как политик, толкуется в фильме с точки зрения дальней перспективы выживания и укрепления блага народа.
«Да, – замечает автор картины, – для многих планы этого великого человека могли казаться тайными. Не каждому дано видеть политические процессы в их исторической перспективе. Любить свой народ недостаточно, только глубокое понимание и знание своего народа делает лидера истинно великим».
Очень трогательно звучат в финале картины слова Мстислава Ростроповича. Он приехал в Баку, где родился, в дни посещения Азербайджана Владимиром Путиным. «Когда мы встретились здесь с ним (с Алиевым. – В.Ф.), я все понял. Я понял по его глазам, по его рукопожатию, по тому, как мы с ним обнялись, что он вернул мне мою родину… Этот человек – подарок Бога моей стране!..»
Лучшего финала не придумаешь! Произнесенное большим художником дорогого стоит.
Кончаловский часто вспоминает первого премьера Сингапура Ли Куан Ю как образец выдающегося государственного деятеля, который «неправильными» авторитарными методами совершал правильные дела, вывел свою страну из упадка и нищеты. Мне думается, образ сингапурского премьера вдохновлял его и в процессе работы над первыми фильмами цикла «Бремя власти», а может быть, был исходным толчком и в самом замысле сериала. Предполагаю, что в героях упомянутых картин он хотел найти черты отечественного «Ли Куан Ю». Нашел ли? Похоже, нет. Наши лидеры, которые вышли из нашего же народа и будут выходить оттуда в обозримом будущем, долго еще не смогут сказать, подобно Ли Куан Ю, что они и их соратники принадлежат к группе «буржуазных лидеров, получивших английское образование».
7
Культурологические идеи Андрея Кончаловского получили концентрированное выражение и в просветительно-педагогической акции – этнографическом фильме-исследовании «Культура – это судьба». Фильм и вправду выглядит многосерийным «открытым уроком», который проводит перед телеаудиторией «учитель» Кончаловский, озабоченный будущим своей страны.
Россия, с ее крестьянской по происхождению культурой, предстает в сопоставлении с культурами народов планеты – индуистской, конфуцианской, протестантской, другими, получая возможность самоопределиться, взглянуть на себя самое со стороны. В этом смысле сериал «Культура – это судьба» – явление уникальное, позволяющее человеку, живущему испокон веку в России, хорошо почувствовать, а главное – трезво осознать, что он живет, как выражался в свое время Михаил Бахтин, на границах культур. Причем речь идет не только о современном социально-психологическом самочувствии разных этносов. А и о том, что многие из них имеют историю, уходящую в глубину тысячелетий – народы Китая, Египта, например. Таким образом, современный зритель помещается еще и на границу исторических времен, определяющих этапы развития разных культур…
Фильм открывается образом Мирового древа. Он дает зримое представление о единстве мироздания, о единстве человеческого мира. Эта идея дорога автору проекта особенно сегодня, когда мир вздыблен религиозными и иными войнами, противостоянием культур, когда человечество живет предчувствием глобальных катастроф. Образом мирозданческого единства картина начинается и заканчивается.
Другой опорный образ – жизнь человека как посвятительный (инициационный) путь. Сюжет фильма – развертывание этого образа. Зритель, сопровождаемый ведущим, совершает путь посвящения в содержание того, что есть он сам внутри той или иной культуры. Для соотечественника ведущего – внутри культуры русского народа.
Сюжет картины состоит из серий-глав, посвященных тому, что является основами жизни человека: семья, власть, религия, смерть, труд, деньги и т. п. Идя от серии к серии, зритель получает возможность сопоставить себя – с точки зрения фундаментальных основ – с другими народами, с их отношением в непосредственном быту к этим жизненным опорам. Но такое удаление от своей страны, от своего дома есть одновременно и возвращение к нему, его опознание как дома именно твоего, суверенного, тебе принадлежащего. Существенно, что Кончаловский присутствует в картине не только как ведущий, но и как частный человек, странник, путешественник. И в своем частном странствии он переживает одновременно и свою особость в мире, и свою неотделимость от него. Это переживание очень важно для картины как выражение прежде всего позиции самого автора проекта. Ему то и дело приходится как бы преодолевать эту дистанцию между человеком частным, частным образом странствующим, и ведущим, то и дело вступающим в диалог с самыми разными людьми.
Картина многолюдна. Это вытекает из ее задачи показать скрытый диалог русских с другими этносами, населяющими мир. Но она многолюдна и по числу прямых собеседников ведущего – всегда людей глубоких, знающих, как и он, озабоченных судьбами своей страны – будь то Индия, Россия, Китай, Египет и т. д. Общение с ними, развитие и утверждение ими своих взглядов на фундаментальные вопросы взаимоотношения культур в мире делает фильм полифоничным, а точку зрения ведущего на те же вопросы – одной из многих. Собеседники ведущего часто не соглашаются с ним. Так, например, мысль о приоритете безопасности индивида перед его свободой, к чему склоняется Кончаловский, ратуя за сильное государство, не убеждает священника Якова Кротова. С его точки зрения, отстаивание безопасности не имеет отношения к понятию культуры…
Таким образом, «педагогика» этой картины не в том, чтобы привести «учеников» к итожащей авторитетной идее «учителя», а чтобы утвердить в их сознании принципиальную культурную многослойность и многоголосость мира, требующих своего освоения.
Одна из завершающих картину реплик ведущего – его любимая цитата из чеховской «Дуэли»: «Никто не знает настоящей правды». Она очень плодотворна здесь. Нет, она далека от утверждения принципиальной непознаваемости мира. Это реплика утверждает позитивную полифоничность мира, заключенную в единстве его человеческого многолюдья. Нужно принять и понять это разноликое многолюдье и войти в него собственным домом. К финалу сериала и зритель, и его создатели, оплодотворенные этой мыслью, возвращаются домой. Осознание единства мира в его культурном многоголосии, а также собственной в него включенности становится их приобретением. Или, во всяком случае, должно стать таковым.
Глава вторая «Возбуждающая красота театральности»
Кино… единственно способно сверстать в обобщенный облик: человека и то, что он видит; человека и то, что его окружает; человека и то, что он собирает вокруг себя…
Сергей Эйзенштейн…У любого большого художника театральное непременно присутствует…
Андрей Кончаловский. 2003 г.1
Кончаловского влечет театр. Его кинематограф живет театральным преображением мира, непрестанной сменой его «декораций». «Я кинематографист, но красота театральности всегда очень сильно меня возбуждала. С детства театр стал для меня миром мечты. Еще в первые послевоенные годы я приходил в Детский театр, помещавшийся тогда на Большой Дмитровке, у папы там ставились пьесы. Меня пускали в зал и за кулисы, я с восторгом смотрел спектакли, но еще больший восторг вызывала возможность прикоснуться в бутафорском цехе к волнистому мечу, с которым сражался герой-горбун в «Городе мастеров» Тамары Габбе. Никто из сидевших в зале не держал этот меч в руках – я его держал! С этого времени чудо и счастье театра были со мной…»
Народная площадная игра проникает едва ли не во все картины режиссера – то в собственно комедийном, даже фарсовом повороте, то в трагедийном. Уже Дюйшен Бейшеналиева балансирует на грани буффа, когда пытается убедить жителей аила в своей «правде». Не случайно его появление то и дело сопровождается смехом.
Смеховое преображение мира проникло и в «Историю Аси-хромоножки». «Тащило куда-то. В странный мир сюрреалистической сказки», – признавался режиссер. Он шел вслед за приемами шагаловской живописи, в которой видел «народный лубочный сюрреализм». «Мне этот жанр казался очень интересным, особенно если этот лубочный сюрреализм переплетался с хроникальным материалом…»
Ему давно близок метод «самого театрального», на его взгляд, художника – Федерико Феллини. Он убежден, что у Феллини аттракцион, площадное действо – формы, присущие раннему кинематографу, – стали инструментом постижения человеческой души. Феллини – абсолютно цирковой режиссер, говорящий о самых не цирковых вещах. При этом итальянский маэстро смотрит на людей, прощая им все пороки. Он смотрит на них всепрощающим, шекспировским взором: «Увы, не осуждаю вас. Вы – люди». Он видит бренность мира. Понимает конечность человеческой жизни. Он сострадает человеческой беззащитности, оставаясь при этом художником-провидцем. Этический пафос итальянского коллеги русский режиссер считает для себя образцом. Особенно всепрощающую человечность Феллини.
Финал «Истории Аси Клячиной», признается Андрей, был «подсказан» фильмом «Восемь с половиной». Сама жизнь, в феллиниевском духе, как бы пошла режиссеру навстречу. Неподалеку от села Безводного, где происходили съемки, на Волге, была цыганская деревня. Цыгане и подтолкнули к финальному празднику. К нему стал двигаться весь сюжет картины. В том же духе создавался и заключительный эпизод «Сибириады».
«Карнавальный финал, – поясняет режиссер, – где смех сквозь слезы и слезы сквозь улыбку. Именно Феллини со своим феноменальным прозрением, с этим выплеском карнавала дал толчок рождению двух финалов. В «Сибириаде» – восставшие из могилы мертвые, трактора, огонь. Очень русский праздник. Вдохновленный итальянским гением… Я учился этому у великих. Великий возвышающий обманщик Куросава! И он, и Бунюэль, и Феллини, и Бергман, мои кумиры – все великие возвышающие обманщики! Они великие именно потому, что создают свою реальность, очень непохожую на жизнь. Но эта придуманная реальность волнует. Заставляет смеяться и плакать. Ибо в этой театральности – жизнь духа, абсолютная убеждающая правда…»
2
Когда в творческой практике режиссера возникли драматические и оперные спектакли, это было естественным проявлением «театральности» его художественного метода. Существенно, что, обратившись к опере, пусть и совершенно, как он утверждает, случайно, он берется одновременно и за русскую литературную классику как концентрированно выраженное национальное миросознание.
«Ставить «Онегина» я соглашался, леденея от ужаса», – признается он. Но на проекте, надо сказать, собралась крепкая команда. Дирижером был – Сэйджо Озава, Татьяну пела Мирелла Френи, Гремина – Николай Гяуров, Онегина – Бенжамин Лакстон.
По убеждению Кончаловского, оперный театр в своих проявлениях – это Феллини. В то же время дистанция между кино и оперой, которую пришлось пройти художнику, была непростой. Но оперная условность не столько пугала его, сколько возбуждала. Влекла магия высокой условности, ее «возвышающего обмана».
Режиссера пугает не условность, а оперная музейность, которую, как глухой ритуал мертвых, он все время стремится преодолеть. И здесь ему помогает кинематограф, точнее, понимание природы кинематографического метода. Соглашаясь с требованиями оперы, режиссер тем не менее сопротивляется известной ее архаичности, консерватизму. Борьба начинается на уровне либретто. Режиссер чутко улавливает, например, пародийную интонацию пушкинского «романа в стихах». И в своей трактовке оперы Чайковского «Евгений Онегин» возвращает к пушкинскому тексту фигуру Ленского, сделав его на сцене поэтом-дилетантом, наивным ребенком.
Режиссер акцентирует в оперном спектакле обрядово-фольклорные корни пушкинского романа, его народную фантастику – особенно в линии Татьяны. Вспомним хотя бы сны Татьяны, с медведем, смыкающимся в ее видениях с самим Онегиным. И режиссер вводит в спектакль эту фигуру. В очередной раз медведь появляется на балу у Лариных как маска среди других ряженых– Петуха, Лисы, Орла, Сокола, Кошки. Он подкрадывается сзади к Татьяне, снимает маску, и тут открывается, что это Онегин. Музыкально-кинематографический лейтмотив медведя был проведен через всю оперу.
Еще один лейтмотив оперного спектакля «Евгений Онегин» был позаимствован художником из его собственной экранизации тургеневского «Дворянского гнезда». Качели. Этот же образ был использован и в «Сибириаде». И у него есть своя обрядово-мифологическая предыстория. Качели, как и катание с горок, связаны с символикой плодородия, рифмующейся, в свою очередь, со свадебным обрядом.
Мотив качелей у Кончаловского многозначен. Вначале он опирается на эротику весенних обрядов. Ленский именно на качелях объясняется Ольге в любви. В этой части оперы мотив качелей окрашивался наивным романтизмом, свойственным мироощущению Ленского. Так видит мир восторженный влюбленный. Но у качелей происходит и дуэль. И это уже зимняя сцена. Как фигура поэта, так и образ качелей помещаются в иную смысловую плоскость: качели, занесенные снегом, увядшие цветы, Ленский поет свою знаменитую арию, раскачиваясь и как бы обращаясь к Ольге, которая когда-то здесь сидела.
Режиссер не только переводит свадебный обряд в его неизбежную образную противоположность – в обряд погребальный, но и сопровождает печально-ироническим комментарием к монологу-элегии Ленского, которая у Пушкина содержит пародийные интонации.
В финале оперы Онегин остается один. «Позор! Тоска! О жалкий жребий мой!» – поет он и опускается на диванчик в позе убитого Ленского. Падает снег, открывается мраморная колоннада – в глубине ее зимний пейзаж: русское поле, качели, на них – засыпанный снегом труп Ленского.
Кончаловский верен себе в стремлении интертекстуального прочтения классической оперной вещи. Он заставляет спектакль заговорить не только звуками музыки Чайковского, но и голосом пушкинского романа.
3
Между двумя оперными постановками по Пушкину – «Онегиным» и «Пиковой дамой» (там же – в Ла Скала, но при сотрудничестве с французами) поместилась чеховская «Чайка», воспроизведенная еще раз уже в России. Как раз с французского спектакля «Чайка» в оперу «Пиковая дама» пришел художник-декоратор Эдзио Фриджерио, принесший с собой серьезную часть концептуального решения оперы. Образной доминантой декорации, придуманной им, были колонны, которые сильно «задели» Фриджерио во время его поездки в Петербург.
И в случае с «Пиковой дамой» Кончаловский вел режиссерские поиски, отталкиваясь от пушкинского текста, а значит, вступая в спор с классическим либретто. Его не устраивали искажающие Пушкина переделки, когда Герман в финале кончал жизнь самоубийством и точно так же поступала Лиза. Режиссер собирался «насытить спектакль фантастическим реализмом пушкинской повести». Может быть, поэтому действие решили начать в склепе графини и там же его закончить. Помимо колонн, еще одним сквозным образом спектакля становилась женская скульптура в скорбной позе – своеобразное надгробие. За ним угадывался образ смерти, витающей над Германом.
Гофмановские мотивы в «Пиковой даме» Пушкина отрицать трудно. Но в пушкинской прозе романтическая мистика немецкого писателя получает снижающую смеховую оценку. Увлекшись, Кончаловский двинулся более в сторону Гофмана и Достоевского, нежели Пушкина.
«Начиналось с объемного архитектурного занавеса. На просцениуме стояла скульптура – полуобнаженная женщина. Сцена была погружена в зеленый полумрак; трагическая музыкальная тема взвивалась, скульптура неожиданно скользила в глубину, и раскрывалась огромная внутренность склепа. Среди гигантских колонн, заплесневевших от петербургской сырости, в полумраке вырисовывалась скульптура – надгробие.
Скульптура перекочевывала в покои старой графини. Когда Герман пел: «Нет силы оторваться от чудного и страшного лица», он смотрел на эту скульптуру, как на изображение графини в молодости. А когда Герману в казармы являлся призрак графини, то призрак на наших глазах превращался в скульптуру. В финале Герман не закалывал себя кинжалом, как в либретто, а просто ложился и умирал у подножия скульптуры-надгробия. Получалась единая, на мой взгляд, достаточно цельная концепция».
«Герман» в опере – фигура «монументальнее» «Германна» повести. Он действительно напоминает Раскольникова, вовсе не пародийно примеривающего наполеоновские одежды.
«Мне хотелось сделать не екатерининский Петербург, а Петербург Достоевского, – признается Кончаловский. – Чтобы в воздухе веяло предощущением смерти. Сцену бала я ставил так, как видел действие сходящий с ума Герман… Герман был на авансцене. Когда он смотрел на танцующих – все вели себя совершенно нормально; как только отворачивался – поведение их странно менялось, все начинали изгаляться, корчить ему в спину рожи. Под конец появлялись даже какие-то странные создания-монстры, почти из Гойи, то ли люди, то ли ящеры, несшие канделябры.
Под музыку выхода императрицы вместо ее появления по Неве при лунном свете приплывала на ладье гигантская, в два человеческих роста, смерть в короне, в императорском платье, со скрытым под развевающейся вуалью лицом. Все почтительно замирали, в первом ряду стояли монстры с канделябрами, Герман хватался за голову, безумно глядел в зал, как бы вопрошая: «Я что, схожу с ума?»
4
Режиссер еще раз обратится к творчеству Пушкина в оперном толковании – к «Борису Годунову» Мусоргского. Премьера спектакля состоится в октябре 2010 года на сцене туринского Театра Реджио. Опера была выбрана по рекомендации сотрудников театра. «В Италии считается, что русские оперы должен ставить русский режиссер. Я с этим не согласен, но таково отношение театра к данному вопросу. Я не обращаюсь к театрам по собственной инициативе, напротив, я получаю от них предложения и, изучив их, решаю, интересен для меня этот проект или нет». По словам Кончаловского, музыка Мусоргского не создавала каких-либо трудностей, однако жанр оперы сам по себе весьма сложен для постановки. Ведь «Борис Годунов» – эпическая опера, серьезное философское произведение. За дирижерским пультом был на этот раз Джианандреа Носеда, а две главные партии исполняли болгарин Орлин Анастасов и солист Большого театра Владимир Маторин. К более подробному разговору о спектакле обратимся позднее.
Вернувшись в Россию, Кончаловский, напомню, ставит «Войну и мир» Прокофьева, которой, как и «Балом-маскарадом» Верди, дирижирует Валерий Гергиев.
Забавно, но постановка Кончаловским первых опер, особенно их выход к зрителю-слушателю окрашивался иногда «феллиниевской» атмосферой. Дело в том, что обе его миланские оперные премьеры пришлись на тот день мирового чемпионата по футболу, когда играла миланская же команда. Уже на генеральной репетиции в оркестре появились маленькие телевизоры, куда то и дело косили взглядом музыканты. А в кулисах у экрана толпились рабочие, осветители, ассистенты, хористы. На премьере «Онегина» зал потряс дикий ор из-за кулис: во время арии Ленского итальянцы забили гол… Ну и далее, по описанию режиссера, все происходило в том же духе. Так что ему приходилось приводить себя в чувство стаканом итальянской водки…
В творческой деятельности Кончаловского, питающейся тягой к «чуду театра», нашел свое место и цирк, давнее пристрастие художника, связываемое с именем Феллини. Великий итальянец признавался, что цирк ранил его душу с самого первого посещения. Он «принял цирк в себя со всем его шумом, с его оглушительной музыкой, с его захватывающими дух номерами, с его смертельной опасностью…»
Еще во время работы над «Онегиным» в содружестве с дирижером Сейджи Озава родилась мысль поставить действо для фестивальных празднеств, которые каждое лето устраивал Озава вместе с Бостонским симфоническим оркестром. Перед режиссером витал образ спектакля-концерта, в духе светомузыкальных композиций Скрябина.
Проекту не дано было осуществиться. Но эскизы и желание сделать нечто подобное сохранились. Так что к тому времени, как поступило предложение ставить на Красной площади спектакль к 850-летию Москвы, в воображении режиссера сформировалось нечто вполне грандиозное и готовое к воплощению. Кончаловский пригласил своих зарубежных друзей, специалистов по масштабным зрелищам, и работа закипела.
Идея площадного действа нашла выражение в формуле «история города – история страны». Город – это «ограда», то, что защищает. Своими стенами город отгораживается от внешнего врага. Он защищает свое будущее, будущее нации – детей. Так появились идея строительства города, образ внешнего врага. Наиболее выразительная форма «врага» – Змей-Дракон. В качестве же героя-протагониста Кончаловский избрал русского Иванушку-дурачка.
«Поскольку концерт посвящался очень торжественной дате, надо было на нить конфликта двух символов нанизать абсолютно разные фрагменты – религиозные (ибо религия – основа русской культуры), классические (классика – иллюстрация движения истории и манифестация русской культуры) и, естественно, фольклор, грубый, низкий, тот самый, которому место на площади. Или в цирке. Соединение цирка, консерватории и храма, мне думается, несло в себе наибольший риск, было самым большим вызовом любым устоявшимся канонам. Как ни странно, все получилось. Получилось, я думаю, потому, что в основе было чувство…»
В массовом празднестве, которому Кончаловский придавал столь серьезное значение, действительно в чистом виде выразилась суть его метода. В основе – площадь народного праздника, цирк, ярмарка, балаган. Духовное превращение и вознесение «площади» через образы русской классической словесности, через высокую культуру. Сочетание открытого чувства и духовных интенций. Целое зрелища формируется как сочетание на первый взгляд не сочетаемых, противостоящих друг другу сущностей, объединенных чувством и идеей… Дома, Города, Страны.
5
Вслед за оперными экспериментами Кончаловский обращается к театральной постановке любимого Чехова.
«Чтобы понять по-настоящему чеховского героя, – размышляет он на исходе 1990-х, – нужно представить себе Россию конца XIX века. Разночинец-интеллигент нянчил в себе чувство вины за несправедливое общество, за крепостное право. Для чеховского героя «вина перед народом» – общее состояние ума. Крепостничество кончилось за 30 лет до того, как Чехов начал писать. По человеческому счету – вчера. Оно, по сути, еще жило – в умах тех, кого от крепостного права освободили, и тех, кто были крепостниками. И это чувство вины, как то не раз бывало в России, перерастало в кликушество…»
Наследованный Кончаловским скептицизм Чехова по отношению к русской интеллигенции вызван неизбежной «партийностью» последней.
«Речь идет о негласном своде законов, которым она следовала, которые предписывали ей всегда быть в оппозиции к власти. Из этой интеллигенции вышли и народники, и народовольцы, и нечаевцы, и марксисты, и анархисты – не суть важно, особенно сегодня, кто из них более, а кто – менее в своих воззрениях прав. Все были убеждены в своей единственной правоте и нетерпимы друг к другу. «Партийность» в этом смысле русской нации свойственна. Россия – страна глубоко ортодоксальная: православие в буквальном смысле и есть ортодоксия. Партийность в России означает одно: нетерпимость ко всем иным, отрицание чьей-либо правоты, кроме собственной……Роль интеллигенции в истории
России далеко не так позитивна, как то казалось нам в былые годы. Нигилизм – ее порождение. Реальность отрицалась – утверждалась утопия, светлое будущее, которое придет через сто или двести лет. Эти поиски рая на земле – тоже глубоко в русской традиции…»
На родине спектакль Кончаловского по чеховской «Чайке» (театр им. Моссовета) критика восприняла самым скандальным образом, как, впрочем, и следующую за «Чайкой» постановку пьесы Августа Стриндберга «Фрекен Жюли» (театр на Малой Бронной), которая называлась у режиссера «Мисс Жюли».
На «Чайку» Кончаловский собирал артистов по двум качествам. Первое – присутствие клоунского начала в даровании. Как, например, у Леонова, Чуриковой, Ахеджаковой. Другое качество – интеллигентность, которая означает здесь способность понять Чехова, его время, замысел спектакля, способность разделить замысел с режиссером.
Чехов, убежден режиссер, писал о нормальных людях. Они могут быть эксцентриками, дураками, претенциозными, но все это – нормальные люди. В этом чеховская специфика. Очень трудно сделать спектакль, где больно, страшно, где плачешь, смеешься и видишь трагедию нормальных людей. У Чехова нет отрицательных героев. Он их всех любит, несмотря на то что они могут быть глупыми, ничтожными – и разными. Он их всех любит, потому что они все умрут…
У Кончаловского и Стриндберг преобразился в «русского Стриндберга», приобрел, можно сказать, «чеховские» интонации. В результате приблизился к зрителю, наполнился знакомыми переживаниями отечественных «проклятых» вопросов.
Когда зритель спектакля «Мисс Жюли» видит, например, как катастрофически разрушительна для душ его героев, Жана и Жюли, сословная дистанция между слугой-хамом и его молодой барыней, разрушительна для всего их мира, то совершенно определенно чувствует и понимает: здесь дышат наши «почва и судьба». И граф-фантом, овеществившийся в виде его сапог для верховой езды, идолом вознесенных надо всем, напоминает о гоголевских или, может быть, щедринских фантасмагориях. И то, что сама Жюли не вполне аристократична, а с червоточинкой простонародности, – вполне близко и понятно зрителю, воспитанному на русской классической словесности.
Спектакли «Чайка» и «Мисс Жюли» сложились в своеобразную дилогию – вплоть до цитатной переклички мотивов, подсказанной текстами пьес. Это ощущается в родстве фигур главных героинь – фрекен Жюли Стриндберга и Нины Заречной Чехова. (Обе роли у Кончаловского исполняет Юлия Высоцкая.) И у той и у другой в глубине сюжета угрожающе «маячит» невидимая фигура отца, дополнительно напрягая атмосферу вещи. И там и здесь возникает тема фатального сиротства, оставленности и беззащитности поколения детей. Ну, и мотив подстреленной или погубленной птицы (души)…
Естественная для режиссера кинематографичность творческого мышления откликается в спектаклях в укрупнении детали или подробности, далековатых от театральной условности. Остается в памяти финал «Мисс Жюли» – льющаяся из кухонного крана вода. Такая деталь слишком натуралистична для сцены. Возникает острое желание закрыть кран – как бы из чисто бытового побуждения. И тогда обнажается уместность образа. Потому что это безотчетное желание своим происхождением обязано глубокому чувству истекающей, уходящей жизни. Это ведь уходящая живая вода, кровь… Как у Цветаевой – по иному поводу: неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь.
И в том и в другом спектакле (как и в своем творчестве в целом) режиссер опирается на фундаментальные в жизни человека архетипы. Семья, дом как определяющие основы частного и общенационального бытия индивида, закрепляющие и укрепляющие его в мироздании. Мужское и женское, отцовское и материнское… Почти мистический образ Отца-Хозяина витает и здесь как призрак угрожающий, требовательно вопрошающий.
В «Мисс Жюли» режиссер акцентирует мотив страха перед скрыто довлеющей властной силой Отца и Господина в одно и то же время. Из-под пресса этой мистической власти стремится освободиться не только Жюли, но (и еще более!) ее соблазнитель Жан, травмированный своим рабским происхождением. Суть существования Жана на сцене (в исполнении Алексея Гришина) – суетливое подражание Хозяину, имитация власти Господина в отсутствие последнего. На деле же – это корчи раба, его унижение, а не торжество и укрепление. Оба несчастны, оба заслуживают сострадания – и Жюли, и Жан.
Призрак отца ощутим и в «Чайке» – и не только за спиной у Нины. В ее отношении, может быть, менее отчетливо, чем в случае с Треплевым. Гамлетовская тема в чеховской комедии дает о себе знать, начиная со спектакля у озера. Ведь это перевернутая цитата сцены с «мышеловкой» – пьесой, которую датский принц разыгрывает перед родными, чтобы выведать тайну смерти отца.
Константин Треплев носит фамилию отца, но все время ощущает сиротскую пустоту с этой стороны. Не случайно Костя то и дело припадает к груди немощного дяди, ища и не находя там мужской, отцовской поддержки. Треплев – дитя, мучающееся из-за своей несостоявшейся взрослости. Но ведь и остальные мужские персонажи не выглядят вполне созревшими. Оттого-то так одиноки и растеряны женщины, ищущие, но не находящие действительной мужской опоры…
Роль Треплева – открытие режиссера, поворачивающее весь спектакль именно в русло чеховской комедии, что так редко удается другим интерпретаторам классика.
Треплев – портрет определенного типа русского интеллигента, поддавшегося чарам «возвышающего обмана» о своей миссии на грешной, живущей «низкими истинами» земле. Этот самообман выводит человека за рамки его среды, но заставляет требовать от нее постоянного признания своей гениальности, чаще всего мнимой, как в случае с Треплевым, что он все более и более начинает осознавать по мере приближения к финалу.
Но дело здесь не только в творческой обделенности, в общем-то, даровитого юноши. Тут дело еще и в фатальном сиротстве, оставленности Треплева. И у Чехова, и у Кончаловского Треплев – подросток, со всеми комплексами этого возраста. Стоит повторить: он осиротевшее дитя русской интеллигенции, погруженное в переживание своей неполноты и неполноценности. Именно ему намечено судьбой полной мерой ощутить и духовный, и социальный кризис своего класса на рубеже веков, безвинно расплатившись жизнью, образно говоря, за грехи «отцов».
Спектакль Кончаловского – о пути русской интеллигенции в небытие, о социально-психологических, культурных предпосылках этого пути. Наша интеллигенция так и не смогла повзрослеть исторически, не преодолела в ходе национальной истории своей «подростковости».
6
Кончаловский не был бы Кончаловским, если бы в его спектаклях не прозвучала «тема народа».
Так, действие пьесы Стриндберга происходит в Иванову ночь и по замыслу драматурга на сцене предполагался крестьянский балет с танцами и эротическими песнопениями. Крестьяне и графский сад у шведского писателя – символ неуправляемой «природной» стихии, которая в конце концов овладевает и фрекен Жюли. Звучит этот мотив и в спектакле Кончаловского. Но никакого балета в нем нет. Есть неуклюжая пьянка простонародья. А затем на кухонном столе, вокруг которого сгрудятся празднующие, возникнут, как по волшебству, графские сапоги, и рабы разбегутся в ужасе при виде этого символа власти их Господина.
Страх перед Отцом-Хозяином, который насыщает атмосферу «Мисс Жюли», – это страх, сидящий в «подкорке» народа, разрешающийся иногда «бессмысленным и беспощадным» бунтом.
В спектаклях Кончаловского рядом с образом народа возникает и образ природы. Но не в рифму «тайне» народной души, а в противовес классической традиции трактовать «мысль народную» как результат действия глубинных природных сил. Заросший сад, если речь идет о «Мисс Жюли», или парк с озером в «Чайке» – это символ «тайны бытия», но равноудаленной от всех персонажей действа, в том числе и от «народа».
В «Чайке» тема народа звучит в каждом новом появлении на сцене слуги Яши. Это долговязая, но при этом неестественно скрюченная, неуклюже переваливающаяся по сцене фигура, вечно занятая каким-нибудь необязательным делом и явно лишняя, мешающая всем. Это кривое зеркало, в котором гротесково-болезненно отражается пластика Треплева, да и вообще весь надломленный мир персонажей пьесы. Так в спектакле перекликаются образы интеллигенции и народа, разделенных историей, но друг в друге отражающихся сходной национальной болезнью «недовзрослости».
Работает в «Чайке» Кончаловского и чеховское сопряжение времен.
Кончаловский находит кинематографически выразительное решение в изображении течения исторического времени, за которым угадывается и темень вечности. Между третьим и четвертым актами возникает пауза, и в затемнении зритель видит на экране фотокадры из жизни родной интеллигенции рубежа XIX–XX веков, куда вмонтированы и снимки сцен из спектакля, но сделанные в натуральной, чаще, кажется, природной среде. Это фрагменты забав героев пьесы в первом-втором актах, когда они едва ли не парят в своих белых одеждах, напоминая скорее бумажных ангелочков, чем реальных людей. Блок фотографий завершается резким ударом – снимком огромной босой крестьянки, стоящей на разрыхленной земле и как бы из этой земли проросшей.
В спектакле фотокадры – словно документ давно прошедших событий, ставших уже историей. Поэтому временное расстояние между третьим и четвертым актами переживается не как два года, по чеховской ремарке, а как десятилетия, может быть, века. От этого, да еще от звука печальной скрипки (композитор Э. Артемьев) как-то само собой складывается ощущение, что между двумя последними актами – зияние вечности. Во всяком случае, люди, возникающие на сцене в четвертом акте, кажутся призраками…
Чеховская комедия в интерпретации Кончаловского лишает русскую интеллигенцию героического ореола, подаренного ей классической «романной» эпохой. Вместе с тем подвергается сомнению безусловность рожденных той же интеллигенцией мифов об особой миссии русского народа в отечественной и мировой истории. Но снижение мученической героичности русского интеллигента не оборачивается унижением его человеческой индивидуальности. Напротив, индивидуальный мир человека у Кончаловского интимно приоткрывается, доверяя зрителю сокровенное, со всем – плохим и хорошим, что есть в его мятущейся душе. А это доверие дорогого стоит…
7
В 2009 году режиссер в очередной раз вернулся к Чехову и поставил на сцене театра им. Моссовета уже знакомого ему «Дядю Ваню». Постановка была приурочена к 150-летию со дня рождения классика. Спектакль сначала показали в Италии (Милан, Тренто, Реджио Эмилья, Венеция), а затем – в Прибалтике. И только после этого состоялась московская премьера – 27 декабря 2009 года.
Итальянская театральная критика отзывалась о спектакле восторженно. Зритель, в свою очередь, искренне принял спектакль. Отечественный зритель так же эмоционально открыто реагировал на постановку. Мне довелось несколько раз смотреть спектакль, и всякий раз я наблюдал живую реакцию зала: и смех, и слезы, и напряженную тишину.
Наша критика же, напротив, в большинстве случаев режиссера не щадила. Интонации сохранялись привычные. Во многих отзывах слышалось раздражение: слишком не оправдан, а то и просто бессмыслен сдвиг пьесы к эксцентриаде. В том же, кстати говоря, упрекали ранее и «Чайку» Кончаловского.
Между тем смеховая сторона творчества Чехова давно не подвергается сомнению. Но до сих пор с недоверием встречают комедийные интерпретации его драмы и на сцене, и в кино.
Напомню, однако, о том, о чем уже приходилось говорить выше. Если Пушкин открывает романную эпоху в нашей словесности, то Чехов закрывает ее. Воплотившееся в русском романе мировоззрение нового времени получает в творчестве Чехова радикальную смеховую переоценку.
Уже в ранних рассказах писатель выводит на поверхность литературы пока непривычную для нее по своей много– и разноголосице человеческую толпу. Герои юмористических сценок – чаще традиционные «маленькие люди». «Маленький человек» у Чехова находится в непрерывном сражении с прозаической повседневностью и смешно проигрывает ей. Мало того, в конце бытовых начинаний его часто поджидает катастрофа, даже смерть.
Но быт никогда не исчерпывает чеховского сюжета. Сквозь обыденность в какой-то момент проглядывает Вечность. Человек должен заглянуть в ее равнодушные очи, ощутив – поверх всяких идей – и ужас, и трагическое величие своего пребывания в мире. Бытовая эксцентриада разрешается у Чехова «диалогом с богами». Водевильный смех оказывается чреват мировой печалью.
Откуда это?
Комедия в своих истоках – «голос» природы, природного изобилия. Обрядово-праздничное осмеяние древних богов и героев. А по сути, перевернутая трагедия, снижение трагедийного героизма. Вот и у Чехова – смех «передоверяется» необозримому «внечеловеческому» миру. Сам автор как бы прячется за Природу, предоставляя ей обнажать и «осмеивать» человеческие иллюзии. В итоге праздник оборачивается печалью героев, и – подчеркну еще раз! – чеховская драма звучит плачем по полноценному человеческому смеху.
Здесь уместно вспомнить формулу чеховской драмы, предложенную Кончаловским: персонажи пьес Антона Павловича – клоуны на кладбище. Драматург совершает титаническую попытку удержать праздник, вернуть животворящую мощь смеха, утвердить иллюзию бессмертия, но останавливается, бессильный, перед неизбежностью. Эксцентрика превращается в пронзительную лирику. Рождается глубокое сострадание к беззащитному обыкновенному (массовому) человеку, «мелюзге», вдруг обнаружившей себя на краю земного бытия в преддверии вечной Ночи.
Чехов дарует обыкновенному человеку прозрение неполноты повседневного существования. Дарует, как правило, на пороге небытия, хотя сама смерть выглядит очередным проявлением бытовой рутины. В рассказе «Палата № 6» у Рагина в последний миг просыпается надежда: а вдруг бессмертие есть? «Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него».
В предсмертной мечте об иной, новой жизни обыкновенные люди Чехова являют свою уникальность. Эти мгновения – кульминация его сюжетов.
«Начать бы жить сызнова…»
В таких «прорывах» проявляется способность обыкновенного homo sapiens у Чехова к духовному взлету. Так в русской словесности параллельно, может быть, с поисками Анатоля Франса в литературе Франции формируется новый тип героики. Она заключается в терпеливом проживании персонажем повседневности с осознанием своей обреченности, но и с чувством причастности к вечности.
Кончаловский шел к постижению природы чеховского смеха, следовательно, и к полноценному освоению классика едва ли не с самых первых шагов в кинорежиссуре. А поздний его кинематограф и вовсе не скрывают своей смеховой природы. Сам режиссер уверяет, что комедийный дар его скромен. Но последовательность и упорство в творческом освоении этой стороны жизни говорят как раз о естественной эксцентричности его мировидения.
8
Вернемся к спектаклю. Прежде всего, к существенной для постановщика проблеме единства дома. И в узком, усадебно-деревенском, и в самом широком, национально-природном, смыслах.
Образ усадьбы на сцене театра Моссовета отмечен явными, по выражению доктора Астрова, следами вырождения. Но еще чувствуется печаль по ушедшему. В том, с каким вниманием перебираются на огромном экране снимки из семейных альбомов конца XIX века: лица, лица, лица… А на сцене как призрак невероятно давнего прошлого, сошедший с этих фото, раскачивается на качелях, может быть, главная символическая фигура спектакля – покойная сестра дяди Вани Вера Петровна Войницкая-Серебрякова.
В самом начале спектакля она является как сновидение няньки Марины. А затем – как воспоминание других домочадцев. Таким им видится идеализированное прошлое их дома…
А вот Серебряков не любит «этого дома». Он ему кажется лабиринтом, в котором он чувствует непривычную свою заброшенность: «разбредутся все, и никого не найдешь…» Неуютно здесь чужакам, пришлецам: Серебрякову и его второй жене. Астров отвергает это обиталище, может быть, именно из-за присутствия профессора. И никому из «чужаков» не дано увидеть призрак почившей Хозяйки.
И у Чехова, и у Кончаловского драма дяди Вани, в том числе, и в неожиданно обнаружившейся неполноценности, ущербности дома, в котором и ради которого он живет. Когда-то усадьба рифмовалась с почвой, питающей под его, Ивана Войницкого, наблюдением духовный подвиг профессора Серебрякова. Но оказалось, никакого подвига нет, а есть эгоизм, ограниченность и нарциссизм. Следовательно, жертвенная жизнь «дяди Вани», потомка тайного советника Войницкого, «дяди Вани», удерживающего дом от разорения, – служение пустоцвету.
Не будем забывать, что мы имеем дело со «сценами из деревенской жизни». Существование здесь определяется усадьбой и деревней, неизбежно подчиненными ритму крестьянской жизни и природному циклу. С появлением Серебряковых жизнь эта (для дяди Вани и его племянницы, для всех исконных обитателей) выбивается из привычной циклической колеи. Она потревожена и расшатана бесплодными чужаками. Кстати, когда-то, когда была еще жива сестра Войницкого, и для Астрова дом не был чужим.
По мере развития сюжета понимаешь, что травма имеет предысторию, что она глубоко внедрилась в существование дома и разъедает его. И дело не только в «чужаках» и не только в служении иллюзиям. Язва глубже – в почве: в природе и народе. Образный ряд спектакля выстраивается так, что из судеб усадьбы и деревни прорастает судьба страны.
В давнем своем фильме (да и в спектакле) Кончаловский отгораживает место действия драмы от природы. Мы не видим тех лесов, которые на словах воспевает подвыпивший доктор и которые, величавые, может быть, еще живут где-то за окнами усадьбы.
Когда режиссер выпускает экранного Астрова из стен уже не любимого им дома на волю, то и там зритель видит страшную картину уничтожения человеком природы. В финале же экранизации Сонино «Мы отдохнем!» парит над обледеневшей, заснеженной страной.
Первозданная природа живет только в сознании, главным образом Астрова. Ее последний всплеск, ее будто упреждающий «голос» слышен в заоконных звуках и проблесках грозы, шуме дождя, даже, кажется, свежем дыхании деревьев после него. Может быть, так Мироздание хочет напомнить людям о себе…
Кончаловский добивается метафорического воплощения природного, усиливая метафору образами фотодокументов. Это созвучно Чехову, у которого равнодушная природа дается, как правило, в неравнодушном восприятии персонажей.
Астров в фильме – персонаж не от пространства усадьбы. То, чему он хотел бы принадлежать и, может быть, по духу еще принадлежит, – Лес. Но и он чувствует себя исчерпанным, как былинный Святогор, покинувший естественные для него горные вершины. Поколение «богатырей» духа сходит (и уже сошло!) со сцены. «Пошлость жизни», поглотившая, по словам Астрова, героев, проявляется как бы на фоне того леса, который где-то невидимо шумит живой силой. Но в реальности и лес перестает быть, хотя фигура его пропагандиста, в исполнении Бондарчука, еще сохраняет след львиной осанки.
Поминая в «Параболе замысла» (1977) свой «чеховский» фильм, режиссер писал, что, если бы пришлось ставить пьесу вторично, он готов был прочитать ее как комедию и с такими персонажами, которые появились на сцене театра Моссовета только в 2010 году. «Дядю Ваню показал бы бесконечным, изумительным ничтожеством, и доктора Астрова тоже ничтожеством, пьяным, мятым человеком, несущим какую-то ахинею. И Елена Андреевна была бы похотливой женщиной с влажными чувственными руками, неумело пытающейся изобразить скромность. И Соня выглядела бы нелепой идиоткой…» Но при всем при том «сквозь все это прорезалась бы великая любовь к этим людям. Как они несчастны! Как никчемны и жалки! Как смешны! Как трогательны! Как они прекрасны!..»
Такой «Дядя Ваня» появился у Кончаловского через тридцать лет. И ведь та самая «великая любовь» прорезалась! Да она прорезалась уже в фильме. И в этом смысле режиссер «подыграл» сопротивлявшемуся исходному замыслу постановщика Смоктуновскому в роли Войницкого. И не только ему, а и другим – Бондарчуку, Купченко, Мирошниченко. Он любил их – как их самих и как чеховских персонажей.
9
Следуя природе комедийного снижения персонажей у Чехова, режиссер остается верен и чеховской «серьезности», его чуткости, я бы сказал, к «голосу» Мироздания. Оттуда проступают видения и недавнего, кажущегося таким светлым прошлого. В спектакле «Дядя Ваня» это, в том числе, и призрачное явление матери Сони. Вспоминая о ней, герои застывают, будто пробивают оболочку быта. Возникает длительная пауза – миг прорыва к вечному, к объединяющей их всех неизбежной (и, может быть, счастливой) доле, что «они все умрут».
Призрачный образ Веры Петровны проступает и в первых репликах пьесы. Астров, вспоминает нянька Марина, появился в имении, когда она еще жива была. Воспоминание откликается в реплике Астрова о «скучной, глупой, грязной» текущей жизни, которую он не любит, хотя любит «жизнь вообще»(?). И о том, главное, что у него «с железной дороги стрелочник» «возьми и умри… под хлороформом». И провалы окаменелости, в которые погружается Домогаров-Астров каждый раз, когда вспоминает умершего на хирургическом столе, вызывают многозначное чувство то ли безотчетной вины, то ли безысходности жизни вообще. Во всяком случае, что-то давно и мучительно сидит в нем и не проходит. Под знаком смерти стрелочника разворачивается все его существование не только на сцене, но, кажется, и за сценой.
Явно проступает формула чеховского сюжета: люди, проживая свои обыкновенные жизни, подспудно ожидают конца. Событие – повседневная жизнь в таком ожидании. В этом и заключен героизм обыкновенного же человека, но с неизбежным мгновенным прорывом в нечто большее, чем быт. Человек, который пережил миг причастности к Вечному, тонет в беспамятстве.
В спектакле переживание экзистенциальной драмы для Астрова стало, кажется, привычным. Он, правда, пытается «держать марку», прикрываясь снисходительностью некоего знания, иронией скептика. Но когда в подпитии прорываются его «лесные» идеи, чем он и сам отчасти смущен, видно, насколько неустойчив он внутренне. И к той обреченности, которую переживает доктор, привыкнуть нельзя!
Пьяный «Астров» Александра Домогарова несколько раз как заклинание произнесет слова о том, что он никого не любит и что ему не нужен никто. Но у Кончаловского доктор остро нуждается в домашней опоре, в той же Соне, если хотите. Оттого таким тяжким – как на краю могилы – выглядит финальное их расставание, отодвигаемое то жестом, то словом. Печаль до невозможной боли. Астров, который здесь является, вряд ли возможен где-то, кроме как у Кончаловского. Он плачет, скрывая слезы! «Героиня» Астрова в спектакле – Соня-Высоцкая, но никак не Елена Андреевна.
В спектакле и в фигуре Астрова, и в Соне чувствуется человеческая беспомощность, «ничтожество» перед роковой безысходностью каждодневной борьбы за существование.
10
Смертное одиночество «кладбищенских клоунов» подчеркнуто у Кончаловского и авторской сценографией. Освещенное пятно помоста в центре просторной сцены театра Моссовета, помоста, на котором сиротливо и растерянно теснятся персонажи, напоминает цирковую арену.
Герои чеховских пьес не просто клоуны на такой арене. Они разыгрывают свой бесконечно повторяющийся сюжет ввиду особой публики. Эта «публика» – молчащий, как всегда, народ, равнодушный к «интеллигентской» клоунаде и оставленный драматургом где-то за пределами действия. Как мужики из «Дяди Вани», интересующиеся «насчет пустоши». На «арене» же явлен народ «превращенный»: лакеи, няньки, горничные. Иным он и не может войти в кладбищенскую клоунаду «высоких» героев Чехова.
Нянька спектакля уже не источает той домашности, теплоты уюта, какие еще угадывались в фильме Кончаловского. В этой неестественно скрюченной старухе, в резкой жестикуляции, отрывистых, каркающих репликах есть и вправду что-то от смеющейся (карнавализованной) Курносой. Тем более что Марина, взяв в партнеры нелепого Вафлю с голоском кастрата, то и дело создает для героев вполне абсурдистский, смеховой жестовый фон.
Выделяя, ограничивая помост (арену) в «Дяде Ване», режиссер, без сомнения, намекает на какое-то особое содержание и пространства за пределами светового пятна. Зрительный зал в данном случае подразумевается как участник театральной игры. А вот какого качества то, что находится в противоположной от зрителя стороне и за пределами освещенного помоста? Чей взор, условно говоря, обращен сюда из темени за спинами действующих лиц?
Может показаться, тут нет никакой загадки. На огромном экране задника возникают, в частности, кадры нынешней Москвы, отстраненной от происходящего на сцене и в зале. Намек на равнодушие современности к мукам чеховских персонажей?
Но когда картинку на заднике сменяет глухая темень, то начинаешь подозревать в ее непроглядности пустые очи небытия. Ничего живого, человеческого оттуда не ожидается. Ощущение усиливается от того еще, что от этой темени пятнышко света на сцене отделяется ненадежными легкими шторками – отдерни их, и утонешь в бездне. Страшновато!
Смена явлений и перевоплощение актеров в персонажи происходит на глазах у зрителя. Наши современники-артисты как бы воскрешают ситуации давно прошедшей жизни. Затем, отыграв свое, не уходят со сцены вовсе, а остаются здесь же, за «ареной» и сами превращаются в зрителей разворачивающегося действа, но при этом не окончательно освобождаются от своих персонажей.
Разыгрывается жизнь – с точки зрения нынешнего дня абсолютно призрачная. Создатели спектакля почти насильно выхватывают ее приметы из «реки времени». И вот тогда, когда призрачность персонажей уже, кажется, и не преодолеть, в зрителе вдруг рождается сострадание к ним – к клоунам. Мало того – пробивает слезу! Уж слишком по-детски беззащитны они на своем беззащитно хрупком помосте – люди, мятущиеся в световом пятнышке земного бытия. Они все острее ощущают приближение потусторонней Ночи, тяжелый шаг которой угадывается за легким занавесом театра жизни. В смятении и страхе не смолкают их речи о быстротекущей жизни, о несостоявшихся надеждах, о грядущей старости, о близкой кончине, которую они и сами готовы ускорить.
11
Герои Чехова, как в известной сказке Евгения Шварца о потерянном времени, кажутся неожиданно состарившимися детьми, заигравшимися в жизнь и вдруг обнаружившими ее неотвратимую необратимость.
В финале Войницкий, обряженный в какой-то истерханный, едва ли не больничный халат, выглядит то ли вечным жителем палаты № 6, то ли Поприщиным. Его финальная клоунада вызывает не смех, а скорее горькую жалость и слезы. Дядя Ваня в спектакле – абсолютное дитя, едва достигшее подросткового возраста, как и Треплев в «Чайке». Павел Деревянко в роли Войницкого – новое открытие Кончаловского. Как в свое время А. Гришин в роли Константина Треплев а. И тот и другой персонажи – духовные недоросли.
Дядя Ваня и ведет себя соответственно: доверился дутому авторитету Серебрякова и в его жену влюбился, как подросток. Мечтательно, с наивной навязчивостью и раздражающей откровенностью. Он более всех заслуживает определения «клоун-дитя». И его детский бунт по поводу крушения всех возводимых им фантомных авторитетов вырождается в духовную анемию, из которой уже, вероятно, не выкарабкаться. Герой превращается в призрак – как и вся эта жизнь среди пней, оставшихся от давно порубленного леса. Не зря спектакль как открывается, так и заканчивается призрачным же явлением Веры Серебряковой.
Вызывающе откровенная клоунада «дяди Вани» как раз и есть отчаянный всплеск умирающего смеха, по которому и устраивает своеобразные поминки в своих комедиях Чехов.
Что же такое в спектакле главный «оппонент» Войницкого Серебряков в исполнении Александра Филиппенко? Ну, уж никак не «злейший враг»! Здесь все без вины виноватые. Сохранивший и в пожилом возрасте мужицкую крепость, обезоруживающе наивный эгоизм, он скорее бессознательно симулирует недуги, чем ими страдает. Но старости и смерти страшится. Тем более что его приучили к обожанию и поклонению, к постоянной о его персоне заботе, как бы негласно обеспечивая особое право на долговечность. Похоже, недолгая деревенская жизнь рассеивает эти его иллюзии, отчего он больше всего и страдает.
Однако и другие мужчины в спектакле нуждаются в заботе и уходе. И не просто в заботе, а в постоянной материнской жертвенной опеке. Нуждаются в няньке.
Серебряков в исполнении Филиппенко иногда кажется страшным и безжалостно самоуверенным, но вдруг, в отдельные моменты видишь его другим – беспомощным, зависимым от жены, которую он любит и «хочет хотеть». Видишь его страх перед неумолимо надвигающейся немощью и смертью. Особенно очевидно это в сцене ночной грозы и всеобщей бессонницы. Почти приговором звучит для профессора реплика жены: «Погоди, имей терпение: через пять-шесть лет и я буду стара».
Елена Андреевна, уже не в силах сдерживаться, в истерике выкрикивает эти слова. Серебряков застывает, как пригвожденный, пронзенный отчаянным криком молодой жены, с пузырьком лекарства в руке, не зная, куда его поставить без посторонней помощи. И в глазах пожилого человека вдруг появляется растерянность, детский страх от своей беспомощности. Возможно, он заслуживает к себе даже большего сострадания, чем Елена Андреевна. В этот момент даже такого монстра становится жалко.
В фильме «Дядя Ваня» образ жены Серебрякова был иным – одухотвореннее, что ли. Тема несостоявшейся жизни была определяющей не только для Сергея Бондарчука или Иннокентия Смоктуновского, но и для Ирины Мирошниченко.
В спектакле Наталья Вдовина играет «красивого, пушистого хорька» – кажется, такой Елена задумывалась режиссером еще в 1970-х.
В какой-то момент доктор понимает, что перед ним существо хоть и красивое, но абсолютно глухое к его мыслям и переживаниям. В отличие от той же Сони, которая еще в начале спектакля увлеченно «переводит» на вдохновенно-торжественный язык уже почти невнятные речи подвыпившего доктора, давным-давно заученные ею.
Здесь «профессорша» – влекущая, но глухая плоть. Она влечет Астрова, но внутренне отвергается им. В этом смысле очень выразительна сцена так и не состоявшегося прощального поцелуя. Какой-то неосуществленный эротизм, который всегда сильнее и острее завершенного. В спектакле звучит и тема вырождения женского (материнского) начала. Она касается и няньки, давно забывшей об этой своей роли, и престарелой «маман», нелепо прикрывающей профессора, свою единственную любовь, от выстрела, и, конечно, Сони. С этой точки зрения Елена – пустоцвет. Такой же, как и Серебряков в роли мужчины, отца. Красноречиво звучит ответ Серебрякова на вопрос жены в момент почти инстинктивного заигрывания с ней, что ему нужно. «Ни-че-го!» Они и разрушительны потому, что бесплодны.
12
Герой Домогарова не таков, каким был «Астров» Бондарчука в фильме. Какой из них ближе к чеховскому? На мой взгляд, домогаровскому Астрову не хватает «лесной», дикой силы. Именно той, которая проглядывает у Чехова, может быть, не в «Дяде Ване», а в его предтече – комедии «Леший».
Мне кажется, что чеховский Астров несет в себе почти стершуюся память, образно говоря, о веке «героическом». Эта память прорывается в его пьяных речах о жизнеспасительном лесе. Персонаж Домогарова, кажется, весь из «железного века», как, впрочем, и сам исполнитель. Но и в нем, на мой взгляд, есть проблеск присущего таланту высокого героизма, деформированного временем. Астров, особенно когда трезвый, знает гораздо больше того же дяди Вани об исчерпанности их надежд, его «пошляческая философия» оправдана этим знанием.
И в фильме, и в спектакле Кончаловского отмечена отшельническая неухоженность героя. В спектакле этот мотив разворачивается до целой сцены, когда Астров, произнося один из самых идейно нагруженных своих монологов («Во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека: я да ты…»и т. д.), кладет ноги на стол. Зритель видит его дырявые носки. Для убедительности персонаж еще и шевелит выглядывающими из прорех пальцами ног.
По замыслу постановщика эта деталь должна снять всякий излишний пафос с печальной констатации неизбежного опошления русского интеллигента в условиях жизни в России. Комедийный, по сути, образ бытовой неустроенности должен сделать серьезное заключение Астрова еще более серьезным. Деталь эта развивается, как принято у Кончаловского, в целый нагруженный смыслом сюжет. Несколько позднее Астров смущенно положит в требовательно протянутую руку Сони дырявый носок. Та с улыбкой (все будет по-старому?) наденет его на руку, и в прорехе покажутся пальцы героини.
Соня опекает проницательного скептика Астрова, похоже, по уже устоявшимся правилам. Жестово-мимический немой диалог между ними, блистательно выстроенный режиссером и проведенный Домогаровым и (особенно!) Высоцкой, по своей трогательной лиричности, по щемящему чувству неизбежной разлуки, может быть, самое пронзительное в спектакле.
Отчетливо понимаешь, что любит не только Соня, но и Астров далеко не равнодушен к ней. Они-то как раз в самом прямом смысле друг другу необходимы. И в том, что эти судьбы не могут соединиться, высокая печаль происходящего с человеком.
Соня жаждет воплотиться в естественной роли Жены-Матери. Но остается, что называется, девкой-вековухой. Тема невоплощенной женской судьбы, существенная для русской литературы и уже затем – для отечественного кино, для творчества Кончаловского в том числе, здесь дана в предельной концентрации.
В угловатой, иссохшей, подобно обезвоженной почве, фигуре Сони, в ее плюшкинском наряде, в том, как она прячет свои руки, пальцы в бинтах (кто-то из рецензентов говорил о намеках на попытки суицида) – во всем видится напряженное до умопомешательства ожидание суженого. А он – вот он, но – постоянно уходящий, исчезающий за пределами этого дома.
Кончаловский нагружает свою героиню, как никого в спектакле, всей тяжестью исторически пережитого нашими соотечественницами. И в этом смысле она становится едва ли не главной героиней постановки вкупе с героем Домогарова.
Соня в исполнении Юлии Высоцкой решается на бунт, почти истеричный, – от невыносимости такого существования и от осознания своей невоплощенности. Но вот что симптоматично для трактовки финала именно Кончаловским. Если интонации Сониного монолога едва ли не на всем его протяжении угрожающе требовательны, то последняя фраза, когда все существо героини уже на грани безумия обращается к небу, звучит робким вопрошанием: «Мы отдохнем?» И здесь не то чтобы примирение, а почти слепая, безнадежная надежда, которая, однако, свидетельствует о неисчерпаемости в человеке человечности.
Становится ясно: Юлия Высоцкая – большая актриса, которой по плечу масштаб античной и шекспировской трагедии. Можно представить, какой могла бы быть она в роли, скажем, леди Макбет – и здесь бы проступила пронзительная до юродивости человечность героини, несмотря на ее очевидную, кажется, преступность.
Интонации, с которыми звучит «Мы отдохнем?» Сони, настолько многосмысленны, что никак нельзя ограничиться одним толкованием. Слышится здесь и надежда, и примирение, и мольба об упокоении, о котором мечтают бездомные тени чеховских героев, так и не нашедших посмертного покоя из-за беспамятства предков.
Нынче смерть в ее, так сказать, физиологии – факт рутинный. Как, впрочем, и у Чехова. Но у Чехова обыденная правда самого факта исчезновения, ухода в никуда преодолевается проблеском вечности, подаренной человеку, наделенному душой. На фоне современного беспамятства, обрекающего человека на бесследное исчезновение безо всяких проблесков, освещенный пятачок сцены у Кончаловского превращается в катализатор душевного очищения.
Осуществилась ли мечта доктора Астрова о том, что «те, которые будут жить через сто, двести лет… быть может, найдут средство, как быть счастливыми, а мы…»? Нашли ли мы это «средство» или, подобно Астрову, должны строить предположения, что там, впереди, наши потомки обязательно, всенепременно найдут? Верим мы в это грядущее счастье или уже не верим?
Спектакль «Дядя Ваня» есть возвращение к чеховскому пафосу трезвой любви к человеку, право которой утверждается тем простым обстоятельством, что человек намерен во что бы то ни стало жить даже на исходе времен, хотя в их начале осужден быть прахом и в прах возвратиться.
Как сказал Наум Берковский, в чеховском трагизме нет силы, сокрушающей навсегда. Повседневность выживает. Он назвал это бессмертием повседневности.
Кончаловский предан Чехову. И мечта режиссера поставить все большие зрелые пьесы драматурга, начиная с «Чайки» и заканчивая «Вишневым садом», постепенно, но верно осуществляется. В то время, когда я все это пишу, режиссер уже начал и продолжает работу над спектаклем по «Трем сестрам».
13
За несколько лет до «Дяди Вани» Кончаловский ставит на польской сцене шекспировского «Короля Лира» с Даниэлем Ольбрыхским в заглавной роли.
Поворот к Шекспиру носил почти заказной характер. Подступало 60-летие Даниэля Ольбрыхского. В связи с юбилеем актеру предложили сыграть главную роль в любом выбранном им спектакле и пригласить любого режиссера для постановки. Он остановился на Шекспире и Кончаловском.
Премьера состоялась 21 января 2006 года в Варшавском театре Na Woli.
В этой работе метод стыка миров и страстей нашел, может быть, наибольший разворот. Стыкуются часто принципиально нестыкуемые вещи. Из героев неудержимо выплескивается наружу противостояние взаимоотрицающих намерений, порывов, чувств. И такой Шекспир кажется режиссеру наиболее отвечающим его настоящей природе. Спектакль ошеломляет с завязки, которая, кажется, выходит за рамки всего, до сих пор виденного в постановке этой трагедии.
Как правило, постановщики «Короля Лира» строят развитие действия трагедии, исходя из толкования завязки. Будет ли доминантой доверчивость Лира-отца, потрясенного ответом младшей дочери, или он предстанет взбалмошным стариком, или, наконец, избалованным раболепием самодуром на трудном пути «от короля до человека». Чаще отдавали и отдают предпочтение образу Лира-властителя, Лира-деспота, который «в своем самодержавии, доходящем до самодурства», «опирается не только на безличную силу своей королевской прерогативы», но и на иллюзию личного превосходства над другими, доходящую «до крайней степени самообожания» (А. Аникст).
Внешне Кончаловский склоняется в завязке к образу державного самодура. В Лире Ольбрыхского, не зная удержу, играют стихийные порывы. И он вовсе не безобиден в этих своих проявлениях. Но не потому, что старчески слабоумен и взбалмошен. В неукротимой стихийности этот Лир даже ритуален. Его выходки одновременно и неожиданны, и привычны для королевского окружения. Он держит двор в постоянном напряжении и страхе. И не может не видеть разброда и вражды, рабского страха и двуличия созданного им мира. Но именно таким этот мир, кажется, и устраивает Лира, ибо он – привычное выражение собственной натуры владыки.
Так вот – завязка. Еще до начала раздела владений Лира между дочерями зритель видит спящего под троном Шута – его ноги в колокольцах и дурацкий колпак, лежащий здесь же. Первым на сцене появляется побочный сын графа Глостера Эдмунд, пинает Шута, усаживается на трон, как бы примеряя его на себя. Далее – игривый диалог самого Глостера-старшего и графа Кента. Наконец, выходят дочери короля, мужья двух старших со свитой. Между ними, герцогами Альбанским и Корнуэльским, происходит, по инициативе последнего, безобразная стычка. Внутренние язвы двора для всех очевидны.
Но главное – впереди. Выход короля. Все склоняются перед ним. Государь неожиданно хватается за грудь и начинает падать. Первой бросается к нему младшая дочь. Но вошедший вовсе не Лир, а переодетый королем Шут! Лир же – тот, кто валялся под троном. И вот уже он на троне, но с дурацким колпаком на голове.
На Шута бросаются с колотушками. Его любимица, младшая дочь Лира Корделия, вспрыгивает Дураку на спину. Шут прокатывает ее до трона. После чего помогает королю натянуть сапоги, которые по ходу спектакля будут обыграны как знак королевского величия.
Наконец, Лир в колпаке Дурака приступает к первому монологу, который утрачивает, конечно, обрядовую торжественность. Разве не должен зритель еще до монолога засомневаться в определенности (не говоря уже об искренности!) намерений этого Лира «разделить край», переложив заботы со своих «дряхлых плеч… на молодые»? Не только сомнения, но и растерянность при виде странной королевской забавы поселяется в зрительских душах…
Да, Лир Ольбрыхского затевает карнавальную игру в раздел владений. Его реплика о желании переложить заботу о государстве на более молодые плечи звучит издевкой, очевидным притворством.
Образ Лира утрачивает определенность. Он – на грани: то ли шут, то ли юродивый, то ли вызывающий страх владыка, то ли заигравшийся неограниченной властью самодур, то ли коварный и проницательный тиран… Он не исчерпывается ни одной из этих характеристик. По убеждению Кончаловского, таков Шекспир – многозначный и непостижимый, как сама жизнь.
Независимо от установок режиссера, смеховой зачин спектакля заставляет вспомнить финал второй серии «Ивана Грозного» Эйзенштейна: дикая пляска опричников, угрожающая смена масок и костюмов самодержцем. Кровавый карнавал Смерти, подавляющий возрождающую силу смеха, превращался в антикарнавал, в издевку царя над мировым порядком, подчиняя его стихиям властной забавы.
Отечественная история подсказывает, что наша власть всегда была склонна поиграть с «низовой» стихией. Но поиграть не забываясь, чтобы не закрыть пути возвращения «наверх». Поэтому играл, как правило, лишь монарх – будь то Грозный или Петр Великий – с послушным подыгрыванием записного Дурака. Остальные были покорными лицедеями-статистами, движимые не столько смехом, сколько страхом.
Вот что писал о «лицедействе Грозного» Д.С. Лихачев: «Для поведения Ивана Грозного в жизни было характерно притворное самоунижение, иногда связанное с лицедейством и переодеванием… В 1574 году, как указывают летописи, «произволил» царь Иван Васильевич и посадил царем на Москве Симеона Бекбулатовича и царским венцом его венчал, а сам назвался Иваном Московским и вышел из Кремля, жил на Петровке; весь свой чин царский отдал Симеону, а сам «ездил просто», как боярин, в оглоблях, и, как приедет к царю Симеону, осаживается от царева места далеко, вместе с боярами…
Свою игру в смирение Грозный никогда не затягивал. Ему важен был контраст с его реальным положением неограниченного властителя. Притворяясь скромным и униженным, он тем самым издевался над своей жертвой. Он любил неожиданный гнев, неожиданные, внезапные казни и убийства».
Такие забавы государей не что иное, как присвоение ими народного праздника, по природе чуждого власти. Особенно явственно эта тенденция просматривается в советский период нашей истории, когда власть беззастенчиво и откровенно начинает именовать себя «народной» и в этом «виртуальном» качестве не эпизодически, а тотально присваивает себе исконно народную форму неофициального бытия и неофициальной идеологии – праздник с его смеховой многозначностью и свободой.
По моим впечатлениям, и в государевых забавах Лира на варшавской сцене можно увидеть упомянутую отечественную традицию. И это притом, что Кончаловского в Шекспире интересует прежде всего вневременное постижение противоречивой природы человека.
14
Итак, Лир затевает шутовскую игру. И это такая игра, когда власть, чувствуя свою непререкаемую силу (пусть и иллюзорную в конечном счете), превращает мир в марионеток, чья жизнь и смерть утрачивают личностный смысл в ритуале господских забав. Очевидно, что в «шутках» владыки – лишь «доля шутки». Шутовство (или юродство) оборачивается вовсе не шуточными жертвами. И тогда возникает вопрос: какую же роль в этом государевом шутовстве выполняет сам Шут?
В отзыве на спектакль театрального критика Джона Фридмана можно прочесть: «Шут в исполнении Сезария Пазуры, как и все остальные персонажи, испытывает неприязнь к Лиру. Саркастичный и часто распущенный, он не может убежать ни от Лира, ни от собственной участи. В одной сцене они оба связаны веревкой, на которой король тащит Шута во тьму, в другой Шут неоднократно пытается исчезнуть, но неизменно некий рок выкидывает его обратно на сцену. Этот дурак знает, что должно произойти, но не в силах ни предотвратить этого, ни поделиться своими опасениями».
Шут в спектакле Кончаловского и вправду обречен. И в какой-то момент, кажется, сам постигает свою обреченность.
У Шекспира шут знает свой мир, видит людей насквозь, поскольку он – воплощение глубинной народной мудрости. В «Короле Лире» Дурак появляется на сцене уже после изгнания короля, когда он жизненно необходим герою.
У Кончаловского же присутствие Шута ощущается еще до начала действия как такового. Возникает Дурак и как маска короля, и как исполнитель роли в государевом театре. Но как только сгущаются тучи и Лир начинает размахивать мечом, Шут прячется. Вряд ли такой шут может претендовать на место транслятора народной мудрости. Он демонстрирует скорее издыхание авторитетного народного смеха.
В то же время Шут спектакля – советчик Лира и предмет личной привязанности. И в спектакле в насмешках Шута, звучит лишенная иллюзий, трезвая правда горестного мира трагедии, за которой угадывается взгляд на природу мироздания самого Шекспира. Но ощущение своей обреченности, страх, пронизывающий Шута, обессиливают его насмешливую мудрость. В спектакле Кончаловского предчувствие и страх Шута оправдываются – его убивают, на что в трагедии нет прямых указаний.
Шут спектакля выпадет из безличного народного фона и окажется не защищенной перед катастрофами времени одинокой индивидуальностью. Его гибель прозвучит как «убиение» смеха, исход смеха из того мира, в котором теперь обречен блуждать Лир. В гибели Шута я
вижу деформацию традиционного народного фона шекспировской трагедии. В спектакле он стерт. Так исчезает иллюзия опорной для трагедии народной нравственности и мудрости.
15
Превратив раздел королевства в шутовскую (или юродивую?) игру, Лир Ольбрыхского посеял напряженную растерянность ожидания в своем окружении. Во всех, кого Лир делает ритуальными участниками своих забав, в этих подневольных марионетках живет непобедимый страх перед играющим монархом. Все сосредоточены на мысли о том, как правильно отреагировать на очередную стихийную выходку Лира.
Скованные страхом в преддверии очередного взрыва, дочери падают на колена и старательно декламируют заученные тексты, взглядами ища поддержки мужей. Сам Лир выступает в качестве одновременно и всевластного режиссера, и дирижера этих ритуальных арий, в чем ему помогает профессиональный Дурак.
Вне этого насильного «карнавала» остается, пожалуй, пока что только младшая дочь. Может быть, в силу своей непосредственности, наивно детского восприятия мира. Похоже, она единственная из дочерей, кто видит в Лире не короля, а в полном смысле отца. Она усаживается рядом с троном и с детской убедительностью пытается растолковать отцу, не воспринимающему ее ответ, что, собственно, она хотела сказать. А когда отец упрекает ее в душевной черствости, она делает попытку снять с него дурацкий колпак, то есть хочет вывести и отца из учиненного им дикого обряда. Тогда и овладевает Лиром ярость. Он выхватывает из рук Корделии шутовской убор, нахлобучивает на свою голову, звучит отречение от младшей дочери.
Корделия в исходной точке спектакля – дитя. Но не клоун-дитя, а именно ДИТЯ. Впереди у нее большой путь мировоззренческого взросления, который она и проходит. Отец же ее, напротив, впадет в младенчество, чтобы начать свое созревание заново. Тот же процесс наблюдаем и в сюжетной линии «Глостер-старший – его сын Эдгар».
Когда Лир Ольбрыхского дает волю стихиям своей натуры, он непосредствен настолько, насколько непосредствен подросток, который не в состоянии сопротивляться разрушительным проявлениям «трудного» возраста. Но Лиру никто и не помышляет сопротивляться. Так что поведение Корделии, а потом и противостояние Кента– нечто из ряда вон выходящее в порожденном королем мире, хаотичном, пропитанном враждой и страхом.
Но почему Корделия, почему Эдгар и Кент сумели сохранить здесь нравственную незапятнанность, способность сопротивляться хаосу?
Невольно отмечаешь, что эти действующие лица – юны, естественно юны, почти дети. Может быть, поэтому они и остаются не тронутыми неизбежной мерзостью человеческой породы?
Лир первой половины спектакля не отец. Он свой мир разрушает, подобно разнузданным подросткам-женихам Пенелопы из «Одиссеи». Имморальность Лира заражает и его старших дочерей, Гонерилью и Регану, вначале скованных страхом перед неуправляемым отцом. К концу третьего акта они уже вполне отдаются разгулу страстей, крушащих все вокруг.
Пока же старшая дочь Лира, вступив с ним в прямой конфликт, изнемогает от страха, едва не теряет сознание. Ее ужас растет, когда Лир обрушивает на голову дочери чудовищные проклятья. Сцена заставляет вспомнить, что перед нами натуральный язычник доартуровых, архаических, темных времен. Он не только сам верит в силу своих проклятий, но и окружающие, кажется, убеждены в их неотвратимости.
Да, это действительно Лир из рода магов и колдунов! Кажется, и сам режиссер придает этим заклятиям серьезное значение, поскольку сопровождаются они грозным звуковым акцентом. Заклятия возбуждают короля. Он оставляет игру, им овладевает искренняя ярость. И к финалу сцены в его репликах слышится нешуточная решимость, вызов. Его угрозы заставляют Гонерилью инстинктивно искать защиты у своего супруга герцога Альбанского.
Мы не видим той заведомой враждебности в ее отношениях к мужу, которая чувствуется в тексте трагедии. Напротив, на польской сцене Гонерилья, пока не вступила в силу ее связь с Эдмундом, действительно видит в муже единственного защитника. И герцог нежен с ней, может быть даже любит ее. Правда, пройдет еще немного времени, и Гонерилья обвинит его в супружеской недееспособности. И сам образ герцога к финалу спектакля решительно преобразится в сравнении с традиционным толкованием этого действующего лица.
Именно в момент проклятий в адрес Гонерильи в Лире происходят заметные перемены. Может быть, обращаясь к тайным силам Природы и налагая чудовищные заклятия на само лоно дочери, он вдруг ясно осознает, что перед ним именно дочь – кровь от крови, плоть от плоти его? И что здесь в самом его естестве происходит нечто катастрофически непоправимое? Трудно сказать. Во всяком случае, в какой-то момент он застывает, будто в глубоком раздумье.
Похоже, с утратой власти иссякает энергия его языческого буйства, наступает пора рефлексий. Он ясно видит, что выпал из своей «игры», отсечен, если можно так сказать, от послушной публики и статистов. Он один. И король вдруг цепенеет в неподвижности, подозревая, что сходит с ума. Зритель слышит звуки надвигающейся бури.
У Кончаловского в третьем акте не только Шут расстается со своим дурацким колпаком, выходит из традиционной «народной» роли, но и король расстается с мечом– грозным символом силы и власти. Оставляя меч, Лир прощается и со своей животной яростью, с присвоенными им ролями. Взамен Шута король получает изгнанного старшего сына графа Глостера Эдгара – в обличии безумного Бедного Тома.
В начале спектакля Эдгар не выглядит старшим братом. Напротив. Он наивен и легкомыслен в сравнении с Эдмундом. Он совершенно не готов к той жизни, которая развертывается за стенами родового замка Глостеров, да уже и в самом замке. Он, например, абсолютно не воин, не владеет оружием.
Перед нами детское простодушие и невинность до юродивости, вызывающие жалость и сострадание. Таким Лиру и является «Бедный Том» – «неприкрашенный человек». И сам король вдруг начинает двигаться в эту сторону, превращаясь в ребенка-юродивого.
Но Эдгар в несчастьях, обрушившихся на него, взрослеет. И в тот момент, когда он становится поводырем своего ослепленного отца, это уже зрелый человек, гораздо более мудрый, нежели Глостер.
Для Кончаловского Эдгар, прежде всего, любящий и страдающий сын. В нем, как ни в ком, отзывается мученическая линия отцов и детей. Стремление спасти беспомощного заблуждавшегося отца движет им в последних сценах спектакля. Он казнит преступников, не владея оружием и фактически не используя его как таковое.
Поединок Эдгара, законного Глостера, с бастардом Эдмундом – одна из самых впечатляющих сцен спектакля.
Эпизод схватки выглядит и мистически невероятным, и логически, исходя из сверхзадачи спектакля, обоснованным. На зов трубы Эдгар является в маске ослепленного и уже скончавшегося отца, в его образе мученика. Он неумело держит в руках меч, в конце концов бросает его и протягивает руки навстречу брату. Братья сближаются. И вдруг Эдмунд, по какой-то неотвратимой логике, тоже бросает меч и открывает объятья младшему брату. Эдмунд – до сих пор не знающий каких-либо внутренних нравственных препон, готовый ради своих целей на все?!
Что должно было заговорить в нем? Голос крови? Прозрение вины перед родным?
Но далее – совсем неожиданное: Эдгар бросается на брата и перекусывает шейную артерию, из которой фонтаном вырывается кровь. Сцена вызывает сильные и противоречивые чувства. Не это ли образ мира, дошедшего до последнего рубежа? Невинное дитя, пройдя через адские муки века, попросту загрызает брата, прибегая к коварству из коварств, иначе не состоится возмездие!
Эдмунд, предавший родную кровь, оказывается в сетях собственного коварства, нисходит в бездну, которую сам же и открыл.
16
В ту же бездну, в «мир Эдмунда», нисходят и дочери Лира Гонерилья и Регана. В первом и втором актах они еще подавлены страхом перед отцом, изо всех сил хотят устоять, победить цепенящую силу этого страха. Но к концу третьего акта их преступные страсти уже не знают удержу. «Эдмундовское» в сестрах (особенно – в Регане) провоцируется и поддерживается каким-то неудержимым, стихийным эротизмом.
Эдмунд для старших сестер Корделии выступает катализатором их злой энергии, зерна которой посеяны еще Лиром. И проявляется эта энергия как раз в их неуемном эротизме. Точно так же, как совсем недавно их отец был неуемен, неуправляем и разрушителен в своих страстях, и сестры отдаются стихиям своей плоти, которая с третьего акта руководит всеми их действиями.
Разгул кровавых страстей «злых» персонажей происходит после убиения смеха в облике Шута. Вот и Освальд, заколовший Шута, появится в начале седьмой сцены третьего акта, вытирая тряпкой окровавленные руки. Скоро «злые» герои погрузятся в море крови, в том числе и собственной. Путь «злых» прочерчивается, как и у Шекспира, довольно определенно: все они гибнут, подавленные собственными злодействами, источником которых был сам Лир.
Самый светлый образ у Кончаловского – Корделия. Ее нравственное сопротивление злой «игре» поддерживается некими высшими силами. Лир пытается разорвать карту надела Корделии – и не может. Не в его силах членить владение Корделии, ибо оно – в нравственных установках, на которых держится здание мира.
Собственно, за овладение мирозданием и идет борьба в семье человеческой. И если на сцене совершается битва, то она звучит как «битва народов» Земли.
Корделия преображается из наивного ребенка в воительницу, как только узнает о бедах, обрушившихся на отца. Она надевает рыцарские латы. В ее голосе появляются резкие командные ноты. Но последние слова она произносит почти шепотом:
Я выступила не из жажды славы, Но из любви, лишь из одной любви…Это и есть истинные мотивы поступков Корделии: ею движет любовь к отцу. Не к могучему в прошлом государю, не к обладателю богатого наследства, а к человеку, ее произведшему на свет. Она любит этого человека, каким бы он ни был.
В трагедии Шекспира (вот что прочувствовано спектаклем!) все большее право вершить человеческую историю обретает «голос крови», объединяющий людей естественной любовью родителей к детям, а детей к родителям. И эта любовь вырастает до масштабов всечеловеческих – по крови людского рода.
Рост и торжество этой кровной любви видны в развитии образов отца и его младшей дочери. Особенно в седьмой сцене четвертого действия.
Лир доставлен во французский лагерь. Он спит. На нем одеяние, напоминающее и детскую ночнушку, и смирительную рубашку. Корделия видит в падшем короле «разлаженную душу», «впавшего в младенчество отца», которому лекарь должен «вернуть ум», то есть действительную зрелость мировидения.
Определение, чрезвычайно важное в контексте спектакля. Отец «впал в младенчество», вернулся в детство, переродился и готов начать путь нового, личностного взросления. В начале этого пути Лир осознает всю меру вины и своей, и старших дочерей. Ему стыдно! Человек восходит к нерушимым нравственным основам бытия.
Не узнавая поначалу, а потом и узнавая дочь, Лир поднимается с ложа и пытается надеть сапоги, воплощение его королевского величия. Находит только один. Можно вспомнить, что еще в завязке, прежде чем приступить к оглашению своего решения, Лир, не снимая шутовского колпака, потребует надеть ему сапоги, которые он снял на время ряженья.
Уже позднее, когда, полубезумный («впавший в младенчество»), он встретит слепого Глостера и попросит стащить с него сапоги, Глостер снимет один из них и с нежностью прижмет к сердцу. Для Глостера Лир навсегда Хозяин, а он – слуга. Лир же так и останется в одном сапоге – лишенный мнимого совершенства властного величия, но обретший натуральное несовершенство человечности.
В одном сапоге и «смирительной» рубашке младенца Корделия выведет Лира перед воинством, и люди преклонят колена, а впавший в младенчество король, забывший о своем сане, но доверившийся дочерней воле, пройдет мимо, будто стыдясь преклоненных.
Наконец, завершение спектакля.
Лир, прозревший гибельность своей неуемной власти как гибельность мира, его нравственных оснований, видит неотвратимость ухода дочери и глубоко переживает свою трагедийную вину. Гибель Корделии– дело и его рук. И он тут же погребает дочь (посыпает ее землей), абсолютно не имея никаких иллюзий относительно ее воскрешения. Он посыпает прахом и себя и падает, мертвый, головой к ногам дочери.
Финал беспощаден.
На сцене, кроме трупов, небрежно укрытых рогожей, где рядом уместились и «добрые», и «злые», остаются еще два действующих лица (из «добрых»): Эдгар и Аль-бани с королевской короной в руках. Последнюю реплику произносит Эдгар. В дословном переводе она звучит примерно так: «Мы можем сказать лишь о том, что чувствуем, но не обо всем том, что следовало бы сказать». Произнеся свою реплику, Эдгар покидает сцену, уводимый двумя воинами. Он арестован и будет казнен! Таков замысел режиссера постановки.
Кто же остается на сцене и в какой роли?
В освещенном проеме декорации застывает тяжелый силуэт Альбани с короной в руках, обращенный спиной к залу. И это новая, безликая власть, выросшая из хаоса, сотворенного человеком по имени Лир. В этой «непознаваемости» зритель с ужасом угадывает грядущие катастрофы. Новый властитель будет создавать свой мир по своему образу и подобию, то есть присваивая его и набирая для своей игры новых статистов, новых «шутов», пренебрегая в конечном счете «голосом крови» рода человеческого.
Впечатляет то, как толкует эволюцию образа Альбани режиссер спектакля. Альбани, что называется, ни холодный, ни горячий, часто просто безволен в руках той же Гонерильи. Но именно он, личностно никак не определившийся, сильно смахивающий на посредственное ничтожество, но сумевший выжить в этой бойне, берет власть в руки.
17
Образ людской природы и природы власти не был бы у Шекспира таким человечным, если бы не воплощался в живой конкретике семейных отношений. Семья – из главных образов его зрелых трагедий. Причем семья в ее трагедийной ипостаси – как рушащееся единство людей, за которым угадывается родовое единство человечества, Природы, Мироздания.
Трагедийный пафос того же содержания проникает не только в спектакль Кончаловского по «Королю Лиру», но и в его оперную интерпретацию «Бориса Годунова» Мусоргского. Принципиальной для режиссера остается тема власти и государства, воздвигнутых не просто на крови, но на крови близких, на крови невинных мучеников, на детской крови.
Главное орудие власти Годунова, как, похоже, и его предшественников, в том числе и Ивана Грозного, тень которого «усыновила» Отрепьева и «Димитрием из гроба нарекла», – кровавый террор, пытки, слежка, наветы. Словом, все то, о чем говорит Шуйский уже в первых сценах пушкинской трагедии, когда приватно беседует с Воротынским:
… А там меня ж сослали б в заточенье, Да в добрый час, как дядю моего, В глухой тюрьме тихонько б задавили…В спектакле это не «тюрьма», а страшные подземные казематы, где не прекращаются пытки, где кровь льется рекой. Именно на них, как на дьявольском фундаменте, держится государство Бориса-царя.
Сцена, на которой разворачивается действие, представляет наклонную плоскость – громадную крышку подземелий. Так что с самого начала рождается ощущение неустойчивости, неверности всего, что находится на поверхности, в том числе и царского трона, который действительно к моменту смерти Бориса срывается с возвышения, где он непонятно как удерживался.
Время от времени крышки люков поднимаются, обнажая пыточные погреба, принимающие новые жертвы или выплевывающие их полутрупы. Вот на чем, хочет того или нет Борис, держится и чем укрепляется его царское правление. Вот чего до внутренней дрожи ужасается боярин Шуйский каждый раз, когда встречается с царем.
Из этих же кровавых недр выходит и летописец Пимен, измученный, в ранах, опираясь на клюку. Зритель понимает, что и он подвергался мучительным пыткам.
В спектакле особое место занимает история летописного «доноса» Пимена, который он передает Григорию Отрепьеву, чтобы тот продолжал его, Пимена, труд. Но летопись оказывается в руках «особой службы» царя. Так ее создатель попадает в пыточные камеры государства.
Может, самая выразительная сцена, открывающая преступную суть власти, по природе ей присущую, – это муки совести Бориса. Годунову мерещатся «мальчики кровавые», и он вымаливает прощения у Бога. Тогда на сцену выходит сын царя, поднося отцу чашу с вином. Вероятно, именно сына Борис принял за призрак юного Димитрия. В крайнем возбуждении, взывая к небесам, Годунов неосторожным движением выбивает чашу из рук мальчика, и кроваво-красное содержимое выплескивается тому в лицо. Вид сына потрясает отца. Он прижимает дитя к своей груди. Над ними возникает око Божье. В сочетании с музыкой Мусоргского, великолепным вокалом Орлина Анастассова мизансценическое решение происходящего приобретает, я бы сказал, шекспировскую мощь, трагедийную космичность.
Трагедия Бориса, как толкует ее Кончаловский, в том, что принявший соблазн власти «вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам палач», Годунов отсекает себя этим соблазном от родной плоти и крови, от живой жизни и передает в руки погибели, грозящей теперь и его роду, и народу, и государству. В этом контексте особое место занимают его отношения с сыном, к которому он очень привязан. И сын любит его, тянется к нему, но и страшится, боится приблизиться к отцу, когда чует в том властителя-убийцу.
Борис напоминает мальчику, что тому необходимо «постигать державный труд». Но именно этого державного труда и страшится юный Годунов, видя его плоды, отраженные прежде всего в самом пугающе преобразившемся облике его отца. Царевич Феодор в конце описанной сцены как бы сам превращается в «кровавого мальчика» – таково грозное предупреждение Годунову, идущее чуть ли не из уст самого Всевышнего.
Мизансценическое и сценографическое решение оперного спектакля, на мой взгляд, прямо вытекает из реплики представителя «мятежного рода» Пушкиных боярина Афанасия Пушкина. В этой реплике сам гениальный создатель трагедии, похоже, высказал свое отношение к природе отечественной власти.
…Он правит нами, Как царь Иван (не к ночи будь помянут)… … А легче ли народу? Спроси его. Попробуй самозванец Им посулить старинный Юрьев день, Так и пойдет потеха…И «потеха» действительно начинается. Только что мы видели народ, потрясенный словами Юродивого, отказывающегося молиться за «царя Ирода»: «Богородица не велит!», – народ, павший ниц. И тут же – в сцене восстания под Кромами – тот же народ, подстрекаемый бродягами-чернецами Варлаамом и Мисаилом, грабит господ и проливает боярскую кровь, а затем приветствует появление Самозванца. Это та самая «бессмысленная чернь», которая, по словам «лукавого царедворца» Шуйского, «изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она».
Таков образ народной толпы в развитии сюжета спектакля.
После «бессмысленного и беспощадного русского бунта» следуют сцены совета боярской Думы и смерти Бориса, душевно и телесно обессиленного муками совести. Сцена замечательна пафосом нравственного приговора власти, прозвучавшего из души совестливого царя-убийцы. Характерна она и явной безысходностью перед непреодолимой безнравственностью власти. Произнеся свои последние предсмертные слова, Годунов падает бездыханный. Над его телом склоняется сын. И тут мы видим, как «лукавый царедворец» Шуйский и думный дьяк Щелкалов, крадучись, подбираются к телу Бориса, еще не веря в его кончину. А удостоверившись, хватают царевича Феодора, законного претендента на трон, и уволакивают его.
Фактически повторяется финал спектакля по «Королю Лиру». Дальнейшая судьба мальчика, как и прозревшего юного Эдгара, становится очевидной. Финал и того и другого спектаклей Кончаловского – духовнонравственный тупик, в котором оказываются и этот народ, и эти плоть от плоти его властители. Дальнейшее – всеобщее молчание.
Глава третья «Это наш дом»
…Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в нас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри нас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками…
П.Я. Чаадаев. Философические письма. Письмо первоеЭто не психушка. Это наш дом. Мы здесь живем и всегда будем жить.
Из фильма А. Кончаловского «Дом дураков»1
Итак, в 1994 году Кончаловский вернулся к своим зрителям, к своим соотечественникам. Начался зрелый, «синтетический» период его творчества, отмеченный в начале появлением «Ближнего круга». И вот он снял «Курочку Рябу» как продолжение темы «иванизма», но в новых условиях.
Как ведут себя Дети Державы, влюбленные в вождя и советскую власть и счастливые этой любовью, когда сама держава исчезает, оставляя их абсолютными сиротами?
Вначале возник замысел фильма о зависти… В это время Кончаловский работал над сценарием экранизации романа Андре Мальро «Королевский путь». Пока продюсер искал деньги, у Кончаловского, по его словам, образовалось «окно». Шел 1991 год. Режиссер договорился с
Ю. Клепиковым о продолжении истории Аси Клячиной. Однако тот через полгода признался, что у него ничего не выходит. В конце концов соавтором Кончаловского стал известный кинодраматург Виктор Мережко.
Режиссер думал сделать фильм о Курочке Рябе как сказку-лубок, притчу о золотом яичке. А потом решил поместить эту историю в уже знакомую ему среду – в ту самую, где снималась «Ася-хромоножка». Неожиданным показался режиссеру отказ Ии Саввиной сниматься в продолжении «Истории Аси Клячиной». Актриса посчитала задуманный фильм «оскорбительным для русского народа». Но как раз с «русским народом» и предполагалось продолжить диалог, начатый еще в 1960-х годах. Это был новый виток восхождения к зрителю, к «народу» из села Безводное…
Кончаловский признается, что обескуражили его и впечатления от фильма, произведенные на аудиторию, так сказать, квалифицированную. «Я понял, что мое восприятие картины отличается от всех остальных, когда увидел лица людей, выходивших из зала после показа в Канне… Выходившие из зала говорили: «Боже мой! Как грустно! Какая страшная картина!» До сих пор не понимаю, почему она страшная. Не вижу в ней ничего катастрофического. Может быть, я уже привык к тому, что в моей стране происходит? Считаю это естественным?»
Но катастрофичность ощущалась уже в «Асе-хромоножке», и суть ее была очевидна: счастливые субъективно люди – глубоко несчастны объективно. Однако и там, в «Асе», и здесь, в «Курочке Рябе», действовал принцип эксцентрично-стыкового построения сюжета. В результате катастрофа оборачивалась праздником, и в празднике подспудно созревало тревожное предчувствие разрушительных, а может быть, в конце концов и благих превращений.
Наиболее полным выразителем этих настроений, этих превращений в фильме стала Инна Чурикова, сыгравшая здесь постаревшую и заматеревшую Асю Клячину. Смена актрис пошла на пользу фильму, потому что в Чуриковой было сочетание «национальной широты и трагизма» с «клоунадой и фарсом». Кончаловский вслед за Феллини именует актрис этого типа «клоунессами». И это не нравится упомянутому С. Кара-Мурзе: «Клоун? Ну, и ступай в цирк!» Между тем Феллини в мемуарах «Делать фильм» свою супругу называл актрисой-клоуном: «Это определение, которым, я считаю, можно только гордиться, иные актеры принимают с неудовольствием, возможно, им чудится в нем что-то уничижительное, недостойное их, грубое. Они ошибаются. Клоунский дар, на мой взгляд, – самое ценное качество актера, признак высочайшего артистизма».
Ну, а теперь послушаем, что наш режиссер говорит о Чуриковой: «Она вмещает в себя и Джульетту Мазину, и Анну Маньяни. Она может играть и горьковскую мать, и брехтовскую матушку Кураж, она может быть и сказочной бабой-ягой, и шекспировской Гертрудой». Эта карнавальная всеохватность таланта Чуриковой и нужна была режиссеру.
Ия Саввина, по сути своего дара, не смогла бы, как мне кажется, выполнить задуманного авторами сценария. Сам режиссер, сопоставляя своих героинь из первой и второй картин, говорит, что они «характеры весьма различные». «Эта – сварливая баба, в очках, с папиросой, слюняво пересчитывающая деньги, въедливая, за себя может постоять: если надо, и кулаком врезать. Та Ася была идеализированная, нежная, чудная. Мухи не обидит. Эта – обидит. И муху, и слона. По той Асе танк еще не проехался, ей двадцать пять лет, прожитых в интеллектуальной девственности. По этой Асе каток прошелся, сама вырастила сына. Для этого надо было иметь силу, уметь защищать себя. Потому она грубовата. И она – лидер…»
«Новая» Ася производит самогон (жить как-то надо!) и отстаивает ценности «развитого социализма» брежневских времен.
…Действие картины происходит в той же деревне, где зрители впервые встретились с Асей Клячиной, но уже в «лихие 90-е». Предмет недовольства и зависти деревенского населения все тот же Александр Чиркунов. Он купил здесь землю, устроил на приобретенном участке лесопилку, работающую с утра до позднего вечера. Разбогател. Но все только для того, чтобы привлечь внимание Аси, добиться, наконец, ее любви.
Заматеревшая Ася находит в своем сарае «золотое» яйцо, в духе известной русской прибаутки о курочке Рябе. Позже выясняется, что яйцо украдено из музея и при участии Асиного сына. Он и припрятал его на материнском дворе.
Колхозники после жарких споров, с побоищем, в котором принимает участие и местный поп, решают вернуть яйцо похитителям за большой выкуп. А уже на эти деньги выкупить хозяйство Чиркунова, чтобы, как выражается Ася, «его не было». В конце концов и яйцо, и бандитские деньги оказываются фальшивкой. А Чиркунов, ко всеобщей радости односельчан, сжигает свою лесопилку.
Такова фабула. А что же сама Ряба, давшая название фильму? Она – смеховой провокатор.
«Курочка Ряба – центральный персонаж картины, – поясняет режиссер. – Если бы не она, не было бы и золотого яйца. Конечно, не она снесла его, но она как бы поселила его в умах. Испытание свалившимся на деревню богатством, пусть и мнимым, – очень серьезное, как оказывается, испытание. Вскипают страсти. Доходит до драки. В конце картины деревенская толпа несется за курочкой Рябой, хочет ее придавить – ведь все злосчастья с нее начались…» Не зря же сам режиссер и взялся озвучивать этот «центральный персонаж».
Однако мир картины, крестьянский мир России середины 1990-х, и без воспроизведения «куриной» точки зрения карнавален. Нет, не разоблачительно-сатиричен, а именно – празднично карнавален. Пролог фильма – уже смеховой стык маски и живого лица, след той самой театральной условности («феллиниеска»), которой привержен режиссер.
«Нормально… нормалек!» – бормочет, глядя в зеркало парикмахера на свою ровно наполовину оголенную голову, мужик (то ли пьяный, то ли сонный – словом, вполне равнодушный к происходящему с ним). В мужике не без труда можно узнать режиссера картины.
Равнодушно-мутный взгляд персонажа (и автора ленты одновременно) направлен в зрительный зал, как в зеркало. Зал и экран как бы взаимоотражаются. Режиссер втягивает зрителя в смеховую игру фильма и сам в нее включается.
Весь фильм не что иное, как попытка открытого диалога со зрителем, к которому прямо с экрана обращается не только сам режиссер в карнавальном обличии, но и его персонажи. А это означает, что все они выступают одновременно и как персонажи, и как вполне реальные индивиды, носители этих масок. Вот этого, к сожалению, критики картины не заметили, полагая, что режиссер тупо разоблачает и обвиняет русский народ.
Остриженная наполовину голова – это, однако, не «нормалек». Напротив, комическое несоответствие норме. С первых кадров картины и автор, и его герои, и зритель движутся на грани нарушения нормы общечеловеческих ценностей.
Мужик из пролога – маска, застывшие черты национальной ментальности, куда можно отнести и пресловутый «нормалек!», и то же хрестоматийное «авось». С самого начала речь идет о саморазрушительном равнодушии русского человека к своему лицу, личности, которая с такой легкомысленной беспечностью подменяется маской.
Но в фильме Кончаловского маска не исчерпывает, не поглощает Лица – ни лица создателя фильма, ни лиц его героев. Происходит эксцентрическая игра социальными костюмами, в которую активно зазывается зритель – как на всенародное позорище, с целью, если хотите, смехового самораскрытия и самопознания.
Вот и хитрый глаз Аси-Чуриковой провоцирует зрителей, когда героиня обращается к ним с экрана, называя то «товарищами», то «господами». Она предлагает «господам-товарищам» порассуждать на тему недавнего советского прошлого, когда «был порядок, потому что был страх». И это была, на взгляд то ли Аси, то ли Чуриковой, то ли самого Кончаловского, настоящая демократия, и все работали в поте лица – и не за деньги, поскольку и денег-то как таковых не было. Героиня все время находится на границе игры («бормочущая алкоголичка», «импульсивная дура») и реальности (испытанная жизнью мудрость народного философа). И все это – благодаря природному дару клоунессы Чуриковой.
Нынче национальным «героическим эпосом» в массовом сознании стал «золотой век» прошлого, Страны Советов, когда все были едины и счастливы своей общинной нищетой. И этот «золотой век» всплывает в черно-белых кадрах из «Аси-хромоножки», тревожный мир которой с исторической дистанции представляется едва ли не благостной утопией.
Что бы ни говорили критики Кончаловского об оскорбительности его «насмешек» над русским народом в «Курочке Рябе», смех в фильме, по моему убеждению, совершенно иного, не сатирического качества. Никто никого к позорному столбу здесь не пригвождает. По происхождению это смех праздничный, масленичный, то есть связанный с веселыми похоронами Зимы-Смерти. Не зря же в его финале полыхает и веселый, и трагичный костер, учиненный влюбленным Сашей Чиркуновым…
В этом смехе аукается горьким юродством и память об отечественных праздниках. В том числе и время общегосударственных нормативных шествий, демонстраций, субботников. В истории нашего кино с ними перекликаются любовно-трудовые комедии Пырьева – воплощение общегосударственного оптимизма.
Правда, если хмельной праздник в «Курочке» и есть, то труда и любви нет. Труд и любовь сосредотачиваются лишь в фигуре Александра Чиркунова, который, кстати говоря, более всех и смеется в картине, оставаясь при этом одиноким. Одинокий смех Чиркунова – смех на погребальном костре, который вскорости обернется холодным пепелищем от всех его частнособственнических начинаний.
Перевертыши (симулякры) праздника в сюжете то и дело возникают. Вот бывшие колхозники, вооружившись портретами членов бывшего Политбюро, классиков марксизма-ленинизма, красными полотнищами лозунгов, под предводительством Клячиной идут ко двору
Чиркунова с коллективным протестом. А тот… выставляет демонстрантам несколько ящиков водки. И торжественно-пародийное шествие оборачивается обильным коллективным возлиянием, как в достопамятные советские времена. Снова – праздник! Нескончаемый горьковатый праздник социальной индифферентности и безответственности.
К окончанию картины сельская большевичка Ася Клячина все же преодолевает свои коллективистские представления, когда оказывается вышибленной из колхозной общины за попытку жить своей, частной жизнью. Она восходит к естественной премудрости, которой делится с нами уже не собственно героиня, а посерьезневшая клоунесса Инна Чурикова – из промерзших пространств средней России.
Безответно влюбленный в Асю Александр Чиркунов, в свою очередь, сбрасывает с себя карнавальные одежды постсоветского «бизнесмена» и с азартом дурака-юродивого сжигает декорацию предпринимательского благополучия. А затем, из простодушной любви и сострадания, вновь устраивает праздник единородцам и таким образом в очередной раз совершает ритуал любовного исповедания перед Асей.
Обозначена в фильме и утопия вечно живой, но несбыточной мечты русского человека о космической «халяве». Надежда на чудо, терпеливая вера в него – в чудо нечаянного богатства и счастья. На какой-то миг эта надежда согреет и Асю, когда та найдет злосчастное яйцо. Но незадолго до этого обнаружится трезвая реальность бытия. В сараюшке своем Ася обретает вначале не чудо, а… дыру. Исчезла задняя стенка строения. Кто-то спер… И зрителю открывается беспредельность заснеженной страны – пространство, молчаливо вопрошающее.
Холодный, необустроенный простор. Он и есть пространство насущного освоения. Чуда нет. Точнее, миф о российском колхозно-коммунистическом чуде исчерпан. Ни курица-тотем чудо-яиц не несет; ни Эрмитаж их не содержит; ни бандиты настоящей цены (чудных или дурных денег) не дадут.
Смеховое расширение пространств – ключевой сюжетный ход картины. Смех очищает жизнь, убирает тесноту социальных перегородок. Асина небогатая семья с ветхим «обманным» сортиром, «хоромы» деревенского капиталиста Чиркунова, грязные фуфайки жителей села, ряженые гангстеры цыганистого вида, в том числе и фактические строения Безводного с символической лестницей, по которой восходят и нисходят герои, – все это, как стенка ветхого сарая Клячиной или седалище убогого сортира, куда ныряет «халявная» выручка Асиного сына, опадает, рушится, открывая реальность неосвоенной жизни.
По признанию Кончаловского, «Курочка Ряба» – один из его самых раскрепощенных в исполнении фильмов, где он «не боялся ничего, как однажды это уже было – в «Асе Клячиной». «Как режиссер здесь я был, как никогда, свободен. Во всей стилистике… Стилистика здесь была свободна и бесформенна, тем мне и дорога. Я, что называется, гулял по буфету. Не боялся в середине картины вставить вдруг нереальный фантасмагорический кусок, где курица становится гигантской и объясняет Асе, что ее, как и всех в деревне, зависть заела… «Курочка Ряба»– классика. Я серьезно. Ведь есть же у меня картины, которые причисляют к классике. А я причисляю эту. Знаю, что она не постареет. В ней нет стиля. Есть свобода и есть человеческие характеры. Есть интенсивность чувства…»
Важно и другое – в этом фильме, как и в прочих лентах режиссера, в том числе и в давней «Асе Клячиной», сильна волна сентиментального сочувствия героям, жалости к ним, жалости, которая в конце XX – начале XXI века стала весьма дефицитной и в жизни, и на экране.
2
«…Вовремя человека пожалеть… хорошо бывает!» – сказал как-то странник Лука, герой пьесы Максима Горького «На дне». Фильм Кончаловского «Дом дураков» берет прежде всего жалостью…
Жалко всех. Беспомощно скандальных, трогательно смешных, несчастных «психов», поселившихся «где-то на границе с Ингушетией».
Жалко командира «бандитского подразделения» и всех его боевиков.
Жалко капитана с БТР, бывшего (по Афгану) однополчанина полевого командира.
Жалко лысого, но в шляпе, «красивого чеченца» Ахмеда, карнавального жениха главной героини – Жанны Тимофеевой…
Жанна – юная пациентка психбольницы, уже, кажется, выздоравливающая. Точнее, не так: она как бы естественно здесь прописана со дня основания. Тут она на своем, судьбой определенном месте. Во всяком случае, ей под силу удерживать некоторое душевное равновесие коллектива больных в нелегких условиях подступившей к психлечебнице войны. Но и ее – жалко.
…А как жалко истеричного командира подразделения федералов, который, оказавшись на грани безумия, никак не может очистить со своих ботинок то ли грязь, то ли дерьмо чеченской войны! Жалко его, только здесь, в психушке, наконец принявшего вместе с успокоительной наркотической инъекцией доктора Валериана Ильича и простую истину: в войне главное не победа, главное – смерть.
Жалко и солдатиков из этого подразделения, суматошно бегающих по сумасшедшей больничке – ив этом качестве гораздо более похожих на психов, причем более буйных, чем сами психи. Жалко их, готовых в безумной суете, своя своих не познаша, порешить друг друга.
Не жалко генерала Павла Грачева. Он хоть и кажется настоящим, но этому перенасыщенному скрытой болью пространству – чужой. Он – в телевизоре. Он является из равнодушия виртуального мира. Всем в этой картине больно, а ему, потустороннему, – нет.
Сюжет переключается в сентиментальность, а затем – ив откровенные муки и сострадание. Переключается вдруг.
Обряженная в клоунский костюм невесты Жанна покидает обиталище психов. Ее в шутку, как ему казалось, поманил чеченец Ахмед. Сказал, хочет жениться. И девушку обрядили невестой…
…Вот она прощается. Уходит. И, как на зов, оборачивается вдруг к такому дорогому для нее обиталищу – к Дому дураков. Видит в окнах некрасивые, жалкие и очень трогательные физиономии всех, ею любимых…
Словом, от слез нельзя удержаться. А уж когда обстрел начался, появились вертолеты в огне, падающие с неба!.. И она в этом аду, в безумии этом – в платье невестином, в неловкой шляпе, с громадным для ее хрупкой нескладной фигурки аккордеоном: играет полечку… Она, которая так всех хотела спасти, но теперь уже, кажется, никого не спасет – даже в своем воображении!
Тут уж вместе с ней, как язычнику, остается лепетать: «…Огонь, я тебя люблю, не убивай меня!.. Грязь, я тебя люблю…»и т. д. Вот когда ничем неодолимое чувство жалости, сострадания к людям прорастает в вас и к финалу картины только укрепляется.
Переживаешь все это, а потом думаешь: где же здесь профессиональная холодность Кончаловского, в которой его так часто уличают?
Писатель Дмитрий Быков отметил характерную противоречивость впечатлений от фильма. «Дом дураков», пишет он, «очень уязвимое произведение». «В первые минуты просмотра я, честное слово, не мог себе представить, каким чудом Кончаловский спасет картину. Тем не менее уже через час после первого обмена впечатлениями я почувствовал, что кино это меня не отпускает… Более того, эта картина вполне достигает своей цели, поскольку в конце концов оставляет зрителя… искренне расположенным к человечеству…»
Иными словами, как бы ни был сконструирован «Дом дураков», он воспринимается как выражение сострадательного мироощущения художника, его любовного взгляда на человека.
Первая часть фильма – комедия масок. Смысл происходящего – в изречении одного из «дураков»: «Жизнь – это когда каждый день новое говно делают». Как бы подтверждая право дурацкого афоризма на существование, одним из сюжетообразующих моментов первых эпизодов фильма становится очередь у нужника.
Буффонная первая часть – цепь пустячных больничных скандалов. Апофеоз скандалов – бунт больных. Естественно, после отбытия начальства. Бунт возглавляет записная «диссидентка» психушки Виктория Яковлевна. Актриса М. Полицеймако откровенно использует тут маску Новодворской. Клоунская неопасность бунта сохраняется лишь до порога Дома. За порогом – переключение в иную жанровую плоскость.
Уже в первых эпизодах картины ощущается аллегорическое присутствие образа нашей «многострадальной Родины», сниженного самой средой происходящих событий. С аллегорией сотрудничает документальность телерепортажа, лежащего в истоках замысла картины: фактическое наличие «психушки» «где-то на границе с Ингушетией». Сюда же отнесем и то, что население «дома дураков» формируется как из актеров, так и из людей с реально травмированной психикой.
Живущая нерассуждающей наивной любовью ко всем без исключения (на то она и дура!), Жанна неутомимо связывает концы то и дело рвущейся нити времени. Она органически не переносит и намека на разлад, посеянный нетерпимостью, агрессией. И хочет вернуть в мир гармонию, наигрывая на аккордеоне незамысловатую полечку в духе Нино Рота.
Образ героини вполне естественно отсылает зрителя к ролям Джульетты Мазины в картинах Феллини, к Джельсомине и Кабирии с их незащищенными, полными любви сердцами. Режиссер и его актриса Юлия Высоцкая открыто опираются на феллиниевскую традицию акцентированной человечности.
Да ведь и все «главные» женщины из картин самого Кончаловского живут неприятием дисгармонии бытия.
Они и есть «святые дуры», и в то же время – Жанны д’Арк, жертвующие своим благополучием ради прочности «дома дураков».
Но кто таков и каков в картине «дурак»?
Вспомним характеристику «древнерусского дурака» из трудов Д. Лихачева – А. Панченко: «Это часто человек очень умный, но делающий то, что не положено, нарушающий обычай, приличие, принятое поведение, обнажающий себя и мир от всех церемониальных форм, показывающий свою наготу и наготу мира, – разоблачитель и разоблачающийся одновременно, нарушитель знаковой системы, человек, ошибочно ею пользующийся… Это смех «раздевающий», обнажающий правду, смех голого, ничем не дорожащего. Дурак – прежде всего человек, видящий и говорящий «голую» правду».
В традиции отечественного «дуракаваляния» развертывается и сюжет картины Кончаловского. Ряжение в фильме – на самом деле разоблачение от одежд. Обнажение наших язв и наших доблестей, нашей дури и нравственной высоты, воплощенной в том числе и в героине – как новоявленной Жанны-спасительницы.
Аккордеон, полечка и мечтания Жанны вносят в фильм идиллически-сентиментальную ноту, преобразующую скандальный мир психушки, возвышающую его любовью «святой дуры». И мы понимаем глубинное стремление психов жить счастливым домом. Они все этого хотят, но не могут, просто не умеют практически воплотить свои мечтания в низкой повседневной прозе сумасшедшего существования.
А в повседневном тягучем времени они болеют – нетерпимостью к сожителям, соседям, собратьям по дому. Но их «болезни» в то же время – сущностное проявление человечности! Так что словосочетание «больные люди» – тавтологично, поскольку не больных людей не бывает. «Не больные» – это люди с отсутствующей человечностью. Вспомним Чехова!
Если согласиться, что больница в фильме – метафорический (или аллегорический) образ Страны как Дома, объединяющего живущих в нем людей, то тогда понятно, почему поэт Алихан идет извлекать из стана боевиков ушедшую к своему «жениху» Жанну. Он не только влюблен в нее. Он фанатично предан своему жилищу и вооружен нерушимой доктриной: «Это не психушка. Это наш дом. Мы здесь живем и всегда будем жить».
Дом дураков – родное обиталище. И покидать его ни в коем случае нельзя! Да и невозможно, в конце концов. Даже в полете мечтательном, вслед за воображаемым поездом идиллического семейного единения – нельзя. Правда, ни обитателям больницы, ни зрителям это табу до поры как бы не внятно.
Конфликт картины работает на разрыв чудовищной силы: Дом покидать ни в коем случае нельзя, но так же фатально его нельзя не покинуть. Из глубокого осознания неизбежности этой коллизии является почти безумное в силу его практической неосуществимости утверждение: необходимо выжить внутри со всеми. Жить и выжить. И так вынести Дом на себе.
Но первым больницу все же покидает мудрец Доктор, хотя и в благих целях. И это сигнал! «Хозяина» нет, и толпа дураков, под предводительством пародийного «политического» вожака Виктории, выдавливается за порог, как из крепости, пробивая тяжелой «бабой» мрачные металлические ворота. Но что за ними? Манящая и одновременно настораживающая своей тишиной белая тропа с парящей в ее конце аркой… Что там? Рай? Ад? В любом случае – мир потусторонний, незнаемый, необжитой, а потому – смертельно опасный. Что подтверждают тут же являющиеся взрывы, и первые разрушения, и первая кровь…
Но опасность не только вовне. Бунт чреват внутренним хаосом: кто-то выпускает «буйных». И только после этого в дом войдет война. Придут боевики, разобьют здесь свой лагерь. Начнутся обычные в этих условиях заботы. А на стене клиники возникнет та самая, все объясняющая и обо всем предупреждающая, надпись: «Больные люди» – начертанная «инодомцами».
И вот теперь Жанна покинет дом дураков. Героиня следует призванию. Ведь она Невеста! Как Невеста, она должна принести жертву во имя объединения чужого и своего миров. Из чужого, потустороннего мира должна она привести Жениха и прекратить хаос. Так в картине возникает мелодраматически напряженная пародийная свадьба.
А далее – разоблачение от всех одежд и масок, полное обнажение лиц больных людей, вообще всех лиц.
Шуточное обещание чеченца Ахмеда взять девушку в жены оборачивается нешуточной серьезностью происходящего. С приходом Жанны к суженому, то есть Богом данному, возникает реальная возможность прекращения хаоса взаимной нетерпимости и вражды. Безотчетно следуя этой своей миссии, Жанна не может принять предложения поэта Али вернуться к своим. Ведь она призвана объединить своих и чужих!
Картина Кончаловского говорит о неизбежной в современном мире жертве жизнепорождающего женского начала во имя объединения разноположенных национальных, конфессиональных и т. п. домов. И Дурочка в «Рублеве», и Ася Клячина, и Жанна в «Доме дураков» – каждая из них Невеста в самом высоком смысле, которой суждено стать Женой.
Словом, «о, Русь моя, Жена моя, до боли Нам ясен долгий путь»…
…Когда, в свою очередь, Дом занимают федералы, начинается обстрел и чеченцы покидают чужие пределы; когда Жанна ничего не может спасти своей полечкой и с нее слетает ее невестина шляпа, а фанатик охранения психбольницы Али как червь ползает в грязи, – когда все это происходит, кажется, побеждает трезвость «низкой истины»: никакого общего для всех людей Дома нет и быть не может.
Кровавый хаос сдирает с Жанны ее невестины одежды, все приметы ее ряжености. И она сама над собой совершает постриг, становясь теперь в прямом смысле Христовой невестой. В картине происходит еще одно жанровое переключение: из трагедийно-сентиментального карнавала Любовь дурочки возносится до… (затруднительно отыскать жанровое определение этого сюжетного поворота!)… евангельских небес.
…Бог является. Это разоблаченный от маски психа Фуко. Он – свободный от конфессиональных одежд дурацкий Бог вообще, которым еще недавно, как мячиком, играли больные люди, швыряя его в коляске от одного к другому. У Кончаловского свой Бог, каким он и должен быть, наверное, в Доме дураков. Точно так же, как у Булгакова свой Иисус, каким он должен явиться в язычестве советской Москвы 1930-х годов, не различающей ни Света, ни Тьмы.
Пройдя хаос вражды, призванная Жанна восходит к богу Фуко и утверждается в своей миссии. Фуко благословляет ее на спасительный подвиг. Указывая на яблоко, недавно в качестве прощального дара принесенное Ему девушкой, Он говорит: «Я вижу на этом яблоке народы, которые любят, враждуют, погибают целыми поколениями. И ты хочешь, чтобы я их съел? Я могу их только простить. Я и тебя прощаю. Я знаю, что ты есть. Иди».
И девушка идет, прижимая яблоко раздора, яблоко любви – просто яблоко к груди. Идет туда, где она не понарошку, а на самом деле воссоединится со своим Женихом. И не с мечтательным «специальным Гостем» Брайаном Адамсом, а с реальным лысым Ахмедом в будничном застолье Дома дураков.
3
Ничего не изменилось в отношении отечественной критики к производимому Кончаловским. «Дом дураков» постигла та же участь, что и все предшествующее. И уровень, и содержание претензий знакомы. Предмет критики не фильм, даже не его создатель как художник, а некое социально-сословное явление, вызывающее классовую неприязнь.
Я бы выделил критический отзыв Аллы Боссарт, попытка которой быть объективной при отрицательном отношении к картине дает в результате определение тех качеств, которые отвергаются в Кончаловском как художнике определенной частью отечественных либералов.
Во-первых, «Кончаловский – пришлый доктор», а поэтому, во-вторых, – он «холодный художник», в том смысле, что это – «холодность гостя и чужого, приглашенного врача». Поскольку «мир Кончаловского – зыбкий и холодный», то в нем царствует «маска Смерти».
Примерно в том же духе завершает свои рассуждения о «вторичности», «цитатности» «фальшивого и плохого» фильма «Дом дураков» Г. Ситковецкий: «Невозможно сделать картину о больных людях, о сошедшем с ума человечестве, обладая безупречным клиническим здоровьем». Для такой картины Кончаловский, получается, недостаточно «болен»? Иными словами – слишком благополучен, слишком нормален, а попросту – равнодушен. Это и есть один из традиционных упреков режиссеру.
Когда говорят о «цитатности» фильма, кивают часто в сторону «Полета над гнездом кукушки» Формана. Собственно, и сам Кончаловский не отвергает своих «цитатных» источников. Но как можно, живя на границах культур, не впитывать чужую речь, ставя ее в контрапункт со своей? В том же смысле «цитатен» и Тарковский, положим. Да любой большой художник!
А вот Формана Андрей не столько цитирует, сколько полемизирует с ним. Ведь у того психушка никак не готова стать Домом, как ни старается «демократизировать» ее залетный герой Джека Николсона. Напротив, ее нужно и можно покинуть – только так ты сохранишь в себе человечность, как это и делает Вождь. Как это сделал и сам Форман, оставив «лагерь социализма» и перекочевав в Штаты.
У Кончаловского психушка – всеобщий семейный приют. Дом. И в этом – правда. Куда уходит Вождь в фильме Формана? В беспредельное символическое пространство, подобно Мэнни из «Поезда-беглеца». В этом высокая условность художнического пафоса Формана. Кончаловский же точно знает, что из этого Дома уйти можно только в смерть. И это безусловно. «Живите в доме, и не рухнет дом!»
Удивляет, что воображение рецензентов никак не затронуло название картины – «Дом дураков». Точнее даже, не само название, а Дом как содержание вещи. Складывается ощущение, что многие из нас и на пороге XXI века живут, «под ногами не чуя страны».
Я пытался дать определение жанровому содержанию фильма путем снятия-считывания слоев сюжета: буфф, аллегория, документ, мелодрама и т. д. Но существует в природе жанр, обымающий все эти составляющие.
По моим наблюдениям, во второй половине XX века и на рубеже века XXI в отечественном искусстве обнаружилась, может быть, безотчетная тяга к когда-то описанному М.М. Бахтиным жанру мениппеи, порожденному карнавализованной областью искусства. Жанр этот синтезирует низкое и возвышенное, смешное и серьезное, комическое и трагическое, ум и глупость и т. д., то есть предполагает предельную авторскую свободу.
Формировался он «в эпоху разложения национального предания, разрушения тех этических норм, которые составляли античный идеал «благообразия» («красоты-благородства»), в эпоху напряженной борьбы многочисленных и разнородных религиозных и философских школ и направлений, когда споры по «последним вопросам» мировоззрения стали массовым бытовым явлением во всех слоях населения и происходили всюду, где только собирались люди… Это была эпоха подготовки и формирования новой мировой религии – христианства».
Жанр мениппеи хранит историческую память о своем происхождении и, ассимилируясь в искусстве новых времен, становится особенно актуальным в соответствующие периоды истории. Сюжет мениппеи – испытательное странствие мудреца в трех мирах: в преисподней, на земле и на небе. Причем это не столько физические, в собственном смысле, сколько духовные испытания, а точнее, испытание той «правды о мире», носителем которой является странствующий мудрец. В самой телесности мудреца эта правда как бы получает осязаемую, слышимую и зримую плоть.
В творчестве Кончаловского, едва ли не со сценария о Рублеве, можно обнаружить мениппейные черты.
Режиссер всегда стремился к наибольшей авторской свободе, которой достиг, по его признанию, в «Асе» и «Курочке Рябе». Действительно, в сквозном сюжете этих картин можно увидеть вольное (мениппейное) воплощение сентиментально-карнавальных превращений миросознания народа в эпоху коренной переоценки ценностей, в эпоху «разложения национального предания».
Что касается «правды», в странствии своем претерпевающей аналогичные превращения в сквозном сюжете кинематографа Кончаловского, то она могла быть сформулирована, по памяти о литературной классике XX века, и так: «Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, – пусть воет вьюга, – ждите, пока к вам придут».
Иными словами, Дом держится любовью и мужественным терпением проживания в нем – несмотря ни на что. Вот правда утопии, подвергающаяся испытательным странствиям и в мениппее «Дом дураков». Принадлежит она зрелому мастеру. А воплощенный носитель ее – героиня Юлии Высоцкой, дурочка, живущая наивной, не рассуждающей любовью к миру. Вечная Невеста.
Каков итог странствий этой «правды»? «Красивый чеченец в шляпе» Ахмед, который еще недавно держал на прицеле гранатомета федеральный БТР, уже без шляпы, прозаически лысый и несчастный, является домой, то есть, как и положено быть, в семью «дураков», с покаянным признанием в своей «болезни», то есть в неизбывной человечности. Новая семья отважно, не рассуждая, принимает его как своего. Вот дидактический сгусток того, о чем «хотел сказать» художник. Вот мораль, полезная для усвоения в эпоху «партийной» непримиримости, не способной к состраданию.
И здесь Кончаловский «цитирует»! «Цитирует» этику Льва Толстого. Послушаем режиссера: «В России привыкли думать, что все чеченцы – бандиты, а все русские – хорошие. Хотя это не так. В фильме они все несчастные – и русские, и чеченцы, потому что они воюют.
Как может быть счастлив тот, кто воюет? Я отношусь к войне в Чечне так же, как к войне относился Толстой. У него можно учиться. В фильме есть фраза из него: «Человек убил другого человека и радуется. А чему, собственно, радуется?» Возможно, русский будет возмущен тем, как я показываю чеченцев. Но сильный и большой должен быть добрым. Мы до сих пор не понимаем, что уже настал XXI век – время, когда внимание к чужим культурам должно быть более интенсивным…»
«Правда» нашего домашне-семейного обустройства, по логике мениппеи, начинает свой путь в «преисподней» низовой отечественной жизни и восходит к беседам с небом, где героя встречает «беспартийный» Бог, не различающий религий и конфессий.
4
Может быть, наиболее очевидным предстает испытательный путь «правды» героев Кончаловского в сценарии, а затем и в фильме о русском иконописце Андрее Рублеве – именно потому, что носителем правды оказывается здесь Художник.
В одном из комментариев к замыслу произведения Тарковский говорил, что речь должна идти о народной тоске по братству, породившей в конце концов рублевскую «Троицу». Действительно, живопись Рублева становится наивысшим выражением единения народных тела и духа. Идея народного братства проходит свой трудный испытательный путь в сценарном сюжете мениппеи «Андрей Рублев» – от нищеты и грязи каждодневного существования русского мужика до небесного единения божественных начал в «Троице». Именно в сценарии этот путь, как я уже говорил, прочерчен куда более внятно, чем в фильме. Кончаловский повторил опыт с этим сюжетом уже в содружестве с Юрием Нагибиным в киноромане «Белая сирень».
По сути, сценарий посвящен дому Сергея Рахманинова. «Белая сирень» рассказывает о том, как великий русский композитор боролся за право жить частным
домом, но в стране, где такая жизнь становилась совершенно невозможной из-за революций, гражданских войн, а затем и установления власти Советов. Вынужденный оставить Родину художник пытался сохранить и в своем внешнем бытии, и в себе самом свой исконный дом.
В то же время в перипетиях жизни композитора отражена жажда видеть дом России единым – ив телесном, и в духовном проявлении. Он хочет видеть не противостоящими друг другу бытие народа и бытие художника.
Кинороман открывается образом Петербурга 1910 года. В большом зале дворянского собрания должен состояться концерт – первое исполнение Сергеем Рахманиновым литургии Св. Иоанна Златоуста.
…Мартовский ветер, своевольно распоряжающийся афишей, а затем и огромной шляпой какой-то дамы. Поскользнувшаяся и упавшая Марья Аркадьевна Трубникова, «впоследствии известная нам тетка Рахманинова». Невольно вспоминается суровое начало поэмы
А. Блока «Двенадцать», где и ветер, и «под снежком ледок». Шаткость, неуверенность, неопределенность, переживаемые страной. И здесь, в киноромане, есть ощущение (как предчувствие) некой непрочности, хрупкости бытия в сочетании с мощью рахманиновской музыки, будто льющейся с небес.
Так устанавливается пространство новой мениппеи– между землей и небом. Здесь духовный источник творчества художника. Не зря еще в начале повествования возникает шестилетний мальчик с загоревшим продолговатым лицом, который взбирается на колокольню (музыкальный фон здесь – литургия) и отсюда как бы обымает взглядом и душой Россию, причащаясь ей и одновременно небу. Очевидна перекличка (колокол) с соответствующей новеллой в «Рублеве» – и там и здесь призыв к духовному единению народа и художника.
Но в «Белой сирени» колокол не только выражение глубинного народного гласа, гласа Родины. Тема колокола – это и тема одного из лучших произведений Рахманинова. На репетиции «Колоколов» в Америке он пытается объяснить оркестрантам, что хотел выразить в произведении и что такое вообще колокол для русского национального самосознания.
«Русская земля вот уже много веков была уставлена колокольнями. Первое, что я запомнил с самого раннего детства, – это звук колокола. Вся жизнь русского человека сопровождалась колокольным звоном – от рождения до смерти. Любовь – это свадебные колокола, а если пожар, чума или война, то колокольный набат возвещал беду. Последний раз колокол провожал человека до его могилы… Вот о чем эта поэма. Это – детство, юность, борьба и смерть…»
Революция лишает страну и народ ее духовного самовыражения. И колокол превращается в орудие высшего возмездия. Если в «Рублеве» создание и водружение колокола – возвращение народу его речи и единства, то в «Белой сирени», напротив, – снятие и разрушение. Эпизод заканчивается открыто символической сценой. Упавший колокол всей своей бронзовой массой наваливается на юного пионера Павлика и вдавливает его в стену церкви. Снаружи остается только красный галстук. Затем, изменив направление, колокол катится прямо на Ивана, вечного оппонента Рахманинова. Огромное его тело как бы гонится за человеком. И тот кидается бежать…
Но музыкальная поэма Рахманинова исполнена иными настроениями. Быть русским – значит терпеть. Нести свой крест. Смириться, когда ненависть и гнев переполняют душу. Чувство мести – рабское чувство. Труднее всего смириться со смертью. Но в финале поэмы звучит именно примирение. За примирением – свобода.
Есть и еще одна параллель к образам «Андрея Рублева» – воздушный шар, возникающий то в воображении главного героя, то перед внутренним взором его «оппонента» – стихийного народного бунтаря Ивана.
«…И вдруг большой, ярко разукрашенный воздушный шар Монгольфьер повисает над слуховым окном. Из корзины аэронавта выкидывается веревочная лестница. Мальчик уверенно и ловко карабкается по ней и взбирается в корзину. Шар плывет над городом, над крышами дворцов и домов, над куполами и крестами, над реками и набережными, над парками и садами. Звучит музыка, напоминающая литургию Св. Иоанна Златоуста. Восторженное лицо мальчика плывет над городом…»
Но в финале «Белой сирени» – безжалостная и, кажется, отрицающая всякий намек на гармонию рифма с начальным восхождением к небу. Больной, задыхающийся Рахманинов в своих видениях опять поднимается на колокольню. Этот подъем дается ему с большим трудом. Что же он, поднявшись, видит окрест? Обветшалые стены с обсыпавшейся штукатуркой, обрывки веревок, с которых срезаны колокола. Заснеженные пространства России. А внизу – сожженная, безжизненная деревня с черными скелетами обугленных изб… Внизу Рахманинов видит проваленный купол церкви, обшарпанные, загаженные стены… Откуда-то из-за горизонта до него доносится протяжный низкий удар колокола. Похоже, похоронный звон… Что это, «восхождение» к хаосу?
Нет, потому что и в финале киноромана звучит тема примирения – тема свободы.
И эта тема связана с образом Ивана, «сначала крестьянина, потом солдата, потом колхозника, опосля лагерного доходяги, после помощника капитана, а теперь обратно солдата». В начале сценария Иван исполнен злобы и ненависти к Рахманинову. Эти странные и почти необъяснимые чувства связаны с тем, что он ревнует к композитору свою возлюбленную – горничную семьи Рахманиновых Марину. Но для этого, кажется, нет никаких оснований, поскольку Иван и Марина любят друг друга, живут, наслаждаясь всеми плотскими радостями любви.
Дело в том, что между Мариной и Сергеем Рахманиновым существует почти мистическая духовная связь, которую чувствует Иван, которой завидует и которую не может ни постичь, ни преодолеть. Как и сама Марина не может отказаться от этой связи не только с самим Сергеем Васильевичем, но и с его семейством, с его домом, с его гнездом, которому она предана безмерно.
Становится понятно, что образ Марины в киноромане, как это часто бывает с женскими образами в произведениях Кончаловского, воплощенное материнское начало, дух Родины, скрепленный с душою Художника. Так это было и в «Андрее Рублеве». В «Белой сирени» эта тема приобрела более отчетливую образно-символиче-скую очерченность.
Как и Рублев, Рахманинов превращается в невольного странника. Дети его Родины изгоняют носителя своей духовности. «Какая странная у меня жизнь, – говорит композитор. – Меня все время откуда-то выгоняли. Сперва из дому, затем из Петербургской консерватории, затем выгнали из Ивановки (родового имения), а потом из России… Теперь гонят из Сенара (швейцарский дом Рахманинова. – В.Ф.) и вообще из Европы. Видать, так и будет до конца дней. Третьего гнезда мне свить не под силу…»
«Правда» Рахманинова, которую он несет в себе как Художник, заключается в творческом воссоединении России как общего дома живущих в нем. И эту «правду» Рахманинов пытается исповедовать и воплощать на деле, поверх всех идеологий, поверх всех «партийных» призванностей. Из его уст звучат слова, глубоко пережитые и самим Кончаловским, но в несколько более позднем возрасте, чем это происходит с композитором.
«…Всю мою юность мне так не хватало дома. Я мечтал о семье, о доме, где по утрам пахнет кофе и свежеиспеченной булкой, а с кухни раздается звон посуды…»
Творчеством своим Рахманинов, как и Рублев, преодолевает неизбежную обреченность русского художника на изгнание, на бездомье, на комплекс сиротства. И Родина отвечает ему, в образе Марины, духовной верностью, преданностью. Здесь, на высоте творческого полета, в том просторе, куда возносятся колокольные звоны, они едины.
В конце концов, по прошествии многих испытаний, Иван, которому всецело принадлежала плоть Марины, начинает постигать смысл этой таинственной связи дорогой ему женщины с домом композитора, с ним самим. Правда, происходит это уже после ее смерти. И Иван решает исполнить просьбу возлюбленной, которая хотела, чтобы он сберег вещи Рахманинова в его московском доме. Иван отправляется в Москву. На улицах города он видит поднимающийся к небу гигантский портрет Сталина (так аукается тема «Ближнего круга»). Путешествие Ивана заканчивается в кабинете следователя. Затем – лагеря. Затем – война.
Читатель встречается с Иваном уже в Сталинграде. Герой в кругу однополчан называет Рахманинова своим другом. Другом, с которым они любили одну девушку, а она потом, с гордостью говорит солдат, его, Ивана, женой стала. Ему, конечно, не верят. И никогда не поверят. Такова тяжесть вины, тяжесть духовного креста, возложенного на русского мужика Ивана. Он, не ведая глубинного родства с композитором, не ведая того, что творит, из стихийной зависти и ненависти рушит все, что принадлежит его «оппоненту» Рахманинову. А потом неожиданно прозревает свое высокое духовное родство с художником, братство по дому, по единому корню Родины, проступающей в образе Марины.
Когда смертельно раненного Ивана тащат вымерзшим полем битвы, он находит силы, улыбаясь щербатым ртом, промолвить: «А хорошая вышла у меня жизнь…» И внутреннему взору его, как в свое время и Рахманинову, откроется над тем же огромным полем, как к нему из-за горизонта приближается весь нарядный, весь в лентах и цветах, воздушный шар Монгольфьер…
…А задолго до этого Марина, после того как семья композитора покинет страну, с риском для жизни выкопает в усадьбе своих хозяев саженцы белой сирени, любимой Рахманиновым, и отвезет их к нему в Америку. Однако доставленная с таким трудом сирень не приживется на чужой почве, несмотря на заботу садовника-японца. И ее выбросят на мусор. Но потом…
Садовник. Мисс Рахманинова, я виноват! Вы можете меня уволить…
Наталья. Что стряслось?
Японец не отвечает, он семенит в угол сада и машет рукой, приглашая Наталью следовать за собой. Садовник подводит Наталью к укромному тенистому овражку, куда он свалил недавно срубленный увядший куст сирени. Среди гнилых сучьев, сохлой травы и всякого мусора лежит срубленный куст. Он цветет. Пусть всего лишь несколько тощих кистей дали цвет – это чудо неистребимой жизни…
Садовник. Я не знал, что русская сирень цветет, только если ее срубят…
Испытания «правды» героя в киноромане «Белая сирень», с его откровенной и необходимой символикой на грани мистических прозрений, есть испытание крепости и силы духовного родства и единства Художника и его Родины, их способности жить единым Домом. По сути, здесь подхвачена и развита тема самой глубокой новеллы из «Андрея Рублева» – «Колокол». Невозможно воплощение испоконвечной тоски русского народа по братству без единения трех конфликтующих и влекущихся друг к другу начал – Родины, Народа, Художника.
Авторы «Белой сирени» во что бы то ни стало, уже, кажется, и поверх всякой логики, жаждут эту правду утвердить.
«…И в музыке Второго концерта мы слышим колокола. Колокола, поющие о любви и рождении, набатные кличи, возвещающие о грядущих бедах и пожарищах, и сквозь все это – ликующие призывы, полные веры в торжество бесконечной жизни на земле и на небесах… К колокольне, как в далеком видении детства, над необъятными русскими просторами плывет, приближается яркий, цветастый шар Монгольфьер…»
Так, пройдя испытания и постигнув неизбежность возвращения, художник и его правда прибудут домой.
5
Испытывая крепость души и судьбу свою на стыках лет, культур, видов искусства и жанров, а также человеческих отношений, Андрей Кончаловский неотвратимо взрослел, созревал как художник и мыслитель. И в этом смысле становился все интереснее для почитателей и вызывал все большее раздражение у ниспровергателей. В те годы, когда многие из его кинематографического поколения естественным образом сошли с дистанции (иногда так и не достигнув настоящей зрелости), давно оставив экран и всякие иные попытки быть увиденными и услышанными, – в эти годы он продолжает ставить фильмы и спектакли, давать мастер-классы в самых разных аудиториях, выступать в роли острого публициста и блогера, задевающего за живое сетевой народ. Его энергии, слава богу, не видно предела, а сам он ощущает себя начинающим, готовым ежедневно учиться у жизни.
Обозревая первое десятилетие нового века в повседневном существовании и творчестве моего героя, уже привычно отмечаю их насыщенность событиями, разной, но всегда заметной степени значимости. И теперь не менее актуально то, что он говорил о себе еще в 1988 году: «Я человек жадный до работы, берущий проекты легкомысленно, порой безответственно (порой думаю: как выкарабкиваться?). Люблю несколько проектов сразу. Меня не преследует одна и та же картина. Я погружаюсь в абсолютно разные миры и от этого получаю удовольствие». А в дни своего 70-летия режиссер так отвечал на вопрос интервьюера, что для него отдых: «Мой отдых – это когда я прихожу домой и дети уже спят. Или утром, когда мы вместе завтракаем. Достаточно пять-десять минут, чтобы почувствовать, что они здесь, рядом. Для меня теперь отдых, когда я дома. А дом – там, где дети, поэтому везде стараюсь ездить с семьей. Раньше было по-другому…»
Но быть дома (в России? в Италии? в Англии?), то есть там, где дети, нечасто получается. В пути, в работе и проч. протекает его повседневность. Не это ли образ его жизни?
Вот некоторые события, большей или меньшей значимости, в последовавшие пять лет со дней семидесятилетнего юбилея Кончаловского.
Весной 2007 года он принял участие в числе тридцати трех выдающихся режиссеров мира в киноальманахе «У каждого свое кино», премьера которого состоялась на юбилейном 60-м Каннском МКФ, посвященном Федерико Феллини. В трехминутной миниатюре «В темноте» Кончаловский в который раз попытался выразить свою давнюю тревогу по поводу кризиса «высокого» искусства в современном мире. Феллини, точнее, его кино и является главным «героем» короткометражки. Когда смотришь этот лаконичный фильм, невольно вспоминается горькое высказывание итальянского классика: «Мой зритель умер»…
Осенью того же года выходит книга А. Кончаловского и В. Пастухова «На трибуне реакционера», цитаты из которой читатель встречал на этих страницах. Издание вызвало ожесточенные споры. Но критика книги вовсе не смущала автора – ее он ожидал и воспринял как еще один «подарок» к своему 70-летнему юбилею.
В отрицательных отзывах на публицистику Кончаловского-Пастухова можно было прочесть: «Во всем, как всегда, виновата интеллигенция, соблазненная миролюбивым оскалом импортного либерализма. При этом Кончаловский… предстает именно советским интеллигентом со всеми присущими ему комплексами, характерным языком и иконостасом местночтимых «святых»… Он – плоть от плоти советской интеллигенции, пусть и с одним различием: Кончаловский осуждает интеллигентов и объявляет себя реакционером. Декларируя раз за разом необходимость отказа от понятий «свобода», «демократия» etc., Кончаловский не стесняется в своем тексте раз за разом по-своему определять их. Казалось бы, если уж надо отказаться, то стоит объяснить почему и больше их не употреблять… Кончаловский – классический советский интеллигент – один из тех, на кого он обрушивается, стоя «На трибуне реакционера».
Воспринявшие книгу доброжелательно писали: «Каждый текст в книге… посвящен какой-то одной очень серьезной проблеме. Текст – очень плотный по мысли, афористичный. Тезисный характер изложения диктует компоновку наиболее продуманных, прочувствованных мыслей, выбор самых красноречивых фактов – будь то эссе о страхе как возможности свободы или смерти, постоянная память о которой помогает не забывать, насколько бесконечно ценна каждая секунда нашей жизни, или эссе о таких явлениях, как буржуазность, коррупция и др. Некоторые выводы переходят из одного текста в другой, обогащаясь новыми нюансами, что говорит об их выстраданности, неслучайности».
Весной 2008 года начались съемки фильма Майкла Хоффмана «Последнее воскресение» по биографическому роману Джея Парини о последнем периоде жизни Льва Толстого. В производстве фильма приняли участие Германия, Великобритания и Россия. Сопродюсером картины выступил «Продюсерский Центр Андрея Кончаловского». Сам режиссер, кроме того, исполнял роль «советника и гида» в рамках отечественного материала картины. Картина оказалась добросовестной попыткой приблизить к зарубежному зрителю ту сторону личности русского гения, которую можно было бы назвать человечностью, способностью чувствовать и любить.
В 2010 году фильм получил по две номинации на американские премии «Золотой глобус» и «Оскар»: «Лучшая женская роль» (Хелен Миррен) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Кристофер Пламмер). Хелен Миррен, русская по происхождению, сыграла в фильме роль жены Льва Толстого Софьи Андреевны. Его же самого исполнил Кристофер Пламмер.
«…Кристофер Пламмер и Хелен Миррен, – по мнению Кончаловского, – выдающиеся артисты мирового кино. Кристофер Пламмер сыграл замечательные роли у Калатозова, у Бондарчука в «Ватерлоо». Он большой артист. И то, что он согласился играть Толстого, замечательно, потому что он донесет до зрителей всю глубину персонажа… Это достойная картина, где главное – искреннее желание понять Толстого. И подано это в занимательной форме…»
В феврале 2008 года состоялась радиопремьера оперы «Преступление и наказание» по мотивам одноименного романа Достоевского. Оригинальная идея постановки принадлежит Кончаловскому. Он же принимал участие в создании либретто оперы вместе с Марком Розовским и Юрием Ряшенцевым. Музыку писал Эдуард Артемьев
Работа над этим проектом была начата еще в середине 1970-х. После того, как режиссер посмотрел в театре Г. Товстоногова поразившую его «Историю лошади», созданную М. Розовским и Ю. Ряшенцевым по толстовскому «Хол стомеру».
«Я увидел, что они сумели найти в совершенно новой форме выражение таким вещам, которые трудно было себе представить воплощенными на сцене… Тогда же появилась и знаменитая рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», также меня поразившая неожиданностью темы, избранной для изложения рок-музыкой. К тому же, рок-музыка здесь заявила о возможности овладения большой оперной формой. Это заставило меня задуматься над тем, что можно было бы сделать в подобном жанре…»
Как раз в это время режиссер писал сценарий о Достоевском для Карло Понти. В ходе работы ему и пришла в голову мысль сделать «такой зингшпиль» по «Преступлению и наказанию». А лучших авторов, чем те же Розовский и Ряшенцев, он и представить себе не мог. Они начали работу по заказу Театра-студии киноактера, где Кончаловский и собирался осуществить постановку.
Соавторы написали большую серьезную пьесу со всем уважением к роману. Но Кончаловскому показалось, что форма еще не найдена. Возник спор, в результате которого Розовский решил сделать спектакль сам и поставил его в Риге под названием «Убивец». Кончаловский посмотрел этот спектакль и понял, что нужно делать оперу. В 1978 году режиссер присоединился к соавторам «Убивца» и началась работа над либретто. Ряшенцев написал стихи, а музыку начал создавать Э. Артемьев, на что ушло довольно много времени.
«Уже в первом варианте были номера просто замечательные. В частности, романс шарманщика, глазами которого мы видим происходящее. Шарманщик – это отчасти Достоевский, но он же черт и оборотень. Это – видение Раскольникова. Из сплава прибаутки, пошлого городского романса, серьезной классической музыки и рока Артемьев сложил наш музыкальный коллаж. Это Достоевский в форме оперы. Сгусток Достоевского – хотя, конечно, от него в нашей опере остались только философия и истерика – две вещи, которые в произведениях этого писателя есть всегда».
В мае 2009-го прошел международный симпозиум памяти всемирно известного политолога и культуролога Самюэля Хантингтона «Культура, культурные изменения и экономическое развитие». В Государственном университете – Высшей школе экономики выступали как российские, так и зарубежные ученые с мировыми именами. Выдающиеся современные исследователи назвали симпозиум «одним из главных научных мероприятий года не только в России, но и в мире».
Ярким и интересным охарактеризовали и выступление Кончаловского «Русская ментальность и мировой цивилизационный процесс».
«Для меня, – рассказывает он, – было откровением пообщаться с моими кумирами, я бы сказал, учителями в области культурологии – американцем Лоуренсом Харрисоном и аргентинцем Мариано Грондона. Я во многом сформировал понимание судьбы моей страны под влиянием их работ и, конечно, работ ушедшего от нас профессора Самюэля Хантингтона…
…Я шел на симпозиум в надежде понять, как анализ фундаментальных культурных оснований национального сознания может помочь нам нащупать пути его реформирования. У нас есть только одна научная организация, способная пролить свет на причины провала всех попыток властей направить страну по пути модернизации – Высшая школа экономики. Это крайне мало. Попытки такие регулярно проваливаются уже лет триста, а правительство до сих пор не понимает, что необходимо научное исследование национального менталитета…»
Мы все, снизу доверху, убежден Кончаловский, «заложники этой ситуации. Самая сложная задача, стоящая перед российским правительством, – пытаться внедрить в общество систему личного и коллективного чувства ответственности. Я убежден, что русские национальные особенности таят в себе не только конструктивные, но и разрушительные силы, и эти силы могут оказать более глубокое влияние на течение событий в России, чем силы внешние – будь то США, Китай или глобализация. Пока мы не расшифруем этические установки, тормозящие развитие страны, мы не создадим гражданское общество…»
Доклады, посвященные России, разочаровали Кончаловского. «Было впечатление, что никто из наших ученых не придает значения типологии культурных особенностей Грондона-Харрисона, а это, я бы сказал, таблица Менделеева в культурологии… На симпозиуме не прозвучало ни одного совета, как толкнуть российское сознание на путь развития. Было ощущение консилиума врачей, которые констатируют, что пациент опасно болен, но вместо лечения заявляют, что было бы неплохо, чтобы он выздоровел…»
Я уже говорил, что весной 2012 года режиссер завершил работу над очередным документальным фильмом из цикла «Бремя власти» – «Битва за Украину». Несколько ранее, комментируя свой новый труд, Кончаловский, в частности, говорил: «…большевистская идея экспорта революции насильственным путем… была погребена. Но она возобновилась в современном мире, как ни странно, американцами. Началось это со времен Буша-младшего… Сегодня революции планируются по абсолютно американскому методу маркетинга, точно по такому же, как продается, например, кока-кола или продукция Макдональдс… По этому «рецепту» и делались все революции – в Словакии, Грузии, Киргизии, в Украине…
…Используется, как правило, момент выборов, потому что оппозиционная проигравшая сторона всегда может сказать, что выборы были фальсифицированы. Затем заявления оппозиционной стороны поддерживаются, как правило, ОБСЕ, подтверждающей факт фальсификаций. Затем начинаются массовые восстания.
Подобные попытки революций были в Молдавии и в Белоруссии… Собственно, так готовилась и украинская «оранжевая» революция. Мне показалось интересным поговорить об Украине, исследуя эту тему…
…Эта работа длительная, и я рад, что я еще не закончил фильм, потому что, когда я начинал его снимать, тогда еще Ющенко был у власти. И я помню, с каким восторгом его встречал Сенат США… И где он теперь, кто ему «целует пальцы»?.. И то, что провал «оранжевой» революции доказывает ее «искусственность», и сегодняшнее возвращение Украины к более традиционному курсу, и то, что к власти пришел Янукович, – для меня лично факты весьма позитивные… Потому что, безусловно, «оранжевая» революция была победой Запада, латинского мира. Почему латинского? Потому что «битва за Украину» – это процесс, который длится уже не один век. Это битва, которая ведется… между Западом… и восточным миром, восточной церковью, славянами и Византией. Эта война между латинцами и славянами идет давно… И то, что Украина является местом приложения двух крайних цивилизаций – восточной и западной – для меня чрезвычайно увлекательно. Мне кажется, что это может быть интересный фильм о том, как Украина, являясь полем битвы, выбирает то одну, то другую стороны в силу различных политических событий. У нее сейчас есть уникальный шанс, на мой взгляд, стать тем, чем когда-то стала Швейцария. Или Австрия, когда она стала неприсоединившимся государством, сохранившим постоянный нейтралитет, имея при этом добрососедские отношения со своими западными соседями и с восточной частью – с Россией.
Естественно, когда мы делаем картину о периоде «оранжевой» революции и о том, что ей предшествовало, неизбежно возникает вопрос о роли Кучмы… который, на мой взгляд, очень интересная политическая фигура. Он был у власти в момент перелома, когда Украина (из советской республики) стала самоопределяться, стала национальным государством, стала выбирать, с кем дружить. Потом начала кидаться из стороны в сторону, прислоняясь то к одной, то к другой стороне, и потом все закончилось тем, что Кучма был вынужден уйти. Случилась победа, но, насколько я сейчас понимаю, временная победа Запада в борьбе с Россией за сферы влияния…»
Вчерне фильм был готов еще весной 2011 года, и фрагмент из него показали в Украине. Отклики последовали немедленно и самые разноречивые. В фильме видели, например, заказ. С возражениями выступил украинский журналист Кость Бондаренко:
«Те, кто сегодня усмотрел в фильме некий заказной характер, ошибаются. Думаю, точно с такой же степенью цинизма можно говорить о том, что Михаил Ромм снял «на заказ» фильм «Обыкновенный фашизм» или Френсис Форд Коппола «Апокалипсис сегодня» – ведь эти фильмы были сняты настоящими Мастерами и в ту пору, когда общества, обожженные войнами, искали ответы на многие актуальные вопросы. Благодаря Мастерам расставлялись акценты, формировались мировоззрение, оценки. Так было, и так будет.
В конце концов, Кончаловский дает свое видение и никому его не навязывает. Он приглашает к дискуссии. Он дает возможность высказаться таким разным людям, как Мороз и Гольдфарб, Мостовая и Табачник, Мельниченко и Фелыптинский. Он насыщает фильм хроникой. Он пытается воссоздать ситуацию. Он размышляет о времени и о людях. И задает вопросы, на которые не может найти ответы. И на которые, к сожалению, сегодня не ищут ответов и в Украине…»
6
Размышляю над тем, что создал в первое десятилетие нулевых режиссер, над ближайшими и дальними его замыслами, над публицистическим выступлениями, высказываниями в приватных беседах, и прихожу к выводу, что при внешнем благополучии его нынешнего существования в нем болезненно не утихает глубокая обеспокоенность зрелого мастера современным состоянием и страны, и мира, и своим собственным. Не утихает то, что я здесь уже называл «трагической тревогой».
В нем есть почти инстинктивное ощущение тупика, в котором Россия, ее народ сегодня оказались. И откуда, как он полагает, выход может быть только при наличии у государственных лидеров «политической воли» с помощью интеллектуальной элиты принять «идею дешифровки генома русской ментальности» с последующей его «модификацией через индоктринизацию». Он ссылается на Александра Зиновьева, который говорил о «регулируемой истории». «Это ничего общего не имеет, – замечает Кончаловский, – с планами Явлинского, которые касались исключительно экономических реформ, ему и в голову не могло прийти, что все беды России лежат в культурном геноме, в системе ценностей, в несформированном чувстве личной анонимной ответственности…» Словом, культура – это судьба, но судьбу можно изменить…
В одном из интервью конца 2010 года он сказал замечательную вещь: «Если бы у меня было больше денег, то я прежде всего истратил бы значительную часть на то, чтобы изменить русскую ментальность». И в очередной раз разъяснил, как он представляет себе «технически» перековку отечественной «крестьянской ментальности»: «При сегодняшней способности государства вмещать в подсознание человека все, что угодно, средств для этого столько – телевидение, школа, армия, церковь, – что за пятнадцать лет можно было бы воспитать поколение родителей, которые бы уже дальше воспитывали детей… Если понять алгоритм действия русской души, то мы поймем, как его поменять. Нет главного – это называется «индивидуальная анонимная ответственность личности», у нее должны быть внутренние принципы ответственности… Это и есть буржуазное сознание. Я пытаюсь об этом говорить. Когда правительство будет в полной жопе, когда усугубятся климатические обстоятельства, тогда, наверное, они начнут понимать, что надо что-то делать, – а может, и не начнут. Нужен очень продвинутый мозг, чтобы назначить в советники умных людей, а потом этим людям не мешать. А потом на это нужно много денег. Но это возможно, и в России тоже – я утверждаю, надо максимум два миллиарда долларов, чтобы это реализовать. Два миллиарда долларов и абсолютно сознательная политическая воля…»
Коротко говоря, нужен свой Ли Куан Ю и деньги?
И он уже сам ищет более широкий контакт с аудиторией страны через интернет, пропагандируя в качестве активного блогера свои идеи. С апреля 2011 года здесь подняты темы, прямо связанные с его культурологической концепцией преобразования национальной «системы ценностей», в частности: о «цветных» революциях; о доверии; о брошенных и забытых (судьбы стариков и детей в стране); о съезде «Единой России» как зеркале «модернизации по-русски»; о национальной идее и анонимной ответственности; о безответственности русских людей…
Выступления получают такой широкий резонанс, которому он и сам поражается. Так, на размышления режиссера о съезде единороссов (ноябрь 2011-го) откликнулось до полусотни тысяч человек. Вдохновленный Кончаловский целое выступление посвятил своим ответам на эти отклики. Вот фрагменты.
«…Все вопросы делятся на три вида. Авторы первой группы заранее отрицают все, что я говорю, заранее имеют точку зрения, что я какой-то прикормленный… Вторая группа спрашивает очень по-русски: «Кто виноват?». Третья: «Что делать?»
По поводу первой группы. Недоверие – я не удивлен этому. Узкий круг доверия – это основной признак всех стран, где сознание не эволюционировало в буржуазное и осталось, по сути, крестьянским.
Когда я говорю «крестьянское» – это необязательно о людях, которые работают на земле. Они могут давно работать в городе, на заводе и даже в Кремле, но сознание у них крестьянское. Вот сейчас Москву «захватили» люди из Петербурга. Но я могу понять их, потому что доверия мало, а знакомым-приятелям веришь. Поэтому сегодня – «петербуржцы». Но завтра, если в Кремль придет житель другого региона, все властные структуры наполнятся жителями из какого-нибудь «усть-урюпинска»…
По поводу доверия есть замечательная книжка Стивена Кови «Скорость доверия». Кови считает, что доверие– основа настоящего прогрессивного человека, и без доверия не хватает самого главного, не хватает денег: недоверие удваивает ваши расходы на ведение бизнеса. 45–50 % энергии человека в нашей стране уходят непроизводительно, потому что никто друг другу не верит.
Вторая группа. Пишут: «Путин не только виноват, – он идейный создатель коррупционной системы. Не народ говно, а государственная машина, имеющая своей целью производство себя самой и не более».
Насчет государственной «машины», которая «виновата». Знаете, есть такое слово научное: «трансцендентность». Для определенных обществ и культур государство трансцендентно. Что это значит? Это: государство – само по себе, а мы – сами по себе, только не трогайте нас. Пропасть между народом и государством.
Что получается в таком обществе? «Вы не вмешиваетесь в наши дела, а мы не будем вас трогать». Но в гражданском обществе граждане говорят: «Наш премьер сделал ошибку, давайте его поправим». И вмешиваются. Но главное, что премьер или государство чувствуют, что люди заинтересованы, чтобы власть исправляла свои ошибки. Государство без желания масс, без возможности гражданам вмешаться, – коррумпируется, занимается собой, а главное, пытается сохранить свою власть. И задача граждан – заставить себя слушать.
Мы с вами абсолютно пассивны. Поэтому, пока вы как личности каждый не «перешагнете» через эту ПРОПАСТЬ между вами и государством, ничего значимого не произойдет.
Теперь про третью группу. Еще раз повторю: народ, граждане заставляют государство заботиться о себе.
Вот ценная мысль: «По отдельности мы – хорошие люди, большинство. А в общности своей – неорганизованное стадо… Только с реальной, многомиллионной организацией они бы стали считаться…» Вот это действительно феномен: хорошие люди вместе редко объединяются.
Еще вопрос: «Как же в других государствах люди стали гражданами?» или «Что нужно для того, чтобы люди стали гражданами?».
Или: «Задайтесь вопросом, г-н Кончаловский: раз уж мы все такие безнадежные, почему на Западе не так, хотя люди, по сути, все одинаковые?»
Это главное заблуждение. Люди при рождении все одинаковые, а когда начинают ходить и говорить – уже разные, потому что там вступает в силу воспитание, традиции и то, что я называю культурой.
Русская история не имела того исторического пути, при котором бы возникло гражданское общество. В России не было частной собственности. Единоличным хозяином всего был царь и остается Кремль. Всем этим олигархам разрешили быть богатыми, и в любой момент у них все это можно отнять. Это значит, что русский человек остался безземельным крестьянином. Не было собственника, поэтому не возникло буржуазии. А не возникло буржуазии, значит, не может быть гражданского сознания».
Кончаловский часто вспоминает изречение своего приятеля и соавтора по сценарному делу писателя Фридриха Горенштейна, который называл Достоевского и Толстого «Дон Кихотами русской литературы», а Чехова – ее «Гамлетом».
Я слушаю Андрея и отмечаю про себя его «чеховский» объективизм, трезвость в оценке нынешнего положения дел и в мире, и в России, и в собственном «дому», когда он наездами бывает на родине, ощущая себя как в резервации. Дальнейшее, в смысле перспектив, не вызывает отрадных чувств. Но тут же, как будто возражая самому себе, он с «донкихотовской» страстью утверждает свою идею преобразования культурных ценностей нации, с необыкновенным упорством уже в течение двух десятков лет, пожалуй, озвучивает ее, идею, публично. Все, как всегда, на стыке. И при полном одиночестве этого «счастливчика» из поколения «детей войны».
У меня иногда складывается убеждение, что в нем самом, счастливом носителе «идеи дешифровки генома русской ментальности», живет ощущение утопичности этого предприятия, непреодолимости тех барьеров, которые ставит перед ним реальность. А чувство угрожающей бессмысленности происходящего усиливается до такой степени, что от всего этого хочется убежать ради спасения и себя и семьи, упрятаться, подобно предполагаемому герою нового «Глянца» (он собирается делать продолжение фильма). Но куда? И возможно ли уйти от трагической тревоги, которая сидит внутри, – разве что в работу, в творческий поступок? Вот и получается «счастливый Несчастливцев».
Стык этот как раз и аукается на той глубине, где правит искусство. А на поверхности? На поверхность жизни проступает, например, изречение, которое он любит цитировать: «Счастливые люди не имеют ничего самого лучшего. Но они извлекают самое лучшее из того, что они имеют». Поскольку, по Джону Грею, человек отличается от животного тем, что ему нужна цель жизни, то почему такой целью не может быть цель «просто жить и видеть»? «Надежда всегда есть, но надежда ведь не в том, чтобы у нас была демократия и каждый ездил на «Бентли». Надежда в том, чтобы люди могли жить здоровой жизнью, пить чистую воду, дышать чистым воздухом. Честно говоря, и этого уже скоро не будет… И тут уже никакая демократия ни при чем и никакое правительство…»
Конец 2011-го – начало 2012 года – время выборов в Думу и подготовка очередных выборов Президента страны, время общественного подъема, борьбы за «честные выборы», митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова, столкновений в прессе и на телешоу… Кончаловский не упускает случая заявить еще и еще раз свою позицию, свой взгляд на события – с точки зрения своих представлений о специфическом менталитете соотечественников, о возможности демократических реформ в стране. Его статьи появляются на страницах газет, он участвует в острых политических дискуссиях на телевидении, обращается к интернет-сообществу через свой блог. И во всех этих случаях его позиция (какой бы она ни была!) не утрачивает своей особости, она не кренится ни в сторону так называемых «государственников», ни тем более в сторону завзятых либералов, а остается, как всегда, на стыке.
В конце февраля 2012 года Кончаловский выступил в своем блоге, который назвал «УЖАСНИСЬ САМ СЕБЕ!». Публицистически заостренное, точное и убедительное по мысли, по сути понимания положения дел в стране, это выступление подводило итог целому ряду его обращений к соотечественникам. Вот фрагменты:
«Я недаром выбрал это заглавие. У Маркса есть знаменитая фраза: «Чтобы вдохнуть в народ отвагу, нужно заставить его ужаснуться самому себе!» Вот и я уже который год призываю мой народ ужаснуться многим фактам и обстоятельствам русской жизни, чтобы обрести отвагу и желание ЖЕЛАТЬ! Желать самому меняться и менять жизнь вокруг себя!
Меня уже давно записали в русофобы, который презирает свой народ. Глупость – тогда русофобами можно назвать и Чехова, и Горького, и Герцена, и Чаадаева – великих русских, желавших разбудить Россию, а не искать бесконечно виноватых в своих горестях.
Русский народ не мертвец, чтобы о нем говорить только хорошо. Это живой, полный сил, талантливый народ, просто еще не прошедший своего исторического пути, ведущего к процветанию и успеху каждой личности. Так что будем говорить об ужасном в русской реальности. А кто хочет слушать о себе приятное, читайте выступления Президента Медведева или сказки Афанасьева…
…Как это ни трагично, я думаю, что, очевидно, это еще не предел, не самое худшее, мы еще не коснулись дна, и народ еще не дозрел до способности ужаснуться себе самому и, наконец, обрести отвагу, чтобы спросить: «где мы живем?»…
…И я думаю, неужели должна вымереть половина нации и русские должны ужаться до Урала, чтобы народ проснулся (повторяю: народ, а не крохотная группа думающих людей!) и потребовал от власти не приятных успокаивающих новостей и очередных обещаний, а правды, и прежде всего – признания того, как сейчас плохо!
…Сегодня Россия приближается к демографической и моральной катастрофе, которой она никогда не испытывала! Этот факт связан со многими обстоятельствами. Главным из которых является безответственная экономическая политика 90-х, рухнувшая на людей с феодальным сознанием, никогда не знавших частной собственности на землю и капитализма, людей, которые за 70 лет потеряли навсегда зарождавшийся дух предпринимательства.
Что делать?
Как пишет Михаил Берг (цитирую по памяти): «Мы живем в одной стране, но у нас два народа. Крохотная кучка думающих, которым нужна большая свобода и честные выборы, и огромная «непродремавшаяся» масса российского обывателя. И между ними пропасть из страха, самого сильного и опасного страха, и социального недоверия… Можно бороться с «партией жуликов и воров», можно корить русское чиновничье семя, испоганившее собой всю русскую историю, но невозможно отменить тот факт, что непременное большинство русского населения практически не меняется в своих фундаментальных характеристиках уже много веков!…» От себя добавлю – ваши угнетатели выходят из ваших же рядов!
Поэтому я не знаю, что делать, кроме как попытаться встряхнуть людей и заставить их ужаснуться… Мне кажется, что мотивировать человека можно, когда он в сознании и хочет спастись. А если он в обмороке или в летаргическом сне? Иногда, чтобы привести человека в чувство, врач бьет его по щекам.
Я знаю, что я услышу в ответ, но понимаю, что, если хотя бы треть читающих эти слова была согласна со мной, то РОССИЯ БЫЛА БЫ ДРУГОЙ СТРАНОЙ.
Я убежден – России нужен лидер, который имел бы смелость Петра Великого, чтобы сказать людям слова, которых они давно не слышали. Эта будет горькая правда, ибо трудно признаться, что Россия не может двигаться вперед, потому что не хочет понять, как далеко она отстала в своем цивилизационном развитии от Европы. Только четкое и воодушевляющее, пусть безжалостное, но живое и искреннее слово может стать поводом для национального пробуждения от феодальной спячки.
Только сделав это, можно надеяться, что нация, инстинктивною своею мудростью поймет и примет тот нелегкий и, может быть, беспощадный путь, который только и может выдернуть нашу страну из ямы, в которую мы погрузились…
Я русский и скучаю по своей Родине – потому что я ее не вижу! Я не вижу страны, которой я хочу гордиться. Я вижу толпы недовольных раздраженных лиц и чужих людей, боящихся друг друга! Я хочу гордиться своей Родиной, а мне за нее стыдно! Когда я гордился Родиной последней раз? Не помню! Но я точно знаю, что ПРАВДА о том, в каком состоянии находится наш народ, ПРАВДА, сказанная громко, на весь мир, вызвала бы у меня больше гордости, чем победа наших хоккеистов на Олимпиаде».
22 сентября 2011 года Кончаловский был награжден французским орденом Почетного легиона. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания заслуг перед Францией. Эту награду за большой вклад в киноискусство и развитие культурных связей между Россией и Францией вручил режиссеру Жиль Жакоб, президент Каннского кинофестиваля.
Из речи Жиля Жакоба при вручении Ордена:
«Дорогой Андрей,
Вы просили, чтобы именно я вручил вам этот орден. Вам, народному артисту России, награжденному орденом «За заслуги перед Отечеством» и другими наградами. Я почти отказался от этой чести по личным мотивам, о которых я вам никогда не рассказывал.
В 80-х, будучи директором Каннского кинофестиваля, дважды в год я приезжал в Голливуд на поиски новых фильмов. В Голливуде со мной работала хорошенькая молодая секретарша… Замечательный сотрудник! Однажды она показалась мне очень мечтательной. О! Она продолжала работать, но думала о чем-то другом. Или о ком-то другом. Больше я не скажу ни слова. Но я бы не удивился, если историк кино установил бы тот факт, что некий красивый молодой советский режиссер, будучи проездом в Голливуде, нашел убежище в квартире и сердце молодой девушки.
Конечно же, с тех пор прошло очень много времени. И я с благодарностью принял предложение стать вашим «крестным отцом» по более веским причинам.
Первая – это ваши отношения с Францией, страной, где ваша старшая дочь Александра растит ваших внуков. Ваша прапрабабушка была француженкой; ваша двоюродная бабушка Виктория Петровна Кончаловская жила в Париже с 1905 года и преподавала русский язык в Сорбонне. Ваш дед, Петр Кончаловский, художник… был другом Матисса и Пикассо, любил Сезанна, Моне, Ван Гога, стоял у истоков французской живописи в России… Вашей маме, Наталье Кончаловской, мы обязаны биографиями Брассенса и Пиаф, она была единственным переводчиком с провансальского языка… Ваш отец, известный поэт и драматург, написал стихи российской «Марсельезы». Какая семья! Семья, вызывающая робость и почтение.
Вторая причина заключается в том, что вы стали выдающимся художником, достойным потомком этой семьи, корни которой берут начало в XV веке. Вы всегда держите руку на пульсе вашей страны. Сколько бы вы ни путешествовали, глядя на мир, в частности на Соединенные Штаты и их процветающий капитализм, вы всегда возвращаетесь домой…
Вы начали свой режиссерский путь двумя мастерскими работами. От «Первого учителя» я храню в памяти невинность новой волны и смесь чувственности и лиризма, которые, наравне с иронией, впоследствии станут движущей силой вашего творчества. «История Аси Клячиной», один из лучших ваших фильмов, в котором свежесть чувств и свобода стиля проявились с размахом маэстро… Вы уже тогда удивительным образом показываете, насколько хорошо вы разбираетесь в народе, особенно в крестьянах (или я должен сказать «в мужиках»?), и с какой точностью проявляете настоящую привязанность к ним, избегая всякого превосходства…
Ваше творчество направлено не только на понимание русской души. Через социальные потрясения оно следует за грандиозными изменениями нашего века.
Оно отражает взаимодействие идей и людей в ключевые моменты в истории народов…
Будучи талантливым художником и свободным человеком, вы неизбежно столкнулись с завистниками и льстецами. Для вечных недоброжелателей вы воспеваете старую феодальную аристократию, для советских идеологов – вы агент ЦРУ, для наших местных – вы шпион КГБ: об этом свидетельствуют ваши поездки между Западом и Востоком.
Зная степень вашей поразительной культуры и твердость вашей независимости, я смеюсь им в лицо. Потому что ваше творчество опирается в основе своей на ваши корни, и в нем нетрудно увидеть отчаянную попытку вернуться к основам идентичности вашей страны сквозь ее уклад жизни, ее страдания, ее надежды… Но ничего не поделаешь, двойственность долго была частью вас, самого русского из путешествующих режиссеров. В этих условиях неудивительно и логично, что один из ваших последних фильмов называется «Дом дураков», очень смелая картина…
Есть режиссер, доверяющий инстинкту, и режиссер, любящий кино. Вы являете собой квинтэссенцию обоих, потому что вы – человек, находящийся между двумя ипостасями. Между двумя социальными классами, между Востоком и Западом, между Севером и Югом, между двумя профессиями сценариста и режиссера: 32 сценария, 25 художественных фильмов, оперные и театральные постановки, массовые мероприятия, книги, статьи. При этом не забывая наслаждаться жизнью и изящно любить женщин. Я приветствую присутствующую здесь Юлию Высоцкую, вашу супругу. Наконец, вы – отец семерых детей.
Увлеченный когда-то мистическим опытом, вы могли бы стать буддийским монахом, если бы жажда жизни не была сильнее, даже если ваше мировоззрение окрашено бескомпромиссным наблюдением за обществом, не оставляющим иллюзий о нашем мире. Благодаря вашему моральному духу Спинозы, это здравое разочарование не исключает достижение счастья и реализуется через ваше творчество.
По-моему, вы всегда будете художником вневременной традиции, певцом «природы, Русской земли», как показывает знаменитая «Сибириада», которую я имел удовольствие выбрать для Каннского фестиваля, и где она выиграла Гран-при жюри, что явилось отправной точкой вашего американского маршрута, такого важного личного вызова. Я не забываю, что так же, как Рене Клер и Жан Ренуар, вы были одним из немногих кинематографистов, не принадлежащих к англо-саксонской культуре, сделавших успешную карьеру в Голливуде. Но именно во Франции вы получили наибольшие почет и признание.
Именно поэтому, уважаемый Андрей Кончаловский, мы посвящаем вас в кавалеры ордена Почетного легиона».
Под оберегом «энергии заблуждения» ВМЕСТО ЭПИЛОГА
…Когда уже где-то на шестом десятке страх смерти всерьез ожил во мне, я решил все же еще раз жениться и сделать еще детей. До этого я размышлял так: да, мне эта женщина очень нравится, но жениться-то зачем? Можно и так замечательно быть вместе. Страх смерти заставил взглянуть по-иному.
Андрей Кончаловский. Низкие истины…Меня пока ведет то, что Толстой называл энергией заблуждения…
Из интервью с Юлией Высоцкой. Май 2006 г.1
…В июле-августе 2006 года в районе Донского монастыря, на полузаброшенном предприятии под названием, кажется, «Красный пролетарий» проходили съемки «Глянца», в котором так или иначе откликнулись страницы биографии жены моего героя Юлии Высоцкой.
Есть немало описаний практики киносъемок – у того же Кончаловского. И везде их образ рисуется неким хаосом, где каждый тянет одеяло на себя и совершенно при этом непонятно, как режиссеру удается снять то, что он задумал. За всем угадывается символическое преодоление стихии повседневщины и произрастание произведения из сора жизни. Вот почему внутренне вы готовитесь, в случае посещения съемочной площадки, не только к неизбежной суете, но и, несмотря ни на что, – встретиться со священнодействием.
…Миновав проходную предприятия, оказываешься среди унылого пространства, уставленного металлическими конструкциями. Чуть погодя проникаешь и в саму декорацию. Несколько коротких коридорчиков, лесенка и – нате вам: съемочная площадка. Перед ней – «предбанничек», где на диванах и в креслах, вероятно относящихся к реквизиту, валяются какие-то люди, то ли в коротком сне после творческого труда, то ли, напротив, в состоянии медитации перед творческим процессом.
Сама площадка – довольно скромное открытое пространство – заставлена всевозможной аппаратурой, какими-то предметами, вещами, необходимыми для съемки и узнаваемыми по сценарию. Абстрактные скульптурные изображения, такие же изображения фотографические, опять же кресла, диванчики, рояль в центре.
Вверху, вместо потолка, огромные подрамники, обтянутые холстиной, вероятно, для обеспечения соответствующего освещения. Одна из стен декорации оказалась прозрачной, за ней угадывалась фотопанорама Москвы с высоты птичьего, так сказать, полета.
Какие-то выгородки, углубления, всюду провода-проводочки и суетливое передвижение, на первый взгляд, совершенно бездельных странных фигур, в основном довольно юных. Все это, с точки зрения непосвященного, действительно выглядит бессмысленной суетой…
В страшном смущении и внутреннем одиночестве долго ищешь место, где бы пристроиться, чтобы не мешать всем этим передвижениям и не повредить дорогостоящую аппаратуру. Находишь. Попутно отыскиваешь глазами знакомую долговязую сутуловатую фигуру… Среди общего нелепого движения фигура не очень приметна, но вместе с тем руководит процессом. Правда, выходит это как-то не по-режиссерски. Не слышится громогласных указаний, не видится помований руками и проч. Уж слишком все было обытовлено, прозаично, вроде бы даже и нехотя.
…Шли репетиции и съемки эпизода, когда несколько крутых братков истязают торговца «лохматым золотом», обещают ему страшные муки, если он не ответит на их требования.
Незамысловатые их манипуляции и очень лаконичный текст повторяются в течение трех часов, пока вы там находитесь, и делаются уныло привычными для вас, не говоря уже об участниках творческого процесса. И весь процесс в конце концов становится полным занудством, которое наблюдателем выносится с большим трудом, утомляет до головной боли.
Но не похоже, чтобы скучал или утомлялся сам режиссер. Он давал какие-то указания исполнителям, осветителям, прочим участникам, время от времени опрыскивал из пульверизатора физиономию пытаемого – и делал это все с видимым удовольствием, чему любой посторонний мог искренно подивиться: в чем, собственно, кайф? Причем при наличии заметного беспорядка режиссер не то чтобы не кричал, но даже и голоса не повышал. И что же? В суете, казавшейся непреодолимой (на ограниченной площадке было несколько десятков человек), обязанности каждого все же исполнялись.
А он не только руководил съемкой, но при этом успевал дать интервью какому-то иностранному изданию. Помимо этого, он беседовал с то и дело на него набегавшими людьми, ставил автографы на недавно вышедшей вторым изданием книге «Низкие истины», попутно его снимал фотокорреспондент популярного отечественного СМИ.
Внимание привлек малозначимый, на первый взгляд, момент. Во время репетиции эпизода режиссер с каким-то особым вниманием отнесся к ситуации, когда главный из мучителей, узнав, что истязуемый ничем не может содействовать и вообще оказался «невиновным», произносит: «Жалко!» Он, крутой бандюган, пожалел жертву – пробудилось что-то человеческое. И подумалось, что ежели этот эпизод останется на экране с теми рекомендациями по поводу интонации только одного слова «Жалко», которые делал режиссер, то даже и к такому отвратительному персонажу нужно будет присмотреться повнимательнее…
Размышления на тему отношения режиссера к героям, населяющим создаваемый им художественный мир, заставляют вспомнить и тот нравственный постулат, который берет на вооружение Кончаловский: «Я должен любить тех, с кем в данный момент работаю…» Может быть, это и есть главное в его творчестве: неизбежная любовь к создаваемому художественному миру, даже, возможно, в ущерб той реальности, которая находится вне границ сотворяемого мира?..
…Тут на площадке появились жена с дочкой, на минуту забежавшие посмотреть, «как папа». Маша, конечно, бросилась обнимать отца, и все это выглядело очень трогательно…
2
Андрей утверждает, что дом, в материально-вещном смысле, должен строиться всю жизнь. Дом нельзя, говорит он, просто так сделать и сдать «под ключ» с интерьером. Живые дома «наращиваются» десятилетиями. Его дом вырос из материнского, который начал отстраиваться на Николиной Горе, как помнит читатель, еще в самом начале 1950-х годов.
Когда-то, в далекой юности, он пренебрегал основательной убедительностью антикварной мебели, населявшей их жилище, где по стенам можно было видеть полотна Сурикова и Кончаловского. Тянуло к модерну. Он вспоминает, как в своей комнате устраивал «модерновые» книжные полки – подобно американским, так ему виделось, домам. Ну, и мечтал, конечно, о времени, когда накопит на «Мерседес»…
С годами в представлениях Кончаловского о гнезде многое изменилось… В Италии, например, где у него сейчас свое комфортное жилище, ему приходилось видеть дом с шестисотлетней историей. Особенно же его поразил дом Эмануэля Унгаро в Провансе, который тот выстроил на старой ферме. Андрей Сергеевич рассказывает: там нет ни одного окна, ни одной задвижки неантикварной. Все это двадцать лет потихонечку свозилось и ставилось. Благодаря Унгаро был усвоен и главный принцип дома: ни в коем случае не нужно стараться закончить его как можно скорее.
Но ведь этот принцип имеет отношение не только к обустройству, так сказать, материального пространства семейного гнезда, но и к устроению внутреннего мира человека. А такой «дом» тоже «наращивается» десятилетиями, а то и веками… Впрочем, может и не повезти с обустройством.
У режиссера была вилла в Лос-Анджелесе, квартира в Париже. Все это он продал, когда вернулся в Россию, захватив с собой часть вещей. К тому времени Наталья Петровна скончалась. Сын решил сохранить дом матери. Но при этом, как он говорит, превратить его в терем со множеством разных крыш, углов. Он хотел разрушить поверхность, разбить ее на разные плоскости, «угнездить» дом на доме, как строились терема и все посады…
Но вот что существенно: по-настоящему жилье на Николиной Горе начали отстраивать, когда у Андрея и Юлии появился первый ребенок – дочь Маша. Вероятно, к этому времени и завершен был «проект» дома внутреннего.
…Юлия Высоцкая родилась, когда ее матери был двадцать один год. Светлана Высоцкая разошлась с мужем, «вела бурную личную жизнь». Как позднее рассказывала дочь, молодой красивой женщине не везло с мужчинами. А влюблялась она по-казачьи, безоглядно. Мать вышла за военного. Началось долгое странствие из части в часть, очень напоминавшее эпизоды из жизни семьи Натальи Аринбасаровой…
Вот картинка, набросанная Юлией: «Когда вспоминаю детство, на ум приходит, как я надеваю мамино платье, становлюсь на стул, как дедушка берет балалайку или баян, начинает играть частушки, а я их под его нехитрый аккомпанемент пою… С другой стороны, была довольно тяжелая жизнь в военных городках – мой отчим служил в небольшом чине, и мы постоянно переезжали с одного места на другое. Были бессонные ночи, когда родилась моя сестра. Вот… мама в десятиградусный мороз стоит в очереди за пайком, в комнате рыдает полуторагодовалый младенец, а я, обливаясь слезами в ванной, стираю ее пеленки…»
Родившись в Новочеркасске в семье с казацкой родословной, девочка довольно рано покинула место рождения. Жили в Ереване, в Тбилиси, потом в Баку – вехи ее раннего странничества. Дома, в устойчиво традиционном смысле, не было. Девочка больше привыкла к кочевой, чем оседлой жизни. Правда, в интервью с ней то и дело возникает милая домашняя картинка, как ее бабушка готовит всякую печеную снедь, которой девочка угощается и сама учится печь. Первый самостоятельный солидный «блин» был пирогом, поднесенным матери на день рождения. Между прочим, образец, по которому он создавался, назывался «Идеал» – слоеный торт с ореховым кремом, образ которого был позаимствован у маминой подруги…
В себе самой Высоцкая отмечает важную черту, воспитанную «бездомным» образом жизни. Приходилось становиться и мягче, и добрее – просто для того, чтобы приняли в новом коллективе. А это ведь та самая наука компромисса, воспитание способности жизнью побеждать жизнь, которая так близка и ее мужу.
Легко заметить, что общественность больше интересуется Юлией Высоцкой как женой одиозного персонажа – малодоступного и не очень понятного режиссера Кончаловского, во-первых, а во-вторых, как ведущей телепрограммы «Едим дома!» и как автором целого собрания красочных изданий по кулинарии, общий тираж которых превысил к концу нулевых полтора миллиона экземпляров. Поэтому беседы ее с журналистами – по преимуществу, обсуждение различных рецептов, кулинарных поисков и того, конечно, что «ест дома» известная семья.
На этом поприще она обрела статус профессионала. В 2007 году программа стала обладательницей телепремии «Тэффи» в номинации «Развлекательная программа. Образ жизни». Через год ее пригласили гастрономическим куратором русского вечера в рамках Всемирного экономического форума в Лондоне. Затем она была гастрономическим режиссером в московском ресторане Family Floor. Кроме того, Высоцкая главный редактор кулинарного журнала «ХлебСоль».
В 2011 году Юлия и Андрей открыли в Москве свой собственный ресторан. Идея такого именно заведения, как и авторство дизайна, принадлежат ее супругу. Ресторан называется «Ёрник». В интервью хозяйка поясняет, что «название может отражать не кулинарную фишку, а философию человека, который готовит еду. Еда должна быть секси. Хотя по-русски это звучит вульгарно. Иными словами, привлекательной. А для меня ёрники – это дико привлекательные мужчины…». Ёрник – от глагола ёрничать, шутить, озорничать. Поэтому стены ресторана украшают портреты тех, кто представляется супружеской паре великими ёрниками. Это Маяковский, Набоков, Ионеско, тот же Чехов. Андрей обращает внимание на то, что каждый из них хоть немного, да посидел в тюрьме. Он лично отобрал цитаты из их творчества и вместе с краткими биографическими сведениями поместил в меню ресторана. По моим представлениям, и его собственный портрет мог бы занять там свое заслуженное место…
Много рассказывает молодая женщина интервьюерам и о своей семье – об отношениях с супругом, с детьми; раскрывает свое супружеско-родительское кредо, какой она видит организацию собственного дома. Вчитываясь в этот довольно однообразный по содержанию поток информации, вдруг начинаешь понимать, что ведь и сама Высоцкая позиционирует себя прежде всего в роли жены и матери, то есть в роли хозяйки дома.
Она как бы подхватывает эстафету на все руки мастерицы Натальи Петровны Кончаловской. Не зря же Андрей говорит жене, что она похожа на его мать, которая весь день, бывало, парила, жарила, суетилась, а когда приходили гости, падала без сил. Не отказываясь от своей приверженности актерскому творчеству как в театре, так и в кино, Высоцкая на первый план своих забот и пристрастий выдвигает все-таки семью. В интервью она называет себя «домашним человеком» и не считает, что фанатичное служение театру может принести женщине счастье.
Возможно, так откликается глубинная тяга женщины к домашнему уюту, которого она была лишена, живя в семье военного? Передвижения с места на место с семьей сменились после поступления на актерский факультет Белорусской академии искусств коммунальным «уютом» общежитий, скитанием по квартирам. А потом была работа в Театре им. Янки Купалы, тоже не связанная с большим бытовым комфортом. Но и после знакомства с Кончаловским чувство прочной оседлости возникло, по-видимому, не сразу.
Через пару дней после первой встречи Андрей вручил ей билет на самолет и предложил лететь с ним в Турцию, где он осматривал места для съемок «Одиссея». Она согласилась. После Турции каждый вернулся восвояси: он – в Москву, она – в Минск. А через какое-то время в коммунальной квартире, где она снимала комнату, раздался звонок – Андрей просил Юлию срочно получить визу в английском консульстве по приглашению, которое он организовал. Они отправились в Лондон…
«Мы с Андреем долго жили романтично: снимая квартиры в Лондоне, Лос-Анджелесе, ходили по ресторанам…»
Прилетая в Москву, устраивали свидания в маленькой квартире на Малой Грузинской. Поначалу там и мебели как таковой не было. Располагались на полу, обильно устланном двадцатью коврами, купленными в Турции, и, кроме прочего, смотрели любимые фильмы Феллини и Бергмана.
Предложение он ей сделал через два года в самолете, которым они летели отдыхать на Ямайку…
Я не думаю, что дом на Николиной Горе родился совсем уж спонтанно. Слишком рационален Андрей Сергеевич, чтобы слишком давать волю стихиям. Во всяком случае, с того момента, как случайно (?) встреченная им женщина стала его возлюбленной, а потом была отправлена в Лондон для обучения языку и актерскому мастерству, замысел стал проступать с очевидностью.
И она послушно идет в русле замысла, пренебрегая разницей в возрасте, поскольку учитель «так жаден до жизни и так много знает», что только и поспевай догонять. Молодая женщина следует его формуле здорового образа жизни, бегает, «как молодая лань» (выражение самого Кончаловского), изучает психологию, философию, и в ее высказываниях теперь все чаще слышится усвоенный, но не имитируемый «голос» мужа.
Итак, Лондон.
«Кончаловский снимал «Одиссею», – рассказывает Юлия, – а я учила язык. Андрон жестоко со мной обращался. При перелете у меня пропал чемодан со всеми вещами. Он отправил меня одну за покупками. Я должна была покупать вещи именно в тех магазинах, адрес которых он мне написал. Не зная ни слова по-английски, мне нужно было на улице подходить к прохожим и спрашивать! Пару раз автобус завозил меня так далеко, что я решила больше не ездить на общественном транспорте и долго потом везде ходила пешком…»
Язык приходилось учить полгода по восемь часов в день, поскольку предполагалась профессиональная учеба в Англии. Поступила в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Обучение оплачивал, естественно, Кончаловский. Параллельно подрабатывала на съемках «Одиссея». Во время учебы она соседствовала со студентами-англичанами, оплачивая комнату и совершая постоянные поездки на поезде в город. Потом сняли скромное помещение в Кенсингтоне.
Мужнину науку Юлия видит и в том, что он научил ее работать и не позволять себе лениться. «Мама меня, наверное, в детстве слишком любила, жалела, и я выросла избалованной, мало что делала. С годами мне пришлось это в себе изживать…» Молодая женщина восприняла неожиданную (а может быть, и ожидаемую) для нее педагогику безропотно и с удовольствием. «Я – ученица, – говорит она. – Мне нравится учиться и становиться лучше. Может быть, это связано с моим перфекционизмом: я стремлюсь все делать так хорошо, как только возможно…»
В ее интервью то и дело слышится прямое цитирование учителя. Да, он учитель, признается Юлия. Но не только Пигмалион (это она упоминает мифологическое имя), способствовавший реализации ее дарований. Он стал для нее «всем»: мужем, учителем, братом, отцом и сыном. За этим признанием Высоцкой возникает образ очень комфортного, хотя и не бесконфликтного для нее пространства, которое обымает ее всю, то есть, по существу, и становится обретенным домом. А «домосо-зидателем», что совершенно очевидно, выступает Кончаловский.
Интересно, что до сих пор не привязанная ни к какому домашнему пространству («малой родины» у меня нет, – говорит), привыкшая обживать любое, она признается, что с гнездом на Николиной Горе сроднилась как с единственным местом, ей близким, где хорошо в любом уголке.
Пожалуй, можно сказать, что Кончаловским ведется широкомасштабная компания по устроению во всех отношениях комфортного дома, могущего утвердиться на многовековых традициях семьи. Во всяком случае, образ Юлии как домохозяйки, как матери и жены медленно, но верно устанавливается в общественном мнении, что никак не отменяет ее актерских дарований, убедительно продемонстрированных как на экране, так и на сцене. Однако и здесь главный авторитет для нее – Кончаловский.
«Он мой бог, мой творец. Я верю ему беспрекословно, любому его слову. Даже если он предлагает мне что-то сделать, а мне кажется, что это неправильно, – все равно буду пробовать…»
Но не нужно забывать, что еще до того, как актриса попала под патронат мощной режиссуры Кончаловского, она уже была достаточно заметной актрисой. В Минске сыграла главные роли в спектаклях по пьесам М. Себастьяна «Безымянная звезда», Э. Ионеско «Лысая певица», Дж. Осборна «Оглянись во гневе». За последнюю работу была награждена премией. Пробовала себя на Белорусском телевидении, была ведущей популярной программы. Первую же свою роль в кино она исполнила в девятнадцать лет, в фильме Н. Князева «Пойти и не вернуться», поставленном на студии «Беларусьфильм». А через десять лет за исполнение главной роли в «Доме дураков» актриса получила Гран-при Венецианского кинофестиваля. И что бы там ни говорила критика, хитро кивая в сторону Джульетты Мазины с ее Джельсоминой из феллиниевской «Дороги», это – актерский подвиг, если помнить, кроме всего прочего, что Высоцкой пришлось два месяца перед съемками провести с душевнобольными людьми в Московском психоневрологическом диспансере № 26, ежедневно превращаясь в пациентку Жанну.
Встреча с Кончаловским изменила бытие Юлии – как она говорит, не на 180 и даже не на 360 градусов, жизнь просто перешла в другое измерение…
3
Муж повез жену рожать дочь Машу (супруги тогда жили в Америке) и в роддоме остался. Был он и при вторых родах – 11 октября 2003 года, когда на свет появился Петя. Жена рожала уже в Англии, и он должен был вылететь на ее зов из Москвы.
У Высоцкой есть свой подход к воспитанию, подсказанный, кажется, авторитетом ее мужа, хотя она говорит, что полагается на свою интуицию. Подход несложный. Детям нужно рассказывать много интересных сказок, не только читать, но именно рассказывать, придумывать их вместе с детьми, много гулять. Ну и, главное, любить их.
Дети актрисы находятся на попечении няни. «Я думаю, что моим детям хорошо. У них небольшая разница в возрасте, и им весело вдвоем. И характер у обоих довольно открытый…» В восьмилетием возрасте Маша занималась теннисом и плаванием. Ходила в школу при французском посольстве в Москве. Не так давно я слышал от Андрея, что Маша и Петя уже несколько лет живут и обучаются в Англии, где у семьи тоже дом.
Со старшими детьми отца у младших отношения, по словам Юлии, замечательные. Они близки друг другу и время от времени собираются вместе.
С точки зрения Юлии Высоцкой, роль отца в воспитании детей – это авторитет, подкрепленный поступками. «Важно создать образ отца-героя, чтобы он был самым лучшим, необыкновенным. Тогда есть стержень, от которого можно отталкиваться. Женщинам – при выборе мужа, мужчинам – когда они сами станут отцами. Папа должен быть идеалом, кумиром – умным, добрым, справедливым. У моих детей с их папой такая любовь! Я одно время даже ревновала. Петя рано начал говорить, где-то в десять месяцев, и сразу: «Папа, где папа?» И – вперед по лестнице, обниматься, целоваться. У него больше мужского контакта. А Маруся больше тянется ко мне. Но если у нее возникают серьезные вопросы, она сразу бежит к отцу… ей интересно, что он скажет. Потом говорит: «А папа сказал так, а что ты думаешь?» Для нее его авторитет в решении жизненных, глобальных проблем непререкаем. Мне повезло. Мой муж на момент нашей встречи уже созрел для отцовства и все это уже осознал и очень ответственно относится к воспитанию детей. Можно сказать, что мы растим свою любовь…»
Итак, мысль об обустройстве семейного гнезда как помещения для жизни возникла с появлением у четы Кончаловский-Высоцкая первого ребенка.
«Я сохранил все мамины интерьеры. Даже когда мы разбирали пол и делали новые потолки, мы очень тщательно нумеровали все вещи, чтобы поставить их назад в точности так, как они стояли когда-то. Но из двухэтажного дом превратился в четырехэтажный: я надстроил один этаж и вырыл полуподвал. Так что мамин дом как бы вписался в большой дом; большой дом его «обнял»… В целом стиль дома остался прежним, только обрел новые возможности: естественно, мама не могла себе представить такую громадную библиотеку или залу такой высоты…
Стиль – в отсутствии стиля. У себя дома я намеренно создавал абсолютное разностилье… Я не люблю ценную антикварную мебель, просто жалко ее поцарапать. И еще я ничего не коллекционирую, что прибивается, то прибивается. Самое дорогое, что накопилось у меня за сорок лет, – книги».
Легко заметить, что и в домоустройстве Кончаловский воплощает свое режиссерское кредо: опираться на принципиальное многоголосие, на стыковку стилей. Любит, когда все намешано, как в жизни.
Юлия в разработке архитектурной концепции принимала лишь относительное участие, поскольку в их семье царит патриархат. Ей были подвластны только размеры и дизайн кухни. «Мне хотелось, – рассказывает она, – чтобы кухня была деревенской, в прованском стиле, и очень функциональной… Рядом с кухней находится столовая – все началось с двух резных стульев, которым триста лет. Именно ориентируясь на них, нам сделали всю столовую… А вот по стенам стоят все тоже сплошь древние предметы: и стол с еще чернильными пятнами, и древние тибетские шкафы… Идея ванной пошла от двери. Такую дверь я углядела на картинке одной итальянской виллы XVII века… А уже от двери пошло все убранство комнаты. Мне очень нравится, что сохраненные старые бревна тут соседствуют с деревянными расписными шкафчиками и современной ванной на львиных лапах из Пармы – подарок мужа…»
Биографии героини «Глянца» и ее исполнительницы, как уже говорилось, пересекаются. Но то, как складывается жизнь Юлии, выглядит прямой противоположностью судьбе ее героини. Судьба реальной женщины, вытянувшей, можно сказать, «счастливый билет», формируется на границе гламурных ценностей, но тем не менее не кажется виртуальной декорацией глянцевого мирка, за которой скрываются пустота и несостоявшиеся надежды. Почему?
Одно из многочисленных интервью с Высоцкой начинается слегка иронично: «Произнесите «идеальная семья» – и перед глазами возникает картинка: красавица жена хлопочет на кухне, в гостиной дожидаются обеда очаровательные крошки и любящий муж. На самом деле все семьи разные, что не мешает им быть счастливыми. А вот у Юлии Высоцкой семья именно такая, с картинки, – идеальная».
Намек довольно прозрачен: иными словами, и здесь глянец, только семейно-бытовой. Что ж, эксклюзивность, а может быть, и некоторая сомнительность ситуации, в которой оказалась молодая женщина, на поверхности: не каждой, как говорится, так везет. Но ведь не у каждой есть дар: любить дело, любить мужа, любить детей, себя любить, наконец. И не у каждой есть рядом любимый муж, который (будто в ответ на этот дар) может сказать: «Я счастливый человек. У меня прекрасная семья, она мне дает все, о чем я могу мечтать. Есть дети, которые вокруг меня… Я могу наблюдать, как растут молодые, поднимать молодых…»
Из того же интервью: «Я не хотела замуж, даже когда была маленькой… Все невесты похожи. Искусственные цветы в волосах – ужас! Почему надо мечтать об этих кошмарных белых платьях? За мою детскую жизнь я ни одной живой хорошо одетой невесты не видела. Особенно мне не нравились фотографии свадебных пар в витрине фотоателье. Натянутые улыбки, испуганные глаза – трудно себе представить, что такими они хотят себя запомнить… Лет в десять я впервые попала на свадьбу, и мое подозрительное отношение к процессу бракосочетания и следующему за ним торжеству превратилось в убеждение – у меня свадьбы не будет!.. Я росла в нормальной советской семье. И не раз наблюдала шумные веселые дни рождения и праздники, неизменно заканчивающиеся скандалами… Но почему на свадьбе все должно проходить по подобной схеме, было непонятно… Словом, для меня вопрос был решен. К тому же я бешено хотела стать артисткой…
…Когда меня приняли в театральный институт, стало ясно, что если и посвящать жизнь чему-то, то уж, конечно, не семье… а великому искусству – театру… Даже влюбляясь, я как-то по-мужски думала, как бы не влипнуть: только не «семейное счастье», только не потеря свободы!..
И вот теперь я понимаю, что дело было не в театре, независимости и прочей ерунде, а в том, что я никого не любила… Любовь, безусловная любовь, такая, как у матери к детям или у ребенка, для которого никого нет лучше мамы, – вот, собственно, и все, что значит для меня семья. Я люблю безусловно. Не потому что он великий режиссер, не потому, что он самый умный, смешной, добрый, красивый и в очках. Это тоже все важно, но главное, я люблю его, потому что я ему верю, доверяю. Отдаю себя, какая есть. И для него хочу быть самой лучшей. Я не верю в любовь с первого взгляда, как не верю в семью с первой попытки начать жить вместе… Мужчина, с которым я живу, научил меня понимать любовь. Я спросила у него: «Что для тебя семья?» – «Место, где тебе лучше всего на свете, мое детское счастье: дедушка, бабушка, брат и сестра, родители, запахи, яблоки, блины – мамин дом, который теперь я пытаюсь построить для себя».
Когда родилась моя дочка, счастливей меня не было человека на свете. Потом родился сын, и опять я почувствовала, что вот-вот сойду с ума от восторга и любви. Я не обрела смысла жизни в материнстве, не стала меньше любить мужа, не изменила намерениям стать хорошей актрисой. Просто с этого момента началась МОЯ «счастливая семейная жизнь». Я строю свой дом вместе с лучшим мужчиной на свете для самых прекрасных на свете детей, пеку пироги и придумываю сказки. Это самое важное, что есть у меня в жизни.
Свадьба у меня все-таки была. Без белого платья, естественно. У меня была самая потрясающая свадьба…»
Ну, разве можно в это не поверить?
В конце концов, почему бы не воспринимать жизнь Андрея Кончаловского, по его собственному определению, и как счастливый прыжок вдвоем с девочкой (помните?!), в которую влюблен, с хоров полуразрушенной церкви – туда, в ждущее и, очень надо надеяться, теплое, мягкое, душистое всеобымающее сенное лоно?..
И это прекрасно, как все детские утопии!
Если бы только их голос неизбежно не заглушался трезвым скепсисом взросления: «…Жаль лишь, что невозможно в конце не расквасить носа, как ни ловчись…»
Краткая фильмография, сценарии, спектакли А.С. Кончаловского
Режиссер
МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ. СССР, 1961. Совместно с Е. Осташенко. Сценарий – А. Кончаловский. Оператор М. Кожин. Музыка – В. Овчинников. Производство – ВГИК, курсовая работа, короткометражный фильм.
В ролях: Н. Бурляев, Н. Шурупов, Е. Урбанский.
ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ. СССР, 1965. По одноименной повести Чингиза Айтматова. Сценарий – Ч. Айтматов, Б. Добродеев, при участии А. Кончаловского. Оператор – Г. Рерберг. Художник – М. Ромадин. Музыка – В. Овчинников. Производство – Киргизфильм, Мосфильм.
В ролях: Н. Аринбасарова, Б. Бейшеналиев и др.
ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ. СССР, 1967. Сценарий – Ю. Клепиков. Оператор – Г. Рерберг. Художник – М. Ромадин. Производство – Мосфильм.
В ролях: И. Саввина, А. Сурин, Л. Соколова, Г. Егорычев и др.
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО. СССР, 1969. По одноименному роману И.С. Тургенева. Сценарий – В. Ежов, А. Кончаловский. Оператор – Г. Рерберг. Художники – А. Бойм, Н. Двигубский, М. Ромадин. Музыка – В. Овчинников. Производство – Мосфильм.
В ролях: И. Купченко, Л. Кулагин, Б. Тышкевич, Т. Чернова, В. Сергачев, В. Меркурьев, А. Костомолоцкий, С. Никоненко, Н. Михалков и др.
ДЯДЯ ВАНЯ. СССР, 1971. По одноименной пьесе А.П. Чехова. Сценарий – А. Кончаловский. Операторы – Г. Рерберг, Е. Гуслинский. Художник – Н. Двигубский. Музыка – A. Шнитке. Производство – Мосфильм.
В ролях: И. Смоктуновский, С. Бондарчук, И. Купченко, И. Мирошниченко, B. Зельдин, И. Анисимова-Вульф, Н. Пастухов, Е. Мазурова и др.
РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ. СССР, 1974. 2 серии.
Сценарий – Е. Григорьев. Оператор – Л. Пааташвили. Художник – Л. Перцев. Музыка – А. Градский. Производство – Мосфильм.
В ролях: Е. Киндинов, Е. Коренева, И. Купченко, И. Смоктуновский, Е. Солодова, И. Саввина, В. Конкин, А. Збруев, Р. Громадский, Н. Гринько и др.
СИБИРИАДА. СССР, 1979. 4 фильма. Сценарий – В. Ежов, А. Кончаловский. Оператор – Л. Пааташвили.
Художники – Н. Двигубский, А. Адабашьян, Н. Личманова. Музыка – Э. Артемьев. Производство – Мосфильм.
В ролях: В. Самойлов, В. Соломин, Н. Андрейченко, Н. Михалков, П. Кадочников, Е. Коренева, И. Охлупин, С. Шакуров, Е. Перов, М. Кононов, Е. Леонов-Гладышев, A. Потапов, Л. Гурченко, Р. Микаберидзе, B. Ларионов и др.
СЛОМАННОЕ ВИШНЕВОЕ ДЕРЕВЦЕ. США, Канада, 1982.
Короткометражная драма. Режиссер – А. Кончаловский. Оператор – Э. Лакмен. Композитор – Д. Малдур.
В ролях: К. Дьюкхерст, У. Ньюман, Д. Росс, Д. Ридж.
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ МАРИИ. США, 1984. По мотивам рассказа Андрея Платонова «Река Потудань». Сценарий – Ж. Браш, А. Кончаловский, П. Зиндел, М. Дэвид. Оператор – Х.Р. Анчиа. Художники – Ж.К. Оппуолл, Д. Брисбин, Д. Вуд, Л. Фишер… Музыка – Г. Малкин. Производство – Golan-Globus Production Ltd. Cannon Group.
В ролях: H. Кински, Д. Сэвидж, Р. Митчум, К. Кэрродайн и др.
ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ. США, 1985. По сюжету Акиры Куросавы. Сценарий – Д. Миличевич, П. Зиндел, Э. Банкер.
Оператор – А. Хьюм. Музыка – Т. Джонс. Монтаж – Г. Ричардсон. Производство – Golan-Globus Production Ltd., Northbrook Films.
В ролях: Д. Войт, Э. Робертс, Р. де Морней, К. Т. Хеффнер и др.
ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТА. США-Великобритания, 1986. По одноименной пьесе Тома Кемпински. Сценарий – Т. Кемпински, Д. Липп, А. Кончаловский. Оператор – А. Томсон. Художники – Д. Грэйсмарк, Р. Брим, С. Купер. Производство – Golan-Globus Production Ltd. Cannon Films.
В ролях: Д. Эндрюс, А. Бейтс, М. фон Сюдов, Р. Эверетт, М. Кортни, Л. Нисон, М. Мериль и др.
СТЫДЛИВЫЕ ЛЮДИ. США, 1987. Сценарий – Ж. Браш, A. Кончаловский, М. Дэвид. Оператор – К. Менгес. Художники – Стивен Марч, Л. МакДональд, К. Довер. Музыка – Д. Бигхем, М. Бишоп, Э. Фроз, П. Хаслингер.
Производство – Golan-Globus Production Ltd., Cannon Group.
В ролях: Д. Клейбур, Б. Херши, М. Плимптон, Д. Суэйзи, М. Уиннингхем и др.
ГОМЕР И ЭДДИ. США, 1989. Сценарий – П. Чирилло. Операторы – Л. Колтаи, С. Ллойд-Дэвис. Художники – М. Левески, К. Довер. Музыка – Э. Артемьев, Р. Рэндле, B. Хорунжий. Производство – Kings Road Entertainment.
В ролях: Д. Белуши, В. Голдберг, К. Блэк, Н. Парсонс и др.
БЛИЖНИЙ КРУГ. Италия-США-Россия, 1991. Сценарий – А. Кончаловский, А. Усов. Оператор – Э. Гуарньери. Художник – Д. Джованьони, В. Мурзин. Музыка – Э. Артемьев. Производство Uno International (Италия), Columbia Pictures (США), Арк-Фильм (Россия).
В ролях: Т. Халс, Л. Давидович, Б. Хоскинс, А. Збруев, Ф. Шаляпин (мл.), Б. Мейер, И. Купченко, О. Табаков, В. Ларионов и др.
КУРОЧКА РЯБА. Россия-Франция, 1994. Сценарий – А. Кончаловский, В. Мережко. Оператор – Е. Гуслинский. Художники – А. Платов, Л. Платов, Н. Фирсова.
Музыка – Б. Базуров. Производство – Русская рулетка (Москва), Paris-Media (Париж) при участии Canal + и др.
В ролях: И. Чурикова, В. Михайлов, А. Сурин, Г. Егорычев, Г. Назаров, М. Кононов, Л. Соколова и др.
ОДИССЕЙ. Великобритания-Италия-Германия-Греция, 1997. По героическому эпосу Гомера. Сценарий – A. Кончаловский, К. Солимин. Оператор – С. Козлов. Художники – Р. Холл, Д. Кинг, Э. Сейбл. Музыка – Э. Артемьев. Производство – Hallmark Entertainment, Beta Film, American Zoetrope, KirchMedia, Mediaset, Panfilm, ProSieben Media AG, Remote Camera Systems, Slcai TV. Мини-сериал (ТВ).
В ролях: А. Ассанте, И. Росселлини, Г. Скакки, И. Папас, Э. Робертс, Д. Чаплин, К. Ли, B. Уильямс и др.
ДОМ ДУРАКОВ. Россия-Франция, 2002. Сценарий – А. Кончаловский. Оператор – С. Козлов. Художники – Л. Скорина, С. Вольтер. Музыка – Э. Артемьев. Производство – Персона – Hachette Prmiere et cie.
В ролях: Ю. Высоцкая, Е. Миронов, С. Исламов, С. Варкки, Е. Фомина, М. Полицеймако, Б. Адамс, Р. Джабраилов, В. Федоров, А. Адоскин и др.
ЛЕВ ЗИМОЙ. США, 2003. По одноименной пьесе Джеймса Голдмена. Сценарий – Дж. Голдмен. Оператор – C. Козлов. Художник – Р. Холл, Э. Кей, Я. Саболч.
Музыка – Р. Хартли. Производство – Hallmark Entertaiment, Flying Freehold Production, HCC Happy Crew Compani, Showtime Networks inc. Мини-сериал (ТВ).
В ролях: П. Стюарт, Г. Клоуз, Э. Ховард, Д. Риз-Майерс, Ю. Высоцкая и др.
У КАЖДОГО СВОЕ КИНО (эпизод «В темноте»), 2007. ФРАНЦИЯ. Киноальманах. Сценарий – А. Кончаловский. Режиссер – А. Кончаловский. Оператор – М. Соловьева. Художники – Л. Скорина, Э. Оганесян. Производство – Каннский фестиваль, Elz vir Films.
В ролях: Ё. Санько, Л. Юрис, А. Гришин, Д. Грачева
ГЛЯНЕЦ. Россия, 2007. Сценарий – А. Кончаловский, А. Смирнова. Оператор – М. Соловьева. Художники – Е. Залетаева, Е. Дыминская, Г. Белан. Музыка – Э. Артемьев. Производство – Продюсерский Центр А. Кончаловского, StudioCanal-Cadran Productions-Motion Investment Group, Backup Films.
В ролях: Ю. Высоцкая, И. Исаев, И. Розанова, О. Арнтгольц, Т. Арнтгольц А. Домогаров, Е. Шифрин, А. Серебряков, Г. Смирнов, А. Гришин и др.
ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ. Великобритания, Венгрия, 2010. Сценарий – А. Кончаловский, К. Солимин. Либретто – Т. Райс. Оператор – М. Саутон. Художники – Кевин Фиппс, К. Кампана, С. Добрич. Аранжировка и музыкальное оформление – Э. Артемьев. Производство – Nutcracker Holdings, НСС Media Grup LTD.
В ролях: Э. Фаннинг, Н. Лейн, Ф. де ла Тур, Д. Туртурро, Р. Е. Грант, Ю. Высоцкая, А. М. Дрозин и др.
Сценарист
КАТОК И СКРИПКА. 1960. Соавтор. Реж. А. Тарковский.
ИВАНОВО ДЕТСТВО. 1962. Соавтор. Реж. А. Тарковский.
АНДРЕЙ РУБЛЕВ. 1966. Соавтор. Реж. А. Тарковский.
ТАШКЕНТ – ГОРОД ХЛЕБНЫЙ. 1968. Соавтор. Реж. Ш. Аббасов.
ПЕСНЬ О МАНШУК. 1969. Реж. М. Бегалин.
КОНЕЦ АТАМАНА. 1970. Соавтор. Реж. Ш. Айманов.
СЕДЬМАЯ ПУЛЯ. 1972. Соавтор. Реж. А. Хамраев.
ЖДЕМ ТЕБЯ, ПАРЕНЬ. 1972. Соавтор. Реж. Р. Батыров.
ПОКЛОННИК. 1973. Соавтор. Реж. А. Хамраев, А. Хачатуров.
ЛЮТЫЙ. 1973. Соавтор. Реж. Т. Океев.
ОДНОЙ ЖИЗНИ МАЛО. 1974. Реж. Б. Кимягаров.
РАБА ЛЮБВИ. 1975. Соавтор. Реж. Н. Михалков.
ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС. 1977. Соавтор. Реж. Э. Уразбаев.
КРОВЬ И ПОТ. 1978. Соавтор. Реж. А. Мамбетов, Ю. Мастюгин.
МОРОЗ ПО КОЖЕ. США-Россия. 2007. Реж. К. Солимин.
Спектакли и оперы
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. Опера П.И. Чайковского. Ла Скала. Италия, 1985.
ЧАЙКА. Комедия А.П. Чехова. Одеон. Париж, 1987.
ПИКОВАЯ ДАМА. Опера П.И. Чайковского. Ла Скала. Италия, 1990.
ВОЙНА И МИР. Опера С. Прокофьева. Мариинский театр. Санкт-Петербург, 2000; Метрополитен-опера. Нью-Йорк, 2002 и 2009.
БАЛ-МАСКАРАД. Опера Д. Верди. Театро Реджио, Италия, 2001; Мариинский театр. Санкт-Петребург, 2001.
ЧАЙКА. Комедия А.П. Чехова. Театр имени Моссовета. Москва, 2004.
МИСС ЖЮЛИ. По пьесе А. Стриндберга «Фрекен Жюли». Театр на Малой Бронной. Москва. 2005, 2007.
КОРОЛЬ ЛИР. Трагедия В. Шекспира. Театр Na Woli. Варшава, 2006.
ДЯДЯ ВАНЯ. Сцены из деревенской жизни А.П. Чехова. Театр им. Моссовета. Москва, 2009.
БОРИС ГОДУНОВ. Опера М. Мусоргского. Театро Реджио. Италия, Турин, 2010.
Краткая библиография
АНДРЕЙ РУБЛЕВ. Киносценарий. В соавторстве с А. Тарковским // Искусство кино. – 1964, № 4–5.
ПАРАБОЛА ЗАМЫСЛА. – М.: Искусство, 1977. СИБИРИАДА. – М.: Дрофа, Ликус, 1993 (в соавторстве с В. Ежовым).
НИЗКИЕ ИСТИНЫ. Литературная запись А. Липкова. – М.: Совершенно секретно, 1998.
ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОБМАН. Литературная запись А. Липкова. – М.: Совершенно секретно, 1999.
БЕЛАЯ СИРЕНЬ. Кинороман. Совместно с Юрием Нагибиным. – Спб.: Изд-во Фонда русской поэзии, ИЦ «Гуманитарная Академия», 2001.
НИЗКИЕ ИСТИНЫ СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ. – М.: Эксмо, 2006.
НА ТРИБУНЕ РЕАКЦИОНЕРА. Совместно с Владимиром Пастуховым. – М.: Эксмо, 2007.
Награды, звания и отличия
Главный приз в конкурсе дебютов на МКФ для детей и юношества в Венеции (Италия, 1962) – «Мальчик и голубь».
Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) (Франция, 1969) – «Андрей Рублев».
«Серебряная раковина» на МКФ в Сан-Себастьяне (Испания, 1971) – «Дядя Ваня».
Лауреат Госпремии Казахской ССР (1972).
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974).
«Хрустальный глобус» на МКФ в Карловых Варах (Чехословакия, 1974) – «Романс о влюбленных».
Специальный приз жюри на МКФ в Канне (Франция, 1979) – «Сибириада».
Народный артист РСФСР (1980).
Приз международной ассоциации кинокритиков на МКФ в Берлине (Германия, 1988) – «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж».
Премия «Ника» (Россия, 1989) в категории «Лучший режиссер» – «История Аси Клячиной…». «Золотая раковина» на МКФ в Сан-Себастьяне (Испания, 1989) – «Гомер и Эдди» (поровну с фильмом «Тайная нация»).
Приз МКФ в Тромсе (Норвегия, 1995) в категории «Лучший иностранный фильм» – «Курочка Ряба».
Орден «За заслуги перед Отечеством» (1997).
Премия «ЭММИ» (США, 1997) в номинации «Лучший режиссер мини-сериала для ТВ» – «Одиссей».
Специальный серебряный «Святой Георгий» за вклад в мировой кинематограф на Московском МКФ (Россия, 1997).
Большой специальный приз жюри МКФ в Венеции и Премия Детского фонда ООН (UNISEF) (Италия, 2002) – «Дом дураков».
Звание «Почетный профессор ВГИК» – за выдающийся вклад в художественную культуру и киноискусство (Россия, 2002).
Академик Национальной Академии кинематографических искусств и наук (Россия, 2002).
Приз Международного фестиваля телевизионных фильмов в Монте-Карло (Монако, 2004) в категории «Лучший режиссер мини-сериала для ТВ» – «Лев зимой», 2003.
Офицер ордена Искусств и литературы Франции (2005).
Приз гильдии кинорежиссеров России «За гражданскую позицию, принципиальность и вклад в развитие киноискусства» (2006).
Специальный приз «Золотая звезда» на VIII МКФ в Марракеше (Марокко, 2008) – «За вклад в развитие мирового кинематографа».
Специальный приз «За выдающийся вклад в мировое киноискусство» на МКФ им. А. Тарковского «Зеркало» в Иванове (Россия, 2011).
Орден Почетного легиона (Франция, 2011).
Иллюстрации
Василий Иванович Суриков с внуками Наташей и Мишей
Петр Петрович Кончаловский
Наташа Кончаловская в Риме
Детские годы
С младшим братом Никитой
В музыкальном училище
Первый шок. Путешествие в Италию
С отцом
В чемоданчике – бесценный груз: 2 бутылки «Столичной»
С мамой и братом
После прилета из Америки – на праздновании своего пятидесятилетия: с отцом Сергеем Владимировичем и сыном Егором
С мамой
На юбилее отца Сергея Владимировича Михалкова
На мастер-классе во ВГИКе
С Андреем Тарковским – в работе над сценарием фильма «Андрей Рублев»
На съёмках «Андрея Рублева» с Андреем Тарковским и Вадимом Юсовым
Фото с автографом Андрея Тарковского, Майи Булгаковой и Алексея Габриловича
На съемках фильма «Первый учитель»
В Японии у Акиры Куросавы
В Америке с Эдуардом Артемьевым
Андрей Кончаловский
С Юлией Высоцкой на съемках «Дома дураков»
С женой Юлией Высоцкой
С женой Юлией Высоцкой и детьми – Машей и Петей




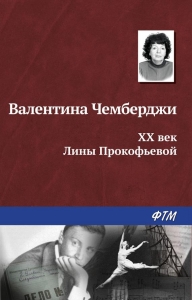



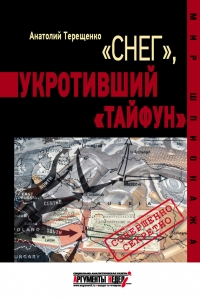
Комментарии к книге ««Андрей Кончаловский. Никто не знает...»», Виктор Петрович Филимонов
Всего 0 комментариев