Леонид Лиходеев СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО Повесть о Петре Заичневском
ОТ АВТОРА
В сибирской газете «Восточное обозрение» за 2 апреля 1897 года я прочел короткое воспоминание об одном из сотрудников этой газеты:
«Заичневский Петръ Григорьевичъ, 1842–1896. Орловскій уроженецъ и помещикъ. Воспитывался въ Московскомъ университете, но курса не окончилъ. Въ 1863 году пріехалъ в Сибирь, куда онъ пріезжалъ еще въ 1890 году и прожилъ въ Иркутске до 1895 года. Принималъ участіе въ провинціальныхъ газетахъ… Умеръ в Смоленске в крайней нужде».
Этот человек заинтересовал меня тем, что в двадцатилетнем возрасте написал прокламацию «Молодая Россия». Он начал революционный путь, когда в России Маркса еще не знали. Заичневский остался в шеренге пламенных революционеров как автор этой прокламации. Но после нее он прожил еще тридцать лет и четыре года, был вечным ссыльным и ушел из жизни, когда в России уже укоренялся марксизм.
Может быть, поэтому я вообразил его уставшим пожилым человеком, которому оставалось жить всего сто дней…
И он увлек меня в свое прошлое. Я шел за своим воображением. События, оставшиеся навеки в энциклопедической памяти, стояли вдоль пути моего, как верстовые столбы, а я шел им навстречу, стремясь увидеть этого человека молодым. Я шел к его прошлому, снимая годы и десятилетия, чтобы обнажить далекую юность, ликовавшую надеждами, и услышать слово, которое вспыхнуло вначале.
Прокламация «Молодая Россия» была главным делом его жизни, восклицательным знаком его бытия, и, в меру моих сил, я пробирался к дням его прокламации, ибо по законам жанра восклицательный знак ставят в конце…
ЧУГУННЫЙ ТРАКТ
1895.
Из Иркутска в Смоленск
I
Левая пристяжная, чалая лошаденка, приплясывала обособленно, будто и невпряженная, а как бы приставшая к упряжке для компании. Отворотив от гнедого коренника голову с негустой светлой гривой, лошаденка легко клубила плотным морозным дыханием, баловалась льняным хвостом, вздымая его, как на нужду, раскидывала в беге ноги, выбивая из зимника крепкие комья смерзшегося снега. Правый конь, тоже гнедой, но посветлее, натягивал шлею заметно, держал голову так же прямо, высоко, стриг ушами на звук бубенца.
Белое слепящее пространство разлеглось перед лошадиным бегом — закованная молодым льдом, заваленная молодым снегом река петляла в высоких берегах, влекла свежую, еще голубевшую, еще не пожелтевшую конскими следами едва накатанную дорогу.
Петр Григорьевич тепло умостился, полулежал лениво, подремывал, добродушно просыпаясь на ухабе, а очнувшись, думал некоторое время, до новой сладкой дремоты. Голубев, мягкий, закутанный башлыком, детски посапывал у него на плече.
Они выехали из Иркутска наспех, вдруг.
И вот снова дорога, зимник, широкая меховая спина ямщика и — ни дома, куда ехать, ни даже точного места назначения. Там, впереди, перед лошадиными ушами, — столицы, в которые — нельзя, университетские города, в которые — нельзя, и остальная страна, в которую — можно: огромная нелепая империя с маленькой головкой и непомерным туловом. Огромная империя, похожая на ископаемого динозавра.
Сходство это усматривал на географической карте Ошурков. Он почему-то считал, что у динозавра были ласты, и тыкал пальцем в Камчатку, действительно похожую на ласт. Метеоролог Ошурков обладал воображением шамана: видел в тенях, облаках, дымах людей, всадников, животных и читал предзнаменования.
Петр Григорьевич уткнулся в воротник, вспомнил пахнущий лиственничными дровами очаг Ошурковых (что-то вроде камина).
— Весьма кокетливая особа, — сказал вдруг Голубев и рассмеялся: он не спал, а только притворялся спящим, наблюдая выкрутасы чалой лошаденки.
Ямщик шевельнулся и вытянул лошаденку кнутом. Лошаденка взбрыкнула, круче отвела голову и заплясала еще затейливее. Ямщик покрутил волчьим малахаем, крикнул, не оборачиваясь:
— Вот так и жизня наша, господа!
— За что ты ее? — спросил Голубев.
— Да я ее так! Любовно! Жалеючи! Учу! Гляди, барин!
И хлестнул снова.
— Ну, будет тебе! — сказал Голубев.
— Да я ж ее сухарем кормлю! С руки берет! И-эй, распрекрасные! Я говорю, вот так и жизня наша, господа! Едем, едем, а конца не видать!
Река круто повернула вправо. Зимник двинулся из нее на взгорок, на спрямление.
За взгорком показалась прямая заснеженная белая насыпь, показалась вдруг, как вынырнула, — тяжелая, большая, несуразная, никак не причастная к местности. Шла она поперек пади. Упряжка поскакала вдоль насыпи, как вдоль небывало ровного высоченного берега. Там по верху, по самому гребню, копошились черные маленькие далекие люди. Оттуда в тихом морозе долетали удары по железу, крики какие-то — должно быть, приказания десятников.
— Во-на, господа, — обернулся ямщик, указав кнутовищем на гребень, — ежели оттуда скатиться — костей не соберешь!
— Зачем же оттуда скатываться? — спросил Голубев.
— Мало ли… Спьяну, к примеру… Н-н-но, милая!..
— Полно тебе… Туда одних трезвенников брать станут.
— И-и, барин! — оживился ямщик. — Где ты тех трезвенников найдешь? Возим вино бочками! Да еще платят-то как!
И снова обернулся неуклюже:
— А когда ее дотянут, дьявольскую выдумку, — конец лошадям. Конец. И мы по миру пойдем.
Он перекрестился кулаком, в котором кнут.
— Видишь, Петр, в основе этого взгляда — прямой экономизм… — сказал Голубев.
Говорить не хотелось. Сейчас Голубев оседлает своего конька — идеализм, материализм, проникновение капитализма…
Петр Григорьевич прикрыл веки.
Взгляд ямщика на строительство великого сибирского пути, железной дороги, чугунного тракта распространен был в Сибири широко и давно. Умные, ученые, образованные люди излагали взгляд этот по-английски, по-французски, по-немецки, приспосабливая к нему Смита, Рикардо, Сисмонди, Милля, Маркса… А ямщик излагал его просто и незатейливо: а ну ее к лешему, дьявольскую затею! А дьявольская затея громоздилась поперек Сибири, вбирая в себя все, что нужно было ей, этой дьявольской затее, и не внимая никаким толкам на свой счет.
Там, у Ошуркова, над конторкой висела карта империи. Синий карандаш отделил на ней Россию от Сибири. Синий, отчаянно смелый карандаш. Зоолог Пыхтин объяснял:
— Динозавры были диплодоки, то есть двудумы. Дип-ло-док, дву-дум. В крестце у него помещался второй мозг, чтобы управлять хвостом и задними ногами. Мозг этот был вдесятеро объемнее головного.
— Сепаратистский, — сострил Петр Григорьевич и ощутил в ответ холодность: сибирские сепаратисты, областники, отделенцы, остерегались его острословия. Митрофан Васильевич Пыхтин, зоолог, знаток фауны и сущей и вымершей, управитель несметного миллионного дела Анны Ивановны Громовой, человек ученый, далекий от образных фантазий, был задет:
— Вы невозможный человек, господин якобинец! Я вам объясняю как зоолог, а вы воспринимаете — как политик… Этак недолго…
— Да ведь дальше Сибири ничего нет! Вы противопоставляете Сибирь России и геологически, и геодезически, и метеорологически и еще бог весть как. Но главным образом — нравственно! Полноте! Природа здесь, возможно, и особенная, а нравственность — пардон! Мы привезли сюда из России все лучшее, что в ней было, и все худшее, что в ней есть! И сатанимся против этого худшего, будто оно, худшее, и есть — Россия, а лучшее — это Сибирь!
Иркутские сепаратисты, областники, таили юношескую мечту свою о Сибирской федерации, поплатились за нее в свое время, но помнили о ней, как помнят всю жизнь безвременно погибшую невесту, так и не ставшую женою. Они постарели, отяжелели домами, делами, чинами, но сердца их колотились прежним и шутить над их страстью было нехорошо. Они делили мир сей на местных и навозных, забывая, что сами, или отцы их, или деды прибыли сюда оттуда же, из России, и больше ниоткуда. Преданность их Сибири была сильна и бесстрашна. Она делала их великими знатоками — зоологами, химиками, землепроходцами, этнографами, экономистами, металлургами, и их имена золотились на корешках драгоценных для российской науки фолиантов.
Петр Григорьевич подтрунивал над их геополитическими настроениями, но уважал и ценил за дело.
Ямщик причмокивал, правил тройкой, поглядывая на несуразно огромную насыпь. И снова обернулся:
— Сказывают, тайгу кругом под топор… Жечь, стало быть… Он же, дьявол, вроде самовара… Я не видел, не знаю, а люди видали: сам черный, труба красная, агромадная и с той трубы постоянно — дым. И все шипит, свистит, как в преисподней, прости господи…
И снова перекрестился черенком кнута.
Петр Григорьевич проезжал по этой дороге четвертый раз. Сюда в шестьдесят третьем году и отсюда в шестьдесят девятом, опять сюда — в девяностом и вот снова отсюда — в девяносто пятом.
Первый раз ехал он сюда, в каторгу, с двумя ленивыми добродушными жандармами, ехал государственным преступником, лишенным всех прав состояния, и считалось, что ехал в кандалах. Кандалы, однако, лежали под сиденкой. Преступник был слаб после болезни, ковать его не было смысла: куда уйдет?
— Братец, — негромко позвал ямщика Петр Григорьевич, — что у тебя под облучком?
Ямщик не понял интереса, помолчал, сказал, причмокнув:
— Разность всякая… Полость, к примеру… Замерз что ли, барин?
— А кандалов не везешь?
Ямщик удивился, обернулся, преодолевая доху:
— Это в Россию-то — кандалы? Из Сибири, чай, едем, какие ж кандалы? Н-н-н-но, распрекрасные!..
II
Старинная изба почтовой станции с затейливыми наличниками, с витыми столбиками крыльца, с прорезными перильцами, с железным петушком на коньке не сразу явилась взору. За эти пять лет вокруг нее выросло целое селение.
Рубленные наспех, поставленные где придется пакгаузы, амбары, навесы громоздились вокруг тесно, смело, беззаботно. Окна новых строений были без наличников, без ставен, двери открывались прямо в белый свет без всяких крылечек и козырьков.
Тайгу отогнали саженей на семьсот, и она чернела дальней оградою, окружая нечаянный посад.
Между построек, перебегая тесные улочки, сталкиваясь, перекликаясь, толпясь, гукая дверями, скрываясь в помещениях, появляясь из срубов, с делом, без дела ошалело суетились люди разного вида и звания. Разгоряченные купцы в поддевках под шубами, одубелые казаки, закутанные башлыками, медлительные инородцы в малицах, суматошные барыни в дорожных меховых салопах, изумленные детишки, обвязанные по шубейкам шерстяными платками крест-накрест.
Широкие, низкорослые вятские лошади с густой заиндевелой шерстью тащили на крестьянских дровнях ящики, бочки, тюки. Возчики шли рядом, покрикивая на народ, чтоб давал дорогу.
А среди всего этого народа, как солидные гуси среди всполошившихся кур, важно, обособленно ходили люди в темно-зеленых шинелях на бобрах и в фуражечках — будто и не мороз — господа инженеры.
Над простым, без затей входом в длинный двухъярусный сруб приколочен был символ строителей железной дороги. Дорога эта находилась неподалеку, в пяти перегонах. Там уже ездили поезда. Но и здесь, еще не готовая, еще не сделанная, она подминала под свою власть все вокруг: ей принадлежали амбары и склады, и обтянутые корабельной парусиной бунты, и пакгаузы, и казармы для рабочих, и трактир с семейными номерами.
Возле небольшого рубленого домика с казенным орлом и вывескою «Телеграфическое отделение» толпа — человек семь — возбужденно горячилась, спорила, ждала чего-то.
Вышел старик смотритель и все нетерпеливо ринулись к нему.
— Господа, — виновато проговорил старик, — из телеграммы приказано задержать четыре упряжки… До распоряжения…
— Кто приказал?
— Не могу знать, господа… Телеграф…
— Понатыкали столбов, бездельники! — с отчаянной смелостью выкрикнул круглый усач в бекешке.
— Новая форма бюрократства, господа! — через ленивую губу произнес высокий человек в тулупе, произнес, осматриваясь, чтобы все слышали. И — действительно — замечание было воспринято с мстительным облегчением.
Вдруг, непочтительно расталкивая всех, на смотрителя двинулся коротконогий, крепкий господин в черной шубе:
— Паз-вольте! Паз-вольте! Я тотчас телеграфирую в Санкт-Петербург Аристарху Владимировичу! В правительствующий Сенат! Уж он-то вам задаст!
Смотритель развел руками в покорном отчаянье:
— Как вам угодно-с… Как вам угодно-с…
Смотритель постарел за эти пять лет неузнаваемо. Петр Григорьевич увидел совсем седые бакенбарды, какие стали носить с воцарением Александра Второго, лет сорок назад. Тогда полагалось подбривать подбородок, чтоб напоминать собою государев лик. Однако время взяло свое, и некогда горделивые бакенбарды, поредев и побелев, торчали теперь по бокам небритой бороды клочковато, по-кошачьи.
Но лисья телогрейка на смотрителе была все та же.
Тогда смотритель жаловался на службу, бормотал вполголоса о невыгодах своего положения.
— Жизнь прошла, а в ушах одно осталось… Из России — лошадей, в Россию — лошадей… Теперь у нас чугунный тракт пойдет… Скорее бы… А мне — на покой…
Петр Григорьевич узнал старика и пожалел его: глаза смотрителя были пусты, бессмысленны. Должно быть, он уже никогда и ничего не боялся, и не потому, что преодолел служивый страх, а потому, что все было ему безразлично, в том числе и его собственная персона, невесть для чего и по какой причине мающаяся на постылом почтовом дворе.
Угроза коротконогого господина телеграфировать в Сенат подействовала на столпившихся странным образом. Все повеселели, как будто каждому уже запрягали упряжку. Гнев на смотрителя вдруг иссяк. Старик побрел к своей избе, шаркая по скрипучему снегу подшитыми валенками…
А в новом домике цокала занятная машинка, и ничего кроме новой напасти от той машинки ждать не приходилось. Будто и телеграф этот для того и придумали, чтобы краткость повеления изложить еще короче, чтобы упрятать от обозрения лик начальства и тем самым вознести сей лик еще выше человеческого разумения. Бес его разберет, кто там — за проводами, за столбами видит и слышит и властвует! Из медного колесика ползет змеею узенькая бумага, а на ней знаки, будто понарошку. Но знаки те читает по-русски телеграфический служащий, господин телеграфист, молодой ссыльный, забияка и весельчак из отставных студентов. Поди проверь его — так ли складывает, верить ли? Да и как не верить, если складывает он слова привычные русскому человеку от Гостомысла и безо всякого телеграфа: не рассуждать!
Гневавшаяся минуту назад толпа уже острословила беспечно, беззаботно.
— Разъезжаем взад-вперед, а Россия — на месте. Только знает — лошадей задерживать.
— А куда, собственно, торопиться в любезном отечестве?
— Как куда? Ночевать где?
— До ночи добудем возок…
— Господа! В нумерах — полная ванцеклопедия!
— Разумеется, — перстом кинул в двухъярусный сруб коротконогий, — господа путейцы выстроили себе приватные хоромы! Еще бы! Казна в их полном распоряжении! Вот кого — в каторгу! Ну, я до них доберусь!
Телеграф уже давно не был новостью в Сибири, однако здесь, на умирающей почтовой станции, Петр Григорьевич отметил, что сущность всякого великого изобретения состоит отнюдь не в том, чтобы враз изменить сложившиеся обычаи, а в том, чтобы оснастить старые обычаи новыми возможностями.
Голубев отправился было искать обывательских, но задержался возле кузницы: уж больно ловко работал кузнец, могучий, огромный, заросший.
— Он похож на Бакунина, ты не находишь? — спросил Голубев.
— По-моему, он похож сам на себя. И я его где-то видел… Ступай ищи лошадей…
Подошел молодой человек университетского виду лет двадцати с небольшим, худощавое румяное лицо — в неогустевшей бороденке. Была на нем хорошая енотовая шуба нараспашку и собачьи унты. Можно было принять его за приказчика небедной фирмы (сибирские купцы любили именовать свои торговые дома сим солидным нерусским наименованием), а возможно, и за купеческого сына. Но Петр Григорьевич по неведомой, необъяснимой причине, по опытному чутью определил иное: ссыльный. И — должно быть, следует на собственный кошт. Не под родительский ли присмотр, с дозволения начальства?
Вдруг Голубев бросился к юноше, как к старому знакомцу.
— Петр! Это же Карасев!
Юноша оказался сдержаннее Голубева.
— Дядя Сеня, — спокойно и улыбчиво сказал он, — сколько лет, сколько зим?
«Ах, вот оно что! — подумал Петр Григорьевич. — Дядя Сеня — старая кличка Голубева».
Юноша завернул небольшого Голубева рыжими полами шубы:
— А я думал, что еще застану тебя… Совсем?
— Под надзор, — сказал Голубев, освобождаясь от объятий, — в Смоленск…
— А кто этот старик?
— Как?! Это — Заичневский…
— А… Якобинец… — насмешливо сказал юноша. Петр Григорьевич слышал разговор, делая вид, что не слышит, что занят наблюдениями за кузнецом (левая пристяжная сбросила все-таки подкову). Должно быть, юноша — марксид. Они, молодые марксиды, особенно въедливо произносят слово якобинец. Они трактуют все на свете, исходя из единых экономических законов, которые ясны им, как простая формула пифагоровой теоремы. Впрочем, они не признают и теорем. Они владеют аксиомами, объясняющими все на свете ясно, четко и неопровержимо. Петр Григорьевич слушал, думал.
Да, именно он, Петр Заичневский, тридцать три года назад объявил программу республики Русской в своей прокламации «Молодая Россия». Все шарахнулись от его листовки. Его осудил Чернышевский. Снисходительно побранил Герцен. Сам бесстрашный Бакунин испугался смельчаков «Молодой России». И как знать — не прокламация ли Петра Заичневского с товарищами наметила пути будущим комитетам и партиям, провозгласив цель политического движения — социальную республику Россию…
Старик… Кто этот старик, наблюдающий работу кузнеца? Это якобинец Петр Заичневский. Он, якобинец Петр Заичневский, смотрит, как кузнец в старой пупковой телогрейке, в кожаном фартуке, изогнув лошадиную ногу, примеривает полуфунтовую дорожную подкову, утешительно приговаривает, очищая копыто косым ножом:
— Балуй… Балуй, дура…
И всаживает в копыто гвоздь с одного удара. Плоские подковные гвозди торчат у него в петлях на шлее фартука, как газыри. Лошаденка взматывает головою, дергается, взметает хвостом, как от мух.
— Балуй…
А Голубев с этим красавцем удалились, радуясь неожиданной встрече.
Кузнец всадил последний гвоздь, загнул вылезший с внешней стороны копыта кончик. Лошаденка будто даже вздохнула, скребнув подкованной ногою.
— Так-то, Петра Григорьевич, — вдруг сказал кузнец, — все никак на Усольский тракт не выйдем…
Петр Григорьевич изумился:
— Кондрат! Тебя ж не узнать!
Оставив лошадь в станке, будто она его никак не касается, кузнец подошел к Петру Григорьевичу, обтирая ладони о фартук:
И дьявол сразу всего себя не показывает…
Петр Григорьевич шагнул навстречу. Странный спутник всей его жизни снова оказался перед ним, в новой ипостаси. И снова Петр Григорьевич отметил про себя, что спутник сей всегда удивительно соответствовал тому виду, который обретал. Сейчас это был придорожный кузнец, и не могло быть сомнений в том, что всю жизнь он только то и делал, что ковал лошадей. Кондрат, заросший, как леший, огромный (похожий на Бакунина), смотрел дружелюбно из-под кустистых седых бровей.
— Так-то… А я с утра маюсь… Сосет в грудях и сосет… К чему бы, думаю? Не иначе господь Петру Григорьича подкинет! И — как в воду!
— Я вот тоже, — улыбнулся Петр Григорьевич, — пляшет кобыленка и пляшет… К чему бы, думаю? Не иначе — раскуется! Ты-то чего благости набрался?
Кондрат прищурил левый глаз, приподнял правую бровь.
— Будто ты не знаешь…
— Откуда мне знать?
— А оттуда, бедовая твоя голова, что через пять годков, а именно в первый день генваря девятисотого года наступит конец света, страшный суд… — Кондрат перекрестился. — Столетний век кончается, Петра Григорьич, так-то…
Петр Григорьевич изумился:
— И ты туда же!
— И я, Петра Григорьич, и я, — печально, даже скорбно покивал Кондрат.
— Да ты же умный мужик!
— Господь не обидел… Вот за ум-то и взялся… Определился при деле. Слышь, — Кондрат шагнул ближе, сощурился, — в святой книге открылось — кто семь лет не грешил, тот войдет в царствие небесное… Я, Петра Григорьич, уже два года не грешу… С той поры, помнишь, как от губернатора убег… Осталось пять годочков перетерпеть…
Петр Григорьевич смотрел на Кондрата, смышленого, толкового мужика. Что это?..
Голубев в Иркутске показывал немецкую выписку «Невежество — демоническая сила, и она еще послужит причиной многих трагедий».
Петр Григорьевич смотрел в дикое, заросшее, истинно разбойничье лицо, на котором запечатлены следы всех пороков, и изумлялся страстному преображению этого давно знакомого лица. «Должно быть, — подумал Петр Григорьевич, — так и происходят чудесные превращения разбойников в святых, по банальным канонам житий. Ибо чье раскаянье сильнее раскаянья грешника?»
— Я так думаю, — негромко говорил Кондрат, знающе щурясь, — хоть раз в сто лет должна же являться правда на землю?.. — Придвинулся к уху. — Сказывают, ровным счетом сто лет назад — в точности к первому генваря сойдется — царя задушили… Слыхал?
— Будет тебе молоть вздор, Кондрат! Ты лучше вспомни, как при тебе царя растянули! При тебе! И что! Был страшный суд?
Кондрат засопел по-детски:
— Энтот царь не считается… Не под конец столетнего века пришелся. А тот, задушенный, пришелся к сроку.
— Да ведь не было и тогда никакого конца света!
— Не было, — согласился Кондрат, — врать не буду… Никогда не вру… А сейчас — будет.
Петр Григорьевич вдруг вспомнил, как тридцать лет назад назвал икону доскою (вы же в доски верите, а не в бога!), на что Кондрат сказал: «Ты сам, барин, в доску веришь, да не ведаешь в какую, вот и бесишься!»
— Ну, ладно, Кондрат, будет так будет. Да кто судить-то станет?
Кондрат будто дождался стоящего, важного вопроса, оживился:
— Как это кто? Верно, не правительствующий Сенат! И не царь энтот, по башке битый! Народ будет судить!
Он вздохнул, разгладил бороду, засиял воображением (Петр Григорьевич невольно повернулся туда, куда смотрит Кондрат, но ничего, кроме пакгауза, возле которого разгружали обоз, не увидел).
— Ты слушай, — повторил Кондрат, — слушай! На престоле — господь триединый, так? А по бокам — двенадцать ангелов.
— Это присяжные, что ли? — не сдержался Петр Григорьевич.
— Называй как знаешь… Значится, ангел, старшой, докладывает: раб божий Кондратий. По документу семь лет без греха. Как быть? И весь народ, слышь? — бодро раскинул руки, будто собрался пуститься в пляс, — весь народ как гукнет единым гласом: этапом его в царствие небесное! Навечно! Вот как будет!
Сатанинская уверенность Кондрата подействовала на Петра Григорьевича, как в театре, когда великий актер вовлекает и зрителя в свою игру. Петр Григорьевич поддался игре, спросил беззаботно, заранее зная ответ:
— Так, может быть, ты и за меня похлопочешь?
Но Кондрат насупился и сказал:
— Как с тобою быть — ума не приложу… Право… Надо думать, вам, господам, каюк все же… Хучь вы и пострадали и перетерпели… Постараемся, конечно, что сможем…
Сокрушение Кондрата было таким искренним, что Петр Григорьевич почувствовал нелепую обиду, как в детстве, в игре: и бежал быстрее всех, и метнул ловко, а — не попал! Каюк, стало быть, хучь и претерпели. Природная насмешливость как-то странно споткнулась об эту обиду.
— Будет тебе! Сам не знаешь, чего городишь! Сказано же в писании: претерпевши до конца — спасется!
Кондрат снова сощурил глаз, спросил, как на торгу при развале с краденой рухлядью:
— Не врешь? В каком писании? В нашем или в немецком?
— В нашем…
— Ну, Петра Григорьевич! Облегчил ты мою душу! Слышь? Я как узнал про страшный суд, первым делом штоф у братьев Дерюгиных потребовал. Я тогда на Лисихе промышлял. Сижу и плачу, — провел левой ручищей под усами, — право, плачу… Как же, думаю, с Пётрой Григорьичем, с кем я по каторгам, почитай, всю жизнь? Неужто и у бога нет справедливости? Жалко же! Веришь? В Крестовоздвиженскую ходил! На бугор. Конечно, к попу не пошел, врать не стану, не люблю я их. У законоучителя отца Знаменского спросил, в училище. Смеется! Там, говорит, видно будет. А, выходит, у бога есть статья, касающе тебя! Выходит, Петра Григорьич, как в бочку свистнуть — и тебе этапом в царствие небесное! Рад я за тебя! Право, рад!
Кондрат вдохновенно врал. Из всего сказанного, как понял Петр Григорьевич, правда была, пожалуй, только в штофе от братьев Дерюгиных да в неуказанных промыслах на Лисихе. Однако Кондрат так же искренне радовался внезапно обнаруженной у господа бога статье, касающейся Петра Григорьевича, как искренне верил в свое вдохновенное вранье.
III
Петр Григорьевич извлек черные плоские часы, надавил головку, крышка мягко открылась.
— Когда вы дорогу-то сюда дотянете? — услышал Петр Григорьевич.
Должно быть, кто-то приставал к инженеру.
— Всему свое время…
— Свое время, свое время! Небось уже все деньги — ампошэ!
— Да как вы смеете?
— Смею, сударь, смею-с! В газетах все про вас написано!
Петр Григорьевич усмехнулся: наконец-то найден истинный виновник железнодорожных афер, истинный казнокрад — любимец газетных разоблачений. Петр Григорьевич посмотрел на путейца. Молодой инженер горел справедливым гневом, щеки пылали не морозом — обидою. Задирал его тот самый коротконогий, который телеграфировал в Санкт-Петербург. Петр Григорьевич пошел было дальше, но едва не споткнулся о подкатившегося прямо под ноги малыша, перевязанного шарфами, как тючок, и наклонился к нему:
— Далеко ли изволите следовать, сударь?
Мальчик поднял голову и важно сказал:
— В Илкуцк… Да вот лосадей не дают…
— Дадут, — подбодрил Петр Григорьевич, — папенька ваш кто будет?
Мальчик посмотрел в глаза смело:
— Ницего полозительно не могу вам сказать, судаль…
Подошел высокий господин в пенсне, в аккуратной рыжей бородке, в куньей шапке, оглядел Петра Григорьевича с близоруким добродушием, поклонился учтиво, спросил мальчика:
— Куда ты закатился, Арбуз Иваныч?
И, наклонясь, стал поправлять на нем шарф. Шарф был обмотан хорошо, надежно. Движения высокого господина были вызваны скорее нежной заботой, нежели надобностью.
— Этьен! — вдруг крикнул кто-то, — все устроено! Собирайтесь, поедете на наших! Иннокентий Илларионович жалует свой возок, да только отвезете теодолиты! Арбуз Иваныч! Замерз небось?
Молодой путеец в наставленном на уши воротнике, в непременной форменной фуражечке с якорем и топориком, тот самый, кого только что задирал коротконогий, — неожиданно бросился к Петру Григорьевичу.
— Батюшки! — закричал он, — вы ли это?
Петр Григорьевич сплющил глаза — это был Митенька! Как же он не узнал его? Впрочем, за восемь лет он все-таки вырос.
Петр Григорьевич обнял молодого человека, и сердце его застучалось в горло. Меховые одежды мешали — как будто обнимались не люди, а шкафы.
— Кто повезет теодолиты? — крикнул кто-то.
Двое — толстый увалень в зеленой шубе и другой, стройненький, в бекешке, — остановились, ожидая, когда кончатся неуклюжие меховые объятия.
— Удальцов! — повторил толстый, — кто повезет теодолиты?
— Я повезу, — негромко сказал высокий господин в пенсне.
— Да подите вы! — оторвался от Петра Григорьевича Митенька. — Господа! Перед вами мой наставник, старый русский революционер Петр Григорьевич Заичневский!
— Гоша! — крикнул толстяк тому, кто в бекешке, — немедленно удвойте караул при динамитном складе! Честь имею, сударь, титулярный советник Петухов! А это, — на того, кто в бекешке, — ротмистр Румянцев! Уже — Румянцев, но пока еще — ротмистр!
И расхохотался, как из бочки, как хохочут толстые, простодушные люди.
Арбуз Иваныч вдруг закричал радостно:
— Мы повезем тинамиты! Папенька! Мы повезем тинамиты!
— Так это вы Заичневский? — хладно спросил высокий господин в пенсне и чопорно представился: — Надворный советник Шадрин.
И подчеркнуто резко кивнул головою, что было трудно сделать при поднятом вороте.
— Весьма рад, — пробормотал Петр Григорьевич и начал было снимать рукавицу, однако воздержался, сообразив, что надворный советник руки ему не подаст.
— Я имею счастье, — снова кивнул надворный советник, — быть мужем Екатерины Васильевны Удальцовой.
Он выразительно приподнял бородку, сверкнул стеклами, будто хотел спросить: каково?
— Митя! — беспокойно обернулся к Удальцову Петр Григорьевич, — так ведь господин Шадрин — муж Катеньки? Где же она?
Надворный советник Шадрин с нарочитым вызовом, будто ждал случая обескуражить именно Петра Григорьевича, произнес:
— Екатерина Васильевна — в административной ссылке. В Чите. Мы, — кивнул на мальчика, — направляемся вслед.
Петру Григорьевичу сделалось не по себе. Он посмотрел на Шадрина, на Удальцова, присел перед мальчиком, вглядываясь в личико и отыскивая черты орловской гимназистки Кити Удальцовой, Митиной старшей сестры. Мальчик смотрел в бородатое незнакомое лицо спокойно, ясно, однако Петру Григорьевичу против воли казалось, что читает он в этом взгляде осуждение.
— Теперь мужчины стали декабристками! — загрохотал титулярный советник Петухов, — суфражизм, господа, эмансипо-с!..
— Эмансипёс! — передразнил Удальцов, — ступай готовь возок! Косыха пошли кучером! А вы, мои женераль, — ротмистру, — сильвупле, пошлите казаков в восьмой нумер. Пусть приготовят. И — соорудят эн пти комильфо персон на шесть-семь, включая нас с вами, разумеется!
Ротмистр весело кинул два пальца к папахе, стукнул каблуком о каблук и зашагал вслед за Петуховым.
На корточках было тяжело — ныли ноги в икрах, в щелкнувших коленях. Но Петр Григорьевич не поднимался. Он привлек к себе малыша:
— Твоя маменька очень достойная дама… Я всегда преклонялся перед нею…
Мальчик осторожно посмотрел на отца.
Петр Григорьевич не сдержался, прижал к себе мальчика. Черт знает что… Маленький мальчик следует в ссылку к Кити Удальцовой… Но ведь она еще сама — дитя… Ах, Арбуз Иваныч, как тебе объяснить, что я сейчас испытываю. Да и надо ли объяснять?..
— Только ради бога не думайте, что все это — из-за вас! — все так же отчужденно и даже высокомерно проговорил надворный советник Шадрин.
— Чем занималась Екатерина Васильевна? — спросил Петр Григорьевич, всматриваясь в малыша.
— Она учительствовала, — все с тем же вызовом произнес надворный советник, — а в восемьдесят девятом, — он выразительно назвал год ареста Петра Григорьевича, — попала под надзор…
— Пур се фер митрайе[1] у нас в крови! — беспечным тоном, однако с тем, чтобы унять напряжение, сказал Митенька Удальцов.
Петр Григорьевич поднялся, слегка нагнувшись (от резких движений последнее время вдруг темнело в глазах), Шадрин с учтивой чопорностью воспитанного человека поддержал его под локоть. Петр Григорьевич отстранился. Надворный советник убрал руку и повторил, несколько убавив осуждающую строгость:
— Только не думайте ради бога, что мы вас в чем-нибудь обвиняли… Я бы не хотел оставить ложное впечатление… Право же… Кто в России не под надзором? Мы не придавали значения, отнюдь… А недавно, осенью — Чита…
Надворный советник вдруг заговорил мягче, как человек, не умеющий долго (более пяти минут) осуждать или даже соблюдать необходимые правила игры в осуждающую строгость.
— Что же делает Кити в Чите? — спросил Петр Григорьевич, почувствовав, что может назвать надворную советницу домашним именем.
— Да она учительствует! — бодро ответил за шурина Митенька Удальцов. — Она учит русскому языку бурятов! И вообразите — интересуется буддизмом!
— А надолго она сослана?
— На три года, — сказал надворный советник Шадрин. — Полноте, Петр Григорьевич! Я получил назначение в Иркутск, в казенную палату. И Кити перетащу в Иркутск. И заживем не хуже, чем в Твери!
Надворный советник говорил уже так, будто пытался утешить Петра Григорьевича и уж, во всяком случае, выразить свои заверения в совершеннейшем почтении, а также в том, что он, Петр Григорьевич, никак не должен считать себя виновником семейных злоключений Шадриных и, разумеется, Арбуз Иваныч не может восприниматься им, Петром Григорьевичем, как живой укор.
Мальчик томился, но он был хорошо воспитан и, надо думать, весьма дружен с отцом. Он терпеливо ждал конца разговора, понимая, что говорят о маменьке, к которой он едет и которую скоро увидит. Нетерпение взяло верх над воспитанностью. Он сказал:
— Возмозно, узе дали лосадей… Полозительно тосклива эта долога…
— Ты весьма конспиративен, брат, — сказал Петр Григорьевич малышу, — ницего полозительно не могу вам сказать…
Шадрин рассмеялся, снял перчатку:
— Прощайте, Петр Григорьевич…
Петр Григорьевич пожал теплую руку:
— Непременно кланяйтесь милой Кити… И ты, брат, кланяйся маменьке и непременно скажи о моем преклонении…
Мальчик посмотрел на отца, как бы проверяя истинность сказанного. Шадрин подтвердил кивком. Они уехали. Удальцов сказал, глядя вслед:
— Едва ли на свете есть человек добрее его… Мы очень порадовались за Кити…
— Рассказывайте, Митя, как это все было?
— Да как было? Как бывает, так и было. Я поехал в Петербург, Кити осталась в Твери… Вышла за него… Он пообещал нашему отцу вытравить из Кити пур се фер митрайе… Он еще в Орле ухаживал… Неужели вы его не помните?.. Цветы на прокламациях!..
— Так это был он?!
— Ну да! А в Твери вокруг Кити — кружок… Гимназисты, ткачи, брошюры, прокламации. Кто-то выдал… Обыск… Искали литографский камень…
— И нашли?
— Господь с вами, Петр Григорьевич! Шадрин хранил его у себя в присутствии. Он и сейчас цел!
— И не боялся?
— Петр Григорьевич, он любит Кити… Он ведь заявил в полиции, что не только разделяет взгляды жены, но даже внушил их ей и сам основал незаконное сборище… Разумеется, никого из Китиных слушателей он не знал в лицо, да и молодые люди эти сказали, что видят его впервые. Кроме того, он понес такую чепуху насчет своих политических взглядов, что подполковник Турков удивился: всякого, говорит, вздора наслушался, но этот всем вздорам вздор…
— Какие же это были взгляды?
— Какая-то помесь Кампанеллы с Заратустрой… Он тогда как раз читал Ницше… Какая-то манихейская чепуха вроде терциум нон датур — либо в рай, либо на виселицу. Кстати, про Ницше он мне сказал, что ничего омерзительнее не читывал…
— Что же он сам — пур се фер митрайе?
— Петр Григорьевич, — печально сказал Удальцов, — он любит Кити. Неужели этого мало для того, чтобы хранить литографский камень в казенной палате и городить вздор в полиции?!
IV
Петр Григорьевич ощущал уютную стариковскую выгоду подчиняться энергической распорядительности молодых людей, отдавая себя во власть их снисходительной предусмотрительности, несколько преувеличенной, несколько показной, но несомненно искренней. Пусть будет так, как решил Митенька. Петр Григорьевич останется здесь до понедельника, а в понедельник его отправят в путейском возке, возможно, в придачу к какому-нибудь теодолиту, до железной дороги и устроят в приличный вагон. Петр Григорьевич снял шубу, Удальцов немедленно подхватил ее, повесил в углу возле окна на костыль.
— Митя… Надо найти Голубева, моего спутника… Он как сквозь землю…
— Найдем, экселенц! — шутовски вскинул пальцы к козырьку Удальцов и вышел.
Черная, круглая, высокая до потолка печь была горячей. Петр Григорьевич прилег на топчан. Шуба темнела в углу, как длинный часовой, подремывающий на посту. В темноте, едва-едва подсветленной лампадкой, было уютно, тепло и тихо. Подложив руки под голову, Петр Григорьевич, сощурясь, рассматривал зелененький неподвижный огонек под неясными ликами богородицы с младенцем. Зелененький огонек маслянисто высвечивал лики матери и сына… Далеко ли закатился Арбуз Иваныч? Надворный советник господин Шадрин назначен в «Илкуцк, да лосадей не дают»… Добрый человек, покорный судьбе. А судьба — любовь очаровательной Кити, той орловской гимназистки, которая была в кружке Петра Григорьевича восемь лет назад.
В дверь поскреблись. Петр Григорьевич очнулся. Дверь открылась, вспыхнув светом. Небольшой молоденький казак, ярко освещенный десятилинейной лампой, которую он нес, гаркнул с порога:
— Дозвольте, ваше превосходительство!
— Войди, братец…
Лицо казака было четким, ясным. Носик молодецки вздернут, на верхней губе, где едва обсохло молоко, уже значились юные усики, как хлопья керосиновой сажи. Пахнуло щами, махоркой, юфтью, сделалось веселее. Превосходительство! Казак знал службу: в этом нумере останавливается большое начальство. Петр Григорьевич, скосив глаза, следил за казаком. Малый шустро, ловко подцепил лампу на крюк, свисающий с матицы, вытер зачем-то руки о гимнастерку. Гукая новенькими чоботами, казак вышел, однако дверь приложил почтительно, чтобы, не дай бог, не хлопнуть. Комната осветилась. Круглая печь оказалась обшитой лоснящимся черным железом, шуба была просто шубой, висевшей на костыле. Стол был деревянный, желтый, скобленый. Оказалась в комнате также лавка и три красных плюшевых кресла возле прикрытого плетеной скатеркой круглого столика. Кресла были странные, не домашние, должно быть, взятые из вагона первого класса. К стене возле печи прижата была металлическими зажимами откидывающаяся вагонная постель. Эта смесь железнодорожного уюта с казармой развеселила Петра Григорьевича. Он встал, подошел к заснеженному морозными узорами окну. От окна тянуло прохладою. В дверь постучали.
— Можно, — сказал Петр Григорьевич.
Вошел ротмистр Гоша Румянцев:
— Петр Григорьевич! Ваш товарищ здесь, третья комната по коридору. У телеграфиста. Они его загнали в угол и, возможно, сейчас зарежут…
— Что же вы не предотвратили смертоубийство? — спокойно спросил Петр Григорьевич.
— Да пусть их! — присел в кресло ротмистр.
— Он разве путейский?
— Так ведь господин телеграфист отбывает здесь свои три года… Без права занимать казенные места… Вот он и служит на железной дороге…
— А телеграфическое отделение?
— Так ведь это казенное место, — рассмеялся ротмистр, — а телеграфиста другого нету… Так что мы ему дозволяем служить на казенном месте не более трех часов… России нужны толковые люди…
Петр Григорьевич и сам занимал казенные места, не имея на то права, как политический ссыльный. Начальство временами смотрело сквозь пальцы на сию несуразицу. Нужны были в дальних губерниях знающие люди, а знающие люди-то как раз и были политическими.
Петр Григорьевич присел в кресло напротив:
— Да вы, я вижу, тоже — толковый… Не потому ли вы здесь? Извините за любопытство…
— Так ведь я на дуэли дрался, — просто ответил ротмистр.
— За что же?
— А я — как Фердинанд Лассаль! Шерше ля фам!
Разница в том, что не меня застрелили, а я застрелил…
— Кого же?
— Мерзавца, Петр Григорьевич, мерзавца! — очень серьезно и даже грустно сказал ротмистр. — Такого мерзавца, что, если бы я был не из тех самых Румянцевых — быть бы мне в Акатуе, да не ротмистром…
— Значит, и вы — из недовольных?
— А кто доволен? Все недовольны! Вот загадка, господа революционеры. У месье телеграфис всегда клуб. Ссыльные все знакомы, спорят, горячатся…
— Да ведь это удобно для полиции, когда известно место незаконных сборищ…
— Петр Григо-о-орьевич! — протянул ротмистр, — да что я там услышу? Долой самодержавие? Так я это давно уже на зубок выучил! Вы ведь никогда не сговоритесь, господа, нет. Сэт инпосибль… Жамэ[2]… Я ведь наблюдаю… Встреча со слезами, объятия, воспоминания… Три минуты водой не разольешь… А потом как сцепятся: у Гегеля этого нет! Нет, есть! Нет — нет! Глаза загораются. Враги, давно ль вы ими стали? Что вам Гегель, что вам высокоумный этот немец, когда оба вы в русских кандалах!..
V
Голубев сидел в углу на табурете. Табачный дым стелился, как в курной избе. Карасев (Петр Григорьевич узнал его и без шубы) ушел головою в дым. Другой молодой человек, телеграфист, небольшой, белобрысый, с желтой бородкой, сидел возле телеграфного аппарата, жадно посасывал сигару. Лицо его было костяным, темные глаза жглись огнем в свете керосиновой лампы.
— Это народнические бредни! — кричал из дыма Карасев. — Вы больше не революционер! Что означает ваш дурацкий централизм? Это русский бабуизм, не знающий классовых корней! Вы истинный ученик вашего Заичневского!
«Уже перешли на вы», — подумал Петр Григорьевич, войдя, и негромко спросил:
— Речь идет обо мне?
— Да! О вас! — ничуть не смутился Карасев.
— Петр! — вскочил Голубев, — скажи им!
— Я только что видел жандармского ротмистра, — миролюбиво улыбнулся Петр Григорьевич, — надо полагать, ваш спор доставил бы ему удовольствие.
— Он так откровенен с вами? — злорадным высоким голосом спросил белобрысый.
Петр Григорьевич не ответил, сел на лавку:
— Жарко тут у вас, однако…
— Только не вздумайте превращать все в фарс! — предупредил телеграфист. — Я не сомневаюсь, что вы остроумны, но остроумие и правота — разные вещи!
— Вы, разумеется, предпочитаете быть не столько остроумным, сколько правым? — все так же миролюбиво спросил Петр Григорьевич. — Но если вы правы — зачем вы так кричите? Позволите курить, господа?
— Я думаю, из нашего спора уже ничего не получится, — недовольно сказал Карасев.
— А я сегодня весь день не курил, — ответил на это Петр Григорьевич. — Приятно, знаете, выкурить сигару… Вы служите на телеграфе?
— Какое это имеет значение? — несколько сбавил голос белобрысый, — во всяком случае, вашему ротмистру это известно.
Он нехотя встал и поднес Петру Григорьевичу спичку, как бы извиняясь за дерзость.
— Благодарствуйте, — кивнул Петр Григорьевич. — Извините мое любопытство… Здесь какой-то господин посылал телеграмму в Сенат… Так получил ли он ответ?
— Какую еще телеграмму? — досадливо спросил телеграфист, поднеся неохотно горящую спичку.
— Такую, что ему возка не дают, — пыхнул дымом Петр Григорьевич.
— Да такие телеграммы я передаю постоянно, — выпрямился телеграфист и сунул погасшую спичку в коробку. — Причем тут телеграммы…
— Забавно… Наблюдаете ли вы несуразности бытия, господа? Как вы мыслите революцию в стране, где возок добывают через правительствующий Сенат? Об этом Гоголь написал значительно лучше, чем Гегель… Извините за скверный каламбур…
Тон его, миролюбивый, стариковский, домашний, странным образом притишил бушевавшие только что страсти. Телеграфист, однако, все еще горел. Он немного подумал и сказал почти вежливо:
— Вы должны понять, господин Заичневский, что авторитеты не могут сдерживать нас и не должны…
— Разумеется, — кивнул Петр Григорьевич. — Когда-то очень давно, когда вас еще на свете не было, я замахивался и на самого Герцена…
Костистое, жесткое лицо телеграфиста потеплело, глаза обрели какой-то детский интерес. Он еще топорщился, но Петр Григорьевич отметил с удовлетворением, что мальчик вовсе не зол, а даже добр и совсем не глуп.
Но Карасев не сдавался:
— Вот вы сами и дайте аттестацию своим словам. Что значит — вас еще на свете не было? Это же несерьезно! В этом присутствует оскорбительная предвзятость!
Пепел, накопившийся на сигаре, был сер и тяжел. Петр Григорьевич осторожно протянул руку к глиняной чашке, заменявшей пепельницу, стряхнул:
— Старики уже были молодыми, а молодые еще не были стариками… Это очень существенно…
Голубев оживился с приходом Петра Григорьевича.
— Почему мы прежде всего отыскиваем друг в друге неконсеквентность?
— Никакой неконсеквентности в русском бланкизме мы не видим, — отбрил Карасев. — А вот ты, дядя Сеня (все-таки перешел на ты!), именно сейчас считаешь возможным увлекаться тем, что ткачевцы, бланкисты писали еще в своей «Молодой России»! Кстати сказать, списанной с «Молодой Италии» Маццини! Ты помнишь Маццини? Не помнишь! И никто его не помнит! Ора э семпре![3] Ну и что? Что именно — ора э семпре?
Карасев посмотрел на Петра Григорьевича с вызовом.
Петр Григорьевич не ответил. Карасев говорил обидно.
«Молодую Россию» писал он, Петр Заичневский, а никакой не Ткачев и не Бланки. Он не знал тогда ни Ткачева, ни Бланки. И ничего худого не видит в том, что почитал Мадзини (Мадзини, черт побери, а не Маццини!). Ему помогал Ваничка Гольц, прекрасный поэт, великая чистая душа. Так неужели его, Петра Заичневского, подобно Аристотелю, нужно загнать в Дантов ад только за то, что родился он до истинной веры?
Он начал миролюбиво, пренебрегая обидою:
— Мы с вами, то есть ля буржуази детрэ[4], что ли… как теперь стали называть нас — интеллигенты, прежде всего отыскиваем друг в друге пороки, грехи… Изобличаем друг друга подозрительно, непримиримо и беспощадно… Мы не умеем объединяться…
— Да как же объединяться? — нетерпеливо перебил Карасев, но Петр Григорьевич сказал:
— То же самое я спросил когда-то у Чернышевского.
— Однако Чернышевский и сам не понимал очень многого! — повысил голос Карасев.
— Юноша, — все так же негромко сказал Петр Григорьевич, — нас таскают по тюрьмам и каторгам потому, что мы грызем друг друга… Мы загораемся от запятой, поставленной не там, где желали бы мы. Нас не нужно натравливать друг на друга — мы уже натравлены слепой страстью к истине, в которую поверили умозрительно и книжно. Самодержавию нужно противопоставить не слова, не теории, а железную практическую организацию!
— А народ? — закричал Карасев.
— Вы уже ходили в народ, и стреляли во имя народа, и угробили царя ради народа! Неужели ничего не поняли? — устало спросил Заичневский.
— Это не мы! Нас еще тогда на свете не было! Мы тогда еще были детьми!
Петр Григорьевич улыбнулся, вздохнул;
— Вот видите! Стало быть, было время, когда вас еще не было или когда вы еще были детьми! Объединяйтесь! Легально, нелегально, открыто, сокрыто — но создавайте стальную организацию, чтобы в один прекрасный день, в одну прекрасную минуту, — опять повысил голос, — захватить Зимний дворец, — показал погасшей сигарой в медное колесо, — электромагнитный телеграф, все технические усовершенствования! И всюду поставитить своих комиссаров! Всюду! И своих! Вот это и будет революция в России! И вы ее увидите, в отличие от меня!
Карасев смотрел на красивого, разгневанного веселым гневом старика, проникаясь помимо воли почтением к нему. Конечно, старик городит бланкистский вздор. Но как убежденно! И как он просто сказал: в отличие от меня! Значит, он знает, что не доживет.
— Вы не правы, — уже спокойнее сказал Карасев, — революция в России произойдет совсем иначе.
Дверь открылась. Митенька Удальцов объявил с порога:
— Господа! Милости просим! Веники мокнут в ушатах!
VI
Дмитрий Васильевич Удальцов принадлежал к сонму тех молодых русских инженеров, у которых голова звенела идеями, а руки чесались работой.
Несовершенство мира сего, обнаруженное и исследованное философами, — извечное противостояние справедливости и несправедливости, правды и кривды, свободы и самодержавия, труда и капитала, добра и зла — занимало Дмитрия Васильевича сызмальства, как всякого справедливого, правдивого, трудолюбивого и доброго человека. И как всякий хороший, деятельный человек, Дмитрии Васильевич знал самый надежный и верный способ преображения мира. Способ заключался в том, что необходимо как можно скорее насытить жизнь машинами, техническими новшествами, техническими усовершенствованиями, одарив человека самым цепным достоянием: временем, свободным от тяжелого труда. Мысль эта, вычитанная у Маркса, поразила Дмитрия Васильевича глубокой простотою, за которой он видел свободное творчество, свободное искусство, свободное мышление свободного народа. Занятия на строительстве дороги захватывали Дмитрия Васильевича целиком, однако неуемная анергия не позволяла ему быть праздным даже в короткие часы отдыха. Эти часы он посвящал оборудованию быта своих товарищей.
Баня была техническим детищем Дмитрия Васильевича. Она обогревалась водотрубным котлом, и пар в нее подавали при помощи центробежного регулятора.
Разумеется, баня была еще не готова, но мыться в ней уже было можно. Освещалось помещение керосиновыми фонарями, какие обыкновенно висят в конюшнях.
Великое банное содружество ликовало в предбаннике. Какие бы эполеты ни носил человек, в какие бы хламиды ни рядился, какими бы ризами ни прикрывался, был он все-таки, по сути своей, наг, как Адам в тот — увы, недолгий — час, когда, вылупившись на свет, он даже еще и не помышлял о Еве. Он был свободен от вздора, который там, за дверью рая, мстительно дожидался, чтобы терзать страстями. Великое банное содружество ликовало в раю. Петр Григорьевич сидел на лавке, на льняной простыне в сухом тепле предбанника и, полуприкрыв глаза, слушал веселый гомон крепких статных молодых людей, которые разоблачались для древнего языческого ритуала омовения телес.
Дверь дохнула холодком. Вошел старик лет пятидесяти в старом стеганом турецком халате, в ночном колпаке с кисточкою. Старомодные начальственные бакенбарды и пенсне на шнурке никак не соответствовали его одежде. «Должно быть, это и есть Иннокентий Илларионович», подумал Заичневский и ощутил удовлетворенно от того, что теперь он — не единственный старик среди этих Гераклов и Аполлонов.
Должно быть, Митя Удальцов был здесь баловнем. Он один и не смутился появлением начальства. Все стихли, Митя же сказал беззаботно, как баловень семейства:
— Ваше превосходительство… Позвольте — Петр Григорьевич Заичневский.
Генерал (статский, разумеется) сановно выпятил губу, шевельнул бакенбардами, однако весьма дружелюбно протянул руку:
— Весьма-с… Я, милстсдарь, с Нечаевым мылся…Имел честь…
Генерал снял пенсне, сунул в кармашек халат, сел на лавку, стащил с лысой головы колпак:
— За кузнецом послали? — И — Петру Григорьевичу, разоблачаясь. — Худ был Сергей Геннадиевич… В чем душа держалась… Кожа пупырчатая, аспидная, бес, да и только…
— Вы что же, — покосился Заичневский на неожиданный шрам (два рубца иксом на белом несильном плече), — в пятерке у него состояли?
— Э, Петр Григорьевич! Молодо-зелено… А вспомнить приятно!..
Петр Григорьевич уже привык и даже не замечал, считая само собою разумеющимся, свойство образованного русского человека всенепременно начинать свой жизненный путь с крамолы, с тайных бдений, с недозволенных чтений, с шумных споров об истине, о благе народа, о пошлости жизни и подлости самодержавия. Разумеется, чины, эполеты, бакенбарды отрастали потом, но в памяти о безусой, ватажной, бесчиновной юности оставался светлый, как солнечный зайчик в детской, золотой блик, вспыхивающий тайно от карьеры.
Иннокентий Илларионович заметил взгляд, прикрыл шрам небольшой ладонью с обручальным кольцом, сказал почти застенчиво:
— Плевна-с… Турецкий ятаган… Так где же кузнец, Дмитрий Васильевич?
— Кузнец на месте, ваше превосходительство…
Петр Григорьевич отметил, что из всех присутствующих генерал видел только Митеньку, будто никого, кроме Удальцова, и не было.
— Вот, Петр Григорьевич, — сказал генерал, — предъявлю я вам сейчас истинного Стеньку Разина… Что твои турецкие бани! Прошу-с…
Посреди мыльни, сумеречной, несильно освещенной керосиновым фонарем, темнела в жидком пару высокая лавка, возле которой стоял голый, в полотняном переднике Кондрат.
Кондрат мял полотняными рукавицами узенького белобрысого телеграфиста. Телеграфист блаженно извивался под тяжелыми руками, кряхтел, стонал.
— Балуй, — приговаривал Кондрат, заламывая телеграфисту ноги.
На чугунном плече кузнеца Петр Григорьевич узнал старый каленый след — так таврят лошадей.
Петр Григорьевич не удивился ни Кондрату, ни тому, что Кондрат делает вид, что не знает и его. Это была старинная каторжная этика, старинный кантов категорический императив, осмысленный практикою бытия.
Появившись в мыльной, генерал будто утратил чин, да и молодые люди как-то осмелели при нем, должно быть, подвигаемые великим банным содружеством.
Кондрат шлепнул телеграфиста по детскому месту, телеграфист вскочил:
— Ручищи у тебя, как у медведя…
— Здоровее будешь…
Петр Григорьевич с генералом прошли в дальний угол — в отделение, еще недостроенное, но уже снабженное двумя полками.
— Каков? — спросил генерал, имея в виду Кондрата. Петр Григорьевич кивнул.
А Митенька Удальцов рассказывал, какой будет эта баня.
— Сюда мы выведем металлическую плиту, чтоб квасом поддавать!
И показал, где быть плите.
Кондрат, мявший следующего, на сей раз Карасева, проговорил в бороду, не отрываясь от дела:
— Дух не тот будет…
— Почему не тот, — звонко возразил Удальцов, держа на весу шайку.
— Однова — каленый кирпич, — все так же про себя сказал Кондрат, — другова дела — железо.
— Да какая ж разница?
— Кирпич — та же земля… Дух чист, домовит… Вроде крепкая баба пироги из печи таскает… А, к примеру, квас на каленое железо — тады вроде анбар горит. Тоска…
Генерал, успевший взобраться на полок, рассмеялся, и смех его прибавил вольности. Толстый шаровидный титулярный советник загрохотал, как из бочки:
— Дмитрий Васильевич! Инженерство твое уперлось в предел!
— В какой предел? Ретроград! — Поставил шайку. — Пар через центробежный регулятор — плохо?! — Регулятор заменяет человека! — вскрикнул Удальцов.
— Зачем его заменять? — проворчал Кондрат, разминая Карасева. — Балуй… Балуй, сказываю…
И — шлепнул. Слазь, давай следующий.
Следующим был ротмистр. Он лег привычно — не гость все-таки. Титулярный советник Петухов снова — как из бочки:
— Теряется смысл автоматического регулятора, Деметриус!
Митенька вместо ответа плеснул из шайки в Петухова.
— Дело в том, господа, — сказал Карасев, отдыхая от Кондратовых ручищ, — что технический бум явился на Западе после великих революций… Я имею в виду Францию, Англию… Даже восстание гезов… А в Россию машины пришли еще при крепостном праве…
— Ну и что? — не понял Петухов. Карасев сказал, намыливая голову:
— Техника — это новый рычаг эксплуатации.
— Что это значит? — вдруг спросил генерал, вяло похлопывая себя веником.
— Это значит, — отдуваясь от мыла, сказал Карасев, — что, будучи орудием частной собственности, она служит избранным.
— Вот как? Интересно, — без интереса заметил генерал.
— Вы не станете отрицать, — черпнул вслепую воду Карасев, — что смысл техники заключен в том, чтобы облегчать труд. А рабство на том и стоит, чтобы не облегчать труда. Египетские фараоны строили свои пирамиды в пору, свободную от сельскохозяйственной страды… Чтобы занять рабов бессмысленной деятельностью… Воображаю, с каким удовольствием какой-нибудь Рамзес обезглавил бы изобретателя механической лопаты!
Голубев сдул мыльную пену с носа и сказал, зажмурив глаза:
— Однако в Англии рабочие ломали машины.
— Неужто ломали? — проворчал Кондрат, — выходит, и там люди есть… Балуй…
Ротмистр рассмеялся:
— Вот ваша философия, господа!
— У нас с вами разные мнения на сей счет, господин жандарм, — холодно сказал Карасев.
— Это вы напрасно, господин революционер. У меня никакого мнения нет. Мое мнение — это мнение начальства.
Карасев возмутился:
— Следовательно, вы обязаны доносить своему начальству?
— Разумеется! — дразнил ротмистр, извиваясь под Кондратовыми рукавицами. — По долгу службы-с.
— В таком случае благоволите пояснить нам, как образованный и мыслящий господин… Откуда идет низость и двуличие? Вы ведь сейчас слушаете, а сами — мотаете на ус?
— Да что я услышу? — перебил ротмистр. — Давай, братец, по спине колотушками… Хорошо… Вы ведь напрасно меня опасаетесь!.. Давай, брат, в поясницу, в поясницу! Сбоку! Вот та-ак… Истинные доносы исходят не от кадровых офицеров, господа… По хребту давай, по хребту!..
— От кого же?
— Стой, дай отдохну, — сказал ротмистр и сел на лавке, — от выслужившихся унтеров и оберов, от лавочников… Достигли первой сытости… Боятся потерять… Чиновники… тринадцатый класс… Никогда не перелезть в десятый!.. Завидуют… Мстят… Вот и фискалят! На-род-с…
— И их вы называете народом?
— Да кто ж они? Кузнец! Шайкой… Откуда они вылезли, из столбовых, что ли?
Кондрат облил ротмистра не как человека — как предмет.
— Но это негодяи, которых самодержавие развращает! — крикнул через шум воды телеграфист.
— Ф-р-р-р… Молодец!.. — захлебнулся ротмистр. — А как прикажете быть, если у нас кусок хлеба — одолжение?
— Да ты, я вижу, материалист, — загрохотал Петухов.
— Разумеется, — глянул на полок, где лежал Петр Григорьевич, ротмистр, — не полный же я идиот!
— Давай теперь революционера, Стенька Разин! — крикнул титулярный советник, покосившись на генерала, — как раз после жандарма!
— Господа! — не унимался телеграфист. — А ведь бунты-то на Руси возникали в сытых местах! На Яике, на Дону…
— Теперь сытых мест нету, — сказал Кондрат, — бунтов, не будет более… Страшный суд будет…
— Когда ж он будет? — весело спросил Удальцов.
— К началу нового столетнего века, — твердо сказал Кондрат. Голубев укладывался на освободившуюся лавку:
— А по какому счислению — по нашему или по западному?
— Запад опередит на двенадцать суток, — сказал телеграфист. — Нет, позвольте! Уже на тринадцать!
— И здесь, собачьи дети, обставят, — вдруг произнес с полка генерал.
Петухов охотно рассмеялся:
— Страшный суд! Эка невидаль! Напишем кассацию, начнем волокиту!.. На целый век хватит!.. Что ж — не обманем? Окружной обманывали! Выкрутимся!
— Прекрасная перспектива, господа, — вздохнул генерал. — Весь двадцатый век судиться с господом богом! Это же сколько стряпчих, присяжных поверенных, жучков, паучков…
Ротмистр не преминул съязвить:
— В двадцатом веке будет революция, — сказал он по-немецки. — Производительные силы войдут в противоречие с производственными отношениями. Я читал господина Маркса по-немецки.
— Где же? Неужели в кадетском корпусе?
— Извините, в пажеском… Но там я читал господина Лассаля. Господина Маркса я прочел позже… Среди конфискованных книг…
— Да? И как вы нашли Маркса?
— Вы знаете, относительно, — снова по-немецки, — производительных сил и производственных отношений он меня заинтриговал. Наконец-то я стал понимать, чего хотят новенькие…
— Ну и чего ж они хотят?
— Того, что в России невозможно, герр революционист…
— А что же, по-вашему, возможно в России?
— Не знаю, право, не знаю, — очень серьезно сказал ротмистр и вдруг, словно испугавшись своего искреннего тона, добавил уже шутовски, — мне кажется, в России все невозможно и поэтому нет ничего невозможного. Русский человек делает все в десять раз больше, чем нужно. В десять раз больше, чем нужно, конспирирует и в десять раз охотнее, чем нужно, ловит конспираторов.
— Революционеры тайно желают строить дворцы для народа, — загрохотал титулярный советник Петухов, — а жандармы явно ловят их за это! Кузнец! Хочешь жить во дворце?
Кондрат шлепнул Голубева, согнал с лавки:
— Не… Наслежу…
— Химеры, господа, — благодушно сказал генерал, — утопии… Сочинителям ничего не стоит выдумать что-нибудь этакое и — увлечь… Я ведь сам в юности… Мнилось мне, что я — Базаров… Господин Тургенев увлек-с…
— Базаров не кажется мне таким уж революционером, — сказал ротмистр, — да и убил его Тургенев, не зная, как с ним быть.
— Ты б уж знал, как с ним быть! — захохотал Петухов.
Петр Григорьевич прислушивался: ведь Тургенев перед кончиной собирался писать роман о нем, о Петре Заичневском. Собирался писать с него другого Базарова, как рассказывал Петру Григорьевичу лет десять назад великий вестовщик Гиляровский. Суетная мысль эта посещала Петра Григорьевича редко, но всегда будоражила: как все-таки написал бы о нем сам Тургенев? А может быть, он написал бы новый «Дым»? Или новую «Новь»? Неужели бы и его прикончил? Не хотелось бы…
А в бане уже разговаривали о том, как следует сочинять романы. Молодые люди, о чем бы ни говорили, говарили знающе, как пророки.
— Базарова Тургенев выдумал, — снисходительно сказал телеграфист. — А вот вздумал бы он описать невымышленное лицо — попыхтел бы!
— Это почему же? — не сдержался Петр Григорьевич.
— Да потому, что законы изящной словесности таковы, что в конце сочинения необходим кульминационный момент. Например — революция! А революции пока еще нет… Значит, надо искать кульминационный момент в тех временах, когда все казались себе Базаровыми, когда все были революционерами…
— И составляли громовые прокламации, потрясая воображение! — добавил Карасев.
«Это про „Молодую Россию“», — подумал Петр Григорьевич, но сделал вид, что не понял. Сказал почти равнодушно:
— Ну что же… Пусть про таких лиц пишут от конца до начала… Даже интересно: действующее лицо все время молодеет и молодеет. На зависть тем, кто все время стареет и стареет…
Он устал от разговоров. Петухов расхохотался.
— Кузнец! — крикнул он, оборвав смех, — ты помнишь, как был молод?
— Только то и помню, барин…
Перед Кондратом стояла задача более существенная: кого мять напоследок первым — действительного статского советника Иннокентия Илларионовича, от коего весь прибыток, или же пожизненного знакомца своего, как бы дружка, Петру Григорьевича, с коим они за всю жизнь такое видели-слышали, что этим чижикам и не приснится, и с коим, не сговариваясь, ни ухом ни духом вот уже два часа не дают никому понять, что тесно знают один другого тридцать лет и три года…
А виделись они в последний раз в Иркутске, откуда следовал сейчас Петр Григорьевич. Он отбыл там очередную свою ссылку, которую можно было бы назвать итоговой чертой…
ИТОГОВАЯ ЧЕРТА
1890–1895.
Иркутск
I
Ему казалось, он помнит город. Но он ошибался. Тот город, который он помнил, сгорел дотла. Перед ним был новый Иркутск.
Он никогда не видел, как горят города. Говорили, Иркутск горел, как когда-то Санкт-Петербург во времена прокламации «Молодая Россия». Прокламация явилась в Питере за несколько дней до пожаров, и у многих не было сомнения в том, что она и подожгла столицу.
Давно, четверть века назад, Чернышевский в Усолье рассказывал Петру Григорьевичу, как прибегал к нему тогда Достоевский и уговаривал урезонить своих людей, чтобы не жгли города. Но уже умер Николай Гаврилович, давно умер Федор Михайлович, ушли в прошлое и петербургские пожары и зажигательная прокламация, написанная двадцатилетним юношей в камере Тверской части. Тогда Петр Заичневский еще не знал, что огонь, к которому только зовут, и огонь, который уже горит, не одно и то же…
В том иркутском пожаре погибла Ольга.
Петр Григорьевич хотел увидеть, где погибла Ольга, и бродил по городу, вставшему из пепла, бурно отстраивающемуся поперек старых следов. Воображение не допускало ужасной картины. Он видел Ольгу, улыбающуюся из полицейской кареты. Ольга улыбалась, не глядя на него, улыбалась победно, весело, достойно. Такова была конспирация, которой он ее обучил, столь необходимая, чтобы жить, и такая бессмысленная в диком огне…
Он знал Ольгу в Пензе и в Повенце. А она сгорела здесь, в Иркутске, в который могла бы и не попасть, если бы не он. И он не выручил ее…
Петр Григорьевич бродил по новому Иркутску и вдруг поймал себя на мысли, что в голове резвится грибоедовский стих, где говорилось о Москве, — «Пожар способствовал ей много к украшенью». Почему он вспомнил этот стих? Неужели, чтобы малодушно бежать от печальных и трагических размышлений?
Он уже привык к страннической жизни возмутителя спокойствия. Вечный ссыльный, он не задерживался в назначенных начальством местах. Жандармские полковники имели честь просить высшее начальство перевести указанного политического ссыльного в иную губернию, поскольку местные обыватели весьма взбудоражены и обеспокоены даже только пребыванием господина Заичневского в здешних местах.
Петр Григорьевич определился теперь на Пестеревской улице близ Большой, получив службу приказчика в торговом доме Анны Ивановны Громовой. Миллионное дело это (пушнина, лес, кожа, рыба, пароходы) знаменито было тем, что давало пропитание ссыльным, и главным образом политическим. Анна Ивановна, будучи дамой верноподданной и почтенной, позволяла себе, однако, почитывать недозволенные сочинения и, говорили, даже хранить предосудительные брошюры. Говорили, она разделяла мнение тех ссыльных, которые видели в самодержавии главное препятствие для развития производительных сил. Производительною силою она почитала себя, самодержавием же было все, что донимало ее взятками, поборами, кляузами и потравами.
Петр Григорьевич был представлен этой даме.
Она увидела рослого бородача в пунцовой косоворотке, в синей суконной поддевке и высоких сапогах. Она не уважала ряженых. Господа, рядящиеся под мужиков, не находили ее сочувствия. Однако этот, рекомендованный ей Пыхтиным, никак не казался ряженым. Косоворотка была по нем, и поддевка, и сапоги, натянутые ловко, тесно, гвардейски. Борода же и густая шевелюра, седоватые (как соль с перцем), были и вовсе сибирскими, ермацкими, первопроходческими. (Анна Ивановна делила человеков на сибирских, своих, и всех протчих.) Особенно смутили ее (будь он неладен!) темные дьявольски-насмешливые глаза в припухлых веках.
— Цареубийца? — строго спросила Анна Ивановна, стоя у стола.
Петр Григорьевич понимал все враз, с единого взгляда:
— Сударыня, я не имею дерзости быть цареубийцей, однако, если это необходимо для дела…
Голос просителя, громоватый, но не выдающий, а лишь намекающий на свою силу, был не просительским, а каким-то куражливым, снисходительным, будто перед ним девчонка, а не сама Громова.
— Цареубийцы не требуются, — чувствуя, что веселеет от дурацкого разговора, который сама затеяла, мягче пояснила Анна Ивановна. Она присела, глядя в эти дьявольские глаза уже не по-бабьи, как миг назад, а как и надлежит глядеть хозяйке миллионного дела:
— Присядьте-ка… В толковых служащих всегда нужда…
Петр Григорьевич поселился в бывшей аптеке. Комната еще попахивала следами лекарства. Здесь недавно проживал ссыльный провизор Михаила Войнич (ссыльная народоволка Прасковья Караулова, приискавшая Петру Григорьевичу жилье, рассказывала, как этот Войнич спал и видел — уехать в Лондон).
— И — вообразите — уехал! Он ведь был сослан в Тунку! Без суда и следствия! За попытку устроить побег из Варшавской цитадели! Ему проткнули руку штыком! Жандармы! И — вообразите — нет худа без добра! Мы уж ухватились за эту руку — перетащили его в Иркутск — лечиться! Я познакомила его эпистолярно с моей приятельницей Лилиан Буль, Булочкой. Это прелестная особа, она социал-демократка, дай бог им счастья! Вы знали Кравчинского? Ну как же! Это ведь он зарезал Мезенцева! Как быка! И даже кинжал повернул! Они сейчас там все вместе.
Прасковья Васильевна Караулова, Паша, Пагаетта, сосланная семейно, с мужем шлиссельбуржцем и сынишкой, была энергическая особа, говорила быстро, звонко, непрерывно, будто тянула легкую цепочку.
— Вы знаете, почему улица — Пестеревская? Пестерев — богатейший купец! А сын его пьян, в долговой яме. Сдался, сник! Прекрасный человек. Вообразите — он искал правды, ездил к Герцену, пытался выручить Чернышевского! Вот трагический пример того, что происходит с русским капитализмом! Дети начинают задумываться над злодеяниями отцов и — погибают!
Петр Григорьевич слушал. Пашетту не нужно было ни о чем спрашивать. Она говорила, говорила и, словно в премию за внимание, сообщила под конец, что в Байкале исчезла большая голомянка, что, впрочем, случается с этой странной рыбой — исчезать и возрождаться.
— Все исчезающее возрождается, вы не находите?
Петр Григорьевич не находил, что все исчезающее возрождается…
Иркутск собрал тех, кто остался в живых от непримиримой битвы с самодержавием. За ними, за их товарищами, погибшими в каторгах, на эшафотах, на лобных местах, тянулась грозная полоса перестрелок, взрывов, покушений, нападений на тюрьмы. Их руками совершены были казни царских окольничьих и казнь самого царя.
Это были люди, знавшие друг друга в лицо или слышавшие друг о друге в подполье и пересказывавшие подвиги друг друга то конспиративным шепотом, то громовыми речами, но и шепот и гром их насыщен был мстительной уверенностью в том, что еще один шаг, еще один взрыв, еще одна перестрелка, — и подлое самодержавие рухнет под их непримиримым напором.
Петр Григорьевич размышлял о героях и с грустью отмечал, что дрались они с самодержавием по тем же обычаям самодержавия — истреблять зачинщиков и главарей. А надо было как-то иначе.
Огонь, вспыхнувший в шестидесятых годах, сжигал самое Революцию. Что-то должно было быть иное. А что?
Среди старых бойцов, поседевших в битвах, отзвеневших кандалами, появились молодые ссыльные, преимущественно мастеровые. Они знали что-то иное, новое. За ними не было цареубийств и покушений, за ними не было взрывов и перестрелок. За ними были стачки, сходки, забастовки. За ними было что-то деловое, предусмотренное не надеждой, не романтическим бесстрашием, а тяжкой продуманной работой, не броской, не геройской, а какой-то, по сути своей, мастеровой…
II
Локомобиль купили в Германии у Шуккерта, и ехал он в Иркутск весьма долго. Однако, прибыв, оказался без золотника. Должно быть, ящик не доехал. Машина была сильная, двухходовая, сил на восемьдесят. Анне Ивановне даже и не доложили про золотник.
Инженер Баснин Алексей Иванович, питомец баснинских сироприимных заведений, где воспитывались подкидыши, горел желанием показать, чего умеет:
— Сделаем… с нашими-то мастеровыми и не сделать?
Все, кто вырос из сиротства в баснинских заведениях, носили фамилию хозяина. Там, в заведениях этих, учили девочек рукоделию, хозяйству, мальчиков же — конторскому делу. Алексея, как особенно даровитого к металлическому делу, послали учиться в Высшее техническое. Прибыл он оттуда молодцом. Купец Баснин для порядка требовал от ставших на ноги возмещения убытков на воспитание. Возмещения были копеечные, но купец любил порядок: взял — плати. Те же из его бывших питомцев, кто давал на богоугодные дела, от возмещения освобождались.
Петр Григорьевич, будучи одним из приказчиков громовского дела, изъявил желание помогать молодому Алексею Ивановичу.
Анна Ивановна узнала все-таки о некомплекте, призвала Заичневского:
— Что там у вас?
— Сударыня, — сказал Петр Григорьевич, — нет смысла искать то, что можно сделать самим. Алексей Иванович превосходный инженер.
— Да, — согласилась Громова, — доучился. А то ведь молодые нынешние изучают не то… Впрочем, иные успевают и то и другое… Вы-то чем ему полезны?
— Советами. Я ведь воспитывался в математическом.
— И не забыли?
— Как можно!
Разговоры с Громовой получались у Петра Григорьевича двусмысленные. Поди разбери, чего он не забыл, — математику или предосудительную свою, крамольную деятельность. Поди разбери, каков он советчик. В том, что молодые университетские были поражены, как проказою, идеями, Анна Ивановна не сомневалась. И была права. Потому что, занимаясь восстановлением уворованного по пути золотника, Петр Григорьевич и Алексей Иванович между делом выясняли, предметы, к локомобилю не относящиеся.
Алексей Иванович по вечерам появлялся в бывшей аптеке на Пестеревской потолковать о прибавочной стоимости, о разделении труда, то есть о предметах, имеющих, казалось бы, прямое касательство к токарному и кузнечному делу, однако говорить о сих предметах громогласно не полагалось. Алексей Иванович приносил Петру Григорьевичу сочинения Карла Маркса, которыми увлекалась нынешняя молодежь. Петр Григорьевич по стародавней привычке держался дружбы с людьми молодыми. Эта привычка, сделавшаяся с годами другой натурой, ставила его, Петра Григорьевича, в положение скорее сверстника, чем старика.
Постепенно выяснились общие знакомые, среди которых (ныне уж взрослых деловых людей с чинами) Петр Григорьевич узнавал орловских и костромских гимназистов, прошедших в свое время его школу. Выяснилось, например, что Володя Мальцев, сообщивший ему первым об убийстве государя императора, служил теперь у Гужона, а Митенька Удальцов служил одно время в депо Николаевской дороги. И московские и петербургские молодые инженеры связаны были тесно.
Золотник сделали, локомотив пустили, стали устанавливать лесопильные рамы. Запах промасленной ветоши и металлических опилок бодрил Петра Григорьевича. Он улавливал запах этот чутко, и почему-то человек, таящий этот запах, уже заранее вызывал к себе расположение.
Молодые люди, появляющиеся на Пестеревской, были поначалу недоверчивы (старик все-таки!), однако весьма скоро привыкали.
Алексей Иванович собрал кружок молодых мастеровых. Он приучал их к чертежам, пояснял устройство распределительных установок, но между делом объяснял также принципы производства, и из тех принципов весьма очевидно выходило, что работают они, мастеровые, не на себя, а на хозяина, то есть на капиталиста. Алексей Иванович был марксид.
III
В пятницу двадцатого июня девяносто первого года Иркутск взбудоражен был не землетрясением, как полгода назад, а ликованием: прибыл государь-наследник. На баке парохода «Сперанский», усердно шлепающего плицами по Ангаре, стоял небольшой тоненький юноша в синем атаманском мундире Донского войска. Предместье Глазково уже кричало «ура», потому что первым узрело обожаемого цесаревича.
Две недели Иркутск бесился предвкушением торжества. Возле собора возведены были колонны с шатровым куполом, с двуглавым орлом на штоке, зеленели обвитые живыми листьями и таежными цветами наскоро сделанные триумфальные арки. В городской управе выставлены были для обозрения дары — кованный серебром альбом с пятьюстами фотографиями зданий и видов, пластина черемховского угля, серебряное блюдо с эмалью, а от золотопромышленников — золотое. Насчет пластины угля брало сомнение: как он возьмет в руки сей дар — мажется ведь…
Трепетали желтые штандарты с вензелями на Набережной, на Девичьем институте, на златосплавочной лаборатории. Наведенный для данного случая понтонный мост под яркими хоругвями оседал — поднимался на волне, как бесконечный корабль под парусами.
Обыватели украшали чем могли свои хмельники, ворота, строения. Миллионеры соревновались, кто кого переудивит. Иркутском владела белоглазая, страховатая суета, когда, кажется, уже забыта причина, когда рвение становится самоцельным и неудержимым…
Августейшему наезду предшествовали события немаловажные. Государь-наследник обозревал иноземные страны. Будущему русскому императору должно было видеть собственным глазом, что и как деется за околицами его владений. Двадцать третьего апреля, проезжая по японскому городу Отсо, молодой цесаревич ранен был в голову саблей полицейского нижнего чина. Разумеется, острые языки тотчас злорадно зашептали, что в наследника угодили палкой. Гремели благодарственные молебны о чудесном спасении, и рана была настолько невелика, что царь-отец счел возможным телеграфировать сыну высочайший рескрипт:
«Ваше высочество! Повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений, я поручаю вам объявить таковую мою волю по вступлении вашем на русскую землю после обозрения иноземных стран».
Вот этот-то рескрипт и всколыхнул сибирских областников. Ликование ликованием, а железная сквозная дорога скребла сердце: российский капиталист, пронырливый, вездесущий, грозил уже не приходом, а приездом в удобном вагоне. Российский промышленник, от коего ревностно и не всегда удачно отбивался промышленник сибирский, получал высочайшую поддержку. Тем более, повинуясь высочайшему сему рескрипту, утром восьмого мая во Владивостоке, в двух верстах от города уже отзвучало молебствие по случаю закладки железной дороги, и ступивший на русскую землю, чудесно спасшийся цесаревич прокатил под клики «ура» начальную тачку песка. И одна была радость: хоть и везет тачку, все-таки не Петр Великий. Возможно, и правы господа революционеры, утверждая, что самодержавие есть опора русского капитализма. Впрочем, добавляли они с некоторым даже удовольствием, гибель самодержавия произойдет именно от неуемности русского (и сибирского тоже) капитализма. Они, эти иные, видели вдали некоторого могильщика, которого готовит капитализм, развиваясь под благоволением самодержавия. Мысли сии были новы и так неясны, что еще не занимали практического воображения иркутских купцов, а принимались лишь в том смысле, что надо это самодержавие окрутить хоть с могильщиком, хоть с гробовщиком, хоть с кладбищенским сторожем, хоть с кучером похоронной колесницы.
Петр Григорьевич находился в толпе возле златоплавни, далековато, однако приезжего видел и видел также настырное стремление публики проглянуть сквозь суконную тулью цесаревичевой фуражечки: каков шрам? Интерес был естественным, простодушным. Петр Григорьевич и сам посмотрел на синее сукно, веселя себя забавными стишками, которые недавно сюда добрели:
Цесаревич Николай, Если царствовать придется, Никогда не забывай, Что полиция дерется.Стишки сочинил московский приятель Петра Григорьевича — дядя Гиляй.
Большеголовая чайка величиною с гуся, распластав в необозримом небе голубые крылья, удивленно парила над ликованием. А с Ангары тянуло свежим многоводным чистым духом только что вытащенной, еще трепыхающейся рыбы.
Два дня суетился Иркутск. Коллежский секретарь Михайло Маркович Дубенский, чиновник для особых поручений при генерал-губернаторе (без содержания), был связующим звеном между властью и крамолой.
— Господа, — дружески улыбнулся он, — его превосходительство надеется, что по крайней мере во вверенном ему генерал-губернаторстве цесаревич останется невредим. У нас же все-таки не Япония, господа, помилосердствуйте.
Ночью последнего дня августейшего пребывания собрание в клубе приказчиков шумело, веселилось, будто избавилось от напасти. Какой-то вестовщик принес свежий слушок: Анна Ивановна Громова представлена была в ряду некоторых дам государю цесаревичу, а воротясь домой из губернаторского дома, сказала камеристке:
— Жидковат наш вьюноша.
Сказано было, разумеется, не на вынос, а вот, извольте — часу не прошло, как уже гуляет по публике. То, что у генерал-губернатора наследнику представили именно Анну Ивановну, особенно занимало острословов.
— Господа! Мне кажется, мадам вручила всеподданнейший доклад о состоянии умов в Иркутске! Проект манифеста…
«Цесаревич Николай, — снова вспомнил Петр Григорьевич, — если царствовать придется…»
— А что вы думаете, господа, — спокойно и даже серьезно сказал он, — проект манифеста прост. Извольте, я вам сымпровизирую…
— Просим! Просим!
Заичневского любили слушать. Одни за то, что говорил умно, другие за то, что говорил вещи непостижимые, неприемлемые никак, а оторваться — нельзя! Третьи — просто за голос — с хрипотцой, с далекими громами, с запасом: сейчас грянет — стекла вылетят!
Петр Григорьевич придавил рукою высокую спинку стула:
— Извольте… Параграф первый… Начальство прекращает тайничать и поощрять наушников… ведет дела впредь открыто и нелицеприятно… Параграф второй… Господа революционеры благоволят оставить подполье и конспирации… Понеже тайну создает власть, а подполье лишь подражает оной…
Петр Григорьевич, не снимая руки, весело ждал, что скажут, вернее — что крикнут.
— Заичневский! А как с Сибирью? Дадите ей вольную?
— Господа, — серьезно сказал Петр Григорьевич, — с этими прошениями — к господину Потанину.
Рассмеялись, разговор ушел в шум. И снова из шума:
— Эрго, у нас будет царь, битый по голове?
— Поостерегитесь все-таки… — сказал в стакан длинный человек.
— Помилуйте! Я ведь — с сожалением… Он ведь родился шестого мая, в день Иова многострадального…
— Как вы думаете, зачем понадобилось японцу колотить нашего жидковатого вьюношу?
— Вероятно, чтоб присовокупить Корею и Сахалин…
— Помилуйте! Зачем же драться? Ведь можно бы просто — купить? Дедушка продал Аляску, папенька продаст Сахалин, а юноша — Сибирь!
— Как Воловьи лужки!
— Какие еще Воловьи лужки?
— Уморительный рассказ! Этого… Чехонте…
— Да подите вы с Воловьими лужками!
— Это не я, это — Чехонте… Там невеста и жених… Чьи Воловьи лужки?.. Спорят!.. Я вам продам, а я вам даром отдам…
— Оставьте вздор, господа! — вдруг приказал толстый незнакомец. — Нанесен удар чести империи, а вы толкуете об этом, как о трактирной драке!
— Чести! — рассмеялся белокурый красавец. — Ах, Да! Чести… О чести мы пока еще — ни слова…
— Что же тут смешного? — спросил толстяк.
— Как ни слова? — спохватился черненький с пробором. — Кто-то здесь говорил, что в юношу угодили не палкой, а самурайским мечом!
Ошурков сказал робко — не поймешь, издевается или всерьез:
— Да, господа, я говорил так… Обидно, если палкой… Уж лучше, господа, мечом… Как у Шиллера… Августейших особ нехорошо палкой…
— Бомбой надо, — желчно съехидничал толстый, — привычнее…
— Поостерегитесь, сударь, — проворчал длинный, не разобрав спьяну ехидства.
Петр Григорьевич вдруг встал:
— Вы знаете, друзья мои, я вас слушал и думаю, что всем нам хочется, чтобы палкой. Да еще суковатой, — потряс пустой ладонью, будто держал эту палку, — да еще — нечистой, — отшвырнул воображаемый предмет. — Нам хочется унижений. Радость какая: собственного инфанта поколотили! Мы радуемся, когда нас унижают…
— Мы радуемся, когда их унижают! — перебил белокурый красавец.
— Поостерегитесь, сударь, хоть вы и пьяны…
— В этой грязной империи нет места для чести! — прибавил черненький.
— И это вас тоже радует? — спросил толстяк, — вы не понимаете, о чем речь. Англия, например, английский народ возмутился бы, если бы кто-нибудь помыслил прикоснуться к его принцу! А ведь у них Виктории нос обломили парламентом! А у нас, с одной стороны, боже, царя храни, а с другой — радость великая: палкой по башке! Совестно как-то, господа… Пошло-с. Какие вы революционеры? Вы бомбометатели, а не революционеры! Как вы можете делать революцию, когда вас не занимает ход событий в мире? Через десять лет — помяните мои слова! — Япония пойдет воевать нас!
— С чего бы это?
— С того, что она бешено развивается, — снова ударил по столу толстяк, — и ей — тесно! Вы знаете, какой у нее флот? Вы знаете, какая у нее торговля и промышленность? Не знаете! А знаете вы только то, что палкой по голове!
— Да-с! Палкой! Судя по всему, сударь, вы — навозной! И вы сами натравливаете на нас Японию своей железной дорогой! Зачем японцам терпеть усиление России разными новшествами?!
Петр Григорьевич оценил толстяка: был горяч и говорил дело. Проходя мимо (собрался уже уходить), Петр Григорьевич с ходу остановился около того, кто не жаловал новшеств.
— А как вы, — Петр Григорьевич нажал на слово, — можете терпеть отсталость своего отечества?
Алексей Иванович пошел вслед, но не рядом, а отставая.
Петр Григорьевич вышел на Большую, в светлую ночь, посмотрел на небо и подумал, что прошли уже самые длинные дни в году.
Вчерашний праздник все еще не иссяк в предрассветном городе. Горели плошки над Ангарой, кто-то достреливал последние шутихи. Ночь была холодной, чуть ли не морозной (признак сибирского континентального климата, снова особенности Сибири!). Небо уже розовело скорым рассветом. Он пошел к Ангаре, ему казалось, что ночью река теплее воздуха.
— Понимаете, Алексей Иванович, — приобнял Баснина Петр Григорьевич, — пока не вымрет поколение рабов, царство свободы немыслимо… Ведь это рабство — ползать на брюхе, смелеть от вина и — злорадствовать, злорадствовать… А толстяк тот делен… Война с Японией будет… И на этот раз — непременно с революцией…
IV
Зима безветренная и солнечная, к которой иркутяне привыкли настолько, что иной зимы и не воображали, была студеной и радостной для приезжих. Как бы ни тяжко было противовольное пребывание в Иркутске, скрашивалось оно все-таки особенностями здешнего края.
Человек может быть свободен от всего — от начальства, установив с ним предел отношений; от искательности, увидев в ней низость и подлость; от брюховности, определив круг своих потребностей… Разумеется, свобода эта может обойтись недешево, она может стоить жизни. Но судьба создает людей, для которых цена эта не так уж высока, как может показаться иным. Петр Заичневский принадлежал к тем людям, которые сомневались, что главное и первейшее достояние человека есть жизнь. Он полагал, что честь дороже жизни. Он иронически относился к попыткам поэтов излагать бытие в выводах. Вывод старика Гёте о том, что лишь тот достоин счастья и свободы, кто ежедневно должен добывать оные, казался ему несколько бронзовым, будто объявлен был с высокого коня.
Сытые великолепные рысаки шутя, размашисто влекли легкие саночки, возки с расписными (зеленые листья по черному лаку) спинками. Под медвежьими полостями, закутанные мехом, раскрасневшись, проплывали, будто лишенные веса, иркутские дамы. Шли мастеровые жены в салопах, шествовали чиновники в шубах, пробирались поскорее, сунув руки в рукава коротких, мехом наружу, зипунов, простые люди, и важно, не видя ничего вокруг, рядом с груженными донельзя площадками, придерживая за вожжи медлительных битюгов, шагали возчики, в дохах, перехваченных ремнем.
Проскакал на черной паре генерал-губернатор, рядом с ним Петр Григорьевич узнал чиновника для особых поручений Ковалева, из ссыльнопоселенцев. Должно быть, его превосходительство совершал прогулку: пара вдруг остановилась, генерал-губернатор сошел и, заложив руки за спину, что было неудобно при меховой шинели, пошел пешком. Лошади тронулись вслед.
И вдруг из ресторации вылетел пьяный бородатый купец не купец, промышленник не промышленник, а скорее — бродяга в накинутой меховой шубейке. Был он пьян вдребезги, упал, вскочил и — назад, должно быть, бить двери, стекла. Но, увидав перед собой самого генерал-губернатора, ухнулся на колени, как подрубленный:
— Ваше высокое превосходительство! Благодетель и кормилец! Отец ты наш православный! Желаю припасть! Десять тыщ на алтарь отечества!
Пьяное, разбитое, в подтеках, бородатое лицо было страшно, в бороде застряли крошки, остатки пищи. Генерал-губернатор не был трусом, однако был брезглив. Немедленно шагнув к своим саням (оказались тут как тут), он приказал, ни к кому не обращаясь:
— Убрать!
Подскочили городовые. Генерал-губернатор сказал Ковалеву:
— Николай Николаевич… А десять тысяч взять! Присовокупить к театральным!
Сани унеслись, городовые стали крутить буяну руки, однако последние слова генерал-губернатора слышали все. Буян не сопротивлялся, а только вразумлял:
— Братцы… Как же я десять-то тыщ связанными руками? Отпустите, братцы, за деньгами-то… Его высокопревосходительство велели — сами слышали…
— Ты, ваше степенство, — спросил городовой, отпустив, — сам-то дойдешь?
— Со всем бережением, почтенный!
И, действительно, пошел ровно, не качаясь, надевая шубейку на ходу. Петру Григорьевичу буян показался знаком. Он догнал его и спросил:
— Кондрат, ты ли это?
Буян обернулся, присмотрелся, избитое лицо его омертвело — ссадины засинели темнее на побледневшем лбу и под глазом, в пегой бороде налипла медная омулевая икра и фарфоровое крошево:
— Петра Григорьич… Петра Григорьич… Ах ты, боже праведный… — И вдруг спохватился, спросил краем рта, тихо. — Вольный?
— Да, вольный, вольный… Кто же тебя так раскрасил?
— За правду…
— Самой собою… Пойдем ко мне… Умоешься, что ли…
Когда они вошли в калитку, на Петра Григорьевича кинулся огромный пес Полкан, достал лапами до плеч, будто целился в глотку. Петр Григорьевич погладил собаку по лобастой голове. Кондрат, на которого Полкан не обратил внимания, сказал:
— Репьи у него с лета… Полено не чисто… Остричь бы…
Он порылся в шароварах, достал черные складные овечьи ножницы, наклонился к собачьему хвосту. Полкан соскользнул с Петра Григорьевича, оскалился на Кондрата, зарычал.
— Стой, волчья ягода, — безбоязненно сказал Кондрат, — Петра Григорьич, — передал ножницы, — держи-ка, я ему клыки заговорю… Ах, ты ж сучий ты сыночек… Патриот окаянный… Кушай, вор ненасытный, — и протянул в оскалившуюся пасть кусок колбасы, который вынул из кармана шубейки, — кушай, не боись…
Полкан принял угощение, глотанул, но скалиться не перестал. Петр Григорьевич успел выстричь репей. Полкан порычал, крутанулся, как бы желая поймать хвост и, рыкнув без зла на Кондрата, побежал в конуру, помахивая хвостом.
Правда Кондрата, за которую он пострадал в ресторации, состояла в особенностях сибирской золотопромышленности. Золото брала казна, брали хозяева-старатели, а еще были жуки. Ни приисковые управления, ни горная полиция ничего не могли поделать с этими жуками.
Золотарники, то есть рабочие, а вернее сказать бродяги, нанимались к жукам, даже получали некоторый мелкий задаток. Набиралась артель душ на полтораста. Жук этот показывал приисковому начальству документ честь по чести, с подписями, с крестиками главным образом. Идем, мол, стараться на бортик, на выработанный прииск то есть, может, пофартит. И получал на всю партию спирт — по ведру на нос. Вот тут-то и нужно было разогнать на все четыре стороны золотарников, оставив при себе столько человек, сколько надо, чтоб дотащить до бортика казенный этот спирт. Бортики находились рядом с крупными золотыми компаниями. Конечно, немного золота — фунтов пять-шесть жуки сдавали державе, записывали в горную книгу.
— Чтобы вид был, — пояснил Кондрат.
А на большом, солидном прииске, верстах в десяти, спирт шел по два золотника за бутылку.
— До пяти пудов золота за спирт выручали!
— Да куда они его девают?
— То-то и оно — куда… За Амур!
Кондрат сидел в комнате Петра Григорьевича, возле стола, как когда-то в Усолье, будучи еще молодым.
— А ты-то откуда — десять тысяч?
— Каки там десять тысяч! Ляпнул, что на язык попало! Теперь уходить надо…
— Куда же ты пойдешь?
— К Грише Непомнящему пойду… Я всегда — к нему, к Григорию Фомичу… У него — лесопилка на Белой… Степенный…
— А тебя-то за что вышибли?
— Патриота поперек рожи бутылкой.
— Какого патриота?
— Жук! Кусошник! Желаю, говорит, на алтарь отечества, как патриот… Ну, я ему… Я же его в тайге видел, вора!
— Так вот отчего ты — на алтарь! — рассмеялся Заичневский.
— А что делать? Ежели патриот и на алтарь — не трогают, привечают… Я уж насмотрелся, наслушался… Честно нельзя, Петра Григорьич, нет… У кого бог в середке, тому — каюк…
— Какой же это Гриша?
— Аи не помнишь? Из наших! Из усольских. Церковь рубил… А потом — Витим…
— Так вы с той поры и в дружбе?
— С той поры, Петра Григорьич, с той поры… А ведь и я был богат, право…
— Как же?
— Жилу нашел за Тунгузкой! Ты не думай, прииск правильный, в горном управлении означен.
— Ну и где же он?
— Эх, Петра Григорьич, Петра Григорьич, мимо сатаны не проскочишь! Стыдно сказать — в стирки продул! Не поверишь… По рубашке вроде бы — многострадальный шел, а пришла Варвара…
Петр Григорьевич расхохотался:
— Пиковая?
— А ты откуда знаешь? — удивился Кондрат.
— Знаю! — гремел смехом Петр Григорьевич, — бывало!
— И у тебя бывало? — стал склоняться к соучастливому смеху Кондрат и даже повеселел.
— Да нет… В книжке одной…
— Да-да-да-да-да… Все книжки читаешь… Нельзя у нас книжки читать, Петра Григорьич, воровать надо!
— Ты ж — не воруешь.
— Бег во мне сидит… Я и согрешил-то на Петров пост от бега… А она-то, может быть, давно со внуками… А может быть, померла… Помню я ее всю жизнь, Петра Григорьич… Выпить у тебя не найдется?
Петр Григорьевич уговаривал Кондрата остаться на время — кто будет искать? Но Кондрат сопротивлялся:
— Найдут… Они найдут… А там — бродяга… Надоело…
— Как же ты доберешься до Гриши? — Поправился. — До Григория Фомича?
— Доберусь, не впервой… Сколько же это мы с тобою не виделись? А-я-яй… А узнать можно!
Кондрат исчез вмиг — уменье бродяг и преследуемых.
А Петр Григорьевич с грустью и весельем думал о странном спутнике своей жизни.
Зимние сумерки синели над Иркутском.
Петр Григорьевич вышел на мороз и, сам того не замечая, стал подводить итоги разговора с Кондратом. Книжки читаешь… А ведь жизнь так не похожа на выводы. То есть похожа. Похожа, как лавка на свою вывеску, как обед на карточку, как лицо на фотографию, как летящий конь на бронзовую, а то и гипсовую фигуру.
Сейчас он пойдет к Алексею Ивановичу пить чай и рассказывать. Там, конечно, соберутся его молодые марксиды.
Что же он им расскажет? Про ресторацию? Про битого патриота? Видно, слово это Кондрат слышал нередко и смысл его понимал весьма странно, если назвал им Полкана. А может быть, жизнь и не дала Кондрату иного смысла? Про репей? (Ножницы так и остались в кармане, ладно, на память.) Про жуков? Нет, может быть, и расскажет, но там, у Алексея Ивановича, будут ждать от Петра Григорьевича иного: не жизни, как она есть, а выводов. Потому что жизнь, как она есть, описывается в романах, а выводы — в листовках и прокламациях. Там составляют прокламации.
Итак, какие же выводы из того, что сказал Кондрат?
— Отсутствие элементарного рабочего законодательства превращает рабочего человека в бесправного раба проходимцев, которые становятся соучастниками правительственных чиновников, прекрасно осознающих, что происходит прямое ограбление национальных богатств.
И еще:
— Самодержавное правительство использует в своих целях лицемерие воров и негодяев, лишь бы они откупались патриотическими жестами. Эти патриоты в кавычках распродают богатства отечества под прикрытием властей.
И наконец:
— Долой самодержавие! Да здравствует социальная республика Русская!
Петр Григорьевич шел небыстро, размышляя о превращенных в выводы словах Кондрата, о том, как лягут они, выводы эти, на литографский камень.
За спиною на пустоватой улице слышались шаги. Петр Григорьевич не оборачивался. С ним поравнялся английского вида господин, в котором Заичневский определил незнакомого жандарма. Был он бородат хорошей квадратной бородкой.
— А вы — из полонезов? — фатовато спросил он, явно задираясь. — Вы орловский дворянин, кажется? Орел да Кромы — первые воры, н'эс па?[5]
Петр Григорьевич шел молча, руки в шубу. Собеседник был пьян, однако в той мере, в которой самый раз затевать осознанную пакость.
— Гришка Отрепьев в Кромах раздавал русскую землю ляхам! Проше пана, не вам ли?
Петр Григорьевич остановился, дружелюбно, даже дружески участливо посмотрел в лицо (были одного роста) и, даже не скользнув взором по тяжелым, опасным плечам, небыстро вынул ножницы, взял двумя пальцами жестковатую бородку собеседника, деловито остриг наискось, отклонился назад и сказал, рассматривая след ножниц:
— Так вам будет лучше… Скажите, сударь, почему вы избрали такой дурацкий способ общения? Вы ведь следите за мною?
Приоткрытый изумлением рот, косо срезанная, испорченная месяца на три холеная бородка, кураж победы развеселили Петра Григорьевича до громкого смеха.
— Городовой! — негромко позвал собеседник, с ужасом ощупывая низ лица опасливой рукою.
— Не делайте глупостей, — сбил свой смех Петр Григорьевич, — ступайте-ка побрейтесь. Что за охота смешить городовых по ночам?
И пошел.
— Я этого не оставлю! — шагнул вслед собеседник.
— Да уж оставили, — не обернулся Петр Григорьевич, ощущая, что сейчас, именно сейчас, после этой дикой, неумной выходки на него накатывает беспомощный гнев, от которого в последнее время он стал даже задыхаться. Это был гнев на все на свете — на пустословие, на глупость, на ликующую пошлость, на хвастливое фатовство. Это был гнев на незащищенность человека перед тем, что когда-то, в Усолье, Чернышевский назвал объединившимся, монолитным злом.
Он подошел к Ангаре, вдохнул ее сырость и посмотрел направо — туда, где находилось Усолье…
V
Большая колония ссыльных, политическое землячество, как называл ее Ковалик, была неоднородна, и объединяла колонию эту только судьба.
Доктрины были разные — близкие и противостоящие, толерантные и непримиримые, сходные и враждующие, И каждая показывала, утверждала, убеждала, уговаривала, что она-то и есть истина среди ереси, как будто мир сей, видимый и невидимый, существовал лишь для того, чтобы подтвердить упрямое заблуждение, будто часть больше целого.
Но на определенных этапах бытия (имелись в виду этапы философские и этапы арестантские) математика оказывалась ни при чем. Часть вырастала над целым, загораживала целое, потому что касалась жизни и смерти сиюминутной, не отвлеченной, не обозначенной формулами, а натуральной, как глоток воды в зной, как звон железа в мороз, как острожный частокол, как оклик часового. И лишь когда жизнь сползала с острия напряжения, появлялась математика с ее формулами.
Собрания ссыльных, бдения, споры, воспоминания здесь назывались светски — журфиксами.
Дома были разные. А больше всего Петру Григорьевичу нравилось у Ошурковых. Карта Карфагена, который должен был быть разрушен, прибита была к бревенчатой стене (Ошурков не признавал обоев в своем кабинете).
Голубев, Заичневский и Ростя Стеблин теперь проживали втроем. Троица считалась женоненавистниками, поскольку дала клятву не жениться, ибо семья связывает революционера. Клятва была дана, разумеется, с большей торжественностью, чем требовалось. Пашетта Караулова, конечно, кричала на них и прижимала к себе маленького своего Сережу как зримое опровержение их понятий о женщине.
Заичневский посмеивался: нынешние жены нынешних революционеров были влюблены в своих мужей и жили их взглядами, не имея своих. Нет, они никак не походили на женщин его — Петра Заичневского — времени: самостоятельных, неприступных, готовых ради убеждений и убить и быть убитыми. Новые жены судили прошлое, примеривая к нему сегодняшние программы своих мужей. Женщины времен юности Петра Заичневского не знали о себе, что они героини. Нынешние жены знали, потому что последовали за своими мужьями в Сибирь, подобно декабристкам, на которых не были похожи ничем…
Иногда (впрочем, весьма часто) с мороза являлась Вацлава Эдуардовна Киселева — актриса здешнего театра. С нею в жарко натопленное помещение вплывала свежая прохлада: мороза, меха и духов — томительное загадочное благоухание красивой женщины. При ней острословы Ковалик и Заичневскиы почему-то, не сговариваясь, предпочитали придерживать лихость своих языков…
Над столом Ошуркова в круглых рамках помещались портреты народовольцев. В стороне — чуть большего размера — Софья Перовская, похожая на постаревшую Ольгу. (Женоненавистники делали вид, что не замечают маленького дагерротипа Ольги на столе Петра Григорьевича…)
На вечерах, на журфиксах у Ошурковых было весело, тепло, шумно. Маша Белозерова садилась к инструменту — она умела прерывать споры музыкальными паузами. И трудно было узнать в людях, находившихся возле ошурковского очага, — ученых, литераторах, промышленниках, исследователях — вчерашних каторжников и нынешних ссыльнопоселенцев. Это были старики, за которыми гремело потрясавшее Россию прошлое. Но находились здесь и молодые люди, перед которыми было только будущее.
Пела Киселева, брат и сестра Ошурковы показывали уморительную пьесу нового писателя Чехова, Станислав Лянды и Свитыч представляли яростный спор Канта с Робеспьером или Бокля с Аристотелем.
А молодые (Алексей Иванович, учительница Варенька Прянишникова, гимназистка Шурочка, ее сестра, юный поэт Петров) слушали, смеялись, и чувствовалось в их смехе юное снисхождение к старости, веселящейся по-молодому. Петр Григорьевич смотрел на них со сладкой отцовской печалью. Как они молоды, как недостижимы и как, в общем, непонятливы к тому, что такое годы.
— Вы пугали самодержавие, — снисходительно сказал Алексей Иванович, — а мы пугать не будем. Свалим и — все…
Киселева рассмеялась, как смеются красивые женщины, привыкшие к тому, что красивы, однако постоянно готовые выразить искреннее удивление по этому поводу.
Митрофан Васильевич Пыхтин рассказывал охотничьи истории, которые якобы происходили не с ним, а с его знакомыми.
— Шатун… Со страху леденеешь… Это, — махнул рукой. — Надо было успеть зарядить ружье!.. А он прет, — показал, как идет медведь-шатун. — Дробь его не возьмет… Вот так, — вытер лоб тылом ладони. — В общем, господа, вот так… И вдруг! Ключик — как оказался в руке, не понимаю — об ствол! Звяк! Тихонько, еле слышно… Вы бы видели медведя! — вдруг закричал Пыхтин. — Милые дамы! Прошу прощения! Медвежья болезнь, рев и — стремительное бегство!
Пыхтин рассказывал так, что все почувствовали страх и с облегчением рассмеялись, когда зверь убежал…
— Непривычный звяк, — пояснил Пыхтин, — непривычность…
— Вы хотите сказать, что для того, чтобы испугать самодержавие, нужно что-то непривычное? — спросил Заичневский.
— Вы опять — в политику, господа! Оставьте меня в покое! Я зоолог! Я испытал страх охотника…
— И медведь — тоже…
— Страх не всегда, — робко сказал Свитыч, — страх иногда…
Анна Павловна, жена Свитыча, была дама властная — это Петр Григорьевич определил при первом знакомстве. Однако возле мужа и она смягчалась. Она постоянно поправляла на Свитыче что-нибудь, как юная мать, впервые выведшая на люди своего первенца.
— Человек от такого звяканья вскипает немедленно и неожиданно, — застенчиво, как будто заранее прося прощения, сказал Свитыч. — Вы Ковальского знали, разумеется, — Свитыч всегда говорил «разумеется», как бы подчеркивая что то, что известно ему, известно всем, и ничего нового он не скажет, извините, разумеется, если наскучу.
Петр Григорьевич слышал об Иване Ковальском, как о человеке отчаянно смелом.
— Иван Мартынович, — слабо улыбнулся Свитыч, — был тих и нерешителен… Он был склонен к излишним размышлениям. Я хочу сказать, что человек вскипает немедленно и неожиданно… Вы, разумеется, знаете эти старые шестизарядные кольты… У них пистоны слетают… Капсюли… Это — неприятно… Я даже не успел удивиться — щелк, а выстрела нет… И дальше мы уже не удивлялись, нельзя удивляться в драке… Иван Мартынович схватил кинжал, которым мы нарезали бумагу и, знаете, умело как-то ударил урядника выше пуговицы, урядник закричал, и я почему-то почувствовал отчаянное веселье!
Петр Григорьевич глянул на молодых людей. Они слушали Свитыча, едва не разинув рот: им, должно быть, трудно было вообразить в этом смущающемся немолодом человеке бесстрашного боевика.
Свитыч рассказывал:
— Прибежали сразу двое в эту комнату, а я подставил ногу… Городовой упал, и тут Виташевский (вы, разумеется, знаете Виташевского?), словно мы сговорились, прибежал из этой комнаты и толкнул второго!.. И второй тоже упал, но успел выхватить револьвер!.. Иван Мартынович прыгнул на него и с криком ударил кинжалом в плечо… Крик ужасный… Потом нам сказали, что жандармов было девять… Трое в этой комнате, остальные — там… Один не шевелится, другой кричит, а кого Иван Мартынович царапнул, лежит — братцы, помилосердствуйте, братцы, да я… Ну, дамы наши визжат, царапаются… Я подумал, увидят кровь — испугаются… Иван Мартынович кричит — бежать по крышам!.. Я поднял этот старый кольт левой рукой… И вдруг в дверь: сдавайтесь! Я сдавил этот кольт левой рукой, он как бахнет… Ну, тут мы уже уйти не могли: с улицы по окнам стреляют, из двери не выйти — ловушка…
— Погоди, — спокойно сказала Анна Павловна, поправив воротник на разволновавшемся муже, — мы начали с медведя…
— С какого медведя? — удивился Ковалик. — Речь шла о порыве, который трудно предвидеть.
— Вы имеете в виду порыв медведя? — участливо спросила Ковалева, и Петр Григорьевич увидел на лице Алексея Ивановича досаду: лезет со светской болтовней!
Сергей Филиппович Ковалик носил детскую курточку, сшитую его женою, и не выпускал из рук трубку.
Заговорили все вдруг. И прежде всего об Иване Ковальском.
Ковальский видел в революции модель электрической батареи. Революционеры из привилегированной среды представляли собой положительный заряд. Народ же нес в себе заряд отрицательный. Необходимо постоянно возбуждать, гальванизировать народ значительными действиями.
Петр Григорьевич, математик и физик, был далек от этой странной образности, до сих пор увлекавшей иных стариков.
— Однако, — сказал он, — стреляли вы, не рассуждая о вольтовом столбе…
Сергей Филиппович оживился:
— Вы совершенно правы! В тот момент, когда идет перестрелка, теория исчезает. Надо попасть, и все! Тут нужно везение…
— Везение? — удивился Алексей Иванович.
— Именно-с! Войнаральскому, например, никогда не везло с побегами.
— Об одном из них я знаю, — сказал Петр Григорьевич, — в Харькове…
— Да это было потом! — отмахнулся трубкой Сергей Филиппович, — я говорю о другом невезении… Так сказать, предусмотренном условиями нашего бытия, нашей этики… Роком, если желаете знать…
— Вы говорите загадками, — сказала Ковалева, которой так хотелось петь, что она даже перебрала нетерпеливо клавиши. Но все слушали Ковалика:
— Мы с ним были переправлены из крепости в предварилку. Это как из хором — в конуру… Но это особенный рассказ… Мы подкупили стражу… Здесь я должен обратить внимание наших милых экономистов, — выразительно посмотрел на Алексея Ивановича, — существует определенная торговая честность взяточника…
— Взятка — это форма меновых отношений между государством и частным лицом, — сказал Алексей Иванович, — это известно…
— Не все вам известно, молодой человек… Мы уже вышли из камеры, надзиратели нам сочувствовали, ключи были подделаны, дорога была открыта! Мы уже были на стене! Я спустился по веревке. За мною спустился Войнаральский. И в этот миг из-за угла выехала извозчичья пролетка! В этот самый миг! И в ней сидел подвыпивший приятель Войнаральского военный инженер месье Чечулин! Они были знакомы по воле, он передавал ему книги в крепость! И что же? — Ковалик сделал окружность трубкой. — Чечулин поднял крик! Городовой! Караул! Войнаральский услышал крик, прыгнул с полуторасаженной высоты — спускаться по веревке было уже некогда — и вывихнул ногу! Он доковылял до угла, и мы бросились к извозчику! Но, увы — друг-приятель сделал свое дело! Нас схватили! Чечулин, узнав Войнаральского, заплакал. Друг посадил в тюрьму друга и заплакал! Он инстинктивно чувствовал, что, когда бегут из тюрьмы, надо звать караул!
— Но ведь это же мог быть и уголовный! — резонно сказала Ковалева.
— Да нет, господа, вы меня не понимаете! — отмахнулся трубкой Сергей Филиппович. — В человеке живет что-то такое, что само по себе, инстинктивно совершает полицейскую функцию!
Жены, счастливые тем, что они — жены, досадовали на знаменитую актрису с ее нетерпением кончить этот разговор и показать себя актрисой.
— Да-с, молодые люди, — сказал Сергей Филиппович, — это уже история, но, пожалуйста, не думайте, что природа человека изменяется столь быстро…
Наденька Корнилова посмотрела на карточку Софьи Перовской, вздохнула:
— Вот и эти когда-то копошились… Ростя Стеблин покраснел:
— Я надеюсь, вы употребили не то слово, которое одобрил бы ваш муж…
И никто, кроме Петра Григорьевича, не заметил, как посмотрела на милого Ростю Варенька Прянишникова а как он, Ростя, ощутив этот взгляд, вдруг побелел. Господин женоненавистник явно тяготился клятвой.
— Да и мы копошились, — как-то странно сказал Стеблин.
— Так нельзя, — угрюмо сказал Алексей Иванович. — Они делали не то… Но они не знали, что делают не то…
Это относилось к Петру Григорьевичу, который был старше Перовской лет на десять, следовательно, лет на десять раньше начал делать «не то».
И вдруг Голубев, тонкий и чуткий, ни с того ни о сего объявил:
— А я, господа, знавал одного жандармского офицера, который писал в «Колокол»!
— Кто же это? — с подчеркнуто повышенным интересом спросил Ошурков, одобряя Голубева, который разрядил напряжение.
— Я дал слово молчать. Да что из того? Этот офицер был тогда еще ротмистром, когда конфисковал у меня «Колокол» со своей собственной статьей!
— Откуда вы знали, что там была его статья? Он сказал вам об этом? — спросила Маша Белозерова.
— Вообразите — сказал!
— Я вам не верю!
— А я — верю! — улыбнулся Петр Григорьевич.
— Вам он тоже признался? — пристально посмотрела ему в глаза Белозерова.
— Вообразите! — не отводил он глаз. — Когда меня везли в первый раз — из Орла в Петербург, мой подполковник, желая меня подбодрить, утешил: все образуется, молодой человек… Не вы один столь озабочены судьбою отечества…
— Но кто же это? — спросила Киселева.
— А если вы узнаете — кто? — махнул трубкой Сергей Филиппович. — Что изменится? Вы лучше спросите, не кто же это, а что же это? Что же это, господа? Надзиратель, который выпустил меня, сам же ловил меня, когда началась тревога, да еще усерднее других крутил руки.
— Он прав! — провела рукою по клавишам Маша Белозерова. — Бегать надо лучше!
— Он так и сказал — умеючи надо, барин, с тобою беды не оберешься! — И — Заичневскому. — А про Войнаральского в Харькове вам почему известно?
— Его выручали моя приятельница Марья Оловенникова и Софья Перовская…
— Обе уже — увы, — попыталась исправиться Наденька.
— Разве Ошанина умерла? — спросил Свитыч.
— Не знаю. Она была в Женеве, кажется, с Тихомировым…
— Кстати, о Тихомирове, господа… В его ренегатских записках удивительное сходство с Катковым! — холодно сказал Петр Григорьевич.
— Деспотизм сидит в нас самих… В нашей настороженности и подозрительности друг к другу… Мы готовы видеть в собеседнике жандарма, если собеседник возражает, и готовы видеть в жандарме революционера, если он согласен в разговоре… Мы легковерны к слухам, вспыхиваем от вздора и от вздора же гаснем… Мы стоим насмерть на допросах и легко пробалтываемся за стаканом вина. Мы либо деремся, либо целуемся…
Актриса Киселева смотрела на Петра Григорьевича, и ей уже не хотелось петь. Она тихонечко прикрыла черную крышку инструмента.
VI
Петр Григорьевич видел начес, никак не скрывающий проплешинки господина цензора.
— Вы ведь Юсупов по матушке? — неожиданно спросил Безобразов, не поднимая головы. — Это вы называете меня Вениамином?
— Господин надворный советник, — с нарочитой чопорностью поправил Заичневский, — я называю вас Вениамином моего сердца. Как праотец Иаков. Ибо у вас в мешке нетрудно обнаружить фараонову чашу.
Продолжая читать оттиск «Сибирского вестника», медленно (по складам, что ли, подумал Петр Григорьевич), Безобразов проговорил скучно, невыразительно, никак не соответствуя тоном сказанному!
— Однако… Оскорбление ведь… Стало быть, дуэль… Растянуть Юсупова… Вы ведь близоруки, не попадете… А я — в туза…
— Да будет вам! — добродушно возразил Петр Григорьевич, — в какого еще туза? У вас на туза рука не поднимется.
Безобразов, наконец, поднял голову, посмотрел сквозь пенсне. Стекла увеличивали его глаза, делая их чрезмерно удивленными. Увеличенные глаза цензора, чиновника для особых поручений при генерал-губернаторе, смотрели невидяще, как-то мимо.
Заичневский присвистнул:
— Вон оно что! Я смотрю, вы читать будто разучились.
Нижняя губа Безобразова, выпяченная над бородкой, по-детски дрогнула:
— Вина хотите? Бордо… Вы ведь предпочитаете бордо… Оно похоже на густую кровь…
— Что это с вами, Дмитрий Владимирович? Вот уж не числил за вами романических фантазий! Вам нейдет! С чего это вы в кровавом настроении с утра? Выкладывайте свои козни…
Безобразов с удовольствием хихикнул, отодвинул ящик, взял сложенный оттиск страницы «Восточного обозрения»: — Извольте…
Петр Григорьевич развернул, глянул — лист был без единой поправки, на нем уже значилась красная роспись Цензора.
— Вот так бы и всегда, — сказал Заичневский, — хвалю…
— Рад стараться… А этому поганцу я кишки вымотаю!
Безобразов бросил ручку на лист (брызнула красным), махнул вслед рукою:
— Попляшет!
Вошел человек Безобразова, внес на черном подноса бутылку (действительно, бордо от Пасхалова, семьдесят пять копеек — бутылка), два стакана синеватого пузырчатого стекла, поставил на стол, рядом с оттиском, вышел бесшумно.
Безобразов налил вина твердой рукою, цокнув перстнем по стакану:
— Подогретое… Прошу-с… Вот вы там у себя — недовольствие моей ценсурой… А я ведь вам все оставил, ничего не отсек. И ничего не изменится, уверяю вас.
— Так это вы себя уверяйте, а не нас!
— Выпейте вина… Право… выпейте… Я ведь давно искал случая… Этак вот с вами… Поболтать…
— Да зачем?
Безобразов положил руку на исчерканный лист, покоробленный просохшей сыростью:
— Вы ведь знакомы были и прежде с Бахметьевым?
Петр Григорьевич знал Бахметьева еще по московской «Русской мысли». Бахметьев там секретарствовал. Вукол Лавров, хозяин журнала, переводил тогда Сенкевича, журналом занимался немного, и Бахметьев развернулся вовсю.
Теперь и Заичневский и Бахметьев оказались в Иркутске — оба ссыльные, да по разным поводам. Бахметьеву страсть как хотелось быть политическим, но сослан он был за какие-то векселя, которые подчистил шкодливой рукой. Теперь Бахметьев яростно отстаивал в «Сибирском вестнике» честность, нравственность и благородство.
Должно быть, цензор позвал Заичневского, чтобы показать, как он расправляется с лицемером. Но с чего бы вдруг?
— Каков? — отхлебнул вина Безобразов. — Что ни статья — обвинительный акт! И все во имя чести и справедливости… Какой цинизм! А вы знаете, что он сулил мне куш, ежели помогу оттягать у Попова вашу газетку?
— Да что вы со мною так откровенны?
— А вы вчерась понравились в театре!
Вчера в театре Петр Григорьевич приблизился в буфете к Бахметьеву и — при всех, на мотив Чайковского, сипловатым своим басом:
— Чем ку-умушек считать трудиться, В себя-а не лучше ль обратиться?Строку он исправил на ходу, чтобы поместить в размер. Вокруг рассмеялись. Бахметьев поднялся из-за столика, растянул узкие губы в нарочитой улыбке:
— Что вы, Заичневский! Какой я Онегин!
— Вы? И точно — никакой. Тот получил наследство своего дяди, вы алкаете — чужого…
Смех пропал: проза превратила забавные стихи в пощечину. Не затем ли вызвал его Безобразов? Но Безобразов болтал:
— Сегодня утром… Его превосходительство: учитесь у карбонариев! — Потянул стаканом в Заичневского. — Это — у вас! Подошел и плюнул — прямо в физиономию! А вы — это я-то — возитесь… Ссыльный, видите ли! Угнетенный, нельзя-с… А за что сослан? За что угнетен? Да за то, что — мошенник! А предъявляет себя политиком! А мне, говорит, своих натуральных политиков — выше горла!
Безобразов отпил вина:
— Пасхалов… Честнейший купец… Чувствуете? Бочка далеко-далеко, — махнул рукою в окно. — Во Франции… «Аллонз анфан де ля Патри-э…»[6] Люблю Бордо… Пушкин, помните?.. Но ты, Бордо! Мой друг Бордо… За-был-с… — И снова на исчерканный оттиск. — Каков? Капиталистов ругает, стало быть, — революционер… Да еще версию пустил: бумаги подчистил для того, чтобы добыть денег на революцию! А у нас как? Как только — на революцию, так сразу мы уши и развесили. У нас ведь хоть мать родную зарежь — лишь бы на благо народа! Не люблю! Воруешь — воруй, но не создавай иллюзии!
— Для чего же вы — комедию эту — в туза?..
— Воображение, Петр Григорьевич, воображение-с. И — бордо…
— А я-то думал, кому, как не вам, — в секунданты к Бахметьеву.
Это был намек весьма опасный. Только привычное бесстрашие Заичневского позволяло ему так вот просто, рассматривая на свет пунцовую жидкость, отлить этакую пулю: за Безобразовым числилась сомнительная тяжба: всплыло недоразумение, похожее как две капли воды на взятку.
Безобразов откинулся в кресле, уперся ладонями в край стола, как бы отталкивая стол от себя, и сделался вдруг тих и печален:
— Я, Петр Григорьевич, каяться не стану ни перед попом, ни же перед вами. Я лишь хочу одного: почтите вниманием, каковы люди на Руси.
— Да подите к черту! Из-за этого вздора вы меня держите все утро? Вы что — союзника во мне ищете, в собутыльники вовлекаете?..
— Никак нет-с, — кротко возразил Безобразов. — Опубликуйте мои тайны, бог с вами, — допил единым глотком, поморщился выпитым. — А я пропущу как ценсор. Право, пропущу! А потом будет суд! И я его выиграю! Присяжные развесят уши. А почему? Ценсор пропустил на самого себя коллизию! Значит, прям! Чист! Политических не притесняет. Зла не делает мученикам идеи, узникам власти роковой! А то, что с купца содрал, так на то он и купец, чтобы с него драть! Это вам любой присяжный скажет. — Безобразов налил вина. — Вы ведь недовольны мною. Ценсура моя глупа, не так ли? — Кивнул бородкой на оттиск в руке Заичневского. — Так ведь нашему обывателю — радость, ежели ценсура вмешалась! Обыватель наш читает ценсурные следы и наливается благодарственной желчью. Точки домысливает, меж строк видит. А напиши как есть — одним гимназисткам утешение, а взрослому человеку — зевота да оскомины… — Безобразов натурально зевнул. — У нас, господин Заичневский, когда истинную правду напишешь — читать неловко: будто нагишом увидели! Нам даже обидно слышать правду.
Безобразов поднял стакан и, рассматривая на свет, сощурился мечтательно, будто видел сквозь синее в красном то, о чем говорил.
— А вот вы изобразите мне турецкого пашу, да так, чтобы я узнал в нем нашего полицмейстера!.. Вот это, я скажу, и в самом деле литератор! И — пропущу с удовольствием! — Поставил стакан на исчерканный бахметьевский оттиск, сложил пальцы в пальцы, навалясь на стол и всматриваясь в Заичневского. — Ценсура добавляет сочинителю ума-с. Мы двоесмысленны, оттого и словесность наша замысловата и мозговита… Ценсура подобна оселковому камню — и утюг сделается бритвою.
— Да зачем из утюга делать бритву?
Безобразов бурно обрадовался, будто ожидал именно этого вопроса. Он даже приподнялся над столом и развел руками:
— Вот в этом-то и состоит загадка наша, Петр Григорьевич! — резко сел Безобразов. — Зачем? Кто велел? Бог велел? Царь велел? Кто? Никто! Сами! Утюгами бреемся, бритвами гладим! Так нам сподручнее!
Заичневский усмехнулся:
— Однако, Дмитрий Владимирович, ваша откровенность толкает меня в естественное разумение: уж не обязан ли я отслужить вам за нее? Так — не ждите.
Безобразов отмахнулся обеими руками:
— Бог с вами! Вы уж отслужили тем, что выслушали! Кому повем печали своя?
— Почему же — мне?!
Безобразов поморщил прикрытый напомаженным коком лоб:
— Извольте, не скрою… Вы сохранили, — потарабанил пальцами, подбирая выражение, прихлопнул ладонью, найдя, — вотр эндопенданс![7] Огонь, вода, медные трубы! Всю жизнь — ссылки и — как новенький, только что отчеканенный империал! А вначале-то была каторга? Boт только не упомню, за что.
Петр Григорьевич понимал, что Безобразов прекрасно знает, за что, а и не знает, так может узнать. Ерническая манера чиновников вызывать на откровенность, искать ее чувствия, приглашать в приятели возмущала его когда-то, подталкивая на дерзость. Теперь же, с годами, манера сия не раздражала, скорее веселила. С годами Петр Григорьевич отметил иное: чиновник, может быть, даже не осознанно, может быть, даже искренне выражал благорасположение тем, что простодушно окунал в свою грязь того, к кому был расположен. И чем умнее бывал чиновник, тем больше презирал он то, чему служил. А чем больше презирал, тем больше преуспевал на верноподданном поприще.
Петр Григорьевич близоруко сощурил пухловатые веки, в чем сказалась более привычка, нежели надобность (с годами он видел дальше и лучше):
— Вначале? Вначале, как вы изволили выразиться, всякий уважающий себя господин просто обязан совершить предосудительный поступок. Ну, положим, хотя бы мамку тяпнуть зубами.
— Вот! — уже с восторгом сказал Безобразов, — вот она, ваша дьявольская эндепенданс! Черт подери! Как же ее перевести на русский! Не употребляется!
— Л’эндепенданс! Должно быть — независимость.
— Да! Так просто, а в голову не лезет! Черт знает что! Материмся, болтаем водевили, а простых слов на родном языке не помним! Вы — независимы, Петр Григорьевич! — Безобразов пьяно покивал. — А мы с губернатором расположены к вам… Право… Как вы аттестуете цинисм? Модное понятие…
— Цинизм — это то, чем оборачивается ум при соответствующих обстоятельствах. Скучная материя…
Безобразов вдруг посмотрел тяжело, водянисто, но — трезво и мстительно:
— Ну, да я вас развеселю-с…
Он отпер малым ключиком шкатулочку на столе и, вынув из нее старый сложенный лист, развернул перед Заичневским, как афишку.
Это была прокламация «Молодая Россия».
Петр Григорьевич сам удивился своей сдержанности.
— Чем же вы меня развеселите? — спросил он равнодушно, глядя на этот старый лист размером вершков десять на восемь, с набором в три столбца. «Боргес, четыре квадрата», почему-то вспомнил он типографскую подробность тридцатилетней давности. Вот точно так показали ему новенький, разящий краской оттиск тридцать лет назад.
— Не узнаете? — спросил Безобразов.
— Как же, — спокойно ответил Петр Григорьевич, — помню, листок сей шуму наделал…
— Вот именно! — сложил бумагу Безобразов. — Ах, ваша дьявольская л'энденпенданс! Теперь таких листовок уже не пишут, не так ли?
— Берегите, — насмешливо посоветовал Петр Григорьевич, — авось внукам покажете. Честь имею!..
Так вот зачем он ломался все утро!..
VII
Зима миновала, и вновь наступило иркутское лето. После яркого дня, прогретого солнцем, Ангара затуманивалась под вечер. Взгорки Глазковской слободы на том берегу, зазубренные черным лесом, стояли, как наставленные один на другой, а между ними белел негустой туман.
Петр Григорьевич — руки за спину — шел вдоль реки мимо срубов, тяжело, домовито осевших на каменные подклети, мимо кирпичных лабазов — к златоплавильной лаборатории. Там стояли одноконные линейки, бедарки, а из высокой трубы тянулся густоватый, с перламутровыми примесями дым.
Берег под златоплавильней присыпан был пеплом, выгоревшим коксом, шлаком. Мальчики, перекликаясь резкими птичьими голосами, возились в шлаке, старались — авось попадется золотой след. Это была игра в старательство. Петр Григорьевич присел на валун, достал папиросы, набитые Голубевым (курите гильзы Катыка!), Заичневского влекло это место.
Когда-то Ольга прислала ему маленькую акварель — неумелую и смешную. Вода была синяя, слобода зеленая, валун серо-буро-малиновый. А на валуне — вывороченное корневище с четырьмя корнями и головой. Должно быть, все-таки Ольга изобразила человека. Потому что рядом с валуном нарисован был черненький столбик в шляпке и с весьма похожей муфтой поперек. В этой муфте и была разгадка картины. Петр Григорьевич охотно признал в вывороченном корневище себя. Ольга хотела, чтобы он приехал… Но все обернулось иначе…
Здесь, возле валуна, всегда возникал в памяти давно ушедший из жизни прекрасный друг его молодости Ваничка Гольц-Миллер. Он, Петр Заичневский, никогда не называл его так фамильярно, это не было принято в те времена. Они называли друг друга по фамилиям, редко (в минуты веселья) по имени-отчеству. Но сейчас Петру Заичневскому было пятьдесят лет, а Ивану Гольц-Миллеру, его ровеснику, так и осталось навеки веков тридцать, Петр Григорьевич стал называть его Ваничка.
И он читал про себя стихи Ванички, напечатанные когда-то, кажется, в «Отечественных записках» и подписанных скромной литерой «М». Он знал эти стихи еще и потому, что написаны они были как будто для Ольги. Для Ольги, которую Ваничка Гольц-Миллер не знал, никогда не видел и которая погибла здесь в иркутском пожаре через много лет после смерти поэта.
Петр Григорьевич читал про себя, сердце его упиралось в горло, и глаза влажнели:
Дай руку мне, любовь моя, Дай руку мне смелей. Милей всех благ мне речь твоя И блеск твоих очей. Не слаб мой дух и тверд мой шаг, И верь, ребенок мой, Ни грозный рок, ни сильный враг Не сломят нас с тобой.Петр Григорьевич читал на память эти стихи, стихи о нем, который жив, и об Ольге, которой нет, читал, упиваясь тяжкой тоскою, и, разумеется, не думал, не помнил, неосознанно исключив из памяти то, что поэт, сотворивший эти строки о любви, когда-то требовал вписать в «Молодую Россию» жестокие слова об уничтожении брака, как явления в высшей степени безнравственного, и они согласились, чтобы всем либеральным и реакционным чертям стало тошно.
Он не помнил этого, а помнил стихи, сбивающие дыхание:
Смелей же в путь! Судьбе назло Мы весело вдвоем Рука с рукой, подняв чело, В широкий свет пойдем. В широкий свет, громадный свет, В мир вечной суеты И всяких благ и всяких бед И лжи и красоты!Петр Григорьевич чувствовал, как каменеют мышцы вокруг рта, как не дает дышать сердце, очутившееся под горлом. Он сидел на серо-буро-малиновом валуне, может быть и похожий на корневище. Это было его место, на котором он, революционер и материалист, ждал невозможного: ему хотелось, чтоб Ольга хотя бы промелькнула перед ним — неясная, прозрачная, неплотная, как туман над Глазковской слободою.
Перистые облака темнели, линяли, золото сходило о них. Мальчуганы, откричавшись, покидали берег. Ангара прикрывалась на ночь неплотным туманом, в Глазкове загорались слабые далекие огоньки…
Он приходил на это место еще и потому, что оно сделалось для него печальным памятником прожитой жизни, в которой потери очерчивались все четче. Иных уж нет, а те — далече… Как этот стих был когда-то пуст, и: как с годами он заполнялся смыслом! Как вбирал в себя тех, кто был, был, был, как вбирал он в себя чувства, которые остались, к тем, кого нет, нет, нет.
Ростя Стеблин застрелился.
Девочка эта, Варя, Варенька, плакала не опасаясь.
Петр Григорьевич был ошеломлен, когда Ростя вдруг сказал, что клятва его невыполнима.
— Ростя! Что вы говорите! Какая клятва?! Ведь это же…
— Не продолжайте, Петр Григорьевич, я знал, что вы скажете. Вам не к лицу. Слово революционера — это олово. Не продолжайте… По законам жанра д’Артаньян не может быть женат…
Это было смешно… Смешно и весело. Петр Григорьевич собирался торжественно развалить забавный триумвират.
Но вдруг это стало — страшно. Конечно, они все (особенно дамы) судачили о несчастной любви. Это было так романтично: долг и чувство. Долг оказался, разумеется, сильнее чувства и сильнее жизни. Боже мой, какой пошлый вздор…
— Я не вижу ничего дальше, — сказал Ростя.
— Ростя! Но ведь дальше — все! Дальше — революция!
— Петр Григорьевич… Мы напрасно стреляли, и напрасно убивали, и напрасно умирали. А Карфаген цел.
— Неправда! Мы расшатали его! Нам на смену идут…
— Вот пусть они и придут, — тихо сказал Стеблин. — Понять я их не могу, быть в стороне не умею… И потом — эта клятва…
— Да плюньте вы на эту клятву!
— Нельзя, — улыбнулся Стеблин, и Петр Григорьевич успокоился его улыбкой.
— Ну, хочешь, я первый женюсь! — закричал Голубев. — Еще лучше — окрутим старика! С богатой вдовой, а? Пятнадцать детей!
Стеблин смеялся — должно быть, мысль окрутить старика Заичневского забавляла его.
Но Ростислав Стеблин застрелился.
Подите вы все к дьяволу с вашими понятиями о долге, чувстве и несчастной любви! Подите вы к дьяволу! Бедная девочка! Чем, как, какими словами утешить тебя?
Великий утилитаризм, великое преимущество пользы, столь понятное и очевидное, увлекало молодых людей. Разумный эгоизм шестидесятых годов, этика, нравственность благоразумного расчета — все это было так знакомо Петру Григорьевичу. Все, что делается, обязано быть полезным, иначе нет ему места на земле!
Бедный Ростя ушел не от несчастной любви. Дорогой мой Алексей Иванович, сейчас вы припомните Бокля. Но Бокль был наш, а не ваш. Мы хотели господствовать над природой своим разумом. Но почему природа мстила нам за наш гордый замысел? Может быть, вам известно то, что не было известно нам? Милый Алеша… Не желаете ли выкурить сигару?.. Вот какие-то — в кукурузных листьях… Жизнь, которую прожил я, нельзя переменить на другую. Молодые люди, которым я говорил, что думаю, уходили от меня… Теперь наступает ваше время, и мне остается только благословить вас в путь, пока еще неведомый мне самому…
— Вы просто убиты смертью Стеблина, — сказал бы Баснин.
— Да, конечно… Но и — нет! Он понял, что надо было не так. И подвел черту. Но вы знаете, Алеша, что бы я ни делал, как бы ни думал, сколько бы ни жил, как бы ни ошибался, я всегда был убежден в том, с чего начал… И меня не собьет никто, потому что мы живем в России, которую сегодня я знаю в тридцать раз лучше, чем знал ее тридцать лет назад… Неужели мы копошились?
Свирепая тоска окаменила Петра Григорьевича. Голубев ходил за ним следом, тайно, не выпуская из виду.
Вот она, итоговая черта, черта, через которую переступают не все. Неужели он похож на вывороченное корневище? Должно быть, похож, если так его изобразила Ольга…
VIII
Покровитель Восточно-Сибирского Отделения Императорского Российского Географического Общества, генерального штаба генерал-лейтенант, генерал-губернатор Восточной Сибири Александр Дмитриевич Горемыкин жительство имел неподалеку от музея — только дорогу перейти. В музей он захаживал часто, как бы ради прогулки, но местные лица знали, что музей сей есть сокрытая любезная сердцу привязанность строгоподобного, вздорного владыки и распекателя здешнего края.
Над Горемыкиным пошучивали. Кто-то подсчитал, что каждые десять лет иркутских генерал-губернаторов оскорбляют действием. В семьдесят третьем году краснодеревщик Эйхмиллер дал оплеуху Синельникову. В восемьдесят третьем учитель Неустроев ударил Анучина. Оба были расстреляны. Срок Горемыкина прошел. Да и времена настали другие…
Заичневский считал (и с ним соглашались многие острословы), что генерал-лейтенант Горемыкин, в душе своей, в тайне от самого себя, весьма сочувствует сибирским страстям. Разумеется, по долгу службы он не терпел и не мог терпеть никаких завиральных идей, но всякий присланный из Санкт-Петербурга правитель, куда бы он ни был прислан, прежде всего полагал себя первым патриотом вверенного ему края, а следовательно, испытывал некоторую ревность к завиральным идеям, в здешнем крае укоренившимся. По крайней мере Петр Заичневский, видавший разных начальников в разных краях, давно успел отметить такое свойство.
— Вот увидите, господа, — говорил Заичневский, — когда знамя сепаратистов взметнется над Сибирью, Александр Дмитриевич выставит свою кандидатуру на президентских выборах от умеренных радикалов! И, вообразите, будет избран!
Неизвестно, дошла ли сия прогностика до генерал-губернаторского розового с удлиненной мочкой уха, но как-то, увидав Заичневского в Собрании и делая вид, что не видит его, Александр Дмитриевич сказал как бы á парте, ни к кому не обращаясь, и того меньше — к Заичневскому:
— Шутки шутите, милсдарь?..
Оснований для сего á парте было немало, и Заичневский, не уяснив, какие его шутки зацепили начальство, поклонился, не вдаваясь в подробности.
Однако здесь, во дворе музея, возле редакции «Восточного обозрения», столкнувшись с Горемыкиным, одетым по-домашнему для краткой летней прогулки, Петр Григорьевич ощутил, что одним поклоном не отделается. Горемыкин также, по своей манере, как бы не видя Заичневского и не обращая внимания на него, сказал, заложив руки за спину:
— Не желал бы я видеть в вас другого Бакунина.
Сравнение с Бакуниным сопровождало Петра Григорьевича всю жизнь. И всю жизнь сравнение это не льстило ему.
— Мон женераль, — учтиво улыбнулся Петр Григорьевич, — я со своей стороны тешу себя надеждой видеть в вашем превосходительстве другого Корсакова.
Дерзость сказана была по-французски, отчего прозвучала вовсе и не дерзостью. Генерал почитал французский язык за то, что болтай на нем что хочешь — для того и создан. Но по той же самой причине он не любил этого языка в употреблении между начальниками и подчиненными, а тем более между генерал-губернатором и политическим ссыльным. Язык сей как бы уравнивал говоривших, выявляя не чин, а ум, тем более умничанье, что само по себе уже было — непорядок. Посему Александр Дмитриевич крякнул по-русски и по-русски же сказал, вразумительно посмотрев на красавца снизу вверх из-под бровей:
— Помнится, как раз при Михаиле Семеновиче Корсакове вы изволили проследовать в Витим?
— Михаил Семенович, — не отводя глаз, улыбнулся Заичневский, — способствовал моему возвращению в Россию…
— В Западную Россию! — вдруг вскрикнул Горемыкин, — в Западную Россию-с! Россия, милсдарь, и здесь! Восточная Россия!
Заичневский вмиг сообразил, что шутки его насчет тайного сибирского патриотизма генерал-губернатора имели основания. Тем более Горемыкин горячо, как бы убеждая самого себя, вдруг заговорил о единстве России, что было даже весьма некстати на прогулке.
— Россия — одна и неделима! — притопнул он ногою в нарочито не новом башмаке, как припечатал для верности.
— Я в этом никогда не сомневался, экселенс…
— Говорите по-русски, черт возьми! — вновь притопнул ногою Горемыкин.
— Ваше высокопревосходительство, — сказал по-русски Петр Григорьевич, — мне всю жизнь приписывали взгляды, коих я не разделял.
— Да? — сощурился генерал-губернатор. — Ну так я вам пропишу еще один ваш взгляд, который вы разделяли! Не откажите почтить меня в полдень!
И резко повернувшись, ушел домой. Через дорогу.
«Что ему нужно? — подумал Петр Григорьевич. — Нужно предупредить редактора». Впрочем, гнев Горемыкина как будто «Восточного обозрения» не касался. Что-то было другое. А другое это — Алексей Иванович. Литография, которая находилась в подклети артамоновского флигеля. Алексей Иванович готовил новую листовку о положении рабочих на кожевенном заводе. Молодые люди и девицы рвались в дело.
Но времени уже не было.
Без пяти минут двенадцать Петр Григорьевич ступил в нижние сени генерал-губернаторского дома.
Митрич глянул на него, набычившись, над очками, и продолжал вертеть спицами гарусный чулок.
Петр Григорьевич стал подниматься по длинной, уложенной синей ковровой дорожкой мраморной лестнице. А может быть, — «Молодая Россия»?.. Для чего ее показывал Безобразов? Ну и что? Даже занятно, если Горемыкин ее прочитал. Но неужели вдруг станут припоминать дело тридцатилетней давности? Могут, конечно, вспомнить, если речь зайдет о сегодняшних прокламациях, выпущенных тайной литографией Баснина. Вспомнят, и что же тогда?
Петр Григорьевич удивился, однако скрыл свое удивление: генерал-губернатор (когда успел?) был одет не по-домашнему, а весьма официально.
— Извольте, — протянул он Заичневскому листок плотной бумаги.
Это была не «Молодая Россия» и не новая прокламация. Это была литографированная страничка и, по первому взгляду — вирши.
— Прикажете вслух? — улыбнулся Петр Григорьевич, но Горемыкин пресек:
— Вы дочитаетесь вслух, милсдарь! Вы дочитаетесь!
— Ваше превосходительство, — сказал по-французски Заичневский, — уверяю вас, я умею ценить открытость и прямоту, даже если они исходят от высшего начальства…
— Нет, вы положительно сумасшедший! — закричал Горемыкин. — Не смейте говорить со мною по-французски! Извольте читать!
Петр Григорьевич поклонился в знак покорности и прочел синеватые литографические строчки:
Такова фортюн дю шъен[8] Нашей мысли реформаторской: Ждать кончины императорской В ожиданье перемен. Но никак не получаются Перемены, господа: Императоры кончаются, Ожиданья — никогда!— Кто это сочинил? — спросил генерал-губернатор, отнимая бумагу.
— Я полагаю, поэт… А что, ваше превосходительство, разве государь император так плох, что…
Генерал-губернатор предпочел не слышать сказанного:
— Вы хотите иметь дело с жандармским управлением, от которого я по мере своих сил пытаюсь вас избавить. Но вы слишком настойчивы, господин Заичневский! Кто это писал?
— Насколько я могу понять, — серьезно и даже сочувственно сказал Петр Григорьевич, — вирши подражательны, а литографщики неопытны.
— Разумеется, вы — опытнее!
— Не стану утверждать, но в свое время наши отписки выглядели иначе. Вероятно, игла…
— Господин ссыльнопоселенец, — выпрямился Горемыкин, — вы принуждаете меня поступить по закону. Ваши преступные юноши и девицы, — подчеркнул — и девицы, под вашим руководством слишком распоясались. Вы исчерпали мое терпение. Я объявляю вам это, как официальное лицо и как христианин. Наконец, я объявляю вам это, как лицо, имевшее несчастье симпатизировать вашей персоне. Остерегайтесь! Этот наш разговор — последний!
И изорвал листок в клочья.
IX
Осенью девяносто четвертого года неожиданно скончался Александр Третий.
Из Ливадии приходили телеграммы о болезни государя, о молебствиях во здравие, ясно было, что никакой надежды там уже нет, скорее бы сообщили, что помер, и дело с концом.
Это был третий царь, которого пережил Петр Григорьевич.
Газеты империи должны были прилично оплакать августейшее успение.
Еще не пришла последняя телеграмма, а в «Восточном обозрении» уже обсуждались проекты передовой статьи, касающейся печального события.
Михаила Маркович Дубенский, будучи чиновником для особых поручений, предлагал изложить всероссийскую горечь верноподданно. Причину сего видел он в том, что редактор газеты Иван Иванович Попов все еще не утвержден в Санкт-Петербурге, и ради общего дела сохранения газеты в своих руках можно и покривить душою — все царствование было криводушным.
Проект Дубенского поддержал Свитыч.
— Отвяжутся, — сказал он, — отвяжутся и дадут писать потом…
— Потом в этой жизни не бывает, — возразил Петр Григорьевич. — Бывает — только сейчас!.. Да вот беда, ван Иванович… Вам хорошо: вы и редактор, вы и издатель… сами себя и посадите в кутузку, и закроете газету… Я же ведь — не себя, вас засажу своими проектами.
— Да подите вы к черту, господин якобинец! — закричал Попов, — жалостливый какой!
— Ну, уж коль вы так бесстрашны — извольте…
— Каково же ваше предложение?
— Предложение таково, господа: мы не вправе судить о царствовании, современниками коего являемся. Из скромности! Мы только отмечаем основные реформы, принятые в это царствование. А уж реформы таковы, что пальчики оближешь и сплюнешь…
Передовую статью напечатали так:
«20-го октября тяжелая весть о кончине Государя облетела всю Россию. Пройдет немало времени, прежде чем станет возможной всесторонняя и верная историческая оценка деятельности того Монарха, который 13 лет стоял во главе могущественной империи, ея именем говорил на советах Европы и своим словом не раз изменял те или другие устои государственной жизни многомиллионного народа. Нам, современникам, видевшим восшествие на престол покойного Монарха и теперь присутствующим при его безвременной кончине, можно не более как перечислить мероприятия, которыми ознаменовалась только что отошедшая в вечность 13-летняя полоса русской жизни».
Это было изящное определение царствования, политическая суть которого, по мнению Петра Григорьевича, сводилась вообще к двум словам: «Не рассуждать!»
Далее были названы «главнейшие мероприятия, которые навеки останутся соединенными с прошлым царствованием»: преобразование военных гимназий в кадетские корпуса, новый университетский устав, введение земских начальников, положение о земских и городовых учреждениях, о надзоре за фабрично-промышленными заведениями, переделы мирской земли — все эти мероприятия весьма походили на решетки и кандалы.
— Приличное кушанье на поминках, — сказал Петр Григорьевич, — теперь чего-нибудь на сладкое, пур бламанже…
— Строительство сибирской железной дороги, — сказал Попов.
Заичневский возразил:
— Но ведь это мероприятие — дельное…
— Ах, Петр Григорьевич, — сказал Иван Иванович, — в том соусе, который мы подаем, и дорога увидится приличной навозной мухой.
— Навознóй! — поправил Свитыч, — прежде всего в голову влетит казнокрадство на ней и связанное с не проникновение в Сибирь российского капитала.
— Западнороссийского, милсдарь! — рявкнул Заичневский, подражая генерал-губернатору. — Россия и здесь! Восточная Россия-с!
Он показал Горемыкина весьма похоже. Рассмеялись.
— Итак, — подвел итог Иван Иванович, — кладем дорогу…
С утра в редакции «Восточного обозрения» ликовала прибежавшие читатели:
— Господа, вы — герои! Теперь закроют газету! Дате вас обнять! Случится ли еще…
— Вы разверзли пропасть перед этой подлой и пошлой властью! Вы показали все ее ничтожество! Нет, господа, теперь не жаль, что газету арестуют!
— Бедный Иван Иванович! Теперь уж его никак не утвердят редактором. Но каково мужество! Я горжусь тем, что имел счастье пожимать его руку.
Петр Григорьевич всегда поражался странной черти хороших, умных, смелых людей — громогласно обнажать перед начальством то, что начальство, может быть, и не заметило бы. А и заметило бы, так пропустило, делая вид, что не замечает (ведь и в начальниках ходили люди, и не все они были глупцы). Но суетное хвастливо-опасливое, чуть ли не сладостное ликование вокруг острой мысли, талантливого слова — напечатанного ли, ненапечатанного — настораживало начальство сверх меры, сверх того предела, который оно, начальство, полагало для себя приличным. Ничто так не помогало начальству изводить крамолу, как настырное рвение крамольников.
Редактор «Восточного обозрения» Иван Иванович Попов кликнут был с утра в Белый дом к генерал-губернатору «на распеканцию».
Горемыкин встретил Попова нетерпеливо, даже дверь перед ним распахнул:
— Кто вы такой?! Что вам здесь нужно?! Подавайте свое прошение по почте! Я вам не фельдъегерь!
Генерал-губернаторские шары катились из раскрытой двери вниз, подпрыгивая на лестнице. Митрич, вязавший свой неизменный гарусный чулок, поддувал в дремучие свои усы, будто остужал горячее. И, странно, там, наверху его превосходительство мало-помалу остужался.
Александр Дмитриевич сорвал со стола свежий нумер и размахивал им перед Иваном Ивановичем, как боевым штандартом:
— Это не статья! Это плевок в гроб великого монарха! У вас там — гнездо каторжников, которое разорить ничего не стоит! Мое снисхождение к вам — преступление перед троном!
Горемыкин швырнул газету на паркет (опустилась по-птичьи), ступил на нее, шагнул к окну и скрестил на груди руки (Наполеон), став спиною к Попову. Иван Иванович выждал, соблюл паузу и приличным голосом сказал:
— Ваше превосходительство, мы не могли дать надлежащую характеристику прошедшему царствованию. Она бы не была цензурной. (Горемыкин хмыкнул и слегка, на четверть, повернулся от окна, не разнимая рук.) Если бы мы ничего не сообщили о кончине государя — это была бы недостойная демонстрация. (Горемыкин медленно разнял руки.) К политике Александра Третьего мы, мы все (подчеркнул, пристально вглядываясь в Горемыкина), мы все относимся отрицательно, быть может, сейчас в Петербурге ее пересматривают.
Горемыкин повернулся к Попову, как бы желая спросить «неужели» и получить утвердительный ответ.
— Всё? — резко спросил генерал-губернатор, как рявкнул. — Пересматривают… — И — тише. — Откуда вам знать, что там пересматривают? Ступайте…
Попова увидели из окна. Он, подняв шляпу с нарочитой торжественностью, не переходил — пересекал Большую, засыпанную почерневшими после первой, еще но стаявшей крупы листьями. Небо над Белым домом голубело морозно, чисто и весело.
— Со щитом! — прогремел Заичневский и все бросились вниз, встречать. Петр Григорьевич знал, что в сердцах этих славных людей, ведавших опасность и самое смерть, все-таки, несмотря на очевидную победу, бодрящую лицо Попова, несмотря на его жест и его нарочито величавую походку, все-таки шевелилась унылая лягушка: неужели не закрыли газету? Ну, пусть не закрыли, так хоть неужели не арестовали? Будто были они оскорблены тем, что начальство оставило их в покое.
Петр Григорьевич вышел за всеми и удивился, как эта толпа, запрудившая дворик музея, могла только что умещаться в крошечном флигеле. Попова обнимали, пытались качать, кричали, смеялись, кто-то даже собирался петь. Это была демонстрация, которую нельзя было не увидеть из губернаторского дворца.
Говорили, что во всей империи выходку с поминовением царя, кроме «Восточного обозрения», позволила себе еще одна маленькая газета «Восход». Кажется, в Минске.
X
У Станислава Лянды пили чай из переваловского фаянса. Чашечки были невелики. Содержимое полностью умещалось в глубоком блюдце. Пить чай из блюдца — манера театрально-купеческая почему-то занимала всех. За столом среди прочих гостей находился московский купец Лука Семенович Коршунов — плотный, небольшого роста, лет пятидесяти, в льняной неседеющей бороде, подбритой со щек, и стриженный модно, как, впрочем, и одетый в модный сюртук. Он держал зеленоватую чашечку за ушко, слегка отставив мизинец с небольшим колечком-печаткой.
Чаепитие веселило Петра Григорьевича: Лукашка нагляделся сызмальства, как управляться с посудой. Потому что был он, Лука Коршунов, молочным братом Петра Григорьевича, сыном кормилицы Акулины, то есть в прошлом крепостным человеком Заичневских.
Коршунов вдовел. Сын его Евграф находился в настоящее время в Манчестере, поскольку у Луки Семеновича была дальняя мысль выкупать у казны сникающие, идущие с молотка металлургические заводы (уже один купил в Бахмуте), и нужен был делу образованный хозяин, не ровня основателю дома. Сюда же, в Иркутск, Лука Семенович явился присмотреться и заодно повидать ссыльного своего братца-барина. Лука Семенович считал Жизнь Петра Григорьевича подвижнической, поскольку видел в революционерах определенную надежду русской промышленности: свалить бессмысленное самодержавие и поставить над державою такой закон, по которому первыми людьми государства были бы люди дела. Впрочем, насчет царя Лука Семенович воздерживался, полагая, что не в царях беда, а в псарях…
Говорили о графе Льве Толстом, о коем теперь — разговоры, куда ни придешь.
Алексей Иванович с особенной язвительностью читал вслух о толстовских поселениях, все более распространяющихся. И комментировал:
— За огородом в полдесятины ходят втроем и вчетвером! Вода рядом, а у них высыхают всходы! Ходят всем скопом в лес за дровами, приносят детские вязаночки валежника, зато всласть толкуют весь день об абстрактных материях на лоне природы! Об индивидуализации в модернизации свободного человека! А коров доить нанимают работников. Эти новые господа тем более опасны, что рядятся в мужицкие лапти и опорки! Они отвлекают рабочий класс от борьбы за свои права.
Коршунов жалел господ по-христиански: как быть человеку неумелому, сытому, если его — в работу, кормись своими руками? Всю жизнь толковали — как тут вдруг преобразиться? Трудно, немыслимо. Господа распродавались, нищали, шли в службу, да уже не только в казенную за чины, а в купеческие дома за прожиток. Ах, господа! Что есть зло? Не велеречивое ли безделье? Бога ищете, а молотка — гвоздь вбить — не найдете…
Еще в Орле, двадцать лет назад, когда молодые эти люди еще и на ноги не умели встать, Петр Григорьевич знавал Александра Капитоповича Маликова. Александр Капитонович был богочеловек, он отвергал насилие, он был непротивленец злу. Он уехал в Америку строить справедливые коммуны. Там (в Канзасе, что ли) уже находилась коммуна Фрея, настоящая фамилия которого была Гейне, и был он, Фрей, кажется, брат казанского губернатора. Сам этот порыв Гейнса — отречься от привилегий, уйти на край света, добывать хлеб свой насущный — был вызовом и увлечением чистых сердец.
Там, вдалеке от отечества, в коммунах этих все было общее — и тучная земля, и наспех сколоченные хибарки, и пылающая страсть рассуждать о благе человека.
Они давно вернулись, Александр Капитонович проживал, кажется, в Перми, столярничал для пропитания. Он был уже стар. Ссыльный молодой старовер, переведенный в Иркутск из Перми, пересказывал рассказы Маликова, богочеловека и искателя земного рая:
— Не умели работать, оправдывали неуменье теоретически. Даже придумали, будто невареная пища полезнее потому, что вареной в природе не существует. Чтоб не стряпать! Повезли с собою за тридевять земель нашу беду — декламацию, заглушающую здравый смысл. И странное дело: к ним стали липнуть бродяги и бездельники.
«Отчего же странно?» — усмехался Коршунов. А человек этот, из Перми, рассказывал:
— Жизнь, сами знаете, — ни кола, ни двора, одни мечтания… А ведь детишки рождаются! Природа не знает иллюзий… Заболело дитя. И мать протянула его Маликову: пусть погибнут все сто ваших замыслов о справедливости, лишь бы было живо мое дитя! И ведь он был превосходный краснодеревщик, Александр Капитоныч!
«Эк, их по свету носит! А дело на Руси стоит», — думал Лука Семенович.
Вспоминали Петра Давыдовича Баллода, петербургского студента, хозяина «карманной типографии» шестидесятых годов и, как думали некоторые политические ссыльные, автора «Молодой России». Петр Давыдович, теперь уже пожилой человек, сделался купцом втором гильдии, прошел якутскую тайгу. Говорили, сломав ногу, он преодолел верст триста со своими старателями, ковылял в самодельном лубке на самодельном костыле — воля его была необыкновенна.
Говорили о революционерах, чья революционность не исчезала, а принимала новую неслыханную форму сопротивления косной империи: промышленная деятельность, предприимчивость, основанная на законном справедливом взаимоотношении с рабочими. Деятельность, представляющая угрозу для империи, не заговорами, не бомбами в царя, а чем-то, как выяснилось, не менее опасным: правильной, юридически грамотной организацией производства.
И вдруг — о каком-то американце по имени Торо. Кто он был, этот Торо, Лука Семенович не спрашивал, доходя всегда догадливостью до неведомого, слушая, вникая, примеривая к понятному и известному.
— У Торо есть забавное наблюдение — два американских города построили электромагнитный телеграф, а сказать по этому телеграфу было нечего.
— Я думаю, наш Толстой заимствует у него скорее сродственность с природою.
— Торо, насколько я его понимаю, разоблачал плутократию, коррупцию, жажду наживы, которые ведут к деформации демократических институтов!
— Да прежде чем их деформировать, нужно, чтобы они появились! А как им появиться, если тут Торо будто списал у нашего Толстого — непротивление злу насилием.
— Не Торо у Толстого, а Толстой у Торо, — поправил Заичневский. — Отнесем этот анахронизм на счет вашего остроумия. И — однако — русское толстовское непротивление злу насилием несет определенный, именно русский, оттенок. Толстой принимает не столько непротивление, сколько неповиновение. Пусть пассивное, пусть молчаливое, но — неповиновение.
— Где вы это вычитали? — спросил хозяин.
— А все там же: право человека отказываться каким-либо образом поддерживать власти, если они поступают безнравственно. Где же тут непротивление? Это неповиновение, господа! При таком непротивлении можно, осердясь, и бомбу кинуть!
— А вам лишь бы — бомбу!
— Да не надо мне бомбу! Но вместе с тем не надо мне вынесения духовного мира личности за пределы государственно-правовых отношений, — загремел Петр Григорьевич. — Я хочу организовать волю! Организовать! А посему мне так же чуждо непротивление, как и терроризм!
И тут хозяин вспомнил, что за столом гость:
— Я думаю, Луке Семеновичу не очень интересны наши теоретизирования.
Петр Григорьевич посмотрел на Коршунова лукаво, задиристо:
— Ну те-с! Послушаем…
— Да слушать-то недолго… Морали, конечно, в нашем деле немного. Да мы ведь и не проповедники. У нас кто смел, тот и съел. Я сам заводик казенный прикупил… И будет у меня завод этот — развалюха — как в Манчестере!
— Да вы семь шкур сдерете с рабочего, пока его до Манчестера дотянете! — необидно крикнул Алексей Иванович.
— Сдеру… А как же? Да ведь сдеру-то — для дела! Я ему слободы поставлю, рабочему вашему, школы заведу, и пущай его детишки живут, как в Манчестере. А вы, господа, с вашим графом нищенство проповедуете! И американец этот ваш… Там у них край непочатый, а он к нашему графу тянется…
— Да не он к графу, а граф к нему.
— Это — неважно… А я ведь не хуже вас понимаю… Денег надо? Нате! Да только не на разговоры, а на дело! А что есть дело? Производство! Что есть мораль? Хлеб без попрека! А хлеб-то этот заработать надо!.. Как же — без организации?..
Петр Григорьевич давно уже отмечал: не горячие мечтатели, а холодные практики обретали главный приз от его борьбы.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
1881–1889.
Кострома, Орел
I
Первого марта тысяча восемьсот восемьдесят первого года был убит император Александр Второй.
Заичневский находился тогда в ссылке в Костроме. Он думал, что Россия еще не знала такого монарха, который в течение всего своего царствования был бы целью и прибежищем неуемного интереса: убьют его или не убьют?
Это был невиданный царь. Он снимал цепи, коими родитель его, император Николай Павлович, неподвижно сковал огромную державу.
Первые пять лет нового царствования ознаменованы были изумляющей радостью, в которую трудно было покорить.
Империя подходила к порогу, за которым сиял рай: освобождение крестьян, земля и воля многострадального народа.
Но вот рай наступил. Грянула воля: манифест, освобождающий крестьян от крепостной зависимости.
И вдруг воля оказалась вовсе не той, какую ждали. И вообще все, что делал этот царь, оказывалось не тем, чего ждали! Царская милость бунтовала мужиков, будоражила дворян, готовила гиль, булгу, восстание. Или революцию?
Выстрел Дмитрия Каракозова разорвал напряженную тишину. Россию осенила трепетная догадка: в царскую особу можно палить! Царственный жест, предлагающий волю народу, как бы упразднял семь стен защиты вокруг самого царя. Вслед за Каракозовым в царя стрелял, но промахнулся Антон Березовский.
Старые чиновники и жандармы, оцепеневшие было от незнания, как быть при новом царе, вдруг почуяли, что усопший государь Николай Павлович вздохнул в своем мраморном гробу нетерпеливым вздохом.
Смерть и кандалы ринулись сопровождать жизнь обновляемой империи неотступно, как стаи ворон сопровождают разбитое войско. Все чаще с бесстрашием поговаривали, что при прежнем царствовании было куда меньше казней, чем при этом, оснащенном представительными судами. Прежний государь уж никак не дозволил бы охоты на себя, а этот только то и делает, что дозволяет. Царь этот был виновен во всем, даже в том, что на него охотились. Царь был предназначен казни. Потому что, вскрыв язву, он не нашел живой воды, чтобы вмиг излечить страдающее тело государства.
Как с трибун римского Колизея, где на арене противоборствуют гладиаторы, для которых нет выбора между победой и смертью, мыслящая Россия ждала развязки. И это упрямое противоборство развращало всех зловещим интересом, горячащей страстью преследования.
В конце февраля семьдесят восьмого года явилась листовка с печатью, на которой соединились пистолет, кинжал и топор. Это была печать иная, никак не похожая на знак первой «Земли и воли» шестидесятых годов, изображавший дружеское рукопожатие единомышленников. «Земля и воля», та самая, с которой Петр Заичневский рассорился за ее недостаточную решимость, ушла в прошлое.
И явились новые люди — люди, которые как будто изъяснили на своем знаке истинную суть «Молодой России» своими пистолетами, кинжалом и топором. Эти новые, будто Петра Заичневского и не было на свете, начинали сызнова. И начинали не с рукопожатия, которое он отверг тогда, а с топора, который не отвергает теперь.
Царь был предназначен казни.
Утром второго апреля семьдесят девятого года Александр Соловьев стрелял в царя, вышедшего на прогулку.
Девятнадцатого ноября семьдесят девятого года супруги Сухоруковы устроили взрыв на третьей версте Московско-Курской железной дороги. Взлетел свитский поезд. Государь остался невредим.
Пятого февраля восьмидесятого года в Зимнем дворце взорвался пол в царской столовой. Царь был все еще жив.
Охота на царя, как битва за главный приз, решительно шла к последнему усилию…
II
Можно было подумать, что Петра Григорьевича ждали на каждом новом его месте жительства. Слух о том, что он едет, опережал его. Он бы очень удивился, если в первый же день приезда нечаянное жилище не наполнилось бы до отказа гимназистами, газетчиками, приказчиками, ссыльными, которых он знал только понаслышке, а то и не знал вовсе.
Он становился старожилом быстро, может быть, причиною тому была судьба, лишившая его с юных лет своего угла.
В Костроме служил он в торговой конторе и уже успел съездить в Москву, тайно, разумеется, поскольку въезд в столицы был ему запрещен.
Первого марта восемьдесят первого года Петр Григорьевич писал письмо Марье Оловенниковой — старой своей орловской ученице, ставшей теперь одним из главных лиц только что образовавшейся партии Народной воли.
К Марье Оловенниковой не подходили никакие обыкновенные определения. Первый муж ее, помещик Ошанин, оставленный ею ради свободы, ради эмансипации, ради революции, был счастлив даже и воспоминаниями о ней. Их дочь воспитывалась у бабки, у старухи Оловенниковой. Сказать, что Марья презирала преграды, было бы неправильно. Преграды, в чем и в ком бы они ни выражались, не существовали для нее. Она еще гимназисткой в Орле открылась Петру Григорьевичу в том, что готовит себя к роли значительной, важной, решительной для России. Сказано это было так просто, так естественно, что Заичневский, склонный к насмешливости и весьма чуткий к отроческим самообольщениям, воспринял ее признание с какой-то не свойственной ему покорностью. Марья Оловенникова повелевала всеми, кто попадал в круг ее притягательности, и Петр Григорьевич сам не раз испытывал на себе гнет соблазна покориться ей, отбиваясь, как от наваждения.
В шенкурской ссылке он узнал о неудачной попытке налета на харьковскую тюрьму. Налет готовили Марья, ее новый муж, еще кто-то, кого Заичневский не знал, и Софья Перовская. Всю организацию побега взяли на себя дамы. Они наладили связь с тюрьмой, добыли оружие, выяснили путь конвоя, устроили убежище для спасенных и ждали. Были приготовлены корпия, йод, спирт, все, что нужно для раненых, потому что предстоял бой с полицией. Софья ждала напряженно, прислушиваясь к дороге. Марья же спокойно легла спать. Каменное спокойствие не изменило ей даже в такой час, когда товарищи, среди которых был и ее муж, дрались насмерть и когда полиция, преследуя их, могла попасть сюда, в конспиративное убежище и схватить ее самое…
Вечером прибежал гимназист Володя Мальцев, похожий на подростка из романа Достоевского, и, округлив чистые искренние святые глаза, объявил прямо с порога радость:
— Финита ла комедиа!
Петр Григорьевич еще ничего не знал. Но по какой-то острой интуиции, по какому-то острому ощущению сопричастности к всероссийскому сердцебиению он был вдруг осенен ужасной догадкой: убили царя! Но — кто? В воображении Петра Григорьевича немедленно вспыхнули сестры Оловенниковы — Марья, Наталья и Лизавета — три Эринии, как он их называл.
Итак, главный Романов убит. Убит тот самый глава императорской партии, истреблять которую беспощадно призывал он, Петр Заичневский, двадцать лет назад, когда этого гимназиста еще не было на свете. И вот гимназист этот мечется по комнате от счастливого возбуждения, захлебываясь словами:
— На Екатерининском канале! Он вышел из коляски! Сам метатель тоже погиб!
Заичневский сбросил обрезанные валенки, присел на топчан, стал натягивать на шерстяные носки сапоги.
— Петр Григорьевич! Прямо в ноги! И тот — р-раз! Так ему и надо!
Ликующая злоба чистоглазого мальчика изумила Петра Григорьевича. Отрок упивался своим рассказом. Он расхохотался возбужденно, мстительно, как смеются дети, осчастливленные, наконец, долгожданной справедливостью.
Заичневский встал, сбросил пестрядевый халат, стал надевать сюртук. Надо бежать в редакцию, узнавать подробности.
— Петр Григорьевич! Все кончено! Теперь… Теперь… Дайте я вас обниму! Надо всем рассказать! Это должны знать все!
— Остыньте, Володя, остыньте.
— Я вас не донимаю, Петр Григорьевич, — снова округлил глава, но на сей раз изумленно, отрок, — я думал доставить вам радость.
— Очень жаль, — надевал поддевку Заичневский. — Вы не доставили мне радости… Сейчас начнутся такие аресты, такие казни, что предыдущее царствование покажется раем… Остыньте, вы же умный мальчик…
— Я не мальчик! Теперь они не посмеют! Наследник — вот увидите — отречется от престола! У нас будет республика! И вас мы изберем в конвент, ситуайен Пьер Руж!
— Не нужно меня в конвент, Володя…
— Вы испугались! — вскрикнул отрок, как вскрикивают дети, уличив взрослых во лжи и с отчаяньем преодолевая почтительность.
— Да, — кивнул Петр Григорьевич, — я испугался за вас… У вас хорошая голова, и жаль, если ее отрубят…
— И пусть! Я слушаю вас с чувством недоумения, — надменно произнес Володя и вышел впереди Заичневского.
Выйдя на крыльцо, Петр Григорьевич удивился — возле избы собрались гимназисты, гимназистки, несколько незнакомых ему мастеровых — в одном из них он узнал кортуповского крючника. Взметнулся небольшой красный флаг на коротком древке. В синих сумерках он был почти черный.
— Речь! — крикнул высокий детский голос, — речь! Какую речь?! Что он может им сказать, если он сам узнал о случившемся только что от ликующего мальчика? Но пропагатор обязан знать больше их всех, даже если ничего не знает. Только что он сдерживал гимназиста Володю, вразумлял его отечески. Но здесь, перед лицами десятка молодых людей, перед нетерпеливыми очами, он не может вразумлять. Он должен сказать им только то, чего они ждут, он должен вести их только туда, куда они хотят, даже если впереди — пропасть.
— Товарищи! — зычно призвал Заичневский, и они крикнули «ура», как сговорившись, как будто ждали от него только этого слова.
Но речи сказать не пришлось.
Из переулка, из-за приземистого каменного лабаза просвистел камень, дзинькнуло стекло и кто-то крикнул с пьяным отчаяньем:
— Дождались, сволочи?
Это был совсем другой призыв, другой сигнал, с которым накатывалось не ликование слов, не горячение сердец, а совсем другое — драка, боль, кровь.
Человек пять молодцов дерюгинского лабаза бодро, как растаскивать тюки, кинулись в толпу, матерясь. Завизжали гимназистки, закричали юноши, замахали неумелыми руками:
— Вы не смеете! Рабы царизма! Вы ничего не понимаете! Мы же — за вас, за вас!
Жжикнул разорванный кумач, кто-то упал, кто-то побежал, кто-то кричал. Взбешенный Заичневский с крыльца, со ступенек влетел в свалку и толкнул левым локтем в лоб молодца, сбив малахай. Молодец от удара задрал голову, выставил бороду. Петр Григорьевич изо всей силы, как учил его в Усолье доктор Стопани, ахнул снизу правым кулаком под отвалившееся заросшее лицо. Молодец рухнул, как тюк.
— Уби-и-и-ли! — изумленно негромко закричал, почти зашептал длинный — в рост Петру Григорьевичу, но пошире и погрузнее — мужик и наклонился, потянувшись к голенищу. Однако уроки доктора Стопани сидели в Петре Григорьевиче прочно. Рискуя упасть, он подпрыгнул и силой своей тяжести, добавленной к силе удара, опустил сведенные в один кулак кисти на набычившуюся голову. Мужик замычал, свалился, Петр Григорьевич успел наступить на руку, тянувшуюся к голенищу.
Все это произошло так быстро и так неожиданно, что никто не успел ничего толком понять. И только Володя закричал и даже запрыгал от радости:
— Вив нотр виктуар! Вив ситуайен Пьер Руж![9]
— Пусти, — зарычал мужик, на чьей руке стоял Заичневский, — я тебя все равно…
Первый застонал, присел, бережно ощупывая черную в сумерках кровь на губе:
— Да мы пошутили, барин…
Стон этот вернул всем понимание.
— Получили свое, мерзавцы!
— Негодяи!
— Да отпусти его, барин… Он ить зарезать может… Он у нас — бешеный… Его хозяин боится.
— А мы не боимся! — закричал Володя тем самым ликующим голосом, которым полчаса назад сообщил ужасную весть.
Появился городовой Касьяныч. Увидев его, гимназисты закричали:
— Они — первые! Они — первые! Мы их не трогали!
Касьяныч, сопя в усы, поддерживая «селедку» на боку, сказал дружелюбно сидящему:
— Опять под горячую руку полез… А тебе я сколько говорил: увижу с финкой… Пустите его, господин Заичневский… Я сам его куда надо…
— Господа! — изумленно вскрикнула гимназистка, — у него ведь — нож! О боже мой!
— Товарищи! — радостно закричал Володя, — полиция — за нас! Петр Григорьевич! Что я говорил?! — И — городовому, протянув руку. — Спасибо, гражданин!
Касьяныч посмотрел на отрока, на протянутую руку, подумал, но пожимать ее не стал:
— Господа… А скопляться не надо… Время такое — скопляться не надо…
Петр Григорьевич достал гривенник, сунул городовому; Касьяныч будто того и ждал, кивнул понимающе и — мужику с ножом:
— Пожалуй-ка за мною… Отрезвлю…
И пошел прочь не оборачиваясь.
Мужик (из-за голенища торчала белая костяная рукоятка) понурясь, как послушная лошадь, побрел за городовым вслед.
А молодые люди, опьяненные победой, неожиданным прекрасным геройством старика Пьер Ружа сопровождали Петра Григорьевича. Они веселились, как дети, потому что были еще детьми, и крепкие костромские срубы, каменные дома и лабазы угрюмо и затаенно сопровождали их веселье.
III
Листовку Исполнительного комитета, обращенную к новому царю, привез в Кострому, к Заичневскому, Лука Коршунов (где добыл, Петр Григорьевич не спрашивал).
Коршунов брюхом чувствовал политику, понимал: сейчас начальство потребует от братца-барина верности новому государю. Сейчас, будь он, Лука Коршунов, государь император, первым делом всех драчунов в бочку, тесно, пускай одумаются, кидать ли под царские ножки что ни попало.
Но Лука Семенов Коршунов не был государем императором, а был он купчиной и, будучи таковым, понимал за драчунами резон. Резон сей был однобокий, купеческий, выгоду ищущий, и состоял, главным образом, в том, чтобы власть не связывала руки купцу. Пусть хоть черт, хоть дьявол на троне — но чтобы воля была торговле без препон, чтоб господа чиновники, кому ведать надлежит, смотрели не в руку купцу, сколько поднес, а… Вот в этом месте Лука Семенович и разевал рот: во что бы им смотреть-то, господам чиновникам? Этого он и сам не понимал толком.
Коршунов поскреб сапоги на крылечке (сырая весна была в Костроме, сырая, мокрая), взошел в крепкую избу и тотчас увидел Петра Григорьевича.
Молочный брат был угрюм, скучен видом (не захворал ли?), встал из-за стола, из-за книг и бумаг, приобнял, вздохнул, сказал, будто и не расставались, считай, на два года:
— Жив?
— Помалу, брат…
Лукашка чем больше богател, тем большей смелости набирался на язык. Скоро, пожалуй, братишкой обзовет или, того гляди, братцем.
— Раздевайся, гостем будешь.
И нарочито, как слуга у барина, принял синюю поддевку у гостя.
— А ты все шутишь? — невесело спросил Лука, однако одежду не перехватил, подождал, пока Петр Григорьевич повесит ее на костыль, сказал, разглаживая набок льняные власы. Уж больно светлы, ребячьего цвета были волосы, неприлично молодили купчину. Заичневский усмехнулся горько, сказал ни к селу ни к городу, разглядывая знакомое с детства Лукашкино личико:
— Прическа а ля Капуль… Уже не очень модно…
— Так… Шутишь… Прокламацию я тебе привез… Прочитаешь, и я сам сожгу. Не желаю петли ни тебе, ни себе.
— Будет вздор молоть, давай…
На столе выглядывал из-за книг дагерротип — Ольга Андреевна.
Лука отметил про себя, что Петр Григорьевич поднес лист к глазам не так близко, как прежде: прежде, бывало, чуть не упирался носом в читаемое.
«Письмо Исполнительного комитета к Александру III. Ваше величество, — прочел Заичневский, потирая пальцами листок: неужели и царю послали на такой неказистой бумаге? Как бы пальцев не занозил… — Вполне понимая то тягостное настроение, которое Вы испытываете в настоящие минуты, Исполнительный комитет по считает, однако, себя вправе поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для нижеследующего объяснения выждать некоторое время».
Лука стоял у окошка, смотрел на улицу, постукивая нетерпеливо пальцами по некрашеному, темному подоконнику. Герань цвела на окне красненькими звездочками. Должно быть, Лука потревожил цветок: резко запахло геранью.
«Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека, — читал Заичневский, — это долг перед родной страной, долг, которому гражданин принужден жертвовать и собой, и своими чувствами, и даже чувствами других людей».
Заичневский остановился, это говорил Берви-Флеровский: предел человеческой гордыни — жертвовать чувствами других людей.
Лука шумно вздохнул, нетерпеливо переступил на коротких ногах, продолжая тарабанить пальцами, будто дрожал, сдерживая дрожь.
— Сядь, — благодушно сказал Заичневский.
Лука снова вздохнул:
— Читай скорее, горе ты…
Заичневский снова потер пальцами лист:
— Лука!
— Чего тебе?
— А мы-то свою прокламацию на какой бумаге тиснули? Помнишь?
— О господи! — так и не обернулся Лука, — читай, страхолюдина! Читай, дьявол! Петли захотел?
— А ты думаешь — петля?
— Нет, — всплеснул руками Лука. — Сенаторами их всех назначат! А барышень — фрейлинами!
— А что? Сестры Оловенниковы чем не фрейлины? — усмехнулся Петр Заичневский.
Марья Оловенникова рождена была повелевать, посылать, вершить судьбу и холодно отсекать все, что мешает. Петр Григорьевич не сомневался, что к взрыву на Екатерининском канале была причастна Марья Оловенникова с сестрами, покорным продолжением ее воли.
И это огорчало его. Он не учил их цареубийству. Они были централистками, как все его ученики. Но в том-то и дело, что его ученики, уходя от него, принимали террористическую ересь.
— Как бы и тебя в камергеры не вывели, — бурчал Коршунов. — Благо у всех на виду.
Лука Семенович для выразительности провел пальцем по горлу и тут же перекрестился.
— Лука! А хорошо бы у тебя на какой-нибудь барже — печатню, а? Плы-ивет себе баржа и — прокламация то в Астрахани, то в Ярославле, то в Самаре…
Сказано было, разумеется, чтобы потеребить страх Луки Семеновича. Но Коршунов улыбнулся как ни в чем не бывало:
— Отчего ж… Можно и печатню… Поганцев у меня нет, продать некому. — (Лука Семенович протянул недлинную руку к листку.) — Петр Григорьевич, ну есть тут здравый смысл? Отца растянули и над сыном изголяются! А сын-то ведь — царь! Ты понимаешь? Царь!
— Ты хоть сам прочитал?
Лука скривил рожу, ерничая:
— В глаза я ее не видел, ваше благородие! Грамоте не учен!.. Читай, не тяни! Сами себя слушаете, как тетерева какие! С кем беседу затеяли, дети несмышленые?
— Ладно, помолчи…
Заичневский за эти дни успел уже и надуматься и наслушаться. Страшный удар по русскому революционному движению нанесли самые отчаянные, самые смелые, самые последовательные революционеры. Погиб герой, кинувший бомбу. Но он шел на это, как все герои. Погиб царь. Но он был царем и должен был платить за это. Но погиб еще мальчик, катавшийся на санках. И вот этот маленький мальчик, катавшийся на саночках, вознесся в потрясенном, воспаленном воображении надо всем — над смертью царя, над смертью героя, ибо был он жалостью выше жалости — метали в Ирода, попали в дитя…
Петр Григорьевич смотрел мимо Лукашки в окно. Он вообразил одутловатого Александра — нечаянного императора, гиганта-инфанта, как, бывало, шучивал Заичневский.
— Лука, сказывают, в Москве давали комедию «Не в свои сани не садись». Не знаешь?
Лука Семенович привык к манере брата-барина спрашивать ни к селу ни к городу, поторопил:
— Некогда мне по комедиям… Читай, жечь надо…
— Погоди…
И — опять в бумагу. Исполнительный комитет требовал у нечаянного самодержца, у гатчинского урядника созыва представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями.
— Лука… Сигары привез?
— Привез… Читай, сказываю тебе, страховидный ты человек…
— Подай сигару…
Лука Семенович встрепенулся, как двадцать пять лет назад, когда состоял Лукашкой при барчуке, когда барчук тайно от батюшки с матушкою впервые задымил табаком: достал из бокового кармана хороший серебряный плоский ларчик, раскрыл надвое: там находилось шесть остриженных небольших голландских сигар, поднес, подождал прилично, пока понадобится огонек и — ловко, точно к моменту, успел защелкнуть серебро, извлечь коробок спичек собственной фабрики и чиркнуть. Заичневский, раскуривая, посмотрел в глаза Лукашки, держа в левой руке прокламацию. Коршунов выдержал взгляд, сказал сердито:
— Сигары и протчие припасы пришлю… Может, тебе и дорогу опять…
И, не спрашивая, как у маленького, взял из руки Петра Григорьевича лист и сунул углом в догорающую спичку. Подошел к печи, положил горящую бумагу на шесток, смотрел, как корчится.
Сигара оказалась крепка, Петр Григорьевич перхнул горлом, вглядываясь в сгорающую бумагу. Созыв представителей от всего народа для пересмотра форм государственной жизни… Что за несчастье… Говорят, царь был убит в тот самый день, когда решился, наконец, подписать указ о созыве уполномоченных!
— А невинный мальчишка, погибший при взрыве? — вдруг вскрикнул Коршунов.
— Да, — подумал Заичневский. — Теперь станут таскать окровавленный детский трупик по газетам, требуя распять всю мыслящую Россию? И мыслящая Россия захлюпает соплями, истинно веруя в необходимую для себя виселицу, как вчера еще истинно веровала в необходимую для царя бомбу!
Когда бумага сгорела, Коршунову сделалось и на вид легче. Он дунул на листок, и гарь улетела в трубу, будто не было. И посмотрел снова на дагерротип.
Заичневский сделал вид, что никакого дагерротипа на столе нет. Лука понял, сказал, глядя мимо, в окно;
— У нас, Петр Григорьевич, не жалко себя. А себя но жалеючи — никого не жаль. Так и записано, — мотнул головою на печь. — Ни царя, ни холопа.
Предел гордыни — жертвовать чувствами других людей. До чувств ли, если самих людей не жаль? И мальчики кровавые в глазах. Вот он когда подоспел — вопрос господина Достоевского.
А Лука говорил как бы про себя:
— Я читал, — снова на печь, — за тебя, веришь — нет, сердце болело… Право… И в спину слева — как ножом… Я и не знал, что сердце так болит…
Заичневский очнулся от мыслей, подошел к печи, стряхнул накопившийся плотный сизый пепел сигары. Пепел отвалился, не рассыпавшись.
IV
В Костроме жил Василий Васильевич Берви. Он был старше Заичневского лет на десять, и это позволяло ему опекать Петра Григорьевича:
— Это ведь все — наше державное презрение к цене человека… Ведь совсем недавно, мы с вами помним, людей отдавали в рекруты, продавали, как скот… Даром не прошло…
При Василии Васильевиче Заичневский несколько подбирал когти, стараясь не оцарапать старика. Берви-Флеровский был святой.
Свою собственную горечь и свое собственное отчаянье он испытывал как-то отстранение от самого себя, будто были его горе и отчаянье горем и отчаяньем братьев, которым надо помочь, растолковать, подать руку и обнадежить.
Узнав об ужасном конце Софьи Перовской, Василий Васильевич слег, и Заичневский поражался детским слезам на лице старика.
— Вы же революционер, — утешал Василия Васильевича Петр Григорьевич, сам понимая, какой бормочет вздор, как будто доброе, чистое сердце может утешиться тем, что принадлежит революционеру, когда так страшно погибла Соня.
— Она была хорошая, — плакал Берви, — она была хорошая… Она не должна была… Они не должны были… Я их научил, я…
— Чему вы их научили, — чувствовал раздражение Заичневскнй, — умирать вы их научили? Вы учили их братству! Вы учили их жизни!
— А оборачивалось все так… Почему все так, шер Пьер Руж? Разве не очевидно, что человек рождается для счастья?
— Нет, не очевидно! — уже не жалел Василия Васильевича Заичневский. — Покуда очевидно, что человек рожден для рабства! И ничего у нас с вами не получится, пока не вымрет поколение рабов! Мы с вами не то ищем, Василий Васильевич.
И чтобы отвлечь старика от горьких мыслей, рассказывал о своем квартирном хозяине, который прежде сам говорил про царя — хоть бы его убили, а теперь испугался:
— Тихо ты… Говорил… Мало ли… В те поры он живой был… Мы и лаяли… А теперь он — убитый, — перекрестился, — выходит — зря лаяли… Мало чего спьяну… А государь, слышно, жив, а убит солдат подставной, похожий…
Берви не удивился подставному солдату.
V
— Я говорю, — кашлянул хозяин, — господа кончили того, теперь при этом… И то сказать — кабы при нем люди были… А то господа и господа…
Петр Григорьевич поднял голову, стал слушать. Это подбодрило хозяина:
— Сидят за царским столом, лжу свою галдят в царские уши, а сами вызнают, как бы способнее бомбу под него…
— А ты ждешь?
— Да будет тебе, язва ты — не человек! Сравнил! Тады все ждали, и я ждал.
— А теперь не ждут?
— Не слыхать… Может, самовар?
— Неси…
При самоваре хозяин стал разъяснять:
— У того, — перекрестился, — указ был — к покрову землю хрестьянам отдать всю как есть… Его и кончили за тот указ…
— Да где же указ-то?
— Указ за семью печатями от нового государя спрятали… Он еще молодой, так они при нем желают новую крепость учинить… — И вдруг, повеселев. — А он — молодой-молодой, а ума не пропивает! Слышь? Принеси мне, говорит, твоя светлость граф Игнатьев, батюшкин указ! Граф, конечно, тык-мык, ваше величество, найти никак не можем, затерялся, все переискали, нет как нет! Слышь? А молодой государь говорит: ой ли? А граф на своем: ой ли не ой ли, а от того указа одна царская смерть приключилась, гляди, государь, как бы не того! Во какой граф-то был!
— Ну-ну, так что государь?
— Что… Сам подумай: боязно! Кругом тебя убивец на убивце, отца родного разорвали. Долго ли им?
— Да как же теперь быть-то?
— Вот то-то — как быть, — хозяин уселся поудобнее, пригнулся, смел бороду под стол, чтоб не мешала, — вот то-то… Слышь? Мужики так думают, надо туды человека послать под видом комардина или ездового! И чтобы тог человек при случае шепнул в царское ушко: не боись, государь, отдай барскую землю хрестьянам, бог не выдаст, свинья не съест…
— Что ж не пошлете?
— Так ведь вот, барин, — выпрямился хозяин, и борода его снова высунулась на стол, — беда! Как только простой человек туда влезет, так первым делом часы с цепочкой заведет, козловые сапожки чистого шевра натянет, кудри надвое расчешет — и пиши пропало!.. Но все-таки, — хозяин покрутил головою и подмигнул. — Государь молодой-молодой, а додумался!
— Да ну?!
— Истинно! — мелко перекрестил бороду хозяин, — слышь? — И снова поближе, сунув бороду под стол. — Указ тайный: хрестьянам никак не наниматься в работники к господам, а наниматься только к купцам и богатым мужикам! — Сощурился. — Для чего, понял?
— Мудрено…
— То-то! — обрадовался хозяин, — купец — он тот же мужик, только богатый. При нем — капитал. Слышь? У помещика, тык-мык, робить некому, податься некуда, надо, выходит, землицу продавать! Да по дешевке! А кто купит? Купец! Богатый мужик! Вот он и без земли, помещик твой!
Чудовищные сказки эти, дикие россказни были политикой, той самой политикой, которой занимались толковые мужики в трактирах, на перевозах, при мельницах, ожидая череда. И эта политика, нелепая, вздорная, раздуваемая слухами, горячимая желаемым, имела под собою твердую каменную почву. По-вашему, противоречия дворцовых группировок, а по-нашему — государь обдурил графа! По-вашему, развитие капитализма в России, а по-нашему — тык-мык, деваться некуда. По-вашему — землю народу, а по-нашему — лишь бы она не оставалась у помещика!
Петр Григорьевич думал об этой политике, которая не бралась почему-то в расчет при создании обыкновенных политических построений. А хозяин продолжал:
— Слышь… Деверь рассказывал, он — на почте… Указ: распечатывать письма да читать на сходах, чтобы хрестьяне знали, о чем пишут господа! Слышь?.. Выходит, новый государь отдает господ с головою под надзор народа! Вот тебе и молодой!
Петр Григорьевич знал об этом распоряжении, кажется, все того же графа Игнатьева — просматривать почтовые отправления, искать в них прокламации, фальшивые манифесты, слухи. Но услыхав слово хозяина, Петр Григорьевич поразился: даже ему не пришло в голову, что крестьяне, народ, увидят желаемое и в этой обыкновенной полицейской мере! Они увидят и в этом нарушении элементарного права лишь подтверждение все той же прямой, вдохновенной, неистребимой своей веры в милость государя! А ведь догадаться было так просто: письма писали господа, мужики писем не писали. Стало быть, сами по себе письма были господскими кознями, разоблачать которые царь-де повелел народу!
Петр Григорьевич дивился упрямой, бессмысленной несуразице, хотя опыт его жизни, опыт его борьбы мог бы и избавить его от удивления.
Хозяин был уже восхищен мудростью нового государя императора, и восхищение придавало ему смелости:
— А самое верное дело — кончить всех господ, право… Хитры дюже… Свойственны! Не расцепить!
Петр Григорьевич вспомнил Чернышевского: «Мы ведь ищем друг в друге непоследовательности… Мы не умеем объединиться».
И вдруг хозяин спросил:
— А сколько лет государевой службы?
— Как это — сколько лет? Пока не помрет…
— Ан и нет! Государева служба — как солдатская. Двадцать пять годков было, а теперь — всего шесть лет, и шабаш, давай нового!..
— Да кто тебе сказал?! — удивился Петр Григорьевич неожиданным конституционным настроением хозяина.
— Народ… Царь, он как солдат… А иначе — одна лжа…
VI
Летом восемьдесят третьего года Петр Григорьевич тайно прибыл в Москву из Костромы.
В редакции «Русской мысли» у Вукола Лаврова Петр Григорьевич познакомился с громогласным молодым репортером, крупным, как конь. Сравнение это напросилось само собою, когда репортер заговорил о лошадях и показал руками и ногами, как подгребает под себя дорожку известный ему иноходец Макет, сын Магдалины и Кентавра. Иноходца этого никто в Москве не видел, но репортеру верили, поскольку сообщения его всегда подтверждались, о чем бы он ни говорил.
Звали его дядя Гиляй, должно быть, за покладистость и добродушие. Дядя Гиляй вцепился в Петра Григорьевича хватко, по-репортерски — Петр Григорьевич даже насторожился. Особенно опасным показался дядя Гиляй, когда вдруг прямиком спросил:
— Вы сочинили «Молодую Россию»? Я все знаю! Вы были в каторге с Чернышевским в Кадае, подняли бунт на Круго-Байкальской дороге…
— Будет вам, — перебил Петр Григорьевич и успокоился: дядя Гиляй был рожден для деятельности, настороженность исчезла. Бунт на Круго-Байкальской действительно вспыхнул, но уже без Петра Григорьевича, а с Чернышевским Петр Григорьевич находился не в Кадае, где никогда не был, а в Усольских казенных заводах.
Простодушие дяди Гиляя было напускным, он был не так уж прост. Дядя Гиляй одновременно напоминал сыщика, поймавшего разбойника, в разбойника, который провел этого сыщика за нос.
— Потапову[10] было доподлинно известно, кто сочинил эту прокламацию, — заявил Гиляровский.
— Да почему же он не расправился за нее? Ну, скажем, с автором?
Дядя Гиляй рассмеялся!
— А зачем? Жандармы ведь тоже — люди!.. Они уже устекли Чернышевского!.. Зачем сытому чиновнику брать на себя еще какой-то мифический центральный комитет? А вдруг царь велит — найти?
— Откуда вы все это знаете? — удивился Заичневский, — Вам же тогда было… Сколько вам было тогда?
— Да лет двенадцать. Но не в том дело, это я потом разыскал.
— Для чего?
— А шут меня знает!
Лука Семенович безбоязненно поселил молочного братца у себя на Якиманке.
— А что, Лука Семенов, — спросил Петр Григорьевич, — не сходить ли нам с тобою на сходку? Сойдутся высокоумные господа, почешем языки, авось и царя свергнем заодно.
Лука Семенович сидел на жестком табурете с прорезной (цветок и листочки) спинкой у себя в кабинете, где стояли и мягкие кресла.
Служили Луке Семеновичу гостиновские, бывшие крепостные Заичневских, кучер Трифон (ему уж было как бы не под семьдесят), стряпуха Дарья (ее Петр Григорьевич помнил девчонкой) и камердинер Прохор — одногодок. Прохор этот, женатый на Дарье, называл своего хозяина уклончиво «Лука Семеныч» — не мог именовать барином.
— Царя свергать покудова не надо, — серьезно сказал Лука Семенович, когда Прохор, принеся на серебряном подносе кофий, удалился.
— Что так?
— Покуда не надо, — повторил Коршунов, — а на сходку почему не сходить? Небось, к Василию Яковлевичу?
На Кузнецком мосту в маленький сводчатый подвал «Венеция» забегали случайные прохожие толкучего, магазинного, модного, торгового Кузнецкого моста, а поздним вечером хозяин «Венеции» Василий Яковлевич отпускал двух парнишек-половых, рябую бабу-судомойку, тощего не по своему занятию повара — отставного солдата с медалью за Плевну, опускал штору, отпирал черный ход со двора и служил сам. Потому что поздним вечером путаными московскими дворами к Василию Яковлевичу в «Венецию» приходили господа, коим было вовсе ни к чему напоминать полиции о том, что они пребывают в Москве.
Василий Яковлевич трепетал перед своими посетителями, признавая за ними особенные стати героев, крамольников, мудрецов. Всякое слово, сказанное в его заведении, воспринималось им как возвещенное. Закуска подавалась скромная, вино бывало некрепкое, иногда Ланинское шампанское, над которым все почему-то потешались, однако пили на здоровье.
Явление Луки Семеновича было воспринято Василием Яковлевичем с некоторым смущением: кто не знал Коршунова? Что же это происходит в России, если купец второй гильдии вдруг появляется в заведении, где всякого ночного гостя можно брать в часть не задумываясь. Однако Василий Яковлевич ощутил также и приятность: честь все-таки. Лука Семенович осмотрел сводчатый потолок (купеческая привычка — глядеть на знакомые предметы так, будто видит впервые), пожал руку хозяину, не замечая никого, хотя в помещении было уже накурено, как в черной избе, керосиновые лампы окружились дымными радугами.
Должно быть, Петра Григорьевича ждали.
— А мы уж думали — беда! — радостно подскочил к нему маленький верткий человечек, бритый по-актерски, да еще в клетчатой визитке, как из спектакля какого-то.
Разговор за столом прервался, и вдруг все — и огромный бородач в центре стола, и усатый широколицый молодой хитрец (по глазам видно), и остальные зашумели:
— Что с вами, Заичневский? Мы уж думали…
Василий Яковлевич стоял у двери, лучился счастьем, смотрел, как на родичей, сто лет пропадавших и вдруг, слава тебе господи, явившихся.
— Господа, — сказал Петр Григорьевич, — позвольте — моего друга, благодетеля, Луку Семеновича… Надеюсь, с его помощью я разобью в щепки вашу наивную безграмотную народническую чепуху!
Лука Семенович знал сызмальства выходки своего молочного братца. Однако выходка эта не оскорбила никого, а развеселила. Они сели к столу.
— Вот это и есть ваш промышленник? — спросил бородач.
«На смотрины привел, что ли?» — подумал Лука Семенович и незаметно кивнул Василию Яковлевичу: чего-нибудь этакого для того-сего. Василий Яковлевич исчез и сразу явился с подносом, а на нем — ведерко, а в ведерке — сама «мадам Клико».
— Не выскочила ли мадам за Ланина? — вскрикнул актер.
— Вот и скажите нам, господин промышленник, — не отставал бородач, — покровительствует вам правительство или не покровительствует?
Лука Семенович не любил пустых вопросов. Освоившись в компании, куда его завлек для чего-то (суетно подумал — не предъявить ли знакомство?) молочный братец, Лука Семенович сказал благодушно:
— А как же! Ежели на лапу положить — отчего же не покровительствовать.
— Оставьте, Лука Семенович! — закричал бородач. — Не до шуток! Факты! Факты! Русская буржуазия не имеет причин быть недовольной самодержавной властью.
— А мы премного довольны, — сказал Коршунов и тотчас серьезно, — господа, для вас это разговоры, беседы, а для дела тут все не так…
— А как?
— А так. Видали, как вороны цыплят клюют? Вот вам и ответ… Взбодри-ка нам мадаму, Василий Яковлевич…
«Мадама» зашумела в стаканах, но на вино и не посмотрели (кроме актера). Заичневский вздохнул:
— Министерство финансов, в котором сидят не самые глупые люди, устанавливает систему поощрений и поддержек русской промышленности и торговли, вводит тариф для иностранных товаров…
— Вот! — перебил бородач, — по-о-щре-ний!
— Погодите! Вот… Далеко еще не «вот»… Министерство путей сообщения устанавливает свой тариф, который превращает в прах комбинации министерства финансов…
Все посмотрели на Коршунова, но Лука Семенович ничего не сказал, а хлебнул, наконец, осевшего вина.
— А министерство иностранных дел безо всякого соображения с русскими интересами заключает контракты, выгодные для турков, англичан, французов, да только не для России! И наш промышленный мир пристыжен, смущен, скорбен духом!
— Однако промышленники — новые эксплоататоры! — закричал бородач.
— Оставьте свои заморские слова! — вдруг сказал Коршунов, — жить как будете? Ездить на чем будете? Землю ковырять чем будете? Стрелять из чего будете, не приведи бог?
— Но вы разоряете крестьянскую общину!
— И черт с ней, с вашей общиной! — закричал Коршунов. — Двенадцать четвертей с десятины на черноземе! Голод — год через год! Дайте русскому промышленнику свободу! Я сам мужик! Сам! Не надобно России этакой гурьбы мужиков! Один за десятерых справится на земле!
— А остальные?
— Города ставить! Заводы заводить!
— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — выкрикнул актер и подскочил со стаканом.
Усатый хитрец подмигнул Заичневскому, Петр Григорьевич рассмеялся.
— Так вот ты для чего меня звал? — спросил остывая Коршунов.
— Лука, — сказал Петр Григорьевич, — для наших народолюбцев промышленник — дьявол! Зеркала бьет, детей ест, работников голодит. А то, что он организатор производства российского, им невдомек!
— Но на вашего дикаря-купца нет управы! — закричал бородатый.
— Управа на купца — купец! — пропустил «дикаря» Коршунов.
— Управа на купца — работник, — спокойно сказал бородка лопаточкой. — Пролетарий.
Петр Григорьевич улыбался, думая о сказанном. Не в догадке ли этой состоял главный приз?
VII
Казнь царя, именуемая также мученической смертию государя императора, ожесточила всех. Тюрьмы были переполнены, самодержавие не разбирало, кто сторонник террора, а кто — противник. Тайные бдения, непримиримые теоретические противостояния имели общий конец: филеры, дворники, понятые, обыватели, сокрушенные ужасом цареубийства, хватали крамольников, волокли на расправу.
Но русское предпринимательство внедрялось в забытые углы, сгоняло с вотчин помещиков, тянуло дороги, ставило заводы и вот-вот собиралось выйти на международный торг не с одним сырьем, как издревле, не с одним ситцем, а с высоким товарным изделием не хуже немецкого. Россия уже настораживала Европу — бесстрашной, неуемной, настырной деятельностью русского промышленника с миллионами недорогих рабочих рук на необозримом пространстве, под которым таились нетронутые запасы угля, руды, нефти, черт знает чего и черт знает в каком количестве. Россия меняла лицо, подстригала бороду, заводила иные одежды.
Новое революционное слово стучалось в Россию. Слово о классовой борьбе.
Присутствие в торговой, купеческой Костроме мягкого, нежного, сентиментального Берви-Флеровского все еще делало этот город Меккою для тех, кто не разуверился в смысле религии братства. Мекка сия была весьма и весьма подправлена присутствием Петра Заичневского.
Внезапно появился в Костроме библиограф Сильчевский, знакомый Петра Григорьевича по повенецкой ссылке. Появился он с молоденьким Кузнецовым, которого величал Леонидом Андреевичем, восполняя сим величанием незрелые года коллеги. Они явились к Берви-Флеровскому — в московских народовольческих кружках хотели переиздать его «Хитрую механику», для чего в Кострому был направлен лучший библиограф России, живший под присмотром полиции. Они шли по ночной Костроме; библиограф в огромном мятом цилиндре дымил аршинной трубкою, той самой, которой дымливал еще в Новенце. Городовой поплелся за ними, подумал, сказал:
— Пожалуйте в участок, господа.
Кузнецов не имел паспорта, Сильчевский находился под надзором. В участке пристав приказал снять цилиндр, заглянул в него, затем сказал:
— На улицах нельзя курить из таких трубок… Неспойственно…
Но документов не спросил.
Заичневский хохотал, когда они ему рассказали об этом:
— Вот плоды вашего терроризма! Здесь проезжал новый царь прошлым летом. Циркуляр был насчет цилиндров и палок, а возможно, и трубок: не метательные ли в них снаряды? Напужали же вы, братцы, бедную династию! То-то она на вас косится!
— А на вас не косится? — огрызнулся Сильчевский, — вы яростное дитя шестидесятых годов!
Ситуайен Пьер Руж сделался необычайно серьезным:
— Братья, пора «Народной воли» канула, поверьте мне… Вы продолжаете кипеть, конспирировать, а надо работать. Как мы с вами работали в Повенце, — четко вспомнил Ольгу…
— Так мы и доработались! В Шенкурск поехали…
— А там что? Не сидели же сложа руки, черт вас подери! Неужели цареубийство ничему вас не научило? Пользуйтесь всеми легальными формами объединения для революционных целей! Заводите кружки! Стрелковые, конные, пожарные! Учитесь, если хотите взять власть! Объединяйтесь!
Он гремел, расхаживая по невысокой избе. Хозяин сунулся было — не надо ли чего, но скрылся, видя, что не до него. Дагерротип подрагивал от мощного гласа.
— Надо перевооружить сознание, братцы! Надо выжигать из себя рабов! Вы думаете, рабство держится кандалами? Вздор! Кандалы держатся рабством!
— Так может быть, вы — марксид? — спросил великий библиограф.
— Не знаю. Но то, что не народоволец, это несомненно! Я не отделяю участи России от всеобщих процессов социального развития. Не заблуждайтесь! Капитализм везде капитализм, и мимо него не пройти! Вот вам вся нехитрая механика!..
Спорить с Петром Заичневским было трудно. Oн обрушивался не доводами философов, не аргументами мыслителей, а каким-то обидным, подробным, неприкрашенным пониманием житья-бытья…
VIII
Начальство наконец снизошло к давнему прошению. Пришла пора укореняться — дома, в Орле, на старом пепелище. Не было уже имения Гостинова, умерла маменька, семейство распалось давно…
Василий Павлович Говоров, полицмейстер города Орла, постарел изрядно. Собственно, он один и остался от прежнего начальства. Впрочем, еще чиновник для особых поручений Савин Алексей Александрович. Губернатор другой, а чиновник при нем — тот же самый. Губернаторы появляются, исчезают, а чиновник все за тем же столом скребет тем же пером. Разве что выслужил за столько-то лет два чина.
Василий Павлович встретил Петра Григорьевича радушно. Явился сам, одутловатый, дышащий по-бычьи, нездорово. Смотрел светлыми, прозрачными глазами просительно, должно быть, ждал угощения ради встречи:
— Все прошло, Петр Григорьевич, все кануло-минуло… А я ведь зла к вам никогда не имел…
В десятый раз жизнь начиналась сызнова. Или даже в одиннадцатый, кто считает? Разве что начальство, в чьих бумагах оседает не жизнь, нет, следы жизни. Ах, эта прошнурованная, пронумерованная нанять о действительном бытии…
Политические страсти, придавленные самодержавным булыжником, были живы. Однако страсти эти уже никак не походили на прежние.
Васенька Арцыбушев, отбывший верхоянскую ссылку, вернулся в Курск, явился в Орел — возмужавший, закаленный. Там, в Курске, разгорелась старинная распря: народ или интеллигенция? Кто возглавит революцию в России?
— А вы ведь уже возглавляете! — учил Заичневский. — Народ аморфен, неоднороден, в нем — классы…
Это уже было похоже на Маркса, которого усиленно штудировал Арцыбушев. Но Петр Григорьевич, несмотря на свой великий опыт, еще не видел, что и интеллигенция — неоднородна. Противостоял же он террористам, которые были такие же интеллигенты, как и он!..
Прелестная Кити Удальцова вместе со старой (еще костромской) приятельницей Машенькой Ясневой осуществляла связь между смоленскими, курскими, орловскими, московскими кружками, так не похожими на кружки прежних лет! Там уже были гектографы, типография, литература. Петр Григорьевич видел, что замысел всей его жизни — революционная организация, где каждый солдат знает свой маневр, начинает осуществляться…
Новым ученикам вменялось в обязанность учиться (революции не нужны недоучки!). Машенька Яснева (Кума) писала сочинение для диплома на Бестужевских курсах. Арцыбушев занимался «Капиталом». Добротворский в Смоленске наладил библиотеку… Петр Григорьевич экзаменовал своих учеников. Наборщик Инкель Звирин добыл в «Смоленском вестнике» пуд шрифта, Середа и Хмелевский напечатали листки — собирать деньги: «Исполнительный комитет приглашает русских граждан к пожертвованиям в пользу лиц, пострадавших от насилий русского правительства».
Арцыбушев списывался с товарищами. Заичневский готовил съезд, который определил бы программу организации. Нет, это были совсем не те сходки его молодости, когда социалистические истины только-только просачивались в Россию. Это была уже школа с учебниками, статистикой, историей, опытом бытия. Здесь изучалось прошлое революции, чтоб не делать ошибок ни в настоящем, ни в будущем.
Математическое разделение общества казалось Петру Григорьевичу искусственным, он видел всегда отдельные лица. Но если лица императорской партии были однородны, в общем адекватны, то лица народной так уж не походили друг на друга, интересы их были так несовместимы… К какому же классу принадлежит он, Петр Заичиевский, восстановленный императором в правах дворянства пожизненный ссыльный, обдумывающий государственный переворот?
Приученный всей жизнью к тайным наездам в столицы, куда ему не было дозволения, он оказался провинциалом российским — одним из тех, кто появлялся из Орла, Саратова, Симбирска, Казани, Твери, Нижнего, из самой глубины империи, чтобы возбуждать, зажигать, направлять общественную мысль России.
Централизованная организация складывалась не тайною пятерок, не мистическим всесильем несуществующих комитетов, не кровавой порукой террористов, она складывалась единомыслием, осознанной необходимостью, поддержкой в слоях общества, опорою среди командного состава.
Весною восемьдесят девятого года Петр Григорьевич нелегально появился в Москве. Стоял он в нумерах на Никольской. Швейцар поднес ему открытку: юнкера выражали восторг по поводу речи, произнесенной Заичневским в прошлый приезд. Снова — вив ситуайен Пьер Руж! Как же отучить молодых людей от восторженных порывов?..
А в это время в Московском пехотном училище при осмотре вещей у юнкера Романова найдены были письма сестры Аделаиды из Орла с упоминанием фамилии Петра Григорьевича. Сестра наставляла мысли брата в нежелательном для начальства направлении.
Машенька Яснева кинулась в Лефортово к юнкерам, к сестрам Кекишевым, ко всем, кто мог попасть под арест, расписывала роли — как быть на допросах, уговаривала: только, боже упаси, не геройствовать! Спасать организацию!
Однако организация погибла. Не Центральный Революционный Комитет «Молодая Россия», которого не было, а наконец-то устроенная, налаженная централистская организация, которая была! Надо было все начинать сызнова.
Кити Удальцова и брат ее Митенька успели уехать в Тверь. Может быть, хоть до них не доберутся?
Петр Григорьевич с веселой грустью вспомнил листок, набранный Звириным и подложенный в губернской управе. На листке лежал букетик незабудок: чтобы господа чиновники не скупились. Говорили, это была проделка воздыхателя прелестной Кити…
В Бутырской тюрьме, перед ссылкой в Иркутск, Петр Заичневский читал товарищам по камере лекции о Луи Блане и Жюле Мишле, о разделении труда, о мануфактурах, о пролетариате…
Среди тюремных товарищей находились и непримиримые политические противники — постаревшие давние ученики его, питомцы Орлиного гнезда…
ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО
1870–1880.
Пенза, Орел, Повенец
I
Юродивый был бос. Пестрядевые портки внизу у огромных красных ступней мокрели тающим снегом. Была на юродивом синяя рубаха до колен, а шапки не было. Желто-седые космы и седая же борода, сохранившая темные клочья, были, однако, приглажены, только что не расчесаны. На шее старика — небольшого, мелкотелого, висела на тонкой собачьей цепи иконка — темная, стертая, не разобрать, что написано — один след позлащенного венца над исчезнувшим ликом.
Появление его с мороза, из пара открывшейся двери произвело в трактире впечатление неожиданное. Сделалось тихо, настороженно. Юродивый, никого не видя, ничего не замечая, шел через небольшое помещение, не цепляясь за столы, — в дальний угол. Кто-то перекрестился, увидя юродивого, хозяин вышел из-за занавески, улыбнулся виновато:
— Погрейся, божий человек…
Но юродивый не ответил, подошел в крайнем углу возле печи к тучноватому человеку в суконной поддевке и сказал ему тихо, обыкновенно:
— Ты, папанька, отдай вдове-то. Бедная она, грех такую обижать. Не отдашь — бог накажет.
Тучноватый человек побледнел, приподнялся и посмотрел в красный угол, где бог, потом сел, полез за пазуху (рука дрожала), вытащил черный кожаный плоский кошель, раскинул надвое, извлек кредитные, пересчитал и подал юродивому:
— Отнеси ей, божий человек… Это меня бес посетил… Спасибо, образумил…
И поклонился.
Юродивый взял деньги, зажал в кулаке и так же, никого не видя, ничего не замечая, ушел на мороз.
В трактире все еще было тихо, но вот скрипнула лавка, тенькнуло штофное стекло, звякнула ложка о миску и вдруг все заговорили:
— Давно его не было.
— Зря не придет.
— Стало быть, надо, ежели явился.
Незнакомых в трактире было двое — Заичневский и доктор Владыкин. Хозяин подошел к ним без зова и пояснил новым людям:
— Святой человек… Ба-альшую силу взял… Митенькою звать… Вы, небось, не здешние, господа?
— Из Сибири! — зычно сказал Заичневский, и хозяин, вмиг сообразив, как надо понимать, спросил:
— На поселение?
Заичневский шевельнул бородою в дальний угол:
— А кто этот?..
Хозяин наклонился почти что к уху, шепнул с пугливым почтением:
— Ба-альшой у нас в Пензе человек… Купец Костырин Иван Тимофеевич… Из него пыткою копейку не вынешь, а тут — так-то… Митенька…
— Лукьяныч! — зашумел купец Костырин, — углевки штоф!
Хозяин кинулся было, но Костырин встал неожиданно, сказал «будет… не надо» и, сунув руки в шубу (лежала на лавке), вышел из трактира, хлопнув дверью.
И тогда уже развеселились все:
— Устыжение!
— Костырин-то, а?
— Сила-то, бртцы, сила!
— А ты хоть лоб расшиби, ничего не достигнешь…
— Я так думаю, — напевно, мечтательно произнес тонкий голос, — ежели, к примеру, явится он к государю императору, отдай, мол, государь император, сирой вдове заместо мужа усопшего живого! Ей-богу, отдаст!
— Жеребец ты и есть жеребец… Бог ведь слышит, ой накажет! Не божись всуе!
Веселье вспыхнуло вдруг. Взлетели слова всякие и непотребные и смех, будто люди, находившиеся в трактире, обрадовались, чуть не возликовали от какой-то путаницы — то ли от того, что сокрушен сам купец Костырин, то ли от того, что пришла охота поглумиться над Митиной святостью.
И вдруг тихий человек (сидел с краю общего стола, лапшу кушал):
— Грех… Кузякину кто разорил?
И повернулся к приезжим, незнакомым людям:
— Дом был веселый… Месцанская вдова Кузякина содерзала… Так он у нее всех девиц увел.
— Всех! — хохотнул было опять на непотребство молодой щербатый парень — из чьих-то молодцов, в жилете с цепочкой.
— Остынь, цорт… Ты примецай, — кивнул на молодца тихий человек. — И нацальство так думало. Искали в лесу, искали… Нашли старинный скит брошенный… Ну, тут-то, думают, и вертеп.
Молодец гоготкул, но тихий человек и не глянул на него:
— И цто? А? Выкуси! — Ткнул кукишем в нос молодца. — Сидят девицы, вязут цулки на продазу, бисером шьют… А Митя писание им цитает…
Рассказ кого притишил, кого и развеселил. Человек этот цокающий — снова в лапшу, будто ничего и не говорил. И снова этот с цепочкой понес непотребство.
Как заметили Заичневский с доктором Владыкиным, рассказ тихого человека был известен всем тут, человеку верили, но мерзкое неприятие чистоты, сидящее в людях, воевало с этим рассказом, огрязняло истину, поворачивало разговор в грязь. И вот, когда веселый гогот, крики заглушили слова, вдруг из пара открытой двери снова появился юродивый. И снова, как в первое его появление, народ в трактире сник, забоялся, притих. Юродивый присел к столу, ни на кого не глядя, и столь же ровно, обыкновенно сказал хозяину:
— Покорми, папанька, Христа ради… Плоть грешна, немощна, а без нее в чем духу-то быть?
Хозяин, бережно ступая в смиренной тишине, пошел за занавеску.
Заичневский подмигнул Владыкину, доктор понял, но не одобрил взглядом намеренье Петра Григорьевича.
— Здравствуй, святой человек, — приветливо, но веселее, чем надо, сказал Заичневский.
Юродивый взял замерзшей рукою из принесенной хозяином миски щепоть капусты, стал жевать, не ответив, и вдруг:
— Разговору ждешь? Ты не разговаривай, ты слушай…
— Слушаю, святой человек…
— Да не меня слушай, дура-голова, душу свою слушай.
— А нету у меня души, — подстрекнул Заичневский.
— Стало быть, ты куль пустой… Проваливай…
Никто не рассмеялся. Петр Григорьевич искоса увидел, что люди, только что реготавшие, сквернословившие, отделены от него не семью — семижды семью стенами.
Заичневский с Владыкиным вышли. Они шли, ощущая неловкость, непонятную, обидную.
— Не надо было, — сказал Владыкин.
— Но ты-то! — вдруг закричал Заичневский, освобождаясь криком от обидной неловкости, — но ты-то лечишь их! Ты-то вникаешь в них?
— Я знаю анатомию, — спокойно сказал Владыкин.
— Врешь! Это он знает анатомию! И чем берет?! Чем он взял этого барбоса, маклака, которого сейчас на виселицу — не ошибешься?
— Петр, — миролюбиво сказал Владыкин. — Люди живут не той жизнью, какая должна быть, а той, какая есть… Пойдем-ка лучше ко мне. Я познакомлю тебя с моими хозяевами.
II
Доктор Владыкин жительствовал в Пензе на Лекарской, так совпало.
Снимал он две комнаты во флигельке, там же проживали хозяйские сыновья, названные весьма странно, — Цезарь и Гавриил. Цезарь был малый лет восемнадцати, недавно закончивший гимназию с грехом пополам, Гавриил же учился старательно, успешно и уже готовился в Казанский университет.
Молодые люди глядели бирюками, доктор, снимая аппартаменты свои, даже пожалел о предстоящем таком соседстве. Но едва выяснив, что постоялец — ссыльный, да еще из Сибири, да еще из Витима, в братьях будто что-то прорвалось. Оказалось, что Цезарь, воспринимавший науки через пень-колоду, вовсе не был туп. Его занимали предметы, в гимназии не излагаемые. Младший был энергичнее, а может быть, и поверхностнее. Во всяком случае, когда выяснилось (на третий день), что постоялец человек свой, да еще прошедший каторгу (Сибирь вся как есть именовалась в России каторгой), братья открылись всем сердцем.
У них был кружок, и кружком верховодил Цезарь. В подклети флигеля находился небольшой литографский камень. В кружке же состояли покуда помимо братьев еще один гимназист и шестнадцатилетняя сестра их Ольга.
Отец семейства, статский советник Мигунов служил в губернской управе, нраву был покладистого, сам в юности вольнодумствовал, и старые «Современники», хранящиеся у сыновей, были взяты из отцовских книг.
Сестра Ольга воспитывалась в частном лютеранском пансионе, где говорили по-немецки, но учили также в английский язык.
Ольга и вела себя по-английски, как она разумела поведение английской дамы, то есть подавляя чувства, держа на лице учтивую улыбку и разговаривая слегка сквозь зубы. Или, как отметил про себя Петр Григорьевич, сквозь зубки.
Ольга насмешила его вмиг, едва вошла. Петр Григорьевич, склонный к насмешке, однако весьма тактично управлявшийся со своей склонностью, едва увидев холодную, неприступную, чопорную девицу в глухой белой блузке с бесчисленными пуговками и в длинной клетчатой (шотландской?) юбке, во взбитых так, что обнажался детский затылок волосах, поднялся и первым делом пожалел, что одет в косоворотку, к которой привык, и носит бороду, которая мешает сделать чопорный кивок, достойный джентльмена из хорошего лондонского дома.
Ольга села в кресло торчком (проглотив небольшой аршин). И поглядывая на нее, Петр Григорьевич подсчитывал в уме свои капиталы: затея, которую он положил непременно исполнить, обойдется рублей в пятнадцать и займет дня два.
Через два дня он предупредил Владыкина, чтобы доктор ничему не удивлялся.
Ольга смотрела прямо, смело, несколько высокомерно и вместе с тем снисходительно (как королева Виктория). Так она вошла в комнату Владыкина и, слегка (очень слегка!) присев в книксене, увидела перед собою чопорно поклонившегося одним кивком головы плечистого, высокого и стройного денди, в черном сюртуке, с прекрасными пушистыми усами, подстриженного весьма тщательно (без дурацкого кока), в белейшем пластроне и воротнике, обозначенном черным в крапинках скромным бантом. Не успев выпрямиться из книксена, Ольга прыснула. Петр Григорьевич будто ждал именно ее детского вспрыска.
— Это вы — для меня? — спросила Ольга, позабыв, как поступила бы в подобном случае английская королева Виктория.
— Ну, разумеется!
— Значит, вы меня дразните?
— Ну, разумеется! И чтобы отомстить — отдразните меня! Немедленно покажите мне язык! Я буду повержен и тут же застрелюсь!
Ольга рассмеялась. Она действительно быстро, как ужалила, показала язычок и вдруг перестала смеяться:
— Но вы же — под надзором! Они подумают — вы готовитесь бежать!
Глаза ее округлились, и Петр Григорьевич увидел в них, что меньше всего на свете она хочет, чтобы он бежал. И это ее состояние, воспринятое четко, ясно и безошибочно, разлилось в Петре Григорьевиче небывалой томящей радостью, такой натуральной, такой всеобъемлющей, что он и не искал ответа, а сказал первое, что явилось само собою:
— Я не убегу…
Ольга вспыхнула: она ведь не вкладывала в свой вопрос того смысла, который передался ему! Но смысл этот вложился сам по себе, и он воспринял его так определенно!
Ей вдруг не захотелось больше дурачиться, и играть леди тоже не хотелось. Ей даже правилось, что он так пошутил, и она удивлялась, что не только прощает его, но даже благодарит.
Оба брата находились в комнате с самого начала, Владыкин предупредил их, что Петр Григорьевич появится переодетым и побритым и придавать значения его виду не следует.
Цезарь спросил на это:
— Он конспирирует?
— Об этом не спрашивают, — сухо ответил доктор, и Цезарь смущенно покивал головою, значительно посмотрев на Гавриила.
Оба юноши делали вид, что не замечают перемен в Петре Григорьевиче, их несколько раздражало девчоночье кокетничанье сестры, они относили это на счет ее молодости и собирались сделать ей выволочку.
Обещание Петра Григорьевича застрелиться (шутливее, ради конспирации!) оба брата восприняли как явный намек на то, что в его распоряжении имеется оружие. Недаром ведь Цезарю показалось, что, шутя подобным образом, Петр Григорьевич незаметно метнул мимолетным взором в его сторону.
III
«Милостивый государь Петр Григорьевич! Имея известность о пребывании Вашего высокоблагородия в местах, обозначенных Начальством, спешу высказать тебе свою Радость, что Сибирь твоя кончилась, и дай Бог навсегда. Еще тогда, когда Маменька Ваша Евдокия Петровна убивалась аж до горячки, я имел часть заверить ея высокоблагородие, что никакой вечной Сибири тебе не будет, потому что всюду есть люди и дядюшка Ваш недаром Афанасий Петрович князь Юсупов, который не каждому приходится родичем. Так и вышло по моему недостойному понятию. Теперь же, в нынешние времена, ты обретаешься в известной тебе губернии, и мой человек, которого ты знаешь с ребяческого детства, разыщет тебя, хоть где бы тебя ни держали.
Также доложит он о Батюшке Вашем, Господине Полковнике, который мается в Гостином, не ведая, как быть от порубок и прочего. Однако ты живи покойно в ожидании обнять Отца и Маменьку и Братца и Сестриц. И еще покорнейше прошу ваше высокоблагородие принять для дальнейшего прожитка от моего человека и не набираться барской гордыни, а то я тебя знаю. Не обессудь, Петр Григорьевич, право, вспомни Бога.
Недавно ради любопытственного удовлетворения читал я некоторое сочинение, откуда получается Богатство. А Богатство тот сочинитель ведет от Торговли. И вспомнил я соседа нашего барина Степана Ильича, который, сказывают, спился с круга от того, что мужиков не сечет, и мужики его спились же от Государевой Воли. И с тем сочинителем я согласен, что в кнутах проку нет. Но тот сочинитель пишет про Немцев и Французов и Англичан, будто им выгодно без кнутов, а про Русских не пишет.
Прощайте, ваше высокоблагородие, и прими, не отказывай. Я-то обиды от тебя не заслужил.
К сему Вашего высокоблагородия препокорнейший слуга, готовый ко услугам, Третьей Гильдии Лука Коршунов.
Держись, Петр Григорьевич, право же, Бог милостив!
Апреля 10 дня 1871 года в Москве».
IV
Эмилий Федорович Мейергольд был по виду и праву как бы задержавшимся во времени старинным русским барином, вроде пушкинского Троекурова. Однако богатство свое (говорили, весьма и весьма нетвердое) Эмилий Федорович черпал не из вотчин, коих у него никогда не было, а из своего торгового дома, который производил славную меиергольдовскую водку, доходившую до Москвы, где знатоки, понимающие цену питию, требовали также «углевку» заводов «Э. Ф. Мейергольд, Пенза».
Разумеется, он ходил в кирку, в кабинете у него висел портрет Бисмарка, в гостиной находилась фисгармония, выписанная из Нюрнберга, в дом хаживал гepp пастор Тирнер, но этим, пожалуй, и ограничивалось лютеранство Эмилия Федоровича. Если бы не мягкое произношение да некоторые несуразицы в согласовании русских слов — чудной этот Мейергольд, загульный, хлебосольный, крутой на расправу, — и выглядел бы прямым нашенским купчиной. Простые люди называли его зелье марахоловкой — так было проще.
Вся Пенза бывала на его пирах. Пуританская скаредность доброго лютеранина сменялась на этих пирах бесшабашной православной купеческой гульбою. Для гостей устраивались танцы, пенье, спектакли, карты и — разговоры о текущих событиях.
Бывал в этом доме также Лев Иванович Горсткин, чьи богатства заключались в огромной библиотеке (тоже — достопримечательность Пензы!). Лев Иванович ездивал по Европе, знавал Герцена (говорили — дружил с ним), выписывал иноземные издания, в том числе лондонскую газету «Таймс», и давал читать всем, кто пожелает. Из его библиотеки, собственно, и растекались по городу европейские вести…
Ольга переводила с листа:
— Русская программа есть в общем и целом программа любого заговора… Мы воистину должны благодарить этих русских революционеров за демонстрацию того, что является их естественной тенденцией и логическим выводом…
Статья называлась «Революционный нигилизм».
Петр Григорьевич смотрел, как Ольга читает и переводит, но думал почему-то не о статье, а об этой маленькой девушке, перед которой он, нигилист Петр Заичневский, ощущал какую-то странную вину. Ольга пыталась придать своему голосу язвительное звучание. Чужая заморская газета в ее чтении напоминала Петру Григорьевичу ханжеватую старую леди, застукавшую юных джентльменов за нехорошим делом. Русские страсти были чужды английскому журналисту. Русские страсти лишь снисходительно брались в подтверждение известной истины — как нехорошо быть революционером. А что они представляли в действительности, эти русские страсти, там, в «Таймсе», не знали и не могли знать. Петр Григорьевич подумал о Герцене, умершем там, в Лондоне, в одиночестве, в таком далеке от русских страстей, в каком он, пожалуй, никогда прежде и не бывал.
Но в чем же она состоит — эта странная вина перед Ольгой?
— Что вы скажете, — насмешливо спросила Ольга, и он понял, чего она от него ждет. Он подошел к ней (Ольга подняла голову, чтобы видеть его лицо), посмотрел в глаза:
— Нечаев иезуит.
Ольга изумилась и отступила к столу.
— Как?!
Петр Григорьевич вздохнул:
— Вы хотите, чтобы я защитил его?
Ольга соображала быстро, резко:
— Я хочу, чтобы вы защитили себя!
— Он убивал своих. Что может быть страшнее?
— А где же эта черта между чужими и своими? Вы ведь тоже — заговорщик!
— Присядьте, Ольга… Я не хотел бы, чтобы вы ждали oт меня того, что мне несвойственно… Власть, как воображает Нечаев, это — собственность на себе подобных. Утвердить эту собственность можно лишь адским принуждением, страхом, мистикой. Но ведь это просто сколок самодержавной власти. Вообразите победу Нечаева, что это было бы? Разве общество отделалось бы одним беднягой Ивановым? Цели нет, средства становятся целью… Вы посмотрите, как он надул Бакунина! Все поверили в его мифическую «Народную расправу», в этот «Всемирный революционный союз». Хотели верить — потому и поверили!
Газеты гремели нечаевским делом, и то, что самого Нечаева на суде не было, то, что охранка не поймала его, придавало Нечаеву романтический ореол. Нечаева судило ненавистное самодержавие. И уже одного того, что самодержавие было ненавистно, оказалось вполне достаточно для оправдания Нечаева в молодых горящих справедливостью сердцах.
Когда сердце горит справедливостью, его трудно, может быть, даже невозможно остудить холодным прикосновением разума.
— Вы, господа, снимаете шляпу перед этою русскою революцией? — вопрошали газеты. И сердце Ольги рвалось восторгом:
— Да! Снимаем шляпы!
— Но послушаем, как русский революционер сам понимает себя, — язвительно злорадствовали газеты. — На высоте своего сознания он в своем катехизисе революционера объявляет себя человеком без убеждений, без правил, без чести. Он должен быть готов на всякую мерзость, подлог, обман, грабеж, убийства и предательство…
— Да! — клокотало сердце Ольги, — должен быть готов, чтобы изменить эту вашу мерзкую, подлую, обманную, грабительскую, убийственную и предательскую жизнь!..
Благородный юношеский порыв, приведший Петра Заичневского в малочисленную, считанную по пальцам стайку революционеров, был благородным изначально. Он смотрел на Ольгу и думал, что ведь и она могла бы застрелить там, в пещере, заблудшую овцу. Как объяснить ей, что мистическая воля одного не должна парализовать всех? Как же снять пелену с ее прекрасных сизовато-зеленых глаз, обрамленных черными длинными, как пики, ресницами?
В последние годы он почему-то вспоминал слова Писарева, сказанные о тургеневском Базарове: жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину… Но Базарова Тургенев умертвил — что бы из него вышло, из Базарова, останься он жить, пока живется, и есть сухой хлеб? А Петр Заичневский жил. И ел сухой хлеб. И вразумлял женщин, наставляя на путь истинный, не вглядываясь в их глаза и ресницы. Женщины изумляли его своей преданностью идеям, которые жадно впитывали в себя, готовые непритворно умереть за них сами, а стало быть, и умертвить за них других. Женщины, окружавшие его, пылали любовью — не к нему, боже упаси, нет, они пылали любовью к его мыслям, к его речам, и ему даже в голову не приходило подумать о какой-нибудь из них, готова ли она связать с его судьбою свою судьбу. Брак был раз и навсегда отвергнут, как форма рабства. Таково было беспощадное умопонятие революционеров. И как всякое беспощадное умопонятие, оно не брало в расчет непреодолимого природного свойства женщины, свойства, которое не преодолела еще ни одна самая лучезарная доктрина. Было на свете что-то такое, что представляло собой лишь предмет снисходительного умничанья и велеречивой насмешки. Это «что-то» он и видел сейчас в огромных глазах Ольги. Ему казалось, что она удивлена, может быть, даже испугана неожиданным приговором Петра Заичневского Сергею Нечаеву. Однако он ошибался. Нравственность революционера, о которой он еще coбирался говорить, уже не занимала Ольгу. Она ощущала свое природное свойство, то самое, которое не принято было брать в расчет, рассуждая о женской эмансипации…
К тридцати годам он успел уяснить, что ни надежда на милость, ни упование на случай не дают сил преодолевать беду, а дает эту силу только терпеливое превосходство ума над обстоятельствами. С самого начала он не испрашивал облегчения своей участи, полагая ее естественной участью революционера, избравшего жизнь по своему разумению.
Однако о нем хлопотали.
И вот, снова так же неожиданно, как четыре года назад в Витиме, в Пензу явилось высочайшее разрешение поселиться ему в Орловской губернии, в Гостинове, в родных местах, под присмотром родного отца.
V
Николай Григорьевич Заичневский, надворный советник, участковый второго участка мировой судья, квартировал в Орле, в Георгиевском переулке.
Надворный советник прогуливался по утрам, невзирая на погоду, чем весьма занимал обывателей: дождь ли, снег, а судья не замечает природных явлений. Был у судьи приятель господин Оболенский Леонид Егорович, составлявший весьма нередко компанию судье. Леонид Егорович пописывал в журналах: говорили, неладно жил в семействе, но мало ли чего могут наболтать досужие языки. Конечно, иные помнили, что этот Оболенский лет восемь назад был яростным революционером, связанным с известным Каракозовым, а надворный советник лет двенадцать тому находился под судом вместе с младшим братом своим Петром.
В компании состоял также правитель дел канцелярии Орловско-Витебской железной дороги действительный студент Александр Капитопович Маликов. Проживал он за Окою на Пересыханке, где, собственно, проходила дорога и весьма уже немолодой действительный студент провожал поезда задумчивым взором.
Маликов был «богочеловек». То есть он утверждал, что божественное начало присутствует в каждом, надо лишь поискать. Это начало и объединит людей, которые по самой природе склонны к добру. Слушать его было занятно. Начальство, правда, арестовало его, приняв за пропагатора новой ереси, однако, послушав, выпустило, как очередного юрода.
Но молодые люди мотали на ус (едва-едва пробивающийся): ведь истинно, человек склонен более к добру! И если уйти в народ и объяснить это народу, так, может быть, и произойдет, наконец, желанная справедливость! Община — не основа ли братской жизни? Самою судьбою Россия с самого рождения предназначена к коммунистическому бытию — странно, что в ней установилась монархия!
Молодые люди читали Бакунина, Лаврова, Флеровского, жажда деятельности влекла их к старшим товарищам, претерпевшим в молодые годы за народ.
Бакунин звал из Женевы:
— Русский народ только тогда признает нашу молодежь своей молодежью, когда он встретится с нею в своей жизни, в своей беде, в своем деле, в своем отчаянном бунте. Надо, чтоб она присутствовала отныне не как свидетельница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекшая соучастница!
Лавров звал из Цюриха:
— Человек, принадлежащий к цивилизованному обществу, став в ряды чернорабочих, в ряды страждущих и борющихся за дневное существование, отдаст на народное дело всю свою умственную подготовку и употребит ее на уяснение своим братьям — труженикам — того, на что они имеют право!
Флеровский мечтал объединиться религией братства, превратить молодежь в апостолов этой религии. Если бы их ряды пополнялись верующими, которые, подобно первым христианам, горели бы возрастающим энтузиазмом, тогда успех был бы обеспечен!
Молодежь горела жаждой действия и ее не смущали противоречия в призывах кумиров. В народ! Только в народ!
Семьдесят третий год начался обрядом гражданской казни известного Нечаева. Его наконец поймали.
Марья Оловенникова, горя очами, рассказывала, как Нечаев крикнул:
— Не пройдет и трех лет, как головы царя и царских палачей на этом самом месте будут отрублены первой русской гильотиной!
Мать ее Любовь Даниловна добавляла, что народ при этом требовал взаправду расстрелять Нечаева. Марья возражала: не народ, а отдельные люди.
Слушавший рассказ Николай Григорьевич усомнился насчет гильотины, полагая, что прибор этот вводить в России незачем, поскольку и топор хорош.
На это Любовь Даниловна сказала:
— Вам лучше знать. Вы ведь судья.
Три сестры Оловенниковы (Марья, Наталья и Лизавета), тетка их, такая же ненавистница монархии, Лизавета Даниловна (младшенькую назвали в ее честь, словно предвидели сходство) рассмеялись. Тетка задымила длинной пахитоской.
Тут же находился только что прибывший из пензенской ссылки под надзор младший брат мирового судьи Петр Григорьевич Заичневский.
Появление Петра Заичневского взбудоражило орловское общество. Молодые люди кинулись к нему без зова, сами по себе, как опилки к магниту. Каторга, ссылки, поселения создали этому государственному преступнику славу необыкновенную: казалось бы, правительство сделало все, чтобы субъект сей внушал опасения. Однако обернулось иначе — вызывал он не отчужденность у молодежи, а как бы не зависть: нам бы этак пострадать за народ!
Молодые люди называли его ситуайен Пьер Руж, то есть гражданин Красный Петр, старики же не иначе, как дьявол в человеческом образе. Ходил он в высоких сапогах, в красной косоворотке под синей чуйкой, иным казалось, что рядится он мужиком (Стенькой Разиным), однако ушкунный наряд сей шел к нему и вызывал двойственное отношение: и хорош, и опасен.
Первыми забеспокоились взрослых дочерей отцы. Забеспокоились рьяно: с одной стороны — каторжный, крамольник, карбонарий, может быть, сокрытый цареубийца, может быть, злодей вроде ужасного Нечаева, а с другой — ярок, коза его задери, смел, умен, и начальство сочло возможным допустить его в родные пенаты (сельцо Гостиновское, где Хряпино Болото, чернозем, редкие бугры, пять верст холстом). Неужели не образумится? Тем более дочки зреют не хуже малины: и не заметишь, как начнут сохнуть. Женихи забеспокоились нешуточно. Говорили, член окружного суда Соколов пугал охладевшую к нему невесту девицу Добровольскую: Заичневский-де непременно пошлет тебя в Санкт-Петербург разносить прокламации, не запирайся, показывай тайный знак вашего преступного сообщества…
С появлением младшего брата, столь знаменитого своим прошлым, надворный советник будто помолодел. Помолодел и Леонид Егорович.
Орловские юноши, рванувшиеся к новому своему кумиру, были поначалу весьма удивлены, что ситуайен Пьер Руж не записывает их в тайные кружки и не раздает им ни прокламаций, ни пистолетов. За чашкою кофия или чаю он предпочитал беседовать о производстве, об эксплуатации бывших крепостных, вынужденных существовать наемным трудом.
Это удивило молодых людей Орла и даже раздражило. Они видели, что революционер, социалист и политический заговорщик, он, однако, далеко не так отрицательно относился к конституции и либерализму, как большинство революционеров и даже легальных радикалов в печати! Якобинец считал нужным поддерживать связь с представителями общества и пользовался среди них немалым успехом…
Марья Оловешникова не выносила людей, не разделявших ее настроения. Заичневский помалкивал, ухмылялся, и это взорвало ее:
— Вы-то что молчите?
— А и правда, не спеть ли нам романс? — пророкотал Петр Григорьевич.
Младшие сестры (восемнадцатилетняя Наталья и шестнадцатилетняя Лизавета) даже ротики приоткрыли от неожиданного реприманда, и только Любовь Даниловна рассмеялась облегченно:
— Месье, вы превосходный громоотвод!
Но Петр Григорьевич вмиг переменился:
— Неужели вы ничего не поняли? Вся эта «Народная расправа», все эти бакунинские громыхания из-за рубежа — нуль! Народ пока еще верит в царя…
— И пусть! — загорелась Наталья. — Надо создавать иную веру…
— Погоди! — перебила Марья. — Пускай господин якобинец сам аттестует свои слова!
— Видите ли, — снисходительно пророкотал Петр Григорьевич, — Нечаев нанес предательский удар в спину революции.
VI
Появилось сочинение господина Достоевского «Бесы», вызвавшее негодование, как в свое время вызвало негодование сочинение господина Тургенева «Отцы и дети». Тогда, в шестьдесят втором году, принесла роман Тургенева Петру Заичневскому в камеру Тверской части Варвара Александровская. Теперь Петр Григорьевич узнавал Александровскую в акушерке, изображенной Достоевским. Варвара и была акушеркой! Где она теперь? Говорили, она помогла полиции изловить Нечаева. Петр Григорьевич до сих пор испытывал скверное чувство, когда вспоминал об Александровской.
Орловские либералы тыкали перстами в страницы, злорадствовали — вот-де ваше истинное обличье, господа революционеры! Нечаев — ваш истинный вожак!
Два молодых странника в лаптях, с котомками, с посохами постучались в дверь, вошли степенно, поклонились. Петр Григорьевич вздрогнул: жизнь подкидывала свои кунсштюки! Перед ним были Ольгины братья Цезарь и Гавриил! Разумеется, они идут в народ. Маскарад их был неумелым, забавным и опасным: первый же волостной писарь узнает в них ряженых барчуков, первый же степенный мужик препроводит их от греха к начальству. Но вот же прошли! И никто их не задержал! Сколько же они шли из Пензы? Как они нашли его? И (неужели жизнь не подкинет радостной неожиданности?) не прислала ли их Ольга? Впрочем, адрес знал доктор Владыкин. Но — Ольга…
Юноши искали истины. Им было не до сестры. Сестра читала и пыталась переводить сочинения английских экономистов и немецкого писателя Маркса, братья же отвергали все западное, ибо Россия шла своим путем, по их убеждению, завидным и не свойственным никому.
Что же помещалось в их котомках? Евангелие от Иоанна и книги Флеровского. Синие литографии, на которых крест соседствовал с фригийской шапкой. Крест — символ искупления и революция — знак святого гнева. Революция звала — рази мечом, и крест ждал мучеников революции. И еще слова по латыни: «Что не лечит лекарство — лечит железо, что не лечит железо — лечит огонь». И еще по-английски: «Какой человек остановит нас, какой бог поразит?» И еще по-итальянски: «Шествуй своей стезей и пусть люди говорят, что хотят». И еще по-немецки и по-французски…
Что это? Петр Григорьевич видел ясные, чистые, усталые от дороги, но горящие огнем убежденности глаза. Он смотрел на пришельцев как на младших братьев и не смел осуждать их порыв. Он, склонный к рациональному анализу, к острой насмешке, с изумлением чувствовал, что всякое слово поперек их пути есть кощунство. А как же «Бесы»? Впору ли явилось сочинение господина Достоевского?
«Богочеловек», вечный студент Маликов — предмет его язвительности — вдруг вырос на три своих гривастых нечесаных головы. Сочинения Флеровского, раздражавшие Заичневского сентиментальностью, которую он не выносил, вдруг обрели нешуточную силу.
Освобожденный реформой русский мужик — словно обрадовались они — не оказался западным пролетарием, свободным аки птица (вот вам ваши материалистические бредни!), он оказался нищим, голым, блуждающим по деревням рабом, прикрепленным, как к галере, к своей общине. И надо эту общину оздоровить любовью к ближнему! — знали они. Холодной исторической эволюции, жесткой дарвиновской борьбе за существование новые молодые люди противопоставили мирное начало общежития. Но они не видели, что в деревне идет новая война, война между мужиками — кто смел, тот съел, они искали альтруистической любви там, где ожесточалась утилитаристская ненависть.
Петр Григорьевич, несмотря на свою поддевку, не любил маскарадов. Он велел пришельцам (младшим братьям) переодеться сообразно званию и повел их за Оку, где собирались его централисты — молодые люди, которых он учил единственно приемлемой, по его взгляду, форме революции — захвату власти организованной когортой. Он был убежден, что просветить народ, поднять его до национального самосознания сможет только новая власть своими декретами и всеобъемлющей деятельностью. Но, к удивлению своему, к сокрушению, он видел, что вспыхнуло новое приятие крестных мук, покатилась новая роковая лавина, именуемая хождением в народ…
Он звал их учиться, готовиться, беречься для великого дела, они же рвались сейчас же, немедленно страдать, страдать, страдать…
VII
Начальник губернского жандармского управления полковник Владимир Петрович Рыкачев писал управляющему Третьим отделением:
«Я имею честь служить в Орловской губернии при третьем губернаторе. Ни от одного из ниx я не слыхал ничего дурного ни про Заичневского, ни про Оболенского. Между мною и властями, губернскою и местного полицейскою, существует полная гармония. Если бы что-либо и ускользнуло от моего внимания, то, наверное, я получил бы о том указания от означенных властей. Однако же я не получал от них указаний относительно Заичневского и Оболенского, что они распространяют в обществе молодых людей идеи, подрывающие доверие к правительству. Следовательно, подобное распространение в действительности не существовало… Если допустить, что Заичневскнй и Оболенский действительно распространяют между молодыми людьми идеи, подрывающие доверие к правительству, то, естественно, является вопрос, кто таковы эти молодые люди? В г. Орле, в особенности в настоящее время, почти вовсе нет молодых людей. Если же причислить к их числу учащуюся молодежь, гимназистов и семинаристов, то могу сказать утвердительно, что Заичневский и Оболенский не имеют с ними никаких отношений».
Петр Григорьевич посетил Рыкачева, не дожидаясь, пока призовет. Полковник уже имел случай (и не раз) беседовать с поднадзорным. Линия сего революционера исключала немедленное бомбометание или издание досадных прокламаций. Юноши и девицы, окружавшие Заичневского, читали запрещенную литературу, Заичневский разъяснял им темные места, разумеется, деятельность его была противуправительственной. Но в сравнение с тем, что творилось в соседних губерниях, не шла. Полковник Рыкачев весьма дорожил покоем вверенной ему губернии.
Петр Заичневский сидел перед ним вальяжно, будто не он пожаловал к Рыкачеву, а Рыкачев к нему.
— Петр Григорьевич, — вдруг сказал полковник после разговора о погоде, о предстоящих бегах и прочем, — я ведь не думаю, что ваша метода расшатать трон российский умнее иных… Трон ведь он — крепок…
— Вот именно, — кивнул Заичневский. — Трон как трон… Стул для самозванцев…
Рыкачев поднял голову:
— Как-с?
Заичневский задымил сигарой:
— Да будет вам, Владимир Петрович! Судите сами. — Пустил дым. — Петра Великого не готовили в цари, Екатерину Первую тем паче. Петра Второго тоже не готовили. Анну, Елизавету, Петра Третьего, не говоря уж о Екатерине Второй! Павла матушка не хотела, хотела внука, Александра. Ладно. А дальше? Николай Первый — самозванец…
— Остыньте, — перебил Рыкачев, дождавшись, пока иссякнет дым, и не желая допустить умствования поднадзорного до ныне царствующего императора. Полковник даже возмутился: Александра Второго готовили тщательно и учители у него были знаменитые!
Заичневский рассмеялся. Но Рыкачев понимал, что, допустив до крамольных разговоров (почему-то всегда заслушивался красавца), должен одержать верх.
— А вы, — негромко спросил он, — не самозванец? Вас где выбрали? На вече? На соборе? А тоже — править Россией… Кто вас выбирал в спасители?
— Ну, господин полковник, — протянул Заичневский, — революция не ждет выборов…
— А держава ждет? — резко перебил полковник Рыкачев. — И держава не ждет.
Заичневский наклонил голову к плечу:
— Неужели вам, образованному человеку, мыслящему, незлому (хотел сказать — неглупому) все равно кому служить?
— Я служу России, — тихо сказал полковник Рыкачев.
— Так и я — России! — громыхнул Заичневский.
Владимир Петрович помолчал, подумал, осмотрел досконально стальное перо в толстой красной ручке-вставочке:
— Вы служите пока — в мечтаниях… А я — наяву… Вам всемилостивейше дозволено жить в Гостинове под присмотром вашего отца… Между тем вы живете в Орле и получили место в здешней уездной управе, — поднял глаза на Заичневского, — это прошло бы бесследно, если бы вы не забыли, что находитесь здесь инкогнито… Однако, — опустил глаза, — вы являлись в клубе, на семейных вечерах, в дворянском собрании, стараясь обратить внимание на свое прошлое и возбудить сочувствие к вашей личности…
— Вздор! — перебил Заичневский. — Сочувствие к моей личности возбуждено жандармскими управлениями пяти губерний! Я не иголка в стоге сена!
— Это — само собою, — насмешливо осмотрел Петра Григорьевича Владимир Петрович. — К тому же вы еще и рисуетесь перед доверчивыми барышнями и юношами…
— Мне не нужно рисоваться! Достаточно появиться человеку, отбывшему каторгу и состоящему под надзором, чтобы…
— А вы не появляйтесь, — мягко перебил полковник, — государственные преступники, сосланные в Сибирь, по истории двадцать пятого года принадлежали большею частию к хорошей фамилии и были люди высокого ума и образования. Они пользовались особенным расположением генерал-губернатора Муравьева… Были приняты в его доме… Однако, — заговорил тверже, — никогда не позволяли себе являться к нему в присутствии посторонних. Никто никогда не видел этих преступников в клубе, на балу или на вечерах…
— Вы хотите, чтобы я брал пример с декабристов? — нетерпеливо спросил Заичневский, явно нарываясь на скандал.
Но Рыкачев только вздохнул кротко:
— Да-с… Хочу-с… Уезжайте в имение вашего отца, Петр Григорьевич… Григорий Викулович стар… Знаете, младшие дети — услада старости, а вы ведь — младший… Право, уезжайте, — и посмотрел ясно, глаза в глаза, — если вы намерены служить России…
— Да я ведь не уеду, — беззаботно сказал Петр Григорьевич.
— Жаль… Прямо говоря, мне ваши умствования более по душе, чем иные… Сбудется ваша прогностика, — усмехнулся, — не скоро… Ежели сбудется… А после нас — сами знаете — хоть потоп…
VIII
Секретарь уездной управы Петр Григорьевич Заичневский узнал в просителе согбенного, запущенного, как давно не паханная нива, старого соседа своего помещика Степана Ильича. Степан Ильич был пьян, однако пьян не тем, что выпил только что, а каким-то давним постоянным как неизлечимая болезнь опьянением.
— Здравствуйте, Степан Ильич, — тихо сказал Заичневский.
— И ты здравствуй, каторжный, — смиренно поклонился старик. И этот нарочитый поклон восстановил в памяти блистательного, образованного, остроречивого либеральствующего плантатора и кнутобойцу.
Они не виделись пятнадцать лет, и эти пятнадцать лет сделали их неузнаваемыми. Однако, встретившись, узнали друг друга. Смотреть было грустно, тяжко, безвыходно. Так бывает с человеком, который давно, очень давно не видел себя в зеркале и вдруг увидел. Но ничего не поделаешь — стекло предъявляло правду и ничего более.
Мужики увидели семеновского барина, встали без охоты, стащили шапки, поклонились. И Степан Ильич также по-мужицки поклонился им с великим ехидством в поклоне.
Войдя в присутствие, Степан Ильич посмотрел на литографированный образ царя, нарисованного в рост с сапогами-ботфортами, и перекрестился, как на Мценского Николу. Осенение было как бы кощунством, однако кто за руку схватит? На царя ведь крестится.
— Будет вам, — сказал Заичневский.
Но Степан Ильич еще и словами добавил, истово таращась на литографию:
— Ты победил, Галилеянин!
— Будет вам, — повторил Заичневский, — что за охота скоморошить…
— А чего остается-то? — сел Степан Ильич, — теперь — воля… Теперь их черт не заставит работать. Оскудеют, вконец… — посмотрел снова на портрет, — вуз’авэ вулю, Жорж Дандэн…[11]
IX
Страшный голод в Самарской губернии грозил и соседним землям. Говорили, яснополянский граф Толстой устраивал столовые для голодающих. И в те столовые являлись справные мужики, то есть те, у кого хватало сил до них добраться.
Жажда общественного строя на началах любви, братства и справедливости ослепляла молодых людей. Мужики не разумели ряженых барчуков. Полиция хватала пропагаторов. Тюрьмы переполнялись. Молодые люди, доведенные до отчаянья неприятием их искреннего порыва, взялись за оружие. Крест был забыт. В котомках появились кинжалы и пистолеты. Любовь и братство превращались в ненависть.
Петр Григорьевич понимай, что его орловские ученики (орлята, как они себя называли), едва вылетев из-под его опеки, ринутся все в тот же террор, обескровливающий революцию. Они уже сейчас горели идеей; отобрать землю у помещиков и передать ее возлюбленному народу, мистическому, неясному, расплывчатому своему божеству.
Братья Цезарь и Гавриил были схвачены по разворачивающемуся делу о пропаганде в империи. И то, что полиция не арестовывала орлят, вызывало у них настороженность против Петра Григорьевича (он это чувствовал). Но вдруг взят был в Покровской слободе Иван Архипов, держатель негласной гимназической библиотеки. И всем будто стало легче! Значит, и они — бельмо в глазу самодержавия!..
Орлята жадно читали Прудона, полагая его своим (Петром Осиповичем), ибо был он анархист. Читали они и Петра Лаврова, однако с некоторой настороженностью, поскольку Петр Лавров звал прежде учиться, а затем уж делать революцию.
Васенька Арцыбушев (был моложе Петра Григорьевича на пятнадцать лет) состоял при нем как бы адъютантом, ловил всякое слово и принимал якобинскую программу преобразования России. Он читал толстенную книгу немецкого писателя Карла Маркса «Капитал». Люди Третьего отделения изумлялись, находя среди явно запрещенных книг эту: ни тебе — долой самодержавие, ни тебе — бога нет, ни тебе — неповиновения начальству, а что-то странное: товар — деньги, деньги — товар. Не революция, а какая-то купеческая считалка! Новое слово как раз и звало тщательно высчитать бытие, ибо оно лежит в основе сознания. Чтобы исправить сознание, нужно изменить бытие. В этом было что-то общее с понятиями Петра Григорьевича.
X
В Орле, в доме Депишей (в Остриковском переулке) принимали соболезнования: похоронен был в январе сего семьдесят шестого года Мценского уезда, Богородицкой волости помещик, отставной полковник Григорий Викулович Заичневский.
Вдова, полковница Авдотья Петровна, в черном робронде, в черной кружевной шали, сидела возле круглого столика, положив на него небольшую руку. Два перстенька с мелкими камушками вдавились в пальцы. Правую руку Авдотья Петровна держала на колене, недвижно.
Хозяйка, Екатерина Михайловна, дама энергическая (подвязала волосы черной бархоткой в знак траура, отчего седоватость ее подчеркивалась столь же скромно, сколь и заметно), старалась подбодрить старинную приятельницу: горе горем, а жить дальше — надо. Вчера, впервые за шесть недель, вдова решилась откушать обед. Екатерина Михайловна пригласила князя Голицына, вице-президента общества охотников конского бега, в коем сама состояла. На обеде были дети Авдотьи Петровны — дочь Александра с мужем Николаем Сергеевичем, лекарем, и сын Николай, второго участка мировой судья. Приходил и младшенький, Петруша, однако на обеде не остался, объявив, что испортит князю Голицыну аппетит. Обедали чинно, с приличным молчанием, однако после десерта (земляника из бахтинских парников) Екатерина Михайловна уговорила Сашеньку присесть к инструменту и под ее аккомпанемент пела красивым низким голосом романсы, италианские и наши.
Дети Авдотьи Петровны утешали ее все эти дни, но сердце ее испытывало упокоение, только когда приходил Петруша. Жил он здесь же, однако навещал мать, если никого не случалось рядом, утешал молча, присев на скамеечку у ног и положив на колени большую гривастую голову. Авдотья Петровна перебирала перстами каштановые кудри сына с клочьями седины. Слезы наворачивались сами по себе, от щемящей печальной радости, от того, что здесь он, не на каторге, не в ссылке, в дальних краях. Сын поднимал голову, смотрел весело, победно, как будто не видел слез, а видел только улыбку. Кто он был? Отрезанный ломоть? Утеха старости? Она не думала об этом. Она всегда испытывала счастье, видя его.
Как недавно это было!..
…Барышня Надежда Григорьевна в бантиках, в панталончиках, в накрахмаленной розовенькой юбочке, сама розовенькая, танцевала менуэт под придирчивым присмотром француженки своей мадемуазель Клод, проще говоря, Клавдии Карловны. Барышня Александра Григорьевна, положив головку на колени Авдотьи Петровны, бочком смотрела, как пляшет сестрица. Сам рожденник, Николай Григорьевич, сидел на высоком стульчике и тянулся к пирогу, собственно, к двум свечкам, воткнутым в пропеченную корочку. Акулина, горничная девушка, следила, чтобы барчук не обжегся, и сладкая печаль томила ее на слезы. Детки чистенькие, свеженькие, принаряженные ради праздника, барин Григорий Викулович в мундире с орденом, гости веселые (загодя послано было в Орел доставить фряжского, закусок), говорливые окружали стол. Сама барыня восседала в кресле довольная, счастливая — троих произвела и ждала четвертого.
Лето сорок второго года было жарким, влажным. Мужики косили второе сено. Дух его, степной, пряный, витал над Гостиновым. Акулина и сама была в интересном положении, отчего и томила ее сладкая печаль. Но барыня словно не видела, ничего не говорила, а заметно уже было очень.
Вечером, когда детишек уложили спать, а гости разъехались, Акулина бросилась к ножкам:
— Барыня, матушка! Не уберегла себя! Не соблюла! Налетел аки коршун!..
Авдотья Петровна опытным глазом сосчитала: какой там аки коршун на рождество! И сама зарделась бабьим пониманием. Кто б это был аки коршун? И вдруг сообразила: не Сенька ли, отданный за буйство в рекруты? Должно быть, он! Как же убивалась девка, когда его взяли! И не то виною, которую не загладить, не то жалостью, которой не поможешь, уняла барскую свою строгость:
— Встань, Акулина, встань…
Сказать ей — виновата, жалею? Что исправишь? Сенька, когда увозили, горел глазами ненавистно, страшно. Помещица — мать своим крепостным. Как бы не так…
Акулина тяжело поднялась с колен. Почувствовала, что можно и заплакать при барыне. Бабья доля, бабья доля! Производить на свет неведомых человеков — что там с ними будет и как, один бог ведает. Будь ты подневольная, тяглая, будь ты барыня, а назначенье одно. Обе две ждут разрешения, и даром что одна сидит в кресле, другая валяется в ногах.
— Не плачь, Акулина… Подойди…
Никак не могла пересилить себя, сказать— виновата. Да и чем поможешь? Авдотья Петровна протянула руку, погладила по плечу, подумала, сняла перстенек:
— Возьми… Надень… Носи…
И, посмотрев на просторное свое одеяние, зарделась:
— Будешь кормилица…
Вошел человек, доложил:
— Полковник Рыкачев!
— Проси, — приказала Екатерина Михайловна и — удивленно — вдове — Что ему нужно?.. — Пошла навстречу, — Владимир Петрович! Какая неожиданность!
Полковник наклонился к руке:
— Простите мой визит, сударыня… Я был в столице… Право, я весьма опечален… Я не имел чести принадлежать к числу близких друзей Григория Викуловича, но, право же, весьма, весьма…
Явление жандармского полковника вмиг охолодило сердце Авдотьи Петровны: что-нибудь с Петрушей? Но смущение Рыкачева, никак не идущее к нему, вызвало вздох надежды: авось — не к беде. Она протянула руку. Полковник поцеловал руку с почтительным бережением.
Он присел, заговорил о покойнике — Авдотья Петровна не слушала, о чем он говорит, ждала главного, единственного, с чем мог пожаловать Рыкачев, — о Петруше. Внесли кофе, Екатерина Михайловна щебетала о каких-то лошадях, голос ее при этом становился легкомысленно высоким. Рыкачев вспоминал о встречах с Григорием Викуловичем… Авдотья Петровна не понимала, не слушала, она была в полуобмороке. И вдруг полковник цокнул чашечкой о блюдце.
— Авдотья Петровна, я имею честь выполнить распоряжение… Благоволите подать прошение на высочайшее имя о возвращении Петру Григорьевичу прав состояния…
Авдотья Петровна пришла в себя вмиг. Она вмиг вспомнила ярко встречу полковника с покойным мужем (играли в винт!), увидела поседевшие кудри сына. Никто не заметил ее полуобморока! Какое счастье!
Полковник поставил недопитый кофе:
— Само собою, милые дамы, найдутся противники, но под лежачий камень вода не течет, как говаривал Григорий Викулович. Не так ли?
Авдотья Петровна не помнила за мужем пристрастия к присказкам, но теперь ей казалось, что поговорки не сходили с его уст. Она искренне поблагодарила Рыкачева за память, не зная, разумеется, что еще утром полковник написал губернатору: «Мать Петра Заичневского находится уже в преклонных летах. Если ему будут возвращены права состояния при ее жизни, в таком случае он будет иметь здесь оседлость, иначе же останется пролетарием. Как землевладелец, он может сделаться полезным членом общества и вернее предпочтет честную трудовую жизнь и не возвратится к тем увлечениям молодости, за которые пострадал в 1862 году».
«Смерть моего мужа полковника Заичневского, мои преклонные годы, моя болезнь и горькое сознание, что со смертью моей сын должен остаться без куска хлеба, — все это заставляет меня обратиться к Вашему Превосходительству и, как матери, просить во имя 35-летней беспорочной службы моего мужа представить на усмотрение господина Министра внутренних дел просьбу мою о возвращении сыну моему Петру лишенных прав, дабы он имел право собственности в остающемся после меня родовом имении. Февраля 26 дня 1876 года. Вдова полковница Авдотья Петровна Заичневская. Жительство имею в 3-й части, в Остриковском переулке, в доме Депиш».
14 апреля 1876 года. Расписка.
«Я, нижеподписавшаяся, вдова полковника Авдотья Петровна Заичневская, дала расписку в том, что отношение за № 1990 об отказе мне в ходатайстве на возвращение сыну моему Петру Заичневскому прав состояния мне объявлено. Заичневская».
XI
Сестры Оловенниковы Наталья и Лизавета (Марья уехала в Петербург, бросив помещика Ошанина и оставив Любови Даниловне годовалую дочку свою Леличку) слушали новые споры, находя их слишком отвлеченными. Они жаждали дела.
Сестры в компании с теткой своей Лизаветой устроили мастерскую на манер мастерских Веры Павловны, по Чернышевскому. Они искали среди молодых белошвеек помощниц в революционном деле и поражались, встречая настороженность. Одна работница сказала старшей Лизавете, прослезившись и покраснев:
— Барыня… Увольте… Благодарны по гроб, а от сего — увольте…
Нет, народ, конечно, не понимал ни своих задач, ни своего счастья, и Петра Григорьевича удручала поспешность, с которой его ученики (особенно ученицы) рвались преодолеть многосотлетний опыт рабского бытия.
Занимались в избе, в Монастырской слободе, обсуждали положение крестьянства (пятнадцать лет прошло после воли). Русанов горячо доказывал важность увеличения крестьянского надела путем отобрания помещичьих земель.
Песня была старая, но времена новы. И то, что еще десять лет назад казалось истиной, сегодня уже вызывало досаду. Петр Григорьевич снисходительно извлек листки, исписанные цифрами. Это был конспект сочинения профессора Янсона «Опыт о крестьянских наделах и платежах».
— Вот, извольте видеть… Крестьянский надел составляет уже и теперь более трети всех земель в Европейской России… Частновладельческая земля — менее четверти… — Поднял голову, посмотрел на всех сразу. — Подумайте — улучшится ли доля мужика, если он к своему участку прирежет еще и помещичью землю?
— Но ведь земли будет больше!
— Намного ли? Но дело не в этом. Дело в невероятно экспансивной и хищнической культуре, которая царит на крестьянском наделе… Он скверно обрабатывает свой надел и так же скверно будет обрабатывать прирезанный… Нет, тут понадобятся годы работы революционного правительства над нашим крестьянством, чтобы выучить его как следует возделывать землю и вообще развить производительные силы в сельском хозяйстве. — Развеселился глазами. — Вы его пропагандируете и агитируете, а он на небо глядит да от господа бога хлебушка ждет…
Разумеется, молодые люди преклонялись перед Петром Григорьевичем, перед его вызывающей смелостью. Но иные (и даже Арцыбушев, читавший Маркса) сомневались — не утихомирился ли? Не укатали ли сивку крутые горки?
Арцыбушев занимался с офицерами гарнизона и кадетами бахтинского корпуса. Петр Григорьевич чувствовал несуразицу между политической экономией и заговором, но то, что считал он необходимым для революции — организованный центр с заранее продуманным четким планом переворота, — не казалось ему ни якобинством, ни бланкизмом, поскольку обретало новую истинно русскую форму. Народ (и это подтвердило самым роковым образом хождение в народ) оставался глух к пропаганде и агитации. Следовательно, нужно действовать иначе. Нужна немногочисленная когорта, чтобы свергнуть самодержавие. И народ примкнет к победителям.
XII
«9 июня 1876 года. Господину Орловскому губернатору. По докладу исправляющего должность главного начальника Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии Государю Наследнику Цесаревичу о проживающем в Орловской губернии политическом ссыльном Петре Заичневском. Его Императорское Высочество на применении ныне к сему ссыльному действия всемилостивейшего повеления 13/17 мая 1871 года — восстановлением его в прежних правах и преимуществах изволил изъявить согласие».
В конце февраля семьдесят шестого года заболел царь. Должно быть, заболел тяжко, потому что уже крепчали разговоры — как-то будет при новом, при Александре, то есть, Третьем. Извечные российские мечтания, связанные с надеждами на смену императора, подогревались заботами внешними. Бисмарк толкал Россию против Турции, спасать славян, коих Порта угнетала почти полтысячи лет.
Неужто новый царь начнет с войны? А англо-французы? Неужто Бисмарку удастся их расколоть?..
Пока царь хворал, наследник, нелюбимый сынок, сунулся было в государственные дела — приучаться, привыкать. Царь насторожился: никакой карбонарий не был так опасен для жизни государя, как свои же присные. Цари в России покуда погибали не от революционеров — от дворцовых людей. Бес его знает, дорогого сыночка, кто за ним да что за ним?
У государя были основания опасаться сыновней неблагодарности. Какому сыну понравится ни от кого не скрываемая мачеха при живой, да еще беспомощно хворой матери? Царь был влюблен на старости лет, был oн уже дедом, было ему уже за пятьдесят, а все туда же… Адская пропаганда в народе, пресеченная беспощадно, грозила возникнуть вновь на пороге войны! Студенты использовали любой повод показать правительству свою враждебность. В начале апреля больному царю донесли вирши, читанные при скоплении молодежи над могилой студента Чернышева, умершего чахоткой:
Замучен тяжелой неволей, Ты славною смертью почил. В борьбе за народную долю Ты голову честно сложил.Государь прослезился: стихи были точь-в-точь про него, про тяжелую неволю царствования, про неблагодарность за волю, данную народу.
Царю, конечно, докладывали со всем почтением обо всем, но — кто их знает, докладчиков, — нет ли у них за пазухой яду, кинжала или удавки? Не ждет ли драгоценный сынок этого самого — замучен тяжелой неволей?.. Но — обошлось. Царь выздоровел. Впрочем, наследник, «мопсик», не очень-то и рвался царствовать. Во внешнюю политику не лез, во внутренней же подписал несколько бумаг благосклонного свойства, в том число изъявил согласие вернуть этому смутьяну Заичневскому дворянство. Царь не перечил, лишь велел усилить надзор над этим дворянином. До мелочей ли было накануне войны?
XIII
— Граф, — сказал Петр Григорьевич, — вы весьма вдохновенно изобразили всеобщую картину упадка благосостояния крестьян после освобождения их от крепостной зависимости. Слава богу, смертность в хлебородной Орловской губернии превысила смертность в классической, как вы выразились, стране пролетариата — Англии. Это должно определенным образом взбодрить британцев: не так, мол, страшно, слава богу, в Орле люди мрут еще охотнее…
В небольшом зальце губернской земской управы засмеялись, зашикали. Никто, конечно, не ждал, что явится этот якобинец, но он явился и взошел на кафедру. Только что граф Шереметев прочитал составленный агрономом господином Дмитриевым доклад об упадке благосостояния крестьян Орловской губернии. Доклад был горький. Обсуждение его только началось. И вот — этот карбонарий! Он расхаживал возле кафедры, как профессор перед студентами, и громыхал своим голосом, в коем не разберешь, чего больше: издевательства или истины:
— Господа! Вы позабыли, что делает статья Положения, предусматривающая возможность, а точнее сказать — невозможность для крестьянина переменить место жительства! Так я вам напомню! Какие бумаги он обязан иметь, чтобы съехать? Свидетельство об отбытии рекрутской повинности нужно? Свидетельство об уплате недоимок и прочих взысканий нужно? Удовлетворение всех придирок, которые только могут влететь в ленивые головы полиции…
— Да зачем ему съезжать и причем здесь полиция?
— При всем! На полицию возложена совершенно не свойственная ей обязанность взыскания недоимок. Уж эту обязанность наши полицейские чины осуществляют с особенным рвением. Заплати — съедешь! А как? Община — это долговая яма! Мужик привязан к месту силой, страхом, невежеством! Денег у него нет и не будет, — он разорен! Как он расплатится? Чем? Полудохлой коровенкой, которую у него отберут в счет недоимки?
— Крестьянин ленив, — попробовал возразить Шереметев.
— Граф! Я лучше вас знаю, как ленив и дик крестьянин. Но что вы делаете для того, чтобы он хотя бы стронулся со своей дикости? Вы привязали его прочно всеми анафемскими бюрократическими цепями к месту жительства. Добейтесь отмены этой истязательной сто тридцатой статьи! Пусть он идет куда хочет! На новые места, на землю, которой не угрожают дикие переделы. Чего боится правительство? Куда он уйдет в России? Куда можно вообще деваться из России? Дайте ему поднятся на ноги на новом месте, и он заплатит недоимки! Возьмите его в рекруты с того места, где он будет сыт и покоен за свое семейство! Дайте ему правильные кредиты, чтобы он почувствовал себя гражданином! У нас нет крестьянского банка! Как же строить без него хозяйство?
— Господин Заичневский, ваше положение…
— Оставьте вы мое положение! Посмотрите на положение крестьян! Вы излагаете свои благородные жалобы, надеясь на господа бога, который вдруг, ни с того на с сего, снизошлет вам благоденствие! Но покуда в губернии пало тридцать тысяч голов скота, покуда мужик претерпел убытка от непогоды на сто тысяч рублей. Он съел хлеб, который даже еще и не родился! Отпустите мужика на все четыре стороны! Дайте ему возможность отработать свои долги! Не истязайте его инициативу!
Разумеется, можно было и не слушать господина якобинца, можно было просто ошикать его. Но в том-то и штука, что не слушать его было невозможно. Он говорил всегда дело. Подбадривая ли разумение одних, ожесточая ли разумение других, но всегда — дело.
XIV
Шестого декабря семьдесят шестого года, на зимнего Николу, в Казанском соборе гремел молебен. Возле памятников Барклаю и Кутузову толпились на несильном морозе небольшие кучки семинаристов, курсисток, мастеровых людей, топтались непонятно — то ли ждали чего-то, то ли медлили войти в храм. Выделялись студенты Медико-хирургической академии и Технологического института— они были на особой примете, ни один беспорядок без них не обходился.
После бурных арестов пропагаторов, ходивших в народ, из провинции в столичные учебные заведения прибывали юноши и барышни обеспеченных классов не столько за наукой, сколько в революционеры. Устраивались коммунами, землячествами, обсуждали нешуточно — имеем ли мы право на высшее образование, когда народные массы неграмотны и коснеют в невежестве? Нужно ли революционеру высшее образование?
Шла война с турками. Панихиды по убиенным в Сербии русским добровольцам возглашались во многих церквах, но непременно к молебну о героях присоединялись молебны о жертвах предварилок все о тех же схваченных за хождение в народ пропагаторах…
А в Казанском соборе перед главным алтарем молились о здравии августейших Николаев. Но на Руси много Николаев и потому от задних рядов, где толпились юноши и барышни, неслись к алтарю полушепотом злорадные подсказки — молимся о здравии узника Николая. И вдруг — негромко, но твердо:
— Товарищи, выходите на площадь…
Говорили, за минуту до этого по Невскому проехал царь. Бог уберег его от столкновения с толпою, которая заварилась вмиг — с Садовой, с Невского, из храма — слушать высокого молодого человека:
— Мы собирались отслужить молебен о здравии Николая Гавриловича Чернышевского!
Имя это хлестнуло по сердцам, ожгло глаза благодарностью к оратору, вспомнил на зимнего Николу славного узника! Слава Чернышевскому! Мы имеем право…
— Слушайте, слушайте!..
Светлые волосы оратора развевались морозным ветерком:
— Господа! Никакая культурная работа с народом невозможна! Попытки лучших людей отдать народу свои знания прерываются в корне! Лучшие люди в тюрьмах! Гласность задавлена, мрак и ужас господствуют в страшной империи!
В небо полетели шапки:
— Браво! Ура!
Поближе к оратору взметнулось на руках, без древка красное полотнище с вышитой белым шелком надписью.
Впереди подбрасывали небольшого парня в полушубке, растянувшего красный флаг.
Несколько полицейских полезли через толпу хватать флаг, но вмиг сбитый ударом по голове околоточный упал, придав своим падением бодрости.
— Братцы! Плотнее! Не расходитесь!
— Кто подойдет к флагу — уйдет без головы!
Юная барышня с распустившимися косами кричала безумно, гортанно:
— Вперед! За мною! Да здравствует свобода!
Со стороны Екатерининского канала, Казанской улицы гурьбою вдруг грянула полиция.
Опять все — напрасно! Снова полиция схватит самых лучших, самых смелых, самых деятельных. Когда же этот отчаянный героизм осмотрится вокруг и увидит, что надо не так, не так, не так?..
Он примчался сюда из Орла вразумлять нетерпеливых устроителей демонстрации, которую сейчас разгоняют. Ему писали отсюда, из Питера восторженные орлята:
— Приезжай! Мы покажем самодержавию!
Надо беречь людей, как они этого не понимают… Надо беречь людей для организованного, продуманного, все предусматривающего боя. Слишком дорого обходится это «покажем самодержавию». Они горят очами, им нужно сегодня же, немедленно свергнуть царя, они слепо верят в толпу, которая набрасывается на них избивать и тащить в участки.
Они — чистые, честные и праведные — убеждены, что весь народ мыслит так же, как они. Они живут коммунами, где все справедливо, все принадлежит всем — и книги, и пища. Но их выдают провокаторы, за ними следят хозяйки квартир, в коих устроены коммуны, их записывают филеры.
Он примчался сюда уговаривать их — повремените! Организуемся! Пусть каждый четко знает, что делать, где быть. Он все еще рассчитывал на своих орловских учениц и учеников, обосновавшихся в Петербурге: ведь не учил же он их бессмысленно лезть на рожон…
Но было поздно. Единственное, что он успел, — свалить в драке троих фараонов и выручить растерявшегося студента. Теперь нужно успеть раньше полиции по квартирам, которые самоутешительно считают конспиративными, но о которых знает любой филер…
И снова — неточное, шумное объединение чувств, разбродное, не ведающее, что делать дальше, — против объединенной самодержавием дикости, знающей, что делать: бить вьюношей и барышень, которые против царя.
XV
Губернатор Боборыкин в ведомости о поднадзорных за 1876 год:
«Доселе аттестовался хорошо и служил секретарем в орловской уездной земской управе. Председатель оной, человек честный и благонамеренный, лично передавал мне, что, приглядевшись к Заичневскому, он пришел к убеждению, что последний не покидает своих политических заблуждений. В обществе о нем существует то же мнение и, кроме того, общее убеждение, что Заичневский имеет вредное влияние на учащуюся молодежь…»
14 января 1877 года. Орловский полицмейстер Говоров — орловскому губернатору Боборыкину. Рапорт.
«Имею честь донести, что дворянину Заичневскому была разрешена мною поездка в Петербург в конце ноября прошлого года на один месяц, о чем и уведомлен был Петербургский градоначальник 26 того же ноября за № 451».
25 апреля 1877 года. Полковник Рыкачев — в Третье отделение:
«Принимая во внимание, что Петр Заичневский вовсе не был привлечен к делу 6 декабря, я не считаю себя вправе отнести означенную поездку его в С.-Петербург к политической неблагонадежности… Обращаясь затем к вредному влиянию Заичневского на учащуюся молодежь, в чем ныне обвиняет его орловский губернатор, то я также не имею покуда никаких данных в подтверждение этого обвинения… Мой отзыв не в пользу Петра Заичневского, в дополнение сведений, сообщенных о нем губернатором, конечно, может причинить немало вреда означенной личности. Ввиду этого считаю себя обязанным сделать подобный отзыв с особенною осторожностью…»
19 мая 1877 года. Полицмейстер Говоров — полковнику Рыкачеву:
«О дворянине Петре Григорьевиче Заичневском носится слух, что он пропагандирует между гимназистами и гимназистками».
26 июня 1877 года. Полковник Рыкачев — в Третье отделение:
«В действительности не существует данных, которые могли бы обвинить Заичневского в противоправительственной деятельности. Однако же общественное мнение приписывает ему таковую и даже обвиняет в бездействии местное жандармское начальство. Может быть, даже и губернское начальство разделяет подобные воззрения. Поэтому я полагал бы полезным удалить Заичневского, хотя временно, из города Орла».
30 июля 1877 года.
«Г-ну начальнику Орловской губернии.
По соглашению с г-ном главным Начальником Третьего Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, признано необходимым выслать из Орла под надзор полиции в Олонецкую губернию состоящего ныне под полицейским надзором в г. Орле дворянина Петра Григорьевича Заичневского, ввиду вредного его влияния на местную учащуюся молодежь».
8 августа 1877 года. Полицмейстер г. Орла — орловскому губернатору. Рапорт.
«Честь имею донести, что дворянин Петр Заичневский отправлен в Москву под присмотром двух городовых 5 августа в 10 с половиной часов вечера и сдан г-ну Московскому Губернатору, откуда передан был в центральную пересыльную тюрьму, квитанцию которой имею честь при сем представить».
13 августа 1877 года. Олонецкий губернатор — орловскому губернатору:
«Имеет ли дворянин Заичневский средства содержать себя в Олонецкой губернии без пособия от правительства?»
15 сентября 1877 года. Орловский полицмейстер — орловскому губернатору:
«Имею честь донести, что мать дворянина Заичневского вследствие многочисленных долгов и расстроенных дел содержать его от своего имения не имеет возможности».
Из стихотворения Ивана Гольц-Миллера:
…Но хоть в желаньях скромен я И к малому привык, Все ж роскошь есть и у меня — Есть две-три полки книг. Два тома древних мудрецов! Платон, Аристотель И страх вселяющий в глупцов Великий Макьявелль. Есть Кант и Боклъ, есть Риттер, Риль, Сыны иных времен — Старик Бентам, Джон Стюард Милль И Пьер Жозеф Прудон. И Адам Смит, а рядом с ним Воинственный Лассаль, Не много их, но как с родным Расстаться с каждым жаль. Как жадный скряга свой металл, Свой герб — аристократ, Свою доктрину — либерал, Так я храню свой клад. Привет же вам сердечный мой, Наставники, друзья! Все вы мои, куда б судьбой Заброшен ни был я. Вы дали мне, чего другой Никто не в силах дать: Дар насмехаться над судьбой И мужество страдать!XVI
Рубленая изба смотрела в божий свет тремя окошками с затейливо прорезанными наличниками, ставни прикрывали бревна стены. Крылечко поскрипывало под ногами — пора было менять доски ступеней.
Плавала паутина в серебряном воздухе, студеное полунощное небо синело над посадом высоко, как будто только готовилось принять под себя теплынь, однако за ночь земля покрывалась инеем и легкий стеклянный ледок затягивал с краев всякую воду — в лужицах ли, в кадушках ли, в пруду.
Что же делать в этом заброшенном в северных лесах Повенце Олонецкой губернии, где сотня изб догревается последним теплом томительного бабьего лета? Петр Заичневский шел по песчаной улице, и вся улица глазела на него молчаливыми окнами — по три на стене. Проскакал на свежем коне местный полицмейстер, поклонился, как старому знакомому. Петр Григорьевич ответил дружелюбно, насмешливо. Бабы с лукошками шли из лесу, кланялись. Новый человек в Повенце замечается тотчас, едва появится: тоже — разнообразие, вроде балагана в будний день.
Итак, кто же тут есть? Ссыльный Дмитрий Петрович Сильчевский, великий любитель книг. Петр Григорьевич, увидав его полки, развел руками:
— Коллега! Вот, пожалуй, чем мы с вами и займемся!
Сильчевский покраснел от удовольствия:
— Читают… читают… И наш брат — карбонарий и — местные.
— Однако этого мало! Будем ладить правильную общественную библиотеку! С формулярами, с каталогом, со всеми операми!
— Так ведь это уже как бы — организация-с…
— Именно — организация!
— А как начальство посмотрит?
— Плохо посмотрит! — рассмеялся Заичневский. — Но начальство тоже — люди-человеки. Оно лениво — пока сверху не сверзится камешек. А пока он сверзится — не станем дремать!
Дмитрий Петрович обожал книги. Он гладил рукою корешки, косясь на этого симпатичного бородача, который вторгся в его жизнь так, будто для того и прибыл.
У Сильчевского в горнице сидела за столиком молодая дама. Была она в дорожном платье. Салопчик, подбитый лисою, лежал на лавке под окошком. Там же находились две связки книг. Заичневский поклонился.
И вдруг дама сорвалась, бросилась к нему, обняла, повисла и — расплакалась. Это была младшая Оловенникова!
— Лизанька! — не сказал, простонал Петр Григорьевич, целуя ее мокрое лицо. — Лизанька… Детка моя… И ты… И тебя…
Он ощущал (как бы не впервые в жизни!) слабость, жалость, боль. У него у самого появились слезы, заболело рыданием горло.
— Боже мой… Петр Григорьевич… Я вижу вас…
Она бормотала, брызгая слезами, а он не понимал, что с ним происходит, не желал понимать. Сильчевский смотрел на него удивленно. Вошел ссыльный студент, опешил, даже рот приоткрыл. И вдруг Лизавета Оловенникова так же искренне, как только что рыдала, — отпрянула от Заичневского, рассмеялась звонко, счастливо, отерла личико платочком, протянула руку к студенту:
— Вы еще не знакомы? Это — Андрей, мой жених!
Петр Григорьевич пришел в себя. Что же это было за наваждение?
Выяснилось, что студент просил начальство заменить ему олонецкую ссылку солдатской службой в Финляндии. Начальство не возражало. Елизавета Оловенникова прибыла в Повенец по трем причинам: доставить книги, повидать Заичневского и увезти жениха — мнимого ли, всамделишного, спрашивать не приходилось.
Они уехали с конвойным.
Деликатный Сильчевский, раскуривая длиннющую свою трубку (еле дотягивался до жерла), заметил как бы между прочим:
— Чувства копятся, как тайны в загадочной грозди. Выпить кому предстоит влагу прекрасной лозы?
— Подите вы к черту с вашими самодельными гекзаметрами! — огрызнулся Заичневский. — Займемся делом!
Займемся делом. Конечно, займемся делом. Что еще так мощно воздвигает человека над обстоятельствами?..
XVII
Последнее солнце бабьего лета ломилось в окно. Хозяйка, вдова, старообрядка, возилась возле печи — он видел через проем острые локти, старую согнутую спину. Там открылась дверь (вспыхнуло солнце).
— А ты кто будешь? — недружелюбно спросила хозяйка.
Это была Ольга.
Он не удивился. Он не удивился так, будто она всегда находилась рядом, всегда, всю жизнь. Он встал, подошел к ней, положил руки на плечи;
— Как ты доехала, душа моя?
Ольга смотрела на него спокойно:
— Ты здоров?
Хозяйка перекрестилась двоеперстно и вышла.
Ольга приблизилась к нему, услышала сильное ровное сердце.
Вошел человек в поддевке, в суконном картузе, внес баул, понял — не до него, вышел.
Они не виделись восемь лет и ничего не знали друг о друге кроме того, что могли знать все. Он не ждал ее, и она не знала до последнего дня, что так вот возьмет и явится. Но теперь, когда они стояли рядом в повенецкой избе, возле потрескивавшей печи, ни ему, ни ей, ни хозяйке, ни человеку с баулом невозможно было даже представить, что видятся они, в общем, второй раз в жизни.
Суровая хозяйка (плат натянут на лоб) вошла:
— Так и будете стоять посреди избы?
Это было признание, узаконение святого таинства брака. Петр Заичневский прижимал к себе Ольгу.
— Давно не видались, Мелентьевна…
— Муж да жена — одна сатана. Давно не давно — все одно, — сказала хозяйка, понимающе сжав губы гузкою.
Теперь им сделалось весело. Ольга кинулась к баулу, развязала легко ремень, вытащила кашемировый набивной платок, черный с цветами:
— Это вам!
Хозяйка строго приняла дар, сказала:
— Ты бы шубейку сняла… К мужу ить явилась… Ох-хо-хо… Грехи наши тяжкие…
— Какие же грехи! — засмеялся Заичневский.
— А ты помолчь… Помолчь… Бабьей тоски тебе не понять… Детишков, пить дать, нету у вас… Гляди, бабочка, затянешь…
То, что к новому ссыльному явилась жена, известно стало вмиг. Говорили, конечно, отец у нее — генерал, правая рука государя, а вишь как обошлось. Жалеет, конечно, тут и батюшка — не указ. Бабья любовь что смерть — никого не спрашивается. Мелентьевна ходила в новой шали именинницей. И только ссыльные деликатно выжидали до завтра: нельзя же, право, господа, навязываться в часы радости!
А они, Ольга и Петр, смотрели друг на друга, не решаясь ни спросить ни о чем, ни сказать ничего, будто оберегались лишнего, того, что могло бы оказаться не любовью. Они не понимали, что в любви — все любовь, и были счастливы этим непониманием…
XVIII
— Не имею предписания, — виновато сказал ротмистр, — право же, господа… Отъезд из Пензы самоволен…
— По-слу-шай-те! — втолковывал Заичневский, — за это полагается административная высылка, не так ли? Так сошлите Ольгу Павловну в Повенец! Она ведь уже здесь!
— Право же, весьма сочувствую… И мы — люди… Но — служба…
Ольга вышла спокойная, прибранная, веселая, приблизилась к Заичневскому, дотянулась на цыпочках до бороды, чмокнула:
— Гуд монинг, май далинг…
Офицер отступил, округлил глаза: дама, за которой он прискакал, была неприступна и величественна. Она отчужденно, как по предмету, скользнула по нему взором. Офицер пробормотал:
— Честь имею, сударыня…
— Петр, — не глядя на офицера, сказала Ольга, — мне придется прокатиться с этим достойным господином. Но прежде мы позавтракаем, не так ли?
Ах это «не так ли», которое только что произнес он, Петр Заичневский! Он ведь не знает ее привычек, положительно не знает! Ни излюбленных слов, ни гнева, ни привязанностей, ни даже того, что ей нельзя было уезжать из Пензы. Наверно, из-за братьев, причастных к процессу «50-ти». Петр Заичневский только сейчас, видя перед собою жандармского офицера, вспыхнул тем, что ровно ничего не знает об Ольге! То есть он знает все-все, что наполняет его душу, и — ничего, что составляет подробности бытия, повелевающего судьбами.
Она уехала как на прогулку, и это придало ему сил поначалу. Небольшой дагерротип, привезенный ею (неужели она чувствовала, что они так нелепо расстанутся?!), был похож на нее мертвым сходством. Что же делать? Разумеется — работать. Кто придумал эту бессмыслицу? Какая работа может заменить то, что воздвигнуто мощной силой природы?
Он, разумеется, работал и излагал свои воззрения шумно, победно, привычно. Ссыльные толклись у него в избе, сам он посещал сходки. Но ночью он просыпался и смотрел на дагерротип — на неживое сходство дотошного механического изображения.
Хозяйка относилась к нему, как к недужному, иной раз шмыгала носом. Как-то спросила:
— Что же не выручаешь?
— Выручу, Мелентьевна! Непременно выручу!
Это было сказано дельно, твердо. Потому что только что в Санкт-Петербурге присяжный суд в открытом процессе оправдал Веру Засулич, стрелявшую в столичного градоначальника! Значит — что-то поворачивается в империи! Как сказал тот, первый его жандарм? Перемелется — мука будет…
Надо писать прошение, будь они трижды прокляты!
Пятого сентября семьдесят восьмого года товарищ министра внутренних дел испросил мнение начальника Орловской губернии — может ли дворянин Петр Заичневский временно отлучиться в город Орел для устройства личных дел? Ленивый Боборыкин запросил своего полицмейстера: может ли? Полицмейстер Говоров, отставной поручик, коему никак не светило восхождение в чинах ввиду чрезмерного пристрастия к горячительной влаге, прочитал начальственный запрос (а ну их к бесу — оба надоели, и Боборыкин и Заичневский!) ответил почтительно: не может…
Кто постигнет движение начальственной души? Она, душа то есть, может быть, и не зла изначально (отпускал же Василий Павлович Говоров этого возмутителя спокойствия в столицу), но стоит сверху оборваться малому камешку, как душа сия предусмотрительно каменеет, превращаясь в булыжник всеобщей державной лавины, погребающей под собою живые сердца, живые страсти, живые судьбы.
«Что ж не выручаешь?» — сверлили глаза хозяйки. Какая же была Ольга, если даже эта старообрядка вмиг признала в ней жену? Признала и ждет от него, чего следует ждать — мужик, выручай свою бабу. Причем тут Вера Засулич? Выстрел ее не приблизил Ольгу, нет. Он отдалил ее. Ольгу выслали из Пензы в Иркутск. И первое письмо ее пришло оттуда, из Иркутска.
«Дорогой мой, почему всякое знамение воспринимается на беду? Вот выклейка из здешней газеты:
„2 февраля 1879 г. около 6 ч. утра было видимо следующее оптическое явление. Под луною, стоявшею около 50° на северо-восточной стороне неба и бывшей в последней четверти, виден был большой круг, диаметром превосходящим луну в 3 раза. В круге этом, имевшем вид колеса, помещался правильный крест из совершенно ровных полос, толщиною до полудиаметра луны. Из середины креста выходило сияние, а под ним, под самой луной, виднелось нечто в виде короны. Наконец, по сторонам круга были два столба с заостренными вершинами. Толщина столбов равнялась диаметру луны. Все это — и луна, и крест, и столбы имели ярко огненный цвет. Явление продолжалось более 5 минут“.
Видишь, как ты научил меня быть точной и немногословной!»
Он отпрянул от письма. Когда он успел ее научить! Почему ей так кажется? Но и ему ведь кажется, что — успел! Они ведь были вместе, рядом, всю гавань и расстались на какой-то пустяшный отрезок бесконечного времени, созданного природою только для них, только для их любви! Он читал дальше:
«Почему всякое знамение воспринимается на беду? Так здесь говорят — быть какой-то беде. Посылаю свою акварельку. Не помещается в конверте, пришлось сложить. Беда! Ты все понял?»
Петр Григорьевич понял все: Ольга тосковала по нему. Тоска вспыхивала в нем печальной радостью. Он ведь не знал, что она рисует, и вот — узнал! Ему казалось, что Ольгин дагерротип вдруг потерял точное мертвое сходство, обретая живую непохожесть.
Надо ехать в Иркутск! Может быть, даже — бежать! Потому что — нельзя без Ольги, нельзя…
Он смотрел на готовый к печати «Каталог Повенецкой общественной библиотеки», но думал о том, как пятнадцать лет назад в каторге, в шестидесяти верстах от Иркутска, где сейчас ждет его Ольга, выводил он прошения униженных и оскорбленных.
Сейчас ему тридцать шесть лет. Многовато, как сказал бы Чернышевский. А тогда ему не было и двадцати одного, когда началась его каторга в Усольском заводе…
УСОЛЬСКИЙ ЗАВОД
1863–1869.
Усолье, Витим, Иркутск
I
На ильин день до обеда тихая жара была привычна — не раздумывай, снимай арестантское сукно, допускай солнце до посинелого, зудящего соляной пылью тела. Солнце это являлось будто бы не само по себе, а все с того же попустительства начальства: и не полагалось бы такое удовольствие каторжным, ну да уж бог милостив. Митрофан Иванович Стопани, заводской лекарь, поощрял в такие часы некоторые японские игры. Игры эти состояли в том, что умелый человек, пусть даже обделенный силою, может при надобности свалить и даже руку сломать матерому мужику. Однако господин полицмейстер и острожный смотритель коллежский секретарь Содоваров (фамилия как придумана была для места, где он служил!) выразил неудовольствие лекарю:
— Охрану ломать учите?
— А вы, Александр Ефремович, присмотритесь — тут ведь так сразу и не научишься…
— Уголовных не надобно, — сказал Соловаров, — они и по-русски управятся, без ваших японских подскоков.
Политические же, разжалованный подпоручик Ярослав Усачев и отставной студент Петр Заичневский, играли изрядно. Усачев был невелик, и было занятно видеть, как он вдруг валил верзилу Заичневского. Однако и Заичневский, падая, отбрасывал Усачева, и весь выигрыш состоял в том, кто первый встанет на ноги.
Варничный остров тянулся вдоль Усолья, отрезанный мелкой водицей. Он был как бы прикреплен к усольскому берегу жидким мостком. С другой стороны глубокая ангарская протока отделяла его от большого, заросшего густым лесом Спасского острова, который называли также Красным, то есть красивым. На нем бывали гулянья. Каторжники смотрели через протоку, слушая песни, веселье, шумство, иногда присаживаясь на бугор рядом с казаком, сторожившим преступников.
Лес на Спасском, тайга, был как подобран, дерево к дереву, густ, непроходим, однако с опушками. Там, в лесу, звенели птицы, притененный таинственный прохладный сумрак окутывал остров.
По протоке сновали лодки, а в них — молодые бабы с лагутками под ягоды, отроки с сеткамп-подхватками: по протоке шел безбоязненно сиг, таймень, а нередко и хариус.
Безлесый, пустынный — глина, присыпанная соль — Варничный остров, небольшой — сажен сто поперек, да сажен триста в длину — и был, собственно, каторгою. На островке этом стояли каменные варницы, печи с котлами, где выкачанный из глубины рассол испарялся, оставляя по себе белую, как снег, всюду проникающую соль.
И если сесть спиною к этому гнетущему месту и забыть о нем — казалось, что за протокою, на Красном, — рай земной, а то и небесный.
Бородатый каторжник, оголенный ради ясного дня, присел на бугре с казаком, спросил табачку. Казак, нестарый и не злой, подумал для порядка, покряхтел, будучи начальством, но достал кисет.
Каторжник, сворачивая цыгарку, сказал мечтательно, проникновенно, глядя через протоку:
— Кабы знал я, что за убивство попадешь на такую земь — раньше бы согрешил…
— Оно так, — согласился казак, — там — рай… Да ведь — стрелять буду…
— Будешь, — согласился каторжный, кресая огонь, — служба…
Однако ильин день приветлив до обеда. Уже поддувал холодок, а лодки уходили с глаз по первым барашкам начинающейся непогоды. Один только челнок пристал неподалеку к Варничному — два мальчугана лет по восьми, а может, по десяти прибыли менять калачи на арестантский хлеб. Там с ними менялись трое или четверо. Это у здешних мальцов было обыкновенно — сопрет или выпросит дома белый калач и — менять на каторжный — черный, ржаной, ноздристый.
— И что им в том каравае? — спросил бородатый.
— Новинка, — пояснил казак, — собирайся, будет, покурил.
И едва он сказал, протока закипела внезапной, пожданной даже для ильина дня бурей. Заколыхалась, загудела, затрещала тайга на Спасском, небо прикрылось черной синевою, из-за которой золотилось, как просилось из-за туч, солнце. Лодка с теми мальцами, едва отчалив от берега, попала в водоворот и вдруг сама собою, боком подставившись волне, перевернулась, накрыв мальцов.
Заичневский с Усачевым одевались, ветер погнал балахон Заичневского, он, гогоча, кинулся догонять.
— Смотрите! — вдруг закричал Усачев. — Смотрите!
Сбросив только что надетый бушлат, он рванулся к протоке. Заичневский вмиг сообразил беду, помчался вслед.
— Стой! — заорал казак, напуганный всем сразу — и перекинутой лодкой этой, и бурей, и побегом. — Стой!
И, не прикладываясь к ружью, пальнул вслед, как из палки. Каторжный этот, который курил только что его табак, налетел, вырвал ружье, откинул, побежал за Усачевым и Заичневским.
А лодка на ревущей, кипящей воде бесновалась дном кверху. Заичневский только в воде подумал, что не плавал по такой волне и ощутил ужас неуменья. Он барахтался, терял дыхание, преодолевая себя. И вдруг увидел за лодкой мальчика. Заичневский закричал сквозь кашель и хрип, захлебываясь свирепой водою, то ли от радости, то ли от страха, то ли бог весть от чего и сунул руку под затылок мальчишки. Но рядом уже были Усачев и бородатый каторжник.
— Другой где? — заревел на Заичневского Усачев. Буря гнала их от Варничного в сторону, и все трое, с полуживым мальчуганом очутились на Спасском острове.
А на Варничном бегали рабочие, казаки, махали ружьями, сатанился скуластый подпоручик.
— Назад! Все одно не уйдете! Назад! Поймаем!
Прибежал помощник начальника соляных магазинов Чемесов, стал вразумлять:
— Да погодите! Они же там мальчишку откачивают!
— Николай Николаевич, — закричал с хрипом подпоручик, — не ваше дело! Извольте!
Каторжные, приложив ко ртам ладони, орали через протоку.
— Другой где? Другой! Их двое было!
— Сейчас пароход пройдет! — кричал подпоручик. — Вскочут на пароход — уйдут!
Буря, налетевшая вмиг, стала стихать быстро, тучи согнало с неба, лесной шум на Спасском утихал. Усачев (оказался ныряльщиком) дважды бросался в воду, всплывал, отфыркиваясь.
— Теперя, конечно, только багром, — вздохнул казак, который выстрелил, — а может прибьет где! — Ружье его так и лежало неподнятое. И — перекрестился.
— Матери-то как? — сказал другой казак. — Ах, шельмецы! Их бы пороть да пороть, а они — тонут…
— Лодку! — кричал с того берега Заичневский, держа на руках неподвижно свисающего мальчика. Усачев, окоченевший, прыгал по берегу.
На Варничном побежали куда-то, должно быть, за лодкой.
И вдруг там, на Спасском (здесь на Варничном, конечно, не услышали, хотя казак этот божился, что слыхал) всхлипнул боязливый плач. Усачев рванулся к поваленному вывороченному кедру. Там, в корнях, не то спасаясь от кого-то, не то греясь в холодном песке, плакал мальчик. Усачев схватил его, стал отдирать от корней, за которые мальчик цеплялся:
— Я ж чуть не утоп из-за тебя!
— Кешку жалко, — плакал мальчик, — убьют меня… Кешку жалко… Дяденька! Ваше благородие!.. Ой, смерть моя пришла…
Усачев силою оторвал его от корневищ.
С Варничного шла лодка, а в ней — четыре казака и подпоручик.
Заичневский передал каторжнику мальчика, подскочил к офицеру:
— Нам нужна пустая лодка! Здесь все окоченели! А вы нам привезла своих дураков?!
Подпоручик хотел что-то крикнуть, но Заичневский шагнул к нему — голый, мокрый, страшный — и, наклонясь по-медвежьи, почти упираясь носом в нос, сказал тихим, страшным голосом, таким тихим и таким страшным, что подпоручик обомлел:
— Шинель снимай, холоп…
Подпоручик, как во сне, снял шинель. Смышленый молодой казак сказал ему:
— Так что, ваше благородие, дозвольте видеть — я их отгребу, и — мигом за вами, а то все же не поместимся…
Мальчиков закутали в шинель. Смышленый казак обнимал их, как тюк, предоставив весла Усачеву — греться. А на Варничном уже сбежался народ, горел костер, лежали кучей шубы и стоял с четвертью в руках сам акцизный надзиратель титулярный советник Михаил Евграфович господин Разгильдяев…
II
Циркуляры далекого начальства, писанные хладным почерком, ясным, как божий день, указывали, чего полагается и чего не полагается, но никак не указывали, как жить на свете, ибо жизнь, то есть обыденное бытие, и есть та самая несуразица, которая ищет себе местечка как раз между «полагается» и «не полагается».
Циркуляр, не допускающий ссыльных к занятиям в присутственных местах, не дозволял Петру Заичневскому служить в заводской конторе. Однако управитель заводов титулярный советник Герасим Фомич Некрасов, понимая, что, с одной стороны, никак не следует огорчать Циркуляр тем, что живешь на свете, с другой стороны — все-таки — жить. Для такой двойственности необходимы дельные люди. Герасим Фомич сделал каторжного как бы своим статс-секретарем.
Первым делом Петр Заичневский затеял переписку с иркутским начальством, в результате вежливых и весьма почтительных подсказок которому политическая преступница Юзефа Гродзинская переведена была в лазарет с употреблением на работах в числе лазаретной прислуги, поскольку весьма увеличилось число недужных. Доктор Митрофан Иванович объяснял это атмосферными явлениями Сибири, а Петр Заичневский подсказал Митрофану Ивановичу — не попробовать ли лечение минеральными рассольными ваннами?
Герасим Фомич отнюдь не был глуп, и Петр Григорьевич отнюдь не водил его за нос. Единственное, что требовалось в их отношениях, чтобы никак, никоим образом, даже наедине друг с другом, не подать виду, что действуют они не ради циркуляра, а просто ради бытия, состоящего не из пуговиц, погон, бумаг и артикулов, а из женщин, мужчин, хвори, тоски, надежд, боли и смерти. Кондрат (который вырвал ружье), оклемался первым, его взяли в кандалы, и надо было думать, как его спасать. И тут выручил Чемесов. Он явился к Соловарову в полицию:
— Александр Ефремович, я насчет этого каторжного.
— Он получит свое, — холодно сказал Соловаров.
— Александр Ефремович, — приложил пухлую руку к груди Чемесов, — у вас есть дети?
— Это к делу не относится.
— Не относится, пока они не тонут. А вот как ваши дети станут тонуть, чего, видит бог (перекрестился), я им не желаю, тогда вы и не то сделаете-с…
Солеваров молчал.
— Александр Ефремович…
— Каторжного этого все равно запорю! Разоружение конвойного…
— Да полноте! — торжественно встал Чемесов, — согласно высочайше утвержденному — высочайше утвержденному — указу от двадцать седьмого декабря восемьсот тридцать третьего года, из преступников, освобожденных по такому случаю от битья, производится назначение в палачи…
Содоваров усмехнулся:
— Где вы его выкопали, этот указ?
— Александр Ефремович, — миролюбиво заметил Чемесов, — слово, которое вы изволили употребить, не содержит в себе почтения к предмету, к коему вы…
— Вы хотите, чтобы я его сделал палачом? — перебил Соловаров, — так он ведь и сечь как следует не станет.
— А вам нужно, чтобы как следует?
— Хорошо… А до этого вашего Заичневского — не мытьем так катаньем доберусь! Чересчур смел. Оскорбление офицера!..
— Уверяю вас, сойдясь с ним короче, вы…
— Короче я сойдусь с ним, когда он у меня тут за стенкой окажется! Он в Тельму шляется! Я, думаете, не знаю? С проезжими каторжными раскатывает…
— Александр Ефремович, — так же дружелюбно сказал Чемесов, — побегом считается отсутствие до семи суток, а до Тельмы — четыре версты. У вас ведь имеется разъяснение господина генерал-губернатора?
— Да вам-то он кто? — не сдержался, вскрикнул Соловаров.
— Брат во Христе, — смиренно поклонился Чемесов. — Как и вам-с…
Хуже всего обошлось с Усачевым. Горячка не унималась долго и обернулась чахоткой.
Когда Заичневский уже расхаживал как ни в чем не бывало, будто и не хворал, в лазарет явился отец Малков.
Лекарь принял святого отца у себя в закутке. Лазарет являл собою лиственничный сруб саженей пять в длину, да и в ширину две сажени. Там стояли полати для простых арестантов и за загородкою — койки для ссыльных привилегированного сословия. Кроме того, был отделен угол для пани Юзефы и для самого Митрофана Ивановича.
Усачев вопросительно перевел тяжелые глаза на доктора: неужели конец? Почему-то только сейчас, увидав попа, поверил в возможность смерти. Даже тогда, в полку, приговоренный к смертной казни через расстреляние, не верил. А сейчас — вот она смерть пришла, в рясе, с медным крестом. Поп был и не поп, скорее — попик, невелик ростом, костляв, несыт, Усачев и не замечал его прежде.
— Исповедовать пришли, батюшка? — прохрипел он. — Извольте… Грехи мои в состатейном списке…
Хотел улыбнуться понасмешливее, не смог, силился не заплакать.
— Нет, сыне, — сказал священник, — я так… По-христиански…
Отец Малков посидел небольшое время молча, перекрестил недужного, удалился.
— Зачем он? — спросил Усачев через хрип. — Митрофан Иванович, буду жить или?..
— Мужайтесь, мужайтесь…
Лучше всех действовала на Усачева сестра милосердия пани Юзефа. Она умела (даже не умела, а как-то оно само собою у нее получалось) переходить от печали к веселью, как скакать на одной ножке в игре. И печаль ее и смех были беспечны. А между тем в зеленых ее глазах всегда теплело такое соучастие, что не верить ей было невозможно. Сейчас она вошла веселая:
— Месье Пьер Руж обштопал в карты пана ротмистра!
— Что же он будет есть? — улыбнулся Усачев, и эта улыбка придала пани Юзефе нового веселья: тяжелобольной улыбнулся!
— Кашку! — звонко рассмеялась пани Юзефа. — Пан поручник, кохання, вы улыбаетесь! Мадонна!
Явился сам месье Пьер Руж. Он стеснялся своего здоровья при больном приятеле. Усачев сказал:
— Петр… Приходил поп… Я поверил, что умираю… А потом эта Мадонна… И я не поверил… Мне сегодня легче говорить… Стало… После нее… Кого ты обштопал?..
— Приезжего! Прекрасный господин! Даже жалко стало! Все его порционные у меня ампоше (хлопнул себя по карману).
— Петр… Возможно, я все-таки умру…
— С чего ты взял?
— С того, что вдруг подумал о смерти…
— Но тебя ведь уже расстреливали!
— А подумал только сейчас… Когда поп… Я хочу знать, Петр… Я хочу спросить…
Заичневский пододвинул табурет, спросил шепотом:
— Что, товарищ?
Усачев положил на руку Заичневского легкую, желтую, синевато-прозрачную кисть:
— Если ты знаешь… Кто сочинил «Молодую Россию»? Чернышевский? Ты должен знать — ты статский, студент…
Заичневский приблизился к его лицу, обтянутому донельзя (косточка носа выпирала) тонкой, вот-вот прорвется, белой кожей с покрасневшими проваленными щеками:
— Не Чернышевский…
— Это хорошо, — шепнул Усачев, — это хорошо… Значит — он не один… Значит, нас много… Петр, я должен это знать, пока жив…
— Слушай, черт! — громыхнул Заичневский, — когда ты выкарабкаешься отсюда, я тебе точно скажу, кто! Хочешь?
— Если это возможно, — забеспокоился Усачев.
— Это возможно! Только живи, черт бы тебя подрал! Ты будешь здороветь за счет жандармского управления! Мы пошлем человека в Иркутск, и он привезет тебе птичьего молока (снова хлопнул себя по карману). Живи веселее!
— Но я подумал о смерти…
— Ты все-таки глуп! Ты подумал о попе, а не о смерти! Неужели ты собрался исповедоваться? Попробуй только помереть! Я не знаю, что с тобой сделаю…
— Похоронишь.
— Пани Юзефа! — позвал Заичневский.
Гродзинская явилась вмиг.
— Пани Юзефа! Какое лекарство может излечить мужчину, даже если он глуп, как пробка?
— Л’амур, месье Пьер Руж! — и не задумалась Гродзинская. Зеленые глаза ее горели обжигающим весельем — соучастием, сочувствием и радостью. Она была сестра милосердия, сестра, пред нею был страдающий умирающий брат. И нужно было, чтобы он ожил. И помощь ему нужно было искать в самой человеческой природе, которую святая мадонна наделила вечным началом жизни, началом до самого конца…
А Усачев, разжалованный подпоручик стрелкового батальона, был приговорен к расстрелу за пламенную плакарду «Молодая Россия», за то, что передавал ее мастеровым в воскресных школах, за то, что читал ее своим солдатам, за то, что перед военным судом объявил, что все должно быть и будет так, как сказано в ней.
За это он попал сюда, в Усолье. И вдруг, изумившись, что может умереть, что смерть, отложенная по конфирмации, только отложена, — подумал, что кроме этой «Молодой России» в молодой его жизни ничего и не было! И он хотел знать — много ли их, молодых русских, готовых на смерть ради Отечества? Он не хотел умирать напрасно.
III
Усолье строилось прямыми улицами крест-накрест. Дома (иные в два яруса) складывались из розоватой лиственницы, дерева вечного, имевшего свойство каменеть с годами.
Наличники на окнах были резные — иные прорезанные узором насквозь, иные как барельефы, но, пожалуй, не найдешь окна без наличников. Мастера были хорошие. С одним из них, дядей Афанасием, Петр Заичневский подружился, просясь в подмастерья.
Дядя Афанасий ладил сруб на Мальтийской улице (вела на село Мальту, оттого и называлась так). Улица была знатная (называлась, как в Иркутске, — Большая), и дома на ней ставили богатые люди — купцы, чиновники, небедные ссыльные. Дядя Афанасий учил:
— Работать лиственницу — весь день струмент точить. Камень-дерево.
Стамески у него были катеринбургские, особенной демидовской стали и со знаком особенным у черенка: лев на стреле.
Петр Заичневский точил лезвия, дядя Афанасий поглядывал — выходит, и господа — люди, если за дело возьмутся. Но про себя все-таки отмечал, что чудному подмастерью этому долго еще навыков достигать. Особенно тонкую заточку не доверял, отнимал мягко:
— Это, барин, сызмальства надо. Вихор тебе выдирать поздно, а без сего ученья нет.
Дядя Афанасий был старовер, жил бобылем, молиться ходил к своим в Тельму. Тельма эта — четыре версты к Иркутску — была селом богатейшим. Через Тельму тянулись подводы с каторжными, через нее звенели кандалы пешком плетущихся. Тельма эта смотрела из небольших окошек из-за лиственничных ворот на Большой Московский тракт так, будто никак он до нее не относился, а был протянут начальством, как всякая начальственная затея — никчемная, глупая, а не перечь.
Начальство (тоже не без ума) предпочитало Тельму не цеплять. Домища, амбары, заборы, лабазы, мануфактуры растянулись вдоль каторжного пути сами по себе, без дозволения, но и без запрета. Беглых искать в Тельме опасались, с чалдонами тамошними связываться не торопились, и чем рассудительнее бывал господин офицер, тем охотнее соглашался он с тельминскими обывателями:
— Сбежал, ваше благородие? Ах беда! У нас его искать — время терять. Мы ведь, ваше благородие, на виду! У нас чужому укрыться невозможно.
А чужой в это время сидел в амбаре, кушал на дорогу и ждал, покуда полувзвод поскачет искать его в иных местах.
По ночам на скамеечках возле крепких тельминских строений лежала краюха хлеба и жбан молока — бродяжному человеку в подкрепление. И — чудно: собаки этой снеди не трогали.
Тельма была богата несказанно.
Делали в ней зеркала, которые доходили до самого Петербурга, и в одно из них будто смотрелась сама царица. Ртуть, крушец то есть, для сего промысла находили знающие старцы где-то за Белой, там же — и серебро. На морозе, обыкновенном для здешних мест, крушец был тверд, как чугун. Одна беда — недолог век был работавших: от сортучки той, от амальгамы, пухли десны, выпадали зубы, иные слепли. Беглые, спасаясь от погонь, шли в зеркала с отчаянья — все одно погибать…
Ткали в Тельме полотно льняное не хуже голландского и особенную корабельную парусину для казны. Помнили здесь (опять же по пересказам), как снаряжали в Тельме и парусиною и железом (были рудные печи) и протчим господина Витуса Беринга, посланного царем Петром искать конца-края Российской империи.
Тельма была сама по себе. Жили в ней старообрядцы, староверы, помнившие (по пересказам, конечно) и Пустосвята, и дьякона Феодора, и самого протопопа Аввакума, сожженного бог весть когда, сказывают, когда еще царь Петр под стол пешком ходил.
О протопопе Аввакуме дядя Афанасий сказал, выглаживая лезвие стамески по оселку:
— Сожжен был вашими.
— Как же бог-то попустил?
— Не твое дело судить попущение божье…
— Дядя Афанасий, отчего же я не знаю про Аввакума?
— От того, что ты по-немецкому учен, а он — русский человек был…
— Дядя Афанасий, я ведь думаю о старообрядцах часто. Старообрядцев чту.
— Чем же? Кукишем омахиваешься?
— Ты ведь меня и знать не знаешь, а лаешься!
Дядя Афанасий отложил стамеску, сдвинул ремешок вокруг волос:
— Протопоп учил: кто никонианской пищи вкусил — проклят. А ты — вкусил.
— Да здесь-то я отчего?
— Здесь? — сам удивился дядя Афанасий и усмехнулся, — стамески мои точить… — И вдруг с интересом: — А ты, паря, сказывают, в царя палил? Не попал, что ли?
— Не попал, — обиделся Петр Заичневский и удивился своей обиде.
— Ну ладно, — сказал дядя Афанасий, — не дуйся, как кислым молоком… Старая вера — она и есть старая… Истинная…
Петр Заичневский, рассчитывая в своей «Молодой России» на старообрядцев как на мощную силу в бою с императорской партией, был для этого старообрядца всего лишь вкусившим никонианской пищи. При чем тут этот Никон (да и когда он был!)?! К тому же, Никон этот противостоял царю. А Аввакума, по рассказам дяди Афанасия, царь-то и сжег на костре! Кто же за кого? Кто против кого? Когда человеку двадцать лет, знать это совершенно необходимо! «Ты, паря, сказывают, в царя палил! Да и пищу не ту вкусил!» Вот и разберись!
Нет, всеобъемлющий, очевидный, все объясняющий утилитаризм, выстроивший ясный, четкий мир Петра Заичневского, как-то странно не вбирал в себя этого старика с его стамеской — лев на стреле…
IV
Зима в Усолье приходила в октябре и уже прочно. Зима бывала ясной, солнечной, даже снег сыпался как будто с голубого неба, как будто образуясь из прозрачного студеного тихого воздуха. Заносило голубым снегом крыши, дворы, скирды и поднимались прямо, вытянуто дымы, редея, светлея — чем выше — и вовсе пропадая в небесах.
Работа на варницах тоже будто промерзала — больше грелись возле печей, чем работали.
Возле конторы стоял высокий сруб с малыми прорезями для окошек, расположенными выше человеческого роста. Сруб отапливался изрядно — дым из высокой кирпичной трубы был, пожалуй, самый высокий в Усолье. В срубе этом размещались ванны — продолговатые ушаты, бадьи, куда наливалась подогретая соляная (минеральная, как говорили здесь) вода. Говорили, будто купчиха Коротова подбиралась к начальству купить эти ванны и строить правильный (не по примеру ли кавказского?) курорт. Несуразица была явной: курорт на каторге? Хорошо ли? Но переписка шла, и Герасим Фомич понимал, что купечество своего добьется, ибо чего не достигнешь при деньгах…
Пока же ваннами пользовались местные чиновники и обыватели, кому не накладно, ибо завод брал за те ванны по гривеннику. Пользовались ваннами также нуждающиеся в лечении от всяких болезней политические преступники привилегированных сословий. А кто нуждался в лечении — о том, разумеется, докладывал начальству лекарь Митрофан Иванович.
Кондрат, освобожденный от битья с тем, чтобы принять должность палача, попал в положение, в которое можно попасть лишь по начальственной нелепости: если он палач, стало быть, соль ему более не варить. Он и не ходил к варницам.
Кондрат был убивец. Кончил он двенадцать лет назад управителя — тоже крепостного человека, который отнял у Кондрата нареченную невесту. Дело было на петров пост — Кондрат (топор за кушаком) увидал обоих в лесу в нехорошем виде. И то, что видел он все это на пост, осатанило, озверило Кондрата, который был тих и богобоязнен с детства.
Крик Пелагеи Степановны (Палашки то есть) остался в нем на всю жизнь. Конечно, ее он пальцем не тронул, а этого — только и помнил, как метнулось от головы что-то красное на зеленую траву, Кондрат в беспамятстве полез в бурелом, не выпуская топора, и рубил, рубил, что попадалось под топор, красня ударами зелень, пока с топора не сошли следы.
Два месяца брел он без ума через лес, дичая, кормясь ягодами, не от голода, а как-то само по себе, по-звериному.
Пойман был он уже в Тамбовской губернии мужиками, как чужой человек, был он тощ, немощен и заговаривался. Как быть с ним, мужики не знали и отдали его от греха начальству.
Так оказался Кондрат в Усольских заводах, и какая жизнь осталась у него за спиною, на родине, в валдайских местах, не знал, не хотел знать и не думал.
Теперь, в Усолье, после того ильина дня, Кондрат состоял при этих ушатах, где мокли господа, ибо надо быть при деле человеку, хоть и возведенному по высочайшему повелению в палачи. Среди каторжных из господ, которые попали сюда за государственные преступления, Кондрат высмотрел одного, особенного: молодого, смелого, веселого, бесстрашного, как дьявол. Он высмотрел его сразу, как того приэтапили, да узнал как следует только в тот ильин день. Служить этому барину Кондрат, сроду не бывавший дворовым, а всегда хлебопашцем, барщинником, возымел вдруг охоту. Ему даже стало весело от того, что они вместе с этим барином — каторжные. Чудны дела твои, господи!
Зима на шестьдесят четвертый год ознаменовалась событием, для Усолья немаловажным: указано было из Иркутска ставить божий храм. Призваны были для сего богоугодного дела и местные мастера (дядя Афанасии тож) и присланные — сорок четыре человека. Среди присланных оказались не все вольные, а всего тридцать мужиков. Прочие же были арестанты, главным образом бродяги. Разместили их всех кого где — кого в остроге, кого в казарме, кого и в обывательских жилищах.
Приезжал из Иркутска господин архитектор, коллежский асессор Александр Евграфович Разгильдяев, брат акцизного. Отец Малков хрустел по морозному снегу новыми валенками, пересчитывал сваленные с лета лиственничные стволы.
И вдруг ни с того ни с сего сбежал из присланных ставить храм бродяга Гришка Непомнящий! Ну, кажется, сбежал и сбежал, жрать захочет — заявится, зима все-таки.
Но Гришка не являлся. Кто-то даже пустил разговор, будто подался он в монахи, в Вознесенский монастырь. Охальники, конечно, говорили — в Знаменский, ибо Знаменский был женский.
Однако в монастыре Гришку не видели.
V
— Месье Пьер Руж, — сказала пани Юзефа Петру Заичневскому, — он слишком молод… Он спасал дитя… Мадонна видела, как он спасал дитя, месье Пьер Руж!
Пани Юзефа плакала, как чудотворная икона: не меняя лица, не кривясь рыданием, а лишь точась редкими (две-три слезинки), бисерными слезами из уголков широко открытых, неподвижных, как будто нарисованных, зеленоватых глаз.
В сумерках в жарко натопленной комнате Усачев, худой, скулы над проваленными щеками краснели больною краснотой, постоянно горячий изнутри до озноба, кутался в беличью пупковую накидку, зяб. То, что он услышал сейчас, поразило его: «Молодую Россию», ту самую, из-за которой он здесь, написал Петр Заичневский!
Петр Заичневский всегда, даже в самых невыгодных для себя обстоятельствах говорил только то, что считал нужным сказать, и не говорил того, чего говорить не желал. И это его свойство странным образом сообщалось тем, кто его слушал: не верить ему было просто невозможно. Усачев был потрясен — веселый, беззаботный, несерьезный, склонный к какому-то и вовсе детскому баловству московский студент, сосланный за какие-то пустяки — печатанье литографий, речи перед мужиками (Усачев, приговоренный к смерти через расстреляние, имел основания считать вины Заичневского пустяковыми), так вот, этот самый повеса, оказывается, и сочинил то, из-за чего Усачева собирались расстрелять военным судом.
— Когда ты успел? — шепотом, скрывая восторг, спросил Усачев.
— В частном доме, — беспечно сказал Заичневский, — в Тверской части… Да полноте! Скажи-ка лучше, что ты думаешь о нашей прокламации?
— Нашей? — переспросил Усачев, — значит, ты был не один?
— Да как ее поднять одному! Разумеется!
— Значит, Революционный Комитет существует?! Браво! Мы, офицеры, были правы! Читали не только в батальоне, читали в Сампсоньевской воскресной школе, мастеровые… Студент Крапивин, учитель этой школы, составил для них словарь неясных слов, которые вы…
Петр Заичневский ходил вокруг стола, на котором уже горела свеча (зажгли во время разговора) и лежали вразброс книги. Усачев не отрывал взгляда, ожидая, что он скажет.
— Центральный Революционный Комитет есть, — сел к столу и посмотрел в книги Петр Заичневский.
— Значит, он жег Петербург?
— Да.
— Значит, мы не напрасно!
— Не напрасно, — поднял голову Заичневский и посмотрел в глаза Усачева, — в армии, ты сказал, прокламации нашла отклик? И среди мастеровых?
— Да! Да!
— Это — победа! Нас много, ты понимаешь, Усачев? Нас — много!
— А Центральный Революционный Комитет? Почему он молчит?
— Потому что не пришло время.
Вдохновенный вымысел увлек Петра Заичневского. Больной, умирающий, бесстрашный человек, товарищ, каторжный слушал и верил! Центрального революционного комитета не было. Но он должен был быть! И поэтому — был! Центральный этот комитет не жег Петербурга. Но он должен был жечь! И поэтому жег! Так надо, так нужно! И не следует спрашивать, для чего! Ясно для чего: для свержения самодержавия! Нужно сейчас, немедленно, верить в то, что будет потом!
Усачев вытирал с углов рта розовое. Он смотрел на Петра Заичневского больными светлыми глазами, горящими отчаянной предсмертной тоской. Петр Заичневский думал, что горение это и есть радость исполненного долга. Он хотел протянуть Усачеву руку и сказать что-нибудь. Не сказать — произнести торжественно, как на похоронах. Но он сказал тихо:
— Тебе нужно прилечь…
Он неожиданно вспомнил покойного Грека, Перикла Аргиропуло. И даже не подумал, что Греку, ни здоровому, ни больному, ни умирающему в полицейском лазарете, он не посмел бы громоздить вдохновенные небылицы…
VI
Помещение, занимаемое Петром Заичневским, мало помалу превратилось в место недозволенных сборищ.
Господин полицмейстер мог бы, разумеется, нагрянуть в гости со своими молодцами и с господином наблюдающим за политическими преступниками, но каторжный будто и не таился. Срок его каторги шел к концу, далее дожидалось вечное поселение, и Петр Заичневский жил так, будто не только собирался когда-нибудь выбраться отсюда, а наоборот, обживался, заводя дружбу с местными чиновниками — с акцизным, с лекарем…
К нему, Петру Заичневскому, ходили обыватели, женки острожных, рабочие женки, всякий народ — и кто явно обижен и кто в сумиении, — и он строчил за них прошения, всегда ловкие, всегда дельные. Являлись к нему и уголовные испрашивать его благородие (это каторжного-то!), как бы так учинить, чтобы угодить им, уголовным, в политические, хоть бессрочно, хоть на сто лет, но непременно в политические, чтобы получать казенные и — без битья. Правда, про «без битья» сморозил только один — Мишка Воронов, конокрад, остальные же просили честно: пущай с битьем, не господа все же, за казенные почему не потерпеть?
Ссыльный художник Сохачевский изображал на своих листах усольское общество. Суконные бескозырки с суконными наушниками, суконные балахоны и бушлаты. На большом листе нарисованы были Щапов, Шашков, Чекановский, Заичневский, Лепгурский… Сохачевский рисовал без композиции — отдельными пятнами с пустыми местами для тех, кто еще не изображен, может быть, для тех, кто еще не прибыл. Он рисовал варницы, лазарет, школы, церковь, скачущих лошадей, лодки в протоках. Был у него и автопортрет с дамами. Сохачевский в берете с опущенными наушниками чертил карандашом на стене, как на мольберте, стоя на снегу. У ног его изображена была разгребающая снег, стоя на коленях, закутанная платками пани Юзефа.
Сейчас он привел нового каторжного — знакомиться. Не успели присесть, как раздался стук.
— Вы играете в винт? — спросил гостя Петр Заичневский.
— В винт?!
— Играете! — приказал Петр Заичневский и пошел открывать.
— На ловца и зверь бежит! — громогласно возвестил он, впуская Соловарова. — Ждем четвертого, господин полицмейстер! Новый политический преступник — из богатой фамилии! Так не испытать ли нам его, каков он в истинном деле? По маленькой, а?
— Я шел не за этим, — холодно сказал Соловаров.
— Разумеется! И тем не менее — прошу! Да вы, я вижу, не один?
— Я должен произвести у вас обыск.
— Ах, Александр Ефремович! Я готов к обыску с первого дня! Уверяю вас, ничего, что могло бы вас интересовать, я не держу-с. Мысли мои вам известны. Денно и нощно размышляю о благе любезного отечества. Что же касается (показал на стол) сих неблагонадежных лиц, то я имел намеренье обштопать их хорошенько, чтобы не бунтовали! И тут как раз вы! Четвертый! Это удача!
— Послушайте, Заичневский! Ваше поведение я расцениваю как оскорбление начальства при исполнении обязанностей.
Петр Заичневский вмиг прекратил дурачество:
— Приступайте к обыску, господин капитан!
Сказано это было спокойно, более того, Заичневский повысил в чине коллежского секретаря Соловарова таким тоном, будто поздравлял его с производством.
— Скончался Усачев, — сказал Содоваров, — и мы…
— И вы пришли искать здесь то, что не нашли у покойника?! — закричал Петр Заичневский и сорвал с костыля свою поддевку. — Оставьте своих молодцов шарить здесь, а я иду!
— Петр Григорьевич, — несколько смягчился Соловаров, — я вас понимаю по-христиански… Однако… Демонстрация нежелательна… Мне стало известно, что у вас — красный флаг… И — речи… Не нужно речей…
VII
Землю кайлили тяжко, будто земля эта никак, ни через какую силу, не желала разверзаться, чтобы принять в себя желтоватый некрашеный гроб, сделанный дядей Афанасием. Землю кайлили, как через зло:
— Не поддается…
— Дай-кось я…
И, выхукивая, вонзали кайло, щерясь от силы, будто была это веселая работа, игра — кто кого переумеет, кто кого переловчит. Кайлили каторжные, кайлили казаки, отставив ружья, кайлили обыватели, кто случился неподалеку. И была против всех одна земля, одна для всех, одна на всех, тяжелая, каменная, никак не желающая поддаваться ни вольному, ни арестанту, ни конвойному. Земля эта как будто созывала охотников померяться с нею, будто затеяла игру на солнечном морозе, и в игру эту вовлекали себя многие, позабыв в азарте, для чего, собственно, кайлят.
Но земля поддалась.
Открытый по православному гроб поставили на желтые морозные комья. Снежок ниоткуда (изморозь среди яркого, белого, синего солнечного дня) оседал на непохожее лицо, не тая на нем, присыпая, и только на длинных ресницах снежинки все-таки поддавались солнечному теплу, накопляясь, как слезы.
Стояло начальство над гробом государственного преступника, будто собранное на погост именно этой смертью, будто до этой смерти никто и не умирал на каторжных казенных солеваренных заводах.
— Мы провожаем в лучший мир, — сказал вдруг Николай Николаевич Чемесов, — молодого человека, юношу, сына отца с матерью.
И заплакал. Но пересилил плач:
— Братья… Он погиб… Он спасал мальчика… Он спасал дитя, и господу было угодно принять его к себе — праведника, мученика, героя… Царство ему небесное, и да помолится он за нас, злобных, черных, не способных к благодарности…
Николай Николаевич не сдержался, прикрыл плачущее лицо. И тогда сказал Петр Заичневский:
— Мы хороним своего товарища. Он попал сюда, в эту каторгу, потому, что разъяснял простым людям, что они — люди, достойные человеческой участи. Он учил их сплочению. Он был смелым, мужественным русским офицером. И как смелый офицер, он погиб под знаменем, коему присягал перед неравным боем!
Петр Заичневский сбросил с себя полушубок. Красная, сверкающе красная рубаха его полыхнула в ярком солнце.
«Простудится!» — мелькнуло в глазах Митрофана Ивановича, но лекарь вмиг устыдился подуманного.
— Он погиб, — зычно, преодолевая холод, сказал Заичневский, — с верою в то, что погиб не напрасно!
Рубаха трепетала на ветру, который вдруг пошел с Ангары, будто дождавшись, пока Заичневский обнажит свой красный флаг. Ветер сдувал пламя со свечей, но ни одна не погасла. Пани Юзефа, художник и тот новенький подняли полушубок и накинули на его плечи.
— Упокой, господи, душу усопшего раба твоего, — бормотал отец Малков.
Гроб заколотил дядя Афанасий и отошел подальше от попа. Грудки смерзшейся земли стукались о настил, прикрывающий гроб.
— Дождется трубы господней в неизменности, тлен не коснется его, — утешал Заичневского дядя Афанасий, провожая взглядом комья, слетающие с лопат.
Вечером того же дня стало известно, что в Иркутске на Ерусалимском кладбище, в сторожке, изловлен был Гришка Непомнящий, беглый, и в кандалах находится при чрене, в варнице.
VIII
Гриша Непомнящий, волоча неподнимаемые постолы, тускло звеня цепью, подошел к кобыле — лавке, построенной с покатом — передние ножки выше, посмотрел отчужденно, будто лавка его не касалась, облизнул побелевшие губы, сглотнул.
Казаки, как полагается по артикулу, стали привычно при лавке — два в ногах, один в головах, стали тоже отчужденно, будто не брали в толк, зачем. Косоворотки коротко торчали из-под ремней с подсумком, тульи бескозырок, однако, сдвинуты были слегка набочок поближе к дозволенной лихости вида, ружья уперли прикладами в глинобитный пол, штыки высились вровень с бескозырками (казаки были ростом невелики).
Кондрат в черном картузе с лакированным козырьком, в парусиновом фартуке поверх сизой линялой рубахи стоял у стены, разминая сыромятный кнут с коротким черенком, весьма затейливо оплетенным узкой сыромятиной.
— Ну? — сказал подпоручик, сверкнув косоватыми глазами, — долго прикажешь ждать?
Гриша снова переступил тяжелыми ногами, цепь снова звякнула и снова унялась, и только какое-то звено ее заныло, долго пропадая в тишине.
— Штаны сымай! — вдруг высоко крикнул подпоручик. Гриша приподнял бесполезно висящие руки к очкуру, подумал, облизывая губы, опустил руки опять, сказал, глядя в пол:
— Не стану…
Маленький подпоручик, косоватый и скуластый, шагнул к нему мелким шажком:
— Добавки захотел? Сымай штаны!
— Не стану…
Кондрат вздохнул, разминая кнут. Он ждал терпеливо и мог ждать бесконечно. Он признавал за арестантом последнее его право — право обреченного на муки — но помогать мучителям. Казаки стояли вытянуто, браво, как деревянные куклы с пуговицами заместо глаз. И они тоже понимали последнее право этого бедолги.
— Я тебе, что ли, штаны сымать буду? — прошипел одним горлом, без крика, подпоручик.
— Воля ваша, — смотрел в ноги арестант. Лицо его побелело, как присыпалось мелом.
— Дай-ка плетку! Я его сперва поперек рожи!
Кондрат, разминая кнут, нехорошо посмотрел на офицера из-под козырька, опустил лицо, сказал лениво:
— Ваш бродь… Совестно офицеру, — поднял глаза, впившись в скуластое небольшое лицо. — Хоша бы и не из дворянского сословия…
Подпоручик боялся Кондрата. Он чувствовал, что Кондрат не знает страха, не знает лениво, угрюмо, как медведь-шатун, с кем не дай бог стакнуться, потому что помрешь еще до того, как задерет. Проклятый Кондрат утомлял несильное воображение подпоручика еще и тем, что охотно состоял при громогласном, веселом, беспечном, молодом, будто даже не обратившим внимания на перемену своей судьбы Петре Заичневском, лишенном всех прав состояния.
Выслужившийся подпоручик особенно остро воспринимал намек на тяглое свое происхождение. Сибирь-матушка, служба при каторгах, при тюрьмах, при Романовых хуторах дала ему личное дворянство сквозь зубы, по табелю, как сплюнула. Там, в России, поди-ка дослужись! Подпоручик веско помнил, кто он есть, а есть он — сын чалдонки и неведомого бродяги. Под его мундиром робело необъяснимое покорство перед этими, столбовыми, за коими и вообразить невозможно, какая была жизнь. Скалясь белыми, уже крошащимися зубами, подпоручик тайно мечтал об одном — уравнять на этой лавке всех. И поэтому каждая экзекуция утоляла его душу, будто сбивая запрет со сладкой мечты растянуть на этой лавке столбового дворянина…
А Гриша стоял, подвигаемый последним своим правом.
— Поговори мне! — рвя горло, как будто его самого секут, закричал подпоручик и велел казакам, ни на кого не глядя, без крика, а только перхнув:
— Раздеть…
Казаки стояли, выставив носы, не шевелясь.
— Крученый! Раздеть!
Небольшой Крученый приставил к стене ружье, подошел к беглому, рассупонил очкур, штаны упали до кандалов, осыпались мельчайшей соляной пылью, ткань не мялась, гнулась, пропитанная солью. Гриша стоял, как неживой, как лишний самому себе, заголенный — даже срама не прикрыл. И вдруг покорно вздохнул, лег на лазку, умащиваясь, будто лег выспаться, подложил под голову согнутые в локтях руки, напрягся отвернутой набок головою, сплющив глаза, сильно сдавил скулами лицо до оскала.
— Считай, ваш бродь, — выдохнул Кондрат и свистнул кнутом поперек белой, вспупырившейся страхом и ожиданием кожи.
Гриша вскрикнул яростно, на ор.
— Сил побереги, — тихо сказал Кондрат и свистнул снова, — не ори, браток, сила на крик уйдет… Прибереги… Тебе — вона еще сколько терпеть… Ровно тебя не секли никогда… Не маленький ведь…
Подпоручик считал кнуты негромко, но явственно и вдруг Кондрату:
— Не рассуждать!
— Считай, ваш бродь, со счету собьешься…
— Не рассуждать! — смелея от вида крови на белом тело, повторил подпоручик.
Кондрат задержал над картузом растянутый руками кнут.
— Ваш бродь, не сбивай. Сечь надо сразу без передыху — человеку легче терпеть. Не сбивай…
Гриша уже не кричал, не стонал — всхрапывал, дергаясь от каждого кнута, но дергался без силы, как куль, который теребят багром.
Подпоручик каменно смотрел узкими глазами. Казаки смотрели — сочувственно, с пониманием, стараясь но вздыхать, а дышать ровно, по артикулу. Кондрат свистнул последний раз, сказал, скручивая кнут и суя его за голенище:
— Обмыть надо…
— Солью я его обмою! — вскрикнул подпоручик, как очнулся.
— Ты, ваш бродь, не сатанись, — глянул в узкие глаза Кондрат, — и откуда ты взялся такой?
Потом посмотрел на след своей работы.
— Пускай полежит… На лавке обмою…
И бережно погладил Гришу по стриженой голове:
— Эх, паря…
IX
Речь политического преступника Петра Заичневского на погосте воспринята была в Усолье по-разному.
Выходка с красной рубахой могла бы, разумеется, пройти безответно — мало ли какие чувства испытывает человек, потерявший друга. Однако господин полицмейстер счел было за благо донести высшему начальству об этой выходке.
Поведение Петра Заичневского оскорбляло полицмейстера, полагавшего не без резона, что должен быть порядок на этом свете и даже вольный обязан почитать начальство, склоняясь пред его волею. А Петр Заичневский жил так, будто никакого начальства вообще не существовало. Дьявольская, непостижимая усмешка постоянно пребывала на его лице — то скользнет с губ в густеющую бороду, то переместится в темные прищуренные глаза, то вдруг прозвенит в обыкновенном почтительном слове: здравствуйте, мол, господин капитан.
Соловаров написал об этой выходке, но послать в Иркутск — не послал. Сказать, что на похоронах умершего чахоткой каторжника появился красный флаг — значило навлечь вопрошение: как допустили? Сказать же, что вместо флага имела место алая сатиновая косоворотка, было и вовсе нелепо.
Полицмейстер вызвал к себе означенного преступника:
— Выходка ваша была неуместна, Заичневский. Вы учинили на святом месте недостойное действие. Кощунственное. Балаган. Вы ведь были друг покойного. А скорби в поведении вашем не видели. Для вас самое смерть — всего лишь повод для крамольных речей. Кто же eго замучил? Он простудился, свершив дело богоугодное, и я доложил начальству о поступке его. Человек в божьем промысле не волен.
— Однако он погиб в каторге, — сказал Заичневский.
— Да ведь каторга ему назначена не за детские бирюльки! Возмущение нижних чинов чтением противоправительственной брошюры! Образование незаконных сборищ!
«Да поди ты к черту, стоеросовая дубина! Они читали нашу „Молодую Россию“! Из-за меня его прислали сюда!»
— Вы молчите, — вздохнул Соловаров, — стало быть, сказать нам нечего… А рубаху свою все-таки…
— А что — нейдет? — весело, простодушно, никак не соответствуя тому, о чем только что думал, спросил Заичневский.
— Нейдет! — вдруг вскрикнул Соловаров, — нейдет-с! Вам к лицу суконный балахон-с!
— И — колодку на шею!
— Да-с! И колодку!
Петр Заичневский придвинулся через стол, зацепив песочницу (хорошо — не чернильницу), и, глаза в глаза, — негромко:
— Руки коротки, Александр Ефремович…
Соловаров отпрянул от него, упершись в стол, как отгородившись:
— Да кто вы таков?!
— О сем вас почтительно известят особо! — встал Заичневский, — честь имею!
«Изведу, — налился изнутри гневом полицмейстер, — изведу!»
А чтобы унять себя, чтобы занять руки, стал небольшой бумажкой, как совочком, возвращать в медную песочницу просыпанный песок. Кто же он такой, этот бесстрашный, будто жизнь и не жизнь, а пустые шуточки — преступник?
На Полицейской Кондрат, увидев, откуда Заичневский вышел, спросил сочувственно:
— Беда, барин?
— Как же ты можешь сечь человека? — спросил на это Заичневский.
— Как же не сечь? — удивился Кондрат, — дело обыкновенное. Издревле… Тебя, к примеру, папенька секли?
— Меня никто никогда не сек. И сечь не будет.
— А народ секли-с… Народ-то сам себя сечет… Барин — он сечет для мучительства… А народ — для дела: сколько приказано, столько и влепит… А теперь, когда государь даровал волю, господа — не очень-то… Сказывают, в Петровском заводе помещик объявился — троих мужиков смертью засек со зла, когда воля вышла… Eго самого — в каторгу… Так что теперь народ сам себя сечь станет… Слух такой, что поселение вашему благородию… Да и я — бобыль… И в каторге — несправедливо… Кабы я барина прибил — другое дело… А то — мужика! Такого, как я! Меня, к примеру, убей — я слова не скажу…
Петр Заичневский посмотрел в простодушные, правдивые синие глаза Кондрата. Лепорелло. Сганарель русский. Убивец и добряк. Палач и утешитель.
— Служить хочешь? Платить тебе нечем…
— И-и-и, Петра Григорьевич! У тебя — голова, у меня — руки! Неужто не наживем? Землицу примем, золотишко постараемся, а то — слышно — глина тут нa Белой реке, посуду лепить… Промышлять зверя… Артель соберем. Гришутка — плотник первый сорт!
— Какой Гришутка?
— Ну этот, — смутился Кондрат, — которого я — по артикулу, стало быть…
— Этот?! Так он же тебе ввек не простит!
— Ва-а-ше благородие, — протянул Кондрат, — мы уж и шкалик приняли… Разве ж он не понимает? Теперь расковали, храм божий рубить будет!..
Профессор Кандинский говорил о рабстве по-немецки, о свободе — по-французски. Это развлекало Петра Заичневского.
— Я ненавижу вашу улыбку, — сказал профессор по-русски, — в ней на сто лет самоуверенности и ни на миг сострадания.
— Я терпелив, — миролюбиво сказал Заичневский, — я выслушиваю оскорбления всегда внимательно и потому отвечаю на них самым исчерпывающим образом.
— Вы устроили спектакль на могиле друга! Как вам верить?
— То же самое сказал мне господин полицмейстер. Не сговорились ли вы?
— Таинство смерти, таинство перехода в иной мир (по-французски) не может и не должно служить поводом для политических, пропагагорских предприятий!
— Где и в чем вы не видите политики? — вдруг загремел Заичневский. — В смерти? Но смерть явление социальное! Человек умирает в обществе!
— Оставьте, я это читал у Бокля!
— Плохо читали! Может быть, бог — не политика? Может быть, ваше упрямое нежелание преодолеть свою ограниченность — не политика? Что не политика на этом свете? Что в этом мире не делится на про и контра?.. В революции смерти нет! Каждая смерть попирает самое себя, придавая сил и отваги тем, кто остался продолжать начатое!
— Ваше утилитаристское восприятие смерти, непризнание ее таинства — свойственно растениям и животным! Смерть уравнивает людей, она единственный доказатель их равенства…
— Равенства смерти? — рассмеялся Заичневский.
— Да-с! Это пока еще единственное равенство, достигнутое людьми. И (по-французски) удалите этого вашего Лепоролло… Он мне неприятен.
Шахматная доска стояла посреди стола, и фигуры на ней не стронулись с места. Белые (по жребию) — перед профессором, черные — перед Заичневским. Заичневский все время ждал хода, но профессор забыл о шахматах.
Кондрат почтительно терпел, пока господа отгуторят не по-нашему. Одно понимал: сатанятся. Начали с того, что он, Кондратий, помахал кнутом. Не пондравилось. А кому пондравитсь? А далее о чем грызня? Далее — по-ученому. Неужто о кнуте? Кондрату не хватало понимания. Каторга, а книжки читают, письма пишут, картинки (весьма похожие) пишут же, в шашки эти резные (дяди Афанасия работа) сидят, думают, ровно над судьбою, ровно, где кусок хлеба стибрить. А ведь перед вами деревяшки, господа!
— Петра Григорьевич, — спросил Кондрат, — может быть, самовар взбодрить?
— Ступай, братец, тут не до тебя…
Кондрат, потоптавшись, вышел.
X
Наступило лето, петров день, шестьдесят четвертого года.
По Московскому тракту везли государственных преступников прямо на Иркутск, остановку делали в Тельме. Пешие кандальные присаживались на бугре кучно, чтобы быть всем на глазу, квелые же или из привилегированных — отдыхали на подводах.
Тельминские подходили к тоскливым печальным таборам этим безбоязненно. Приносили, чего кто мог Христа ради, раздавали ворам, убийцам, государевым противникам без разбору — человек на этапе сир и несчастен, хоть за ним такое, о чем не приведи господь и знать. Казаки лениво, размеренно, устало приговаривали особенно настырным:
— Поклади, сами примем… Не велено…
Но и казаки были люди и им тоже перепадало кое-что.
На небольшом возу о двуколь (лошадей выпрягли, дышло уперлось в желтую землю) полулежал на соломе хилый (довезут ли?) каторжный в суконной шапчонке, прикрытый балахоном. Зяб, наверно, и в петров день. Казак сидел на дышле, как-то так пристроившись, уперевшись ногою в камень, чтоб не съехать по дышлу. Каторжный на возу оброс светлой клипистой бородою и, может быть, ничем не был бы приметен, если бы не маленькие окуляры.
Тельминские к окулярам этим отношение имели двоякое: окуляры, стало быть, ученый, самый что ни на есть государев ослушник. А с другой стороны — жалко, каторжный же. И то сказать — какая же жизнь у него была при таких окулярах? А ведь бросил, сменил ту жизнь на жандармский воз с сеном.
На петров день, на светлый праздник, в Тельме гулянье, вино, песни, веселье, люди разные, всякие, кто каков.
Каторжный этот смотрел спокойно, покорно и поди разбери, о чем думал. Да и о чем можно думать, лежа этак в прелом сене. Хоть бы сменили ему сено-то.
Безбоязненная девка, перекрестившись, поставила в воз кувшин молока, калач. Казак обернулся, ничего не сказал. Каторжный принял, сказал спасибо, улыбнулся приветливо. Девка закраснелась, убежала, и тут к возу подошел лениво, как гуляючи, весьма развязно, молодой человек.
Был он высок и крепок. Карие глаза насмешливо щурились из припухших век. Простецкий нос, широковатый в ноздрях, был вздернут задирчиво, победно, молодая борода еще не обрела темной густоты — светлела на щеках, на подбородке. Красная сатиновая косоворотка, подвязанная витым шелковым снурком с кистями, горела из-под синей чуйки, как крамольный штандарт. Молодой человек остановился, постоял фертом, откинув полы упершимися в бока кулаками и расставив ноги. Хромовые голенища, плотно натянутые, подпирали колена. Вид его был вызывающ, даже несколько фатоват.
Молодой человек подошел к бричке и, не обратив внимания на казака, сказал неожиданно густо, хриповато, будто голос был старше своего владельца на много лет:
— Позвольте, Николай Гаврилович…
Казак лениво перебил, не оборачиваясь:
— Не велено…
— Ступай-ка, братец, погуляй, — добродушно, через губу сказал казаку молодой человек, — позвольте, Николай Гаврилович…
— Не велено, — повторил казак, привстав.
— Ступай! — вдруг громыхнул на него молодой человек.
Казак вытянулся было во фрунт, но спохватился, поправил подсумок и вдруг закричал:
— Не велено!
— Что вам угодно? — тихо и неприязненно спросил молодого человека каторжный, придерживая кувшин.
Казак глянул на арестанта, перевел глаза на непонятного самоуправца в красной рубахе: кто он тут?
— Николай Гаврилович, — сказал самоуправец, — я — Заичневский…
— Вот вы где, — так же тихо, но несколько дружелюбнее сказал каторжный в окулярах, — чем же вы здесь заняты?
— Господа! — взял ружье казак. — Не велено!
— Как ты мне надоел, братец! Видишь — нам не до тебя! Николай Гаврилович… Куда же вас?
— Далеко, должно быть… Вы здесь?
— Нет, в Усолье… Вы проезжали… Была каторга… Теперь поселение навечно…
Урядник подвел лошадей:
— Кто таков?
— Да вот, Пал Палыч… не отстают…
— Впрягай, — передал казаку повода урядник и шагнул к Заичневскому:
— Кто таков?
— Молчать! — рявкнул Заичневский.
Арестант в окулярах оживился, повеселел, хлебнул, наконец, из кувшина, спросил по-французски с книжным неживым проговором:
— Как вы с ними обходитесь?
— С этими канальями иначе нельзя. Я разыщу вас, непременно.
Урядник, будто ничего не было, помогал впрягать лошадей.
— Гляди-ко, буланый раскуется…
— Дойдеть… Шестьдесят верст дойдеть…
— Гляди мне! — приказал Заичневский, — довезти в полном удовлетворении!
— Не извольте, ваше благородие! — выпрямился урядник.
Каторжный рассмеялся тихонько.
Девка ожидала кувшина. Каторжный хотел было отдать недопитое молоко, но Заичневский предупредил:
— Не торопитесь, Николай Гаврилович.
И — девке, протянув тяжелую медную монету:
— Возьми за кувшин! Тут за два хватит! Хороша ты, чертовка! Жених у тебя есть?
Девка взяла пятак, прыснула и побежала, разбрасывая босые пятки.
— Женихи у нее, — начал было, повеселев, урядник, но осекся, — Тельма-шельма, одно слово-с…
— Я вас найду, — сказал по-французски Заичневский.
— Я вам должен за кувшин?
— Разумеется! Пожалуй, я стану торговать кувшинами! Прекрасное занятие для радикала! Поставлять товар будут мне местные Афродиты!
— Я воображал вас иным, — улыбался каторжный в окулярах, — впрочем, таким же легкомысленным…
XI
Петр Заичневский шел из Тельмы и думал о Чернышевском, стараясь убедить себя, что дальше Иркутска Чернышевского не зашлют — неужели мало двух лет Петропавловской крепости? Заичневский сравнивал вину различных узников, примеривал к видам правительства, сам того не понимая, что измерения эти есть всего лишь утешающее самозащищение от действительной реальной жизни. Конечно, рассуждал он, Михайлов не так велик, как Чернышевский, потому-то он и томится до сей поры. Но Чернышевского выпустят! Неужто правительство не понимает?
Сегодняшняя встреча взбодрила Петра Заичневского надеждой. Он помнил, как ругал Чернышевского Слепцову (кстати, где он теперь, Слепцов?), но все это было там, в России, в иной жизни, в дни его прокламации. Он никак не связывал арест Чернышевского с «Молодой Россией». Однако сейчас, в виду Усольского погоста, он подумал о бедном Усачеве, смерть которого была связана с этой прокламацией, только с ней и больше ни с чем! Судьба? Но что такое судьба Петра Заичневского? Он жив. Он написал и жив, а Усачев прочитал и погиб! Неужели там, в Петербурге, не знали, кто написал? Неужели (это говорил и Гольц-Миллер) там думали, что написал Чернышевский? А он сказал умирающему Усачеву, что комитет есть! Чтобы умирал спокойно. Можно ли для того, чтобы человек умирал спокойно, обнадежить его небылицей? Не царство ли это небесное, ожидающее за гробом того, кто поверил? Такая мысль влетела в его голову впервые! Пани Юзефа, сестра милосердия, любила «пана поручника», как младшего брата, она молилась за него, кормила, оберегала его жизнь, пытаясь укрепить тающие силы, но она не морочила ему голову тем, что он умирает не напрасно.
— Месье Пьер Руж! Человек всегда умирает напрасно! Распятие было одно! Его достаточно на всех людей!
Почему же это — напрасно? Какой вздор… Как же тогда нести знамя под пулями, если не убежден, что знамя это поднимет собрат, когда ты упадешь? Усачев упал, зная, что знамя будет поднято!
Сзади по тракту катились колеса тяжелой телеги. Заичневский сошел с дороги, не оборачиваясь.
— Э! — услышал он и обернулся.
Дядя Афанасий шел рядом с возом. Коняга, натруженно изогнув шею, тянула оглобли.
— Домой? — спросил дядя Афанасий. Заичневский кивнул.
Шли молча, без разговоров. Груз был невелик, но тяжел: гвозди, костыли, скобы. Груз позвякивал незвонко.
— Что ж я тебя в Тельме не приметил? — спросил дядя Афанасий. — Там этап был… Может, кого своих встретил?
— Встретил.
— Во-на как… И куда ж его?
— Куда… В Иркутск…
Дядя Афанасий слабо дернул вожжой:
— Вина его какая?
— Книги писал (хотел сказать: «Журналы», — но подумал, что дядя Афанасий не поймет).
— Вишь — книги… А они уж все и написаны…
— Что ты врешь? Как это, все книги уже написаны?!
— А о чем писать? Написано — не убий… Убиваем… Написано — не укради… Крадем. Написано — не пожелай… Желаем! Для чего книги-то писать?
— Пусть так, — немного развеселился Заичневский, — да можно ли человека за то, что книгу написал — в каторгу?
— Вишь — можно! — дядя Афанасий показал назад в Тельму через плечо кнутовищем. Коняга дернула, неверно истолковав движение его, дядя придержал вожжу: ш-ш-ш-ш…
— А справедливо это?
Дядя Афанасий подумал, сказал:
— За книги протопопа сожгли.
— Да про что писал-то твой протопоп?
— Писал, как беса в себе сокрушать.
— А как царя сокрушить, не писал? — весело спросил Заичневский.
— Э, паря… Молод ты… Беса сокрушив, царя сокрушить — раз плюнуть! Оттого и повезли твоего… В Петровские заводы али еще подальше… Шутка? Беса сокрушить! Да какая власть дозволит?
Петр Заичневский пришел из Тельмы к вечеру, когда с Красного уже уходил пароход, а на Варничном наводили порядок. В трактире подсел к нему Николай Николаевич Чемесов. Заичневский удивился.
— Я вас ищу, уж простите старика. Не сочтите за нескромность… Правда ли, что в этапе нынешнем находился сам господин Чернышевский?..
— А я почем знаю?
— Петр Григорьевич… Воля ваша… Но хоть бы одним глазком глянуть… Детишкам показать…
— А вы откуда знаете, что он — в этапе?
Николай Николаевич присел, придвинулся с локтями:
— Разговор слышал… В конторе…
— А вам зачем смотреть на него?
— Я бы вам сказал, да не смею… Сочтете меня…
— Не сочту. Говорите.
— Может быть, чайку желаете? По-домашнему?.. Олимпиада Яковлевна с детками у тещи… Я один… По-домашнему, а?
Петр Заичневский улыбнулся. Странный этот чиновник, тихий, добродушный, семейный, вдруг неожиданно сказал речь над Усачевым. Что его толкнуло?
Чемесов жил в собственном доме на Мальтийской (на Большой то есть). Было еще светло, но огонек под образом горел уже ярко. Баба (вдова ссыльнопоселенца), прислуживавшая у Чемесовых, внесла самовар.
Чемесов смотрел на Заичневского загадочно.
— Не томите, Николай Николаевич, — сказал Заичневский, — раз уж позвали, не томите.
Чемесов вздохнул:
— Бог не выдаст (перекрестился)… Покуда Еремеевна стол накроет, прошу-с.
И пошел вверх по скрипучей лестнице.
Там наверху оказалась не то кладовка, не то мансарда с единым окошком под самым коньком. Чемесов зажег свечу.
— Зимою хода сюда нет. Чердак считается. А летом…
На чердаке, как полагается такому месту, оказались ящики, тюки, гнутые бросовые, ломаные стулья, хлам. Подалее от входа находился кованый сундук, а рядом, углом к нему, другой, поменьше. Николай Николаевич установил свечу (накапав) на большом сундуке, с краю и поднял крышку малого. В малом сундуке оказались связки книг. Петр Заичневский увидел «Современник».
— Вот-с, — сказал Николай Николаевич.
— Что же вы их прячете? Они дозволены цензурою…
— Так ведь и он-то (кивнул головою на восток) был дозволен… А вон видите, как обошлось… А теперь уж, конечно… Мне и ссыльные доверяют… Я ведь и своим чиновникам даю-с…
— Никогда не называйте имен, — строго предупредил Заичневский…
— В том-то и обида, что все мы, русские люди, как чужие, — печально сказал Николай Николаевич, — имен не называть, знать не знать… Как же жить-то на свете? А мертвых называть можно?
— Мертвых можно, — усмехнулся Заичневский.
— Ну так вот вам, — сказал Чемесов и поднял из сундука связку «Современника». Там, на дне лежала обернутая клетчатым платком какая-то пачечка. Чемесов, поставив связку рядом со свечою на большой сундук, достал со дна, развернул, извлек сложенную раз в восемь бумагу, бережно развернул…
Это была прокламация «Молодая Россия»!
Заичневский задохнулся от неожиданности. Он чувствовал, что выдает себя своим состоянием, но преодолеть себя не мог. Впрочем, Чемесов не смотрел на него:
— Покойник наказал: покажите ему… Вам, значит… Умирая…
— Что ж он мне сам не показал?!
— Стало быть, не показал…
— Как же он сберег ее?
— Не сказывал…
— А вы-то прочли ее?
— Стал было читать… Боюсь… Скажите, это он (опять головою на восток) писал?
— Николай Николаевич, — тихо сказал Заичневский, — любой клятвою клянусь: не он!
— За что же тогда его? За что?!
XII
В первых днях июля шестьдесят четвертого года к заводской конторе подъехала телега о двуконь, на той телеге сидели офицер, два казака, а за ними полулежал в сене государственный преступник. Офицер молодо соскочил, вошел в контору, казаки остались. Преступник был скован по ногам — цепь задела за доску, когда он стал слезать.
Возле конторы, как бы сами по себе, как бы вдруг, ни с того ни с сего оказались сам управитель Некрасов, пристав припасных и соляных магазинов, Николай Николаевич Чемесов, письмоводитель, казначей, лекарь, полицмейстер, косой тот злобный подпоручик, акцизный и еще разные-всякие.
Арестант был как арестант — начальству привычное дело. Кондрат проходил в сей час мимо конторы и отметил про себя, что начальство перед телегою очутилось все скопом так, будто прибыл не закованный тощий, измученный каторжный, а чуть ли не какой начальник. И еще заметил Кондрат, что арестанта этого не иначе как ожидали, а для чего — неведомо.
Конечно, Кондрата увидели, кто-то крикнул ему:
— Пшел вон!
Кондрат и пошел, как велели. И только услышал слова лекаря:
— Расковать… Слаб…
— Петра Григорьич, — поспешно явился к Заичневскому Кондрат, — привезли какого-то… Видать, не простой. Вроде начальства… Может, граф какой, цареотступник? А скорее всего — архиерей…
Заичневский писал казенные бумаги. Поднял голову:
— Какой еще архиерей?
Вошел изумленный Чемесов, зашептал радостно:
— Он здесь! Здесь… В лазарете… Боже праведный…
Заичневский вмиг сообразил, кого привезли, выбежал, зашагал к лазарету. Значит, в Иркутске не оставили. Значит — варницы. И вспомнил почему-то кувшин с молоком.
Несколько дней пребывания в Усолье не прибавили Чернышевскому сил, хотя покуда (до какой поры?) поселили его приватно у чирочника Назара Исидорыча, в чьих ичигах и чирках ходило пол-Усолья.
Чирочник привык к простым заказчикам, однако теперь вдруг стали являться именитые, барышни, барыня местные, которые прежде ближе, чем в Тельме, обуви ее шили. Приходили пялиться на тихого этого постояльца, смекнул Назар Исидорыч. Кто он таков? У этого своевольца в красной рубахе Назар Исидорыч постеснялся спрашивать. У Кондрата же спросил.
— С государем повздорил, — пояснил Кондрат, — не стану, говорит, освящать волю. Мнимая она. Господа тебя обдурили, а ты — уши развесил…
— Обидно, — сказал чирочник.
А к вечеру явился этот, в красной рубахе, на уху звать.
Поговорили о чем-то, постоялец собрался, пошел.
Петра Григорьевич, как отметил Кондрат, не то чтобы суетился перед новым каторжным, не то чтобы робел, а как-то признавал за ним силу немалую. Убрался, книги сложил, веником сам прошелся — как на смотрины.
Разговор не ладился. Кондрат так понимал: присматриваются. Будто разной веры. Смотрели книжки, листы писанные. Кондрат занимался ухою на мангале во дворе, в дом не заходил.
Дядя Афанасий осаживал своего каурого мерина. Мерин, смирный, ледащий, — как взбесился, загоготал, сломал оглоблю (треск был слышен) и вдруг встал, понурив голову до земли. Дядя Афанасий кричал, грел конягу кнутом со зла, мерин сносил кнут, как неживой.
— Теперь слегу менять, — сказал Чернышевский. Заичневский встал.
— Пойду помогу.
Но там, за окном, уже был Кондрат, еще кто-то, смеялись, дядя Афанасий разводил руками: с чего бы его, смирную волчью сыть, бес раздразнил?
Чернышевский сказал негромко:
— Сядьте. Там — без вас… Как видите, экстренная деятельность смирной лошади — внезапна… В таком состоянии она может в пять минут унести воз так далеко, что в целый час не продвинуться… Но без надлежащего направления такому порыву останется лишь поломанная оглобля… Вот — извольте. Стоит, понурилась, как будто стыдится за свою выходку…
Вошел Кондрат:
— Видали?
— Что с каурым?
— Гнус! — захохотал Кондрат. — В ноздрю! И — слепень в то место! И — враз с двух сторон! Ой, батюшки! Мерин, а как взвился!
Чернышевский повеселел:
— А хозяин ругается, небось?
— Нет, — возразил Кондрат, — ему нельзя никак. Он — старой веры.
За окном мерин боком тащил воз на одной оглобле.
— До дому дойдет, — сказал Кондрат, — тут — в гору, не беда.
Чернышевский рассмеялся:
— На одной оглобле! Кстати, об оглобле… Я понимал ваши надежды на староверов как на протестантов казенного православия. Оппозиция земства государству. Вы ведь против религии ин корпоре, а они лишь против официальной имперской. На безбожии вы с ними не столкуетесь. Вы бы лучше обратили внимание на то, что они прибирают к рукам промышленность, финансы, производство! Это поважнее протестантского двоеперстия…
Кабинетный человек? Два года назад, когда Слепцов уговаривал смягчить «Молодую Россию», Заичневский был оскорблен: мы не мальчики! Что с того, что вас прислал Чернышевский?! У нас своя голова! Но вот Чернышевский здесь, в каторге. Не «Молодая ли Россия» прибавила ему причин оказаться здесь?
— А где Слепцов? — неожиданно для самого себя спросил Заичневский. Чернышевский не удивился вопросу:
— В Лондоне.
Слабая улыбка на сероватом осунувшемся лице почему-то взбесила Заичневского:
— А вы почему (хотел сказать: «какого черта») не в Лондоне?!
Чернышевский снова тихонечко рассмеялся:
— Так я ведь уже бывал в Лондоне…
— Ничего смешного не вижу…
— Я — тоже… Мне ведь они предлагали… Даже обещали доставить до границы в целости и сохранности…
— Кто?!
— Господин Потапов.
Заичневский опустил голову. Хотел спросить — когда предлагали? До «Молодой России»? Не спросил. Тихий смех сменился было печалью, но печаль не удержалась. Глаза Чернышевского сделались твердыми, металлическими:
— Очень жаль, что вы так подумали.
Петр Заичневский вспыхнул, спохватился:
— Вы не поняли меня. Я бы тоже никогда, ни за что!
— Зачем же спрашивали?
— Николай Гаврилович, ради одной причины — не хочу, чтобы вы были в каторге! — искренне пояснил Заичневский.
— Не продолжайте, — слабо отмахнулся Чернышевский. — История никакого «бы» не признает-с… Такая, знаете, злопамятная дама (и снова пристально — в глаза). Я не унижусь ни до того, чтобы бежать, ни до того, чтобы просить милости. Я знал, что делал, с самого начала…
Вошел Кондрат, неся в тряпках большой чугун, парящий свежим рыбным духом.
— Когда Сократу устроили побег, он предпочел цикуту, к которой был присужден, — усмехнулся Петр Заичневский.
— Занятный философ Платон, — вяло ответил на это Чернышевский и посмотрел в глаза. — А вы непременно ищете случая лезть на рожон… Видите ли, Заичневский… Я радуюсь, что моему голосу придано больше прежнего силы и авторитетности… Моему голосу, который… Зазвучит же когда-нибудь (махнул рукою в окно), когда-нибудь!.. В защиту десятков миллионов нищих…
Заичневский посмотрел в окно и увидел лицо, заглянувшее как бы невзначай. Потом — еще лицо… Все чиновники и офицеры сбегались смотреть на государственного преступника Чернышевского, который оказался для них как чудодей для малых ребятишек, выше разрядов, выше определений, выше самого государства! Этого они не осознавали. Человеческое простодушие одолевало их служивую тупую силу перед этим немощным арестантом, для которого что-то непостижимое оказалось главнее жизни и смерти.
Кондрат, похожий на ловкого медведя, расставлял глиняные миски. Уперев в грудь арестантский черный каравай, резал ножом к себе. Чернышевский посмотрел с интересом в миску, спросил Кондрата весело:
— Как же ты ее варишь?
— Наука, — пояснил Кондрат.
— У нас на Волге стерлядка… Голубка-рыба…
— И-и-и… Тута — хариус, ваше преосвященство! Кондрат почему-то упорно считал нового каторжного — расстриженным архиереем.
— А ведь мне в этих днях — тридцать шесть лет, — смущенно сказал Чернышевский, — многовато…
XIII
Чернышевского не оставили в Усолье. Петр Заичневский проводил в неизвестность не молодого (тридцать шесть лет!), не здорового человека, который не унизился ни до того, чтобы просить, ни до того, чтобы бежать. Может быть сентиментальное заявление «Я ухожу», с которого, в общем, начинается роман «Что делать?», несет в себе смысл сокрытый? Мы не совпали со взрывом. А был ли взрыв? Нет, взрыва не было. Были вспышки. Как шутихи в иллюминациях. Шутихи. С кровью, с кандалами. Когда же теперь — взрыв?
Ситуайен Пьер Руж (кстати, кто здесь, в Усолье, назвал его кличкой, которую дал еще в Москве Перикл Аргиропуло?) оставался с вопросом: «Что делать?» Революция шестьдесят третьего года, так яростно маячившая перед воспаленным взором, — уходила, уплывала, уносилась. Что делать? Надо принять обстоятельства. Но сам смысл революции разве не состоит в том, чтобы изменить их? Но как?
— Струмент ладь, струмент, — учил дядя Афанасий, — без струмента вошь не убьешь…
Теперь Петр Заичневский жил в поселении. Служил в конторе, помогал (любил ремесло) плотникам, читал книги и думал: надо ладить «струмент». Вся беда оказалась в том, что инструмент не был отлажен. Организация, только организация! Если бы была организация!..
Смирный мерин дяди Афанасия тащил телегу, ситуайен Пьер Руж шел, причмокивая, рядом с колесом.
Полуэтап, серый, усталый, грелся на бугре в октябрьском солнышке. Арестанты, увидев при телеге Петра Заичневского, чутьем догадались — ссыльный. Поднялись, окружили. Конвойные узнали этого бешеного самоуправца, один, молодой, востроносенький, даже оскалился весело: здравия желаю, ваше благородие! Стали расспрашивать о знакомых — кого видел, о ком слышал. Заичневский отвечал обстоятельно.
Молодой человек, заросший, пыльный, сказал негромко:
— Я хочу их видеть…
— Садитесь на телегу…
Арестант сел свободно, как в экипаж. И то, что он так смело, не заботясь о последствиях, превозмог обстоятельства, придало Петру Заичневскому куража. Он сказал казаку:
— Братец! Доложи начальству — повезу в Усольскую контору, к лекарю. Вишь — слаб, не дойдет… А господину управителю я сам доложу!..
Они были знакомы с молодым арестантом и тотчас узнали друг друга. Но двигались молча, делая вид, что не знакомы, по инстинктивному, никем не преподаваемому правилу здешних мест, Заичневский шел, арестант сидел, свесив тяжелые рыжие сапоги. Наконец он не выдержал, спросил по-французски:
— Так это вы говорили речь на паперти французской церкви?
Заичневский улыбнулся:
— А не вы ли кинули мне дурака?
— Я назвал вас лайдак…
— Да-да… Помнится… Ну и как вы меня находите теперь? По-прежнему ли вы полагаете, что император и самодержец всеросеийский, царь польский, великий князь финляндский и ваш покорный слуга — одно и то же лицо?
Слово «самодержец» Петр Заичневский сказал по-русски, не найдя французского равнозначного слова.
Арестант отвернулся:
— Я считал ваше нелепое выступление неуместным, неумным и провокационным.
— Это вы писали ответ на мою речь?
— Да. Но не я один.
— Разумеется.
…Это было ранней весною шестьдесят первого года. Или в марте? Во всяком случае, в дни оглашения царского манифеста о воле. Тогда все было связано с этими днями.
Во французской католической церкви на Малой Лубянке, в Милютевском, шла обедня. Собрались польские студенты Московского университета. Заичневский ждал конца мессы, не входя в храм. Когда же месса кончилась, он вдруг поднял руку, находясь на крыльце. Он стал говорить о смерти Кавеньяка, обращаясь сразу ко всем, но выискивая кого-нибудь одного, чтобы встретиться взглядом, найдя поддержку. Но кто-то насмешливо перебил: «Какого Кавеньяка? Годефруа или Эжена?» Вопрос бил как хлыст по лицу. Петр Заичневский собирался говорить о братстве студентов всех наций, а тот, кто спрашивал, будто угадал. Вопрос вызвал смех язвительный, обидный. Кавеньяки были братья. Но Годефруа был революционер, а Луи-Эжен — палач революции. Впрочем, Петра Заичневского нельзя было сбить. Он громко, твердо говорил о славном Годефруа, на могиле которого все партии примирились и подали друг другу руки, сплотившись перед общим врагом.
— Мы должны подать друг другу руки! — звал Заичневский тех, кто не желал его слушать. Они посмеивались, а он внушал им, что враг один и знамя должно быть одно! — Подадим же друг другу руки!
Но рук ему не протянули. Насмешливый молодой человек, спросивший про Кавеньяков, сказал презрительно, через губу: «Лайдак».
Заичневский остался один. Однако ответ на его речь, называемую уже выходкой, явился в виде письма:
«Враг у нас общий… Но для вас он родной — он вырос и укоренился на вашей же почве. Он подавил, правда, вашу свободу, но доставил вам внешнее величие… Для нас он чужд совершенно и отнял у нас все…»
Нет, социальное объединение, к которому звал Заичнeвский, не принималось:
«Время социализма для нас еще не настало, так как ни у вас, ни у нас нет пролетариата, который бы представлял разумную основу и оправдание его существования. По нашему мнению, социализм для вас роскошь, чуть не излишняя, а для нас просто непозволительная».
Для нас, для вас… Для нас, для вас… Хоть ответили, и на том спасибо. Следовательно, думают, мыслят…
И вот он здесь — красивый, мужественный молодой человек, язвительный и, может быть, даже высокомерный. Для нас, для вас… Каторга здесь общая и для нас и для вас, не подавший руки товарищ!
XIV
— Николай Николаевич, — сказал полицмейстер, — я в должности… Я ведь не к нему, прошу понять. А ведь я к тому, что чуждо… Чуждо-с! Нельзя-с!
— Да почему же? — внушал Чемесов. — Ну привез товарища, ну доставил узникам радости — много ли ее тут?
— Николай Николаевич! Зла ведь у меня нет на него, святой истинный крест! Он нашкодит, я осерчаю, по должности, потом подумаю: молодец! (Вдруг — тихо, почти шепотом.) Стеньку Разина четвертовали! А ведь — молодец!
— Господь с вами! — отмахнулся Чемесов. — За что его четвертовать?
— Не дай бог! Я к примеру… Я к тому, что — молодец!
— Ну! — обрадовался Чемесов. Соловаров вздохнул:
— В том-то и суть… Нельзя, чтобы — молодец! Чуждо! Я в должности. Я — государев слуга. Не просите. Я ведь — не со зла. Долг мой — доложить по начальству. А дальше — бог милостив…
«3-е отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Вследствие поступившего в 3-е отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии ходатайства об облегчении участи сосланного в 1862 году за политическое преступление в каторжную работу и в последнее время переведенного на поселение бывшего студента Московского университета Петра Заичневского — имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство почтить меня уведомлением, где именно находится ныне Заичневский и если он по своему поведению заслуживает помилования, то в какой мере оно могло бы быть ему оказано.
Управляющий отделением Свиты Его Величества генерал-майор Мезенцев».
Председательствующий в Совете главного управления Восточной Сибири генерал-лейтенант Константин Николаевич Шелашников служил не первый год и понимал, что ежели Николай Владимирович Мезенцев покорнейше просит почтить уведомлением о поведении ссыльного, стало быть, судьба указанного ссыльного решена. Константин Николаевич не знал, кто такой этот Заичневский, но он умел читать начальственные бумаги, как музыкант yмеет читать ноты, выискивая истинное звучание партитуры. Он приказал доставить бумаги ревизора поселений.
Итак — Заичневский, Петр, двадцать лет, православной веры, росту два аршина восемь вершков, волосы черные, глаза карие, зубы — все. Рот — нос — умеренные, лоб низкий, широкий, особенных примет нет… Можно казнить, можно и миловать… Из бывших студентов… За произнесение публичных речей возмутительного содержания и распространение запрещенных литографированных и печатных сочинений… Лишен всех прав состояния… В каторжную работу… Его императорское величество соизволил ограничить срок работ одним годом…
Константин Николаевич листнул дело: преступник тогда был несовершеннолетний, от того и соизволил государь ограничить ему срок работ… Далее — поступил в Иркутск 12 мая 1863 года… Далее… По постановлению Губернского правления назначен в работу в Иркутский солеваренный завод 25 мая 1863 года. Ну-с… Постановлением Губернского правления на 5-е октября 1864 года назначен для поселения в Витимскую волость Киренского округа… Ревизор поселений — Лукьянов.
Выходит, Заичневский этот находился полтора года в Усольских заводах. Отчего же не оставлен там же на поселение? Впрочем, это уже неважно. Тональность бумаге из Третьего отделения была весьма благополучна для бывшего студента.
Константин Николаевич отправил запрос гражданскому губернатору:
«Покорнейше прошу Ваше Превосходительство доставить мне в возможно непродолжительном времени сведенья, по какому случаю или за что именно удален Заичневский по окончании срока работ в Киренский округ, а также уведомить меня о поведении помянутого преступника во все время нахождения его в ссылке, также о наблюдении его поведения с присовокуплением мнения Вашего о том, может ли Заичневский по своему образу мыслей в политическом отношении заслуживать помилования и в какой мере оное могло бы быть ему оказано».
Последние слова Константин Николаевич в точности напасал как у Мезенцева.
Исполняющий должность иркутского гражданского губернатора с ответом не замедлил:
«Имею честь довести до сведения Вашего Превосходительства, что государственный преступник Петр Заичневский, по увольнении от работ, назначен на поселение в Киренский округ за то, что он позволил себе привести из тельминского полуэтапа в Иркутский солеваренный завод, для свидания с политическими преступниками, политического же преступника Якубовского, о чем Вашим Превосходительством, по званию начальника Иркутской губернии, донесено было господину генерал-губернатору Восточной Сибири 3 октября 1864 г. за № 1065».
Вот тебе раз!
Константин Николаевич перечел это место: неужели доносил? И нумер есть! Почему ж он не помнил никакого Заичневского? Генерал-лейтенант Шелашников не любил намеков на свои оплошности. Заичневский, оказывается, преступник дерзкий и своевольный. Вот и весь ответ на отношение генерала Мезенцева! Однако Константин Николаевич знал, какого ответа от него ждут. И, читая далее донесение, увидел, что не один он обладает государственным понятием:
«По собранным сведеньям оказалось, что Заичневский за все время нахождения в Киренском округе был поведения хорошего и ничего предосудительного в образе мыслей и в политическом отношении за ним не замечено, средства же для существования Заичневский приобретает через занятия у коммерческих лиц. При этом имею честь доложить Вашему Превосходительству, что, по моему мнению, Заичневский по настоящему своему поведению и образу мыслей заслуживает облегчения его участи, которое могло бы быть ему оказано по примеру других государственных преступников, представлением ему права перейти на жительство во внутренние губернии, ибо Заичневский находится на поселении в Киренском округе уже более трех лет».
Конечно, без капли дегтя мед, ожидаемый в Питере, был бы слаще. Но, капнув дегтем, исполняющий должность иркутского гражданского губернатора взял на себя и ответ. Выходило, что он давно ждал похвалить Заичневского Шелашникову. Теперь нужно донести в Петербург, что и Шелашников давно ждал случая похвалить Заичневского Мезенцеву.
Константин Николаевич велел писать.
Молодой, прыткий чиновник писал быстро, не разберешь, букву «л» изображал в русских словах по латинскому — «L», знал французский язык и оттого якобы путал. Но был делен. Константин Николаевич наговорил ему под быструю руку, и вот — пожалуйста — ответ Николаю Владимировичу Мезенцеву ясными, уважительно наклоненными литерами. Так мол и так, действительно пошалил, но быль молодцу не укор, а главное — то, чего ждали в Петербурге:
«Со своей стороны полагал бы возможность облегчить участь преступника Заичневского дозволением ему переселиться на жительство в одну из внутренних губерний России, так как ссыльный этот в продолжение более трех лет отличался хорошим поведением и ведет безукоризненный образ жизни, понеся достаточное наказание за свое преступление».
Кто же ему там колдует в Петербурге? Нос умеренный, глаза карие, рост — дылда, особых примет не имеется… Бог с ним! Пускай его едет во внутренние губернии! Константин Николаевич был весьма доволен собою, ибо сам велел вставить про безукоризненный образ жизни этого наглеца, которого он не помнил, хоть убей!
А Петр Заичневский ничего об этом не знал.
Четвертый год он жил после Усольского завода в Витиме на вечном поселении, служа для пропитания в пароходстве у господина Беклемищева. Пароходство это было центром политической жизни Витима. Впрочем, никакой иной жизни там и не было, поскольку двадцать два ссыльнопоселенца были политическими преступниками и каждый из них приходился на десять местных жителей.
Кондрат (тоже прибился в эти места) заметил резонно, что человек находится на вечном поселении только у одного господа бога, а никак не у начальства, поскольку и само начальство пребывает в божьем промысле…
XV
Кондрат пообвык, превозмогая бродячую свою натуру, к витимскому житью-бытью. Гришутка Непомнящий, собрав артель таких же, как сам, бродяг, прибирал к морозам трехсаженные карбазы Беклемищева, искал дела.
Теперь они дружились по-братски и еще теснее. Сказывали, того лютого подпоручика, который велел сечь Гришку, господь принял: не вернулся случаем из тайги.
Гришутка Кондратову плеть и не помнил, потому что понимал главное: без битья на свете не прожить, а человек он, Кондрат, хороший. Петра Григорьевич ругал тогда в Усолье Кондрата, да может ли барин понять, что и дурачку ясно: упаси бог в палачах быть, да как без него?
А жизнь шла — бумажная и всамделишная.
Бумаги лишены воображения. Они безучастно отражают сущее, хладно согласуются друг с другом, хладно противоречат друг другу и хладно исключают друг друга, сосуществуя в одной папке.
Осенью шестьдесят восьмого года в папках генерала Мезенцева появилось донесение, никак не соответствующее тону предыдущей переписки:
«В Москве возникли слухи, что бывший студент Московского университета Петр Заичневский, сосланный в 1862 г. по лишению всех прав состояния в Сибирь, в каторжную работу на заводах на один год, по истечении же этого срока на всегдашнее там поселение, ныне возвращен будто бы из Сибири в одну из внутренних губерний империи и что он, будучи проникнут зловредными идеями социализма, коммунизма и нигилизма и, руководил прежде студентами Московского университета в тайном печатаньи и распространении запрещенных сочинений, намерен с той же целью возобновить тайные сношения свои с университетской молодежью».
Бумага эта обогнала Заичневского. Она предупреждала о неисправимости бывшего московского студента. Явись она несколько раньше — может быть, бумага сия и повлияла бы на ход дела. Но начальство не любит менять направления.
Дело было сделано. Той же осенью казенная почта доставила в Витим позволение политическому преступнику Петру Заичневскому вернуться в Европейскую Россию…
Господин Беклемищев сам собирался в Иркутск. Кондрат понимал, что при нем, однако, не пропадешь в дороге. Но можно и здесь, в тайге, промышлять. А как? От себя ходить — не находишься, изловят с рухлядью. Беда, если человек родился с гвоздем в том самом месте!
Ссыльные, человек двадцать, пришли на посошок. И тут Кондрат увидел, что не вино и не строганина, и не расставание, и не письма, принесенные для такой оказии, собрали их, а все те же книжки, читаные-перечитанные, все те же слова, сказанные-пересказанные:
— До встречи в Зимнем! До встречи в Кремле!
Где тот Зимний, где тот Кремль — тут до Иркутска еще доберись-ка! Выехали обозом. Мороз был не сильный, ехали хорошо. В Солянской Гришутка с Кондратом пропали. Ушли все-таки. Бегство это вызвало сожаление Беклемищева: поймают непременно, придется выручать.
Петру Григорьевичу братство жертвы и палача казалось все эти годы нелепым и противоестественным. И только столкнувшись с Афанасием Щаповым (в иркутском доме Беклемищева), он открыл для себя много такого, чего и не брал в расчет.
Щапов был плох, тощ, пьян, погублен. Глаза его горели, как костры для еретиков. Рожденный проповедником, даже не проповедником — неистовым увлекателен, он бросался на слушателя терзать своими думами, кровавившими его душу. Больной, сосланный, обойденный, изломанный, он существовал не плотью, дьявол ее раздери, а высоким духом.
— Вы! — тыкал он костяным перстом в Заичневского, — вы слепец! Вы не видите мирской правды! А она проста. Жертва и палач? Вам какое дело? Кто вы со своими отвлеченными теориями? Что вы знаете? Бегством и разбоем отвечает народ на вашу государственность!
— Да почему мою?!
Щапов не слушал:
— Мужик подерется, окровавит мужика, загубит, отмолит — это его жизнь! Его! А мы? Формы ассоциаций? Фаланстеры? — Расхохотался сатанински, страшно, закашлялся и водкой, как водою, унял кашель. — Немощью насильничаем! Бесплодием оплодотворяем! Книжники, мы веруем в небывалость! А где он — крестьянский мирный такт, артельный дух, мирской ум-разум? Где он, энергический, живой дух любви, совета и соединения? Ответьте мне вы, поучитель поучаемых, которые сторонятся вас!
— Кого это — нас? Кого это — вас? — заревел Заичневский. Он не терпел, когда на него повышали голос.
Щапов сообразил это вмиг и совершенно неожиданно сказал спокойно, как дитяти:
— Пустое, разговорное, журнальное изъявление сочувствия мужику… Не то, не то… Мы в городах должны выискивать способы жизненного объединения, учиться у сельского мира сходчивости, совещательности… Он груб, сельский мир? Да он здоров…
Заичневский не слушал. Здоров? Надо проверить.
— Едете в Россию, — вздохнул Щапов, — в Россию. А я — тут… А знаете? Сибиряки более корыстны, чем великороссы… Тут стимул — нажива… — стал постепенно распаляться. — Это чудовищная Америка со всеми ужасама предпринимательства. Гуманность, честность, справедливость небольшой части сибиряков кажется всем глупостью, простофильством! Честен — значит дурак!!!
— За дурака спасибо, — сказал Беклемищев.
Щапов ничего не ответил, подставил под лобастую голову руку, уперся локтем в стол.
Одиннадцатого января шестьдесят девятого года Петр Заичневский выехал в Россию.
Он думал о Щапове. Щапов остается в Сибири — проклинать сибирские нравы, жажду наживы, скотское вероломство, собственность, растущую на истязании мужика, который междоусобно подерется — помирится, и это его, мужика, дело… Щапов, наверно, скоро сгорит. Не вином, нет! Он сгорит огнем, которого в нем больше, чем способен выдержать в немощном своем теле человек. Щапов. Тот самый казанский бакалавр, отслуживший панихиду по Антоне Петрове, вожаке бездненского восстания, ровно за год до беспощадной прокламации «Молодая Россия»…
МОЛОДАЯ РОССИЯ
1862.
Москва
I
Революция висела в воздухе и ожидалась на пасху (нетерпеливые говорили — на масленую) шестьдесят третьего, когда истекут два года временной обязанности крестьян, предусмотренной Положением девятнадцатого февраля, отменившим крепостное право.
В селе Бездна, под Спасском, мужик Антон Петров поднял бунт. Говорили, сразу после бездненской крови взбунтовалось еще тридцать тысяч мужиков. И, рассказывал сам полковник, разгонявший их, над толпою развевалось красное знамя!
Тверские мировые посредники — дворяне из хороших семей — заявили в губернском присутствии о невозможности применения Положения. Они объявили, что впредь намерены руководствоваться воззрениями, не согласными с Положением, так как всякий иной образ действий считают враждебным обществу. Посредников заперли в Петропавловскую крепость. Говорили, среди них находятся братья известного Бакунина. Мятежный род!
«Колокол» напечатал секретную речь царя, царь упрекнул министров в несоблюдении тайны.
Говорили, триста питерских студентов намерены захватить в Царском Селе цесаревича Николая Александровича да и послать по электромагнитному телеграфу в Ливадию ультиматум царю: конституция или смерть царевича!
Жизнь стремительно шла к революции. Все, что казалось вчера еще невозможным, обретало реальные очертания. И как не похоже нынешнее решительное поколение на тех, кто вчера еще владел сердцами и умами, на людей сороковых годов, канувших в Лету! Люди сороковых годов ждали освобождения крестьян. Люди шестидесятых дождались и увидели всю гнусность освободительной реформы. Увидели все — гимназисты, курсистки, студенты, подпоручики, акушерки, журналисты, купеческие дети и, вероятно, народ, если он бунтует, подобно Антону Петрову! Молодым людям казалось, что Герцен, тот самый Искандер, за одно хранение статей которого полагалась тюрьма, — безнадежно устарел, потому что никак не готов был пролить великую кровь. Даже Чернышевский, при всем уважении к нему, уже не годился в реалисты. Революция стучалась в сердца, наполняла души, головы, речи. Воля, едва только скатившаяся с трона и запрыгавшая шариком по мраморным ступеням вниз, в народ, уже никого не устраивала. Требовалась немедленно воля другая — широкая, неуемная, неограниченная, раздольная.
А между тем ни гимназисты, ни курсистки, ни студенты, ни подпоручики — дети произвола и деспотизма, выросшие в рабстве, не брали в толк, что, в отличие от воли, которой они немедленно пожелали, свобода, о которой они вычитали из книг, предполагала ответственность граждан перед законом. Они искренне полагали, что рабство держится кандалами и достаточно сбить их, чтобы наступили свобода, равенство и братство. Но кандалы держались рабством…
Московская осень шестьдесят первого года с яркими морозными днями, с неожиданной, впрочем быстро стаявшей порошей, ознаменовалась студенческими беспорядками. Что-то произошло с московскими студентами. Всегда работящие и не ленивые, они вдруг охладели к наукам, пытаясь проскочить экзамен, как говорится, «на фуфу». Но это была не лень. Это было какое-то нарочитое подчеркивание второстепенности ученья, будто студенты находились в университете для чего-то иного, не для науки, а для каких-то целей, не предусмотренных уставом.
Над профессорами явно издевались, освистывали их демонстративно, как скоморохи, брякались перед ними на колени, выпрашивая оценки без экзамена, угрожали, наводили страх, обещали воспользоваться дурными отношениями между ректором и попечителем, дурачились, устраивали внезапные сходки. Позволение не носить форму послужило причиной небывалых машкарадов, в аудитории набивались посторонние лица. Однако среди студентов выделялись красные, или радикалы, прогрессисты. Они не ёрничали и не дурачились. Они собирали сходки в университетском саду и говорили речи.
— Братья! Лучшие из нас, наши товарищи и коллеги Перикл Аргпропуло, Иван Гольц-Миллер, братья Заичневские, Апполинарий Покровский, Василий Праотцев, Павел Шипов, граф Салиас, Александр Новиков, Всеволод Костомаров томятся в каменных мешках Петропавловской крепости! Мы, оставшиеся на воле, обязаны продолжить их дело! Мы добьемся своего любым путем, хотя бы и незаконным!
В чем состояло дело, никто не брал в толк, не приходило в голову, пылающую единым желанием чего-то нового, небывалого, не похожего на прежнее бытие. Там, в застенках, были лучшие из лучших. Они уже страдают и зовут своим примером к самоотречению, к самопожертвованию и даже к самой смерти за великое дело. Никого не смущало, что Покровский, похожий на длинного безместного дьякона, и аккуратный, крепенький Праотцев находились тут же на сходке. Никого не занимало, что Костомаров не студент. Это уже было не важно. Страстное воображение испепеляло любую очевидность.
Пришла пора речей, возмущений, надежд. В такую пору даже беда воспринимается как предвестье радости.
— Пусть! Пусть нас угнетает позорный режим! Мы пройдем через все унижения и победим!
— Пусть Европа увидит, сколь обскурантно правительство! Пусть правительство закроет все университеты к своему позору!
На Пятницком кладбище, на могиле Тимофея Николаевича Грановского, Василий Праотцев, размахивая шапкой, провозглашал славу великому учителю. И то, что он, Василий Праотцев, был несколько дней назад упомянут среди томящихся в застенке товарищей, придавало ему какое-то особенное значение, как придается воскресшему или спасшемуся чудом.
— Если бы был жив Тимофей Николаевич, он встал бы во главе нашего правого дела!
Правое дело было ощущаемо всеми. Его нельзя было выразить словами, его нельзя было изложить, оно горело внутри сердец, горячило головы и звало быть против всего, что есть, но во имя того, что будет. В состав этого правого дела входило все — и устрашение нелюбимых профессоров, и адрес на высочайшее имя, и требование приема на казенный кошт беднейших молодых людей, жаждущих просвещения.
Напуганная полиция хватала невпопад, пропуская красных радикалов и прогрессистов.
Дело шло к победе. В экзерцицхаузе накапливалась полиция. Она бездействовала. Было совершенно ясно, что напуганный полицмейстер приказал — не вмешиваться. Дошли слухи, что сам генерал-губернатор держит сторону студентов против попечителя. Вчерашняя делегация была им благосклонно выслушана и отпущена с уверениями.
Утром по Моховой на Тверскую к губернаторскому дворцу двинулась толпа. Студенты шли вольно, небыстро, но стройно, весело. А за ними правильным строем шагали полицейские и жандармские нижние чины — и невесть откуда взявшаяся пехота. Толпа веселилась от такого сопровождения. Поднялись по Тверской, стали полукругом у генерал-губернаторского дома. Выяснилось, что делегация, хоть и была выслушана и отпущена, да почему-то оказалась в тюрьме. Начался шум нарастающий, опасный.
И тогда нижние чины, жандармы и пехота, вклинившись между губернаторским дворцом и толпою и тесня ее к трактиру «Дрезден», кинулись расталкивать, размельчать толпу и загонять ее во двор Тверской части. Это был неоговоренный сигнал. Дворники, смирно ждавшие, что будет, молодцы окрестных лавок, любопытственно стоявшие у заведений, обыватели, простые люди, бывшие без дела и с делом, вдруг, взвизгнув радостью дозволения, кинулись бить, тузить, валить, топтать, гогоча безрассудной яростью. Студенты кричали, уговаривали: «Мы же за вас! За вас! Братцы!» Но осиневшие подтеками беспомощно вопящие их господские лица, коих ни-ни, пальцем нельзя! — лишь подбавляли яростной охоты бить побитого, топтать сваленного, добивать неумелого, лупить во что попало барчуков.
Праотцев, распихивая свалку (откуда силы взялись!), прорвался в генерал-губернаторский дом:
— Ваше высокопревосходительство! Режут, на что это похоже? Прикажите вашим остановиться!
Праотцева схватили тут же.
Эта драка — многолюдная, веселая поначалу (почему бы не помериться?) — постепенно зверела, жаждала крови и была уже не свалкой, не дракой — побоищем, когда лютое упоение окрасняет глаза, подпирает к горлу, бодрит треском ударов, болью кулаков, гоготом победы.
Молодцы с Тверской, со Столешникова, сверху от Страстного, снизу с Охотного неслись, размахивая дрекольем. Били полицию, били солдат, били любого, у кого голова, два уха и разинутый криком рот. Солдаты отбивались прикладами, прискакал конный полувзвод, свистя нагайками, а барчуки эти, студенты, махали неумелыми руками, не то отпихиваясь, не то прикрывая затекшие глаза, раскровавленные носы, разбитые рты…
Мало-помалу побоище утихло, но не тем, что иссякла сила, а наведенным порядком — городовые хватали побитых, тащили, как тюки, под шары, в Тверскую, и народ пропускал власть, остывая и лишь выкрикивая то, что не успелось утолиться битьем.
— Так их, сукиных сынов! Тащи, не бойсь!
— Так их, барских выродков, государевых ослушников!
А эти — побитые, тащимые, будто даже расхрабрились, когда кончилось избиение, кричали друг другу отчаянно, будто не их только что дубасили и не их сейчас тащили в часть:
— Товарищи! Не сдаваться! Мы победим! До встречи в Кремле, господа! Да здравствует революция! Вив л’имперер Наполеон Труа! Да здравствует Наполеон Третий!
Жандармский полковник Воейков разбирался назавтра в своей комиссии. Полковник видел синяки, вспухшие губы, замечал, что иные говорят со свистом сквозь выбитый зуб, слушал терпеливо, требовал выдать зачинщиков. И требование это придавало побитым юношам стойкости:
— Я не стану отвечать! Мое место там, где мои товарищи! Немедленно отправьте и меня под замок!
Куда там под замок!.. Там под замком — как сельдей в бочке у рыбного торговца. Надо сделать внушение да и отпустить. Синяки и выбитые зубы сами по себе вразумят. Жандармский полковник отмечал про себя, что юнцы эти, слабенькие, неумелые в обыкновенной драке, обладают все же каким-то необоримым духом, жгущимся в их подбитых глазах. Под замок. И что за страсть — под замок? Такого еще не бывало в его службе.
Дрезденское сражение, как назвали свалку острословы, придало новых сил: все-таки будет революция! Бойцы крепнут в борьбе!
Полковник увидел перед собою небольшого крепкого молодца в хорошей (надорван рукав) одеже, со слегка подбитым глазом, однако, видать по всему, парень этот драться умел. Конечно, в часть попали не одни господа студенты, но полковнику Воейкову показалось, что малый этот попал в драку случайно.
— Кто таков? — строго спросил полковник.
— Временнообязанный Лука Семенов Коршунов… Жительство имею у купца Сверебеева, скобяные товары, приказчиком.
Лука отвечал бойко, толково, полковник даже поленился спрашивать бумагу:
— Как же ты тут очутился?
— Ваше высокоблагородие! Послан был в магазин Андреева за чаем-сахаром!.. Иду, вижу — драка… Мне бы пройти, однако…
Полковник усмехнулся:
— Кого бил? Господ студентов?
— Никак, ваше высокоблагородие… Как можно… Отбивал… Оба барина мои студенты, как можно-с…
— А где же твои господа?
«Так я тебе и сказал», — подумал Лука?
— Господа — в Санкт-Петербурге.
— По Невскому гуляют?
— Да это уж как им угодно-с.
— Смел ты, однако… Ступай…
Московские прогрессисты, либералы, радикалы, красные ревновали к Питеру. Даже арестованных летом за литографирование запрещенных сочинений московских студентов жандармы отвезли в Петербург, будто здесь, в древней столице, не нашлось бы места для своих московских бунтарей. Поэтому, когда поздней осенью в Москву вернули из Петербурга арестованных Аргиропуло и Заичневского для суда над ними в шестом (Московском) департаменте Сената, в Москве будто даже обрадовались.
Московские прогрессисты, либералы, радикалы, гимназисты двинулись к воротам Тверской части пробираться в камеры, видеть своих героев, слышать их, выспрашивать — когда же, когда? Когда революция?
И начальство (не напуганное ли давешним побоищем?) смотрело на посетителей сквозь пальцы: входите, господа, да только не толпитесь: часть, все-таки. И выпускало узников — под присмотром, разумеется — пройтись по Тверскому, а также (что полагалось по инструкции) в баньку…
II
Весьма широкое в скулах лицо коллежской советницы Варвары Александровской сходило на нет к узкому подбородку, отчеркнутому тонкогубым поджатым широким ртом. Александровская смотрела из-под сильных надбровий, впиваясь небольшими глазами, будто плохо слышала и оттого следила за губами говорящего. Сама она говорила мало и тихо. Она являлась без спросу и без спросу садилась слушать. В темных глазах ее тлела неутоленная ненависть.
Утром, под шары, в Тверскую часть, подкатывали экипажи. Тонконогие дорогие рысаки переступали изящно, по-балетному, горделиво косясь на прогуливаемых желто-пегих битюгов Тверской пожарной команды. Часовой возле полосатой будки с колоколом поглядывал на богатые выезды, придерживая веревку, — а ну генерал прибыл! Надо вызванивать караул. Однако подкатывали статские — леший их разберет, — лишний раз дернуть веревку не трудно, но вполне можно и схлопотать в рожу от господина офицера за фальшивый звон.
Экипажи ехали с Охотного ряда, везли угощение государственным преступникам. Люди (иной раз ливрейные) вносили корзины сквозь караулку, наверх. Вслед плыли дамы и господа. Пешие посетители — барышни в птичьих шляпках, юноши в студенческих сюртучках, горя молодыми очами, толпились на узкой лестнице, в узком коридоре. Запах духов примешивался к лежалому тяжкому казенному духу арестантских помещений…
Среди роскошных дам, посещавших камеру в Тверской части, как нечаянный клуб, Александровская в своем сиротском, нарочито убогом наряде должна была бы казаться золушкой, однако это было не так. Она выглядела каким-то молчаливым укором, вестником роковой грядущей расправы, которая вот-вот грянет над всеми, кто виновен смертным грехом перед народом. Смертный же грех сей испытывали все, кто сюда ходил, — потому и ходили, чтобы приобщиться к тайне заточения, к тайне очищения, к тайне, которую ведали заточенные в узилище прекрасные пророки — Аргиропуло и Заичневский.
Аргиропуло был эллин с длинным прямым носом, с афинским профилем воина и олимпийца. Такие профили древние греки изображали на своих терракотовых вазах, надевая на курчавую голову медный пернатый шлем, сдвинутый на затылок. Говорили, Аргиропуло был похож на благородного Менелая из «Илиады» — в очах его томилась грусть по похищенной Елене. Однако тех, кто так говорил, не слушали или вышучивали за романтизм: много ли проку в Менелае, когда на дворе иное время — время ожидания великих сдвигов, перед коими Троянская война из-за бабы — тьфу!
Время являло свои образы, свои лики, и Аргиропуло, несмотря на то что был натуральный грек, да еще по имени Перикл, представлялся жаждущему взору посетителей Тверской части отнюдь не эллином, но воскресшим Иисусом, спасителем заблудшего рода людского. Он был мягок, добр, невелик статью, и видеть его в тюрьме — в тенетах фарисейских — было тяжко и больно. Говорил он негромко, вразумительно, будто излагал мудрость, все еще недоступную человекам.
Заичневский же рядом с ним выглядел несуразицей — крупнолицый, с вздернутым простоватым носом, огромный, громогласный, с хриповатыми ушкуйскими громами — того и жди рявкнет: «Сарынь на кичку!»
Но именно это несовпадение двух молодых узников, будто один был духом, а другой — плотью, составляло соединение Иисуса Христа со Степаном Разиным — единый лик героя грядущих потрясений. Аргиропуло страдал за всех угнетенных, Заичневский же ненавидел всех угнетателей.
Узники Тверской части, доставленные сюда из Петербурга (говорили — в кандалах!) на суд шестого департамента Сената (на штатский суд!), ждали своей участи гордо, как победители. Они ведали истину. Начальство сникало перед ними. В их камерах (в мрачных узилищах!) с утра до вечера причащались от истины студенты, гимназистки, поручики, седоусые вольнодумцы, мыслящие красавицы и разночинцы, взыскующие света. Они шептались, спорили, изъяснялись, обсуждали, горячились нетерпением, и тюремное начальство, вздыхая, напоминало под вечер:
— Господа… Господа, — визави дом генерал-губернатора… Здесь ведь все-таки часть, господа… Не засиживайтесь…
Александровская, некрасивая, безманерная, молчаливая, была вестницей оттуда — извне, с улицы, из народа. Говорили, девичья фамилия ее — Чирикова. Неказистое дворовое прозвище больше шло к ее облику, нежели нарядная фамилия мужа — маленького чиновника Кронштадтской таможни, которого она оставила ради своей эмансипации. Было ей лет тридцать (говорили — тридцать пять), занималась она для пропитания повивальным ремеслом, но была не повитухой, а ученой акушеркой.
Заичневский стоял среди тесной своей камеры, подпирая гривастой головою копченый, давно не латаный потолок. Встречал, усаживал куда можно — на койку, на лавку, на подоконник, — и чудно было видеть, как нелепо, нездешне опускались дорогие господские ткани на арестантское дерюжное сукно.
Александровская брала угощение, демонстративно косясь — все ли видят, жевала крупно, подчеркивая, что голодна. Это был прямой укор сытым чистеньким барышням, набожно слушающим нечаянных своих кумиров, пророков, предтеч.
Петр Заичневский не отрицал сходство своего товарища по заточению с Христом, однако, будучи яростным атеистом, отметал это сходство, как вообще отметал религиозное начало в революциях. Он называл Перикла Эммануиловича Аргиропуло Периклесом Емельяновичем, поясняя, что Периклес в России ни черта не совершит, не будучи одновременно и Емельяном Пугачевым. Он любил Перикла, и только двоих на этом свете называл истинными социалистами: себя и его.
Посетителей же своей камеры Петр Заичневский воспринимал как сочувствующих, как желающих приобщиться, как взбудораженных переменой общественной погоды, но отнюдь не понимающих, куда идут, да и пойдут ли, если дело дойдет до дела.
Говорили, в «Русском вестнике» напечатан новый роман Тургенева. Говорили, будто Иван Сергеевич, прилично выждав в своем Париже, пока роман этот выдадут в свет, прибыл на днях в Питер упиваться успехом. Говорили также, что в романе этом расставлены точки над і и показан, наконец, новый человек шестидесятых годов. Роман назывался «Отцы и дети».
Отцами были люди сороковых годов. У них были принципы, которые никак не годились сейчас.
Но вот серым весенним утром в камеру Заичневского резко вошла Варвара и протянула «Русский вестник».
— Тургенев — мразь, — глухо сказала она, — подлец. Прочтите…
Следующее утро прорвалось, как худая плотина. «Русский вестник» прибыл в Москву и был прочитан за одну ночь. Слово «нигилист» будто и не существовало прежде, обновленное, выкатилось из романа и пошло прыгать мячиком. Прикоснуться к этому мячику оказалось совершенно необходимо: хлопнуть по нему, чтоб ударился об землю, поддать под него снизу, чтоб взлетел под небеса.
Необходимо было срочно выяснить, как считают узники Тверской части: что означает роман Тургенева — правду о молодом поколении или клевету на него? Кто такой Базаров? Дьявол? Ангел? Разрушитель? Созидатель? «Пигиль» означает — ничто. Базаров все отрицает. Но он занимается лягушками. Он делает дело. А революция? Как делать революцию, если руки заняты скальпелем?
— Тургенев струсил, господа. Он убил своего героя, не ведая, как с ним быть дальше.
— Тургенев не ответил ни на один вопрос. Почему Базаров и Одинцова не соединились?
— Эти ученые шлюхи… Пардон, я не имею в виду присутствующих… Показаны автором превосходно!
— Подите вон, — тихо сказала Александровская.
— Не понимаю…
— Подите вон!
И открыла дверь камеры в тюремный коридор:
— Вон!
— Варвара Владимировна, — вдруг засмеялся Заичневский и закрыл дверь, — вы гоните человека из тюрьмы! Базаров… Я не считаю Базарова ни дьяволом, ни ангелом. Он ни рыба ни мясо… Что вас так взбудоражило? Нигилизм? Базаров без умолку излагает свои истины, которые мне надоели уже на первых страницах. Он — один как перст! А революцию может сделать только организованная когорта с железной дисциплиной!.. Одинцова! Имение! Прекрасное место для печатни! А она болтает без умолку. Сочинение Тургенева просто слабое и никакая не клевета…
— Но позвольте, Заичневский, я не знаю другой книги, которая так возбудила бы общество, как эта.
— Общество возбуждено не книгой. Книга просто попала кстати… Романы не делают революций…
III
— А что, друзья, не приурочить ли революцию к восьмому сентября?
Рассмеялись. Восьмого сентября шестьдесят второго года в Новгороде намечалось открытие памятника Тысячелетию России. День сей избран был высшим начальством по трем причинам: рождество пресвятыя богородицы, годовщина Куликовской битвы и день рождения цесаревича Николая Александровича.
Заичневский гремел весело, зычно:
— К черту цесаревича! К черту богородицу с Куликовской битвой! Мы насыплем им такого перцу, что ни за какое тысячелетие не отчихаются!
В камере были только свои: Дроздов, Гольц-Миллер, Ильенко (Аргиропуло находился в тюремном лазарете). Ильенко в разговор не вмешивался, ждал: ему бы печатать, а не разглагольствовать. И печатать тоже было где — в Рязанской губернии (поди догадайся!), в имении братьев Коробьиных. Братья эти, студенты (юрист Николай и математик Павел), уволились из Московского университета, склонялись к истинному делу. Особенно же горел младший Коробьин — Порфирий, совсем еще отрок. Там у них была типография превосходная (по словам Ильенки), не чета станку, добытому Периклом Аргиропуло. Братья и конспирацию знали — не являлись сюда, в тюрьму, в часть, поди придерись.
Название прокламации было решенным — разумеется, «Молодая Россия»! И не потому, что была «Молодая Италия», о которой еще в прошлом году говорено было с Периклом, а потому, что все они были молоды, и кому, как не молодым, поворачивать жизнь, делать ее прекрасной, справедливой, небывалой!
Солдатик этот, из охраны, никого не пускал в камеру: не велено, господа. Третий день поклонники и поклонницы передавали корзины, шумели в дежурке: почему нельзя? Что за драконовские запреты? Начальство внизу тоже удивлялось: арестант не желает никого принимать.
В камере были только свои. Они не спорили. Они только подбавляли к сказанному. Потому что во всяком великом деле нужен главный (по-английски — лидер), иначе дело не пойдет.
Главным был Петр Заичневский. Третий день они обсуждали, какой должна быть их прокламация. Они объявили себя Центральным Революционным Комитетом и ушли, оставив лидера с пером и бумагой… Итак — «Молодая Россия».
Он знал, с чего начать, до той минуты, когда сел за столик. Увидев же перед собою бумагу, он вдруг ощутил непривычную растерянность. Оказывается, написать первое слово — не так просто. Но для того чтобы написать — надо писать, надо занять руки, глаза, ум немедленно, иначе снова начнутся размышления, размышления и — пустой, чистый лист бумаги.
Он стал переписывать Герцена: «Крайности ни в ком нет, но всякий может быть незаменимой действительностью;.. Люди не так покорны, как стихии, но мы всегда имеем дело с современной массой;.. Теперь вы понимаете, от кого и кого иного зависит будущность людей и народов?.. Да от нас с вами, например. Как же после этого сложить нам руки?»
Зачем он переписывал Герцена? Герцен раздражал его. Но ему было совершенно необходимо раздражение: в полемике он чувствовал себя увереннее. Он оставит переписанное, пусть. Имя Герцена привлечет, заинтересует. К старику привыкли, шут с ним. Но дальше? Дальше будет совсем другое. Он им всем покажет истину. Петр Заичневский обмакнул перо и сразу начал:
«Россия вступает в революционный период своего существования. Проследите жизнь всех сословий и вы увидите, что общество разделяется в настоящее время на две части, интересы которых диаметрально противоположны и которые, следовательно, стоят враждебно одна к другой».
Знакомый гнев уже подкатывал к глотке. Две части в России, две партии. Угнетенная революционная партия — народ и угнетающая императорская партия. Он писал быстро, без помарок, торопясь догнать мысли, картины бытия, убедительные, неопровержимые.
«Между этими двумя партиями издавна идет спор, спор, почти всегда кончавшийся не в пользу народа. Но едва проходило несколько времени после поражения, народная партия снова выступила. Сегодня забитая, засеченная, она завтра встанет вместе с Разиным за всеобщее равенство и республику русскую, с Пугачевым за уничтожение чиновничества, за надел крестьян землею. Она пойдет резать помещиков, как было в Восточных гyберниях в 30-х годах, за их притеснения; она встанет с благородным Антоном Петровым и против всей императорской партии…
В современном общественном строе все ложно, все нелепо — от религии, заставляющей веровать в несуществующее, в мечту разгоряченного воображения — бога, и до семьи, ячейки общества, ни одно из оснований которой не выдерживает даже поверхностной критики, от узаконения торговли, этого организованного воровства, и до признания за разумное положение работника, постоянно истощаемого работою, от которой получает выгоды не он, а капиталист, женщины, лишенной всех политических прав и поставленной наравне с животными».
Ах, эти мысли, клокочущие, толпящиеся, обгоняющие одна другую, как в противоборстве, как в состязании.
«Императорская партия! Думаете ли вы остановить этим революцию, думаете ли запугать революционную партию? или до сих пор вы не поняли, что все ссылки, аресты, расстреливания, засечения насмерть мужиков ведут к собственному же вашему вреду, усиливают ненависть к вам и заставляют теснее и теснее смыкаться революционную партию, что за всякого члена, выхваченного вами из ее среды, ответите вы своими головами? Мы предупреждаем и ставим на вид это только вам, члены императорской партии, и ни слова не говорим о ваших начальниках, около которых вы группируетесь, о Романовых — с теми расчет другой! Своею кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей. Как очистительная жертва сложит головы весь дом Романовых!
Больше же ссылок, больше казней! — раздражайте, усиливайте негодование общественного мнения, заставляйте революционную партию опасаться каждую минуту за свою жизнь; но только помните, что всем этим ускорите революцию, и что чем сильнее гнет теперь, тем беспощаднее будет месть!»
Рука заныла от спешки, от непоспевания. Он сунул было перо в чернильницу, но задержал руку. Надо перечесть. Да-да, Герцен. «Колокол», встреченный живым приветом всей мыслящей России. Но где же разбор современного политического и общественного быта? Два-три неудавшихся восстания в Милане, казнь Орсини гасят революционный задор Герцена. Но он — Герцен! Ну и что, что он — Герцен! Петр Заичневский обмакнул перо:
«Несмотря на все наше глубокое уважение к А. И. Герцену как публицисту, имевшему на развитие общества большое влияние, как человеку, принесшему России громадную пользу, мы должны сознаться, что „Колокол“ не может служить не только полным выражением мнений революционной партии, но даже и отголоском их».
Он усмехнулся — глубокое уважение! Ладно, пускай глубокое. Надежды на возможность принесения добра Александром или кем-нибудь из императорской фамилии! Герцену писали — бейте в набат! А он? Да и откуда ему знать современное положение в России? Разумеется, найдутся тихони, которые закричат, что ошибаемся мы, а не он! Отвращение-де его, Герцена, от насильственных переворотов проистекло из знакомства с историей Запада, от уверенности, что каждая революция создает своего Наполеона. Но пусть читают его внимательнее, черт их всех побери, наших либеральствующих тихонь! Петр Заичневский писал:
«Мы изучали историю Запада, и это изучение и в прошло для нас даром: мы будем последовательнее но только жалких революционеров 48 года, но и велики к террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах!
В июле прошлого года появился в России „Великорусс“… Удовлетворяя и как нельзя лучше совпадая с желаниями нашего либерального общества, т. е. массы помещиков, стремящихся хоть чем-нибудь нагадить правительству и опасающихся в то же время даже тени революции, грозящей поглотить их самих, кучки бездарных литераторов, сданных за ветхостью в архив, а во времена Николая считавшихся за прогрессистов, он все-таки не мог составить около себя партии. Его читали, о нем говорили, да и только. Он вызывал улыбку революционеров своим мнением о том, что государь побоится отдать приказ стрелять в собравшийся народ, своими невинными адресами, которыми думает спасти Россию…
О прокламациях (на всякой брошюре, изданной нами, будет стоять: „Изд. Центр. Рев. Ком.“), выходивших в последнее время в таком изобилии, тоже распространяться не стоит: неимение определенных принципов, пустое, ничего не значащее и ни к чему не ведущее либеральничание, — вот отличительные черты их. Не находя ни в одном органе полного выражения революционной программы, мы помещаем теперь главные основания, на которых должно построиться новое общество, а в следующих номерах постараемся развить подробнее каждое из этих положений».
Теперь он почувствовал, что устал. Жаркое воображение создавало противников, оппонентов, он видел их лица и слышал то, что они кричали в ответ (должны были кричать!). Противники — живые лица вперемешку с мыслями — странное состояние воспаленной головы…
Перечитать? Нет, пусть полежит. Он и сам лег, заложил руки под затылок. Итак — программа. Далее должна быть программа Центрального Революционного Комитета, Как легко гневаться и как трудно остужать гнев!
Как увлекают вступления и как трудна суть, ради которой вступления написаны! Программа, программа. Она должна быть четкой, ясной, не похожей ни на что на свете!
Петр Заичневский велел никого не пускать: тюрьма, значит, тюрьма! Все эти бесплодные разглагольствования — пустой вздор! Барышни, гимназисты, студенты, юнкера в статском, дамы, озабоченные судьбою отечества. Конфеты, орехи — вздор! Да пойдут ли они за его программой? Кто пойдет, если даже Перикл Аргиропуло…
В сенатском суде Грек убеждал этих стариков сенаторов, что Заичневский никого не бунтовал. Но Петр Заичневский бунтовал! Он, Петр Заичневский, ничего не скрывая, излагал им в лицо принципы социализма! Принципы, которые Грек знает не хуже. А может быть, Грек просто болен? Он ведь — в лазарете. А Петр Заичневский здоров, как бык. Для чего здоров? Не для того ли, чтобы одному быть за двоих, за троих, за десятерых? Мы еще посчитаемся с ними за Грека! Грек заболел в их тюрьмах! Заичневский вскочил с арестантского ложа, с серого дерюжного одеяла, постучал в дверь:
— Свечу!
Свеча явилась. Маленький солдатик внес подсвечник и — ужин из трактира.
— Поставь, братец, не до тебя…
Итак — программа. Главные основания. Надо развить подробнее каждое из положение. Он писал?
«Мы требуем изменения современного деспотического правления в республиканско-федеративный союз областей… Мы требуем, чтобы все судебные власти выбирались самим народом;.. Мы требуем, чтобы кроме Национального Собрания из выборных всей земли Русской… были и другие Областные Собрания…»
Сенатский суд, Тверская часть, больной Перикл. Человек живет в обществе. Это — Бокль! К черту философию, не до нее! Петр Заичневский развивал каждое положение программы просто, ясно. Свеча потрескивала, горячие слезы ее катились по витой меди шандала. Заичневский посмотрел на светлую крышку трактирной жаровни. Пулярка. Эти господа думают, что революция — игрушки? Как бы не так! Он сглотнул, откусил от сайки, обмакнул перо:
«Мы требуем правильного распределения налогов, желаем, чтобы он падал всею своею тяжестью не на бедную часть общества, а на людей богатых…» Бене!.. «Mы требуем заведения общественных фабрик, управлять которыми должны лица, выбранные от общества»… Именно так!
Иван Гольц-Миллер в Петербурге, в тюрьме тайной канцелярии видел самого Михайлова. Арестован Михайлов, чьи статьи открывали глаза на женскую эмансипацию. Петр Заичневский не думал о том, что сам арестован. Он писал:
«Мы требуем общественного воспитания детей, требуем содержания их на счет общества до конца учения. Мы требуем также содержания на счет общества больных и стариков, одним словом, всех, кто не может работать для снискания себе пропитания. Мы требуем полного освобождения женщины, дарования ей всех тех политических и гражданских прав, какими будут пользоваться мужчины, требуем уничтожения брака, как явления в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов, а следовательно, и уничтожения семьи, препятствующей развитию человека, и без которого немыслимо уничтожение наследства».
Он писал о монастырях — притонах разврата, о создании национальной гвардии, о самоопределении наций. Программа увлекла его. Но как осуществить ее?
«Без сомнения мы знаем, что такое положение нашей программы, как федерация областей, не может быть приведено в исполнение тотчас же. Мы даже твердо убеждены, что революционная партия, которая станет во главе Правительства, если только движение будет удачно, должна сохранить теперешнюю централизацию, без сомнения, политическую, а не административную, чтобы при помощи ее ввести другие основания экономического и общественного быта в наивозможно скорейшем времени. Она должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни перед чем. Выборы в Национальное Собрание должны происходить под влиянием Правительства, которое тотчас же и позаботится, чтобы в состав его не вошли сторонники современного порядка (если только они останутся живы); к чему приводит невмешательство революционного Правительства в выборы, доказывает прошлое Французское Собрание 48 года, погубившее республику и приведшее Францию к необходимости выбора Луи Наполеона в императоры».
Кто же будет осуществлять эту программу?
«Мы надеемся на народ: он будет с нами… Но наша главная надежда на молодежь. Воззванием к ней мы оканчиваем нынешний нумер журнала, потому что она заключает в себе все лучшее России, все живое, все, что станет на стороне движения, все, что готово жертвовать собой для блага народа… Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком: „Да здравствует социальная и демократическая республика Русская“, двинемся на Зимний дворец истребить живущих там… С полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: „В топоры“, и тогда… тогда бей императорскую партию не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!
Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против, кто против — тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами.
Но не забывай при каждой новой победе, во время каждого боя повторять: „Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!“».
Непонятно, как влетевший ночной мотылек закружился вокруг свечи. Май, месяц надежд. Это был первый мотылек, которого он увидел в этом году. Петр Заичневский обмакнул перо:
«Если восстание не удастся, если придется нам поплатиться жизнью за дерзкую попытку дать человеку человеческие права, пойдем на эшафот нетрепетно, бесстрашно, и кладя голову на плаху или влагая ее в петлю, повторим тот же великий крик: „Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!“»
IV
Дело было сделано.
Снова в камере толклись посетители. Станок братьев Коробьиных оказался не чета другим. Где они добыли такую бумагу? Верже, кажется. Дроздов повез в Петербург полный чемодан оттисков.
На одном оттиске, предназначенном для митрополита Исидора, написали с брызгами: «Госродин Исидор. Отслужи панихиду по Романовым, не повесим, а впрочем, черт с тобой!»
Решено было рассылать грозный лист из Петербурга, чтоб запутать полицию — полетели пакеты в Харьков, в Нежин, на станцию Ольховый Рог и — назад в Москву…
Вести из Санкт-Петербурга явились тотчас.
Огромная беспощадная прокламация ввергла в трепет каждым своим тезисом. Никогда еще Россия не знала такого страстного призыва к топору. Призыв этот превосходил все, что появлялось в предыдущих листках, перечеркивая их, как слабый детский лепет. Но ужас вызывали не только лютые слова прокламации, но и сам ее вид — добрая бумага, добрый шрифт — за нею стояла не какая-нибудь карманная подпольная печатня, а хорошо налаженная, снабженная средствами, правильная типография. Даже множество опечаток воспринималось как нарочитое введение общества в заблуждение: некогда! Готовится новый лист, еще более страшный, а там, потом… Что будет потом?
За ужасной этой бумагой скрывался до времени какой-то Центральный Революционный Комитет, грозящий войти в сношения со всеми тайными обществами и кружками — лишь бы они организовывались. И, разумеется, по прочтении этой бумаги — у кого испуганно, у кого с надеждою, у кого с любопытством, у кого с негодованием — возникал жадный вопрос: кто? Кто состоит в этом воинственном и страшном Центральном Революционном Комитете?
Первыми высказали свое предположение наиболее догадливые: лист сотворили люди шефа жандармов князя Долгорукова. Третье отделение алкает деятельности. Люди Долгорукова рвутся подстрелить двух зайцев из одного бердана: первый заяц — царь, напуганный собственным своим Положением о раскрепощении крестьян, второй заяц — либеральствующая публика. Публику эту необходимо напугать истинным дьявольским ликом революционеров, которые так ей правятся.
Но скептики усумнились тотчас — едва ли князь станет накачивать на себя розыск этого чертового Комитета, коего, по всей вероятности, и не существует в природе. Прокламация ему самому — обух по голове.
Прокламация ругает Герцена? Но кто, кроме Чернышевского, может решиться на это?
Умные люди были рассудительнее. Некто Стебницкий поместил в «Северной Пчеле» фельетон и в том фельетоне прозрачно намекнул как на автора ужасной бумаги на Николая Гавриловича Чернышевского.
— Не было бы этого журнала и писателя — не было бы волнения в молодежи…
Фельетон был тотчас замечен в «Современнике»:
— Крупный талант, упражняющийся в выходках «Северной Пчелы», очевидно, не познает себя, но придет время, когда ему зазорно станет за нынешнюю свою деятельность!
Говорили, будто Стебницкий — это младой Лесков. Это было огорчительно. «Северная Пчела», принятая три года назад Павлом Усовым от почившего Фаддея Булгарина, оставалась «Северной Пчелой»…
Но ни догадливые, ни скептики, ни рассудительные не могли предвидеть, чем явится эта прокламация для Чернышевского. Об этом пока еще не знал и шеф жандармов.
Недавний арест Михайлова был как бы пробным камнем: что скажет публика? Публика пошумела, попроклинала, погорячилась, поклялась отмстить, а Михайлов между тем ошельмован и сослан в каторгу. Противостояние ловцов и ловимых — суть политической жизни империи — поднималось на следующую ступень, на которой находился владетель умов и горячитель сердец. Нужно было убрать Чернышевского. И как главный жандарм Российской империи, князь чувствовал, что на Чернышевском сойдутся взгляды ловцов и ловимых. Ловцам нужен был зачинщик, вожак, заводила, чтоб изъять его, обезглавить общество и доставить ловимым — всей этой либеральствующей публике вожделенную страсть горячиться страданиями своего кумира. И вся эта публика, вся эта «мыслящая чернь» сама подталкивала жандармскую руку, восторженно вопя:
— Он и никто иной! Он самый умный, самый смелый, самый проницательный! Он — наша совесть и наша гордость! Распни его!
Управляющий Третьим отделением Александр Львович Потапов, будучи чиновником не только осведомленным, но и весьма опытным, не собирался вменять Николаю Чернышевскому новую, страшную майскую прокламацию. Это было бы глупо и неуместно. Он просто искал момента вменить Чернышевскому только то, что он, Николай Гаврилин сын Чернышевский, есть не кто иной, как Николай Гаврилин сын Чернышевский, что само по себе было истинно для всех, и нужен был только момент, чтобы эта истина сделалась составом преступления.
Прокламация летала по столице. Ее читали царь, министры, студенты, врачи, архиереи, курсистки, обыватели, жандармы, актеры, возмущенные, восхищенные и взбудораженные жадным вопросом — кто? Чернышевский?
И вдруг, когда ужас, восторг, негодование, любопытство достигло предела — загорелся подожженный кем-то Санкт-Петербург! Прокламация оказалась грозным словом, за которым разгорелось дело, и снова вспыхнул жадный вопрос — кто? Кто жжет город? Чернышевский?
Пожары были так велики, так беспощадны, что наиболее догадливые высказали все то же предположение: город жгут люди князя Долгорукова, охотясь все за теми же двумя зайцами. Но скептики и здесь усумнились: не слишком ли велика цена охоты — горят Охта, Садовая, Щукин двор, Апраксин двор и даже министерство внутренних дел — едва ли князь сговаривался с Валуевым насчет его апартаментов.
И тогда умные люди догадались — кто. Все тот же страшный Центральный Революционный Комитет! Он управляет тайными обществами и кружками, которые уже образовались и встали под его, Комитета, беспощадную руку.
Кто же состоит в них, в тайных кружках?
И новым светом, обагренное пламенем горящего города, вспыхнуло имя Николая Чернышевского: он самый решительный, самый непримиримый, он — наша месть проклятому самодержавию! Он и не кто иной!
Санкт-Петербург загорелся вмиг, как вспыхнул.
Как будто для того и нагнетался над городом незыблемый душный зной, забелесивший небо, перегревший державную бронзу и гранит. Жара эта, беда, не припоминаемая никем, какая-то нездешняя, явившаяся из пекла не иначе, как по господню попущению, давно не давала дышать и была будто еще и не бедою, а — чуяла душа — лишь предвестием грядущей беды.
Сонная Нева не текла — плескалась нехотя, лениво и тоже будто ждала чего-то: течь ли, не течь…
Где взметнулось первое пламя — никто не понял, не видел, потому что загорелось враз, в местах противоположных — только головою верти — где.
Будто началось с Охты, нет, не с Охты — с Измайловского полка, опять с Измайловского, как год назад! — но где Охта, где Измайловский — вот он здесь, Толкучий рынок, от Фонтанки до Большой Садовой, от Чернышева до Апраксина двора — взметнулся огнем рундуков, лабазов, потекло пламенем деревянное масло, покатились бочки, утыкаясь в тюки жидким огнем по горящим торцам, по загоревшейся самой земле, разгоняя взвывший несчастьем народ.
Огонь весело трещал, лихо гудел, будто потешался над градом, над каменной теснотою, над невпопад скачущими пожарными ходами, над заметавшимся начальством, над муравьиной неразберихой, над обывательским ужасом.
Бессилие перед бедою сказалось на второй день огня. Покорное, отчаянное смирение, ополоумившее людей, лишенных вмиг всего, что было жизнью, но зачем-то оставшихся живыми — то есть видящими, слышащими, испытывающими бессмыслие своего существования, покорное смирение это вдруг, от того же отчаяния, обернулось ликующей жаждой мести, такой же безрассудной и беспощадной, как сама эта беда.
Кто жжет город?
Уже кто-то видел молодого усатого генерала в мундире, обмазанном адскою серой — чем мажут спички. И генерал этот — не то поляк, не то студент — терся спиною, животом, эполетами об что ни попало, и оно возгоралось вмиг.
Покрывала эти клетчатые — пледы — у барчуков! На поверку вышло, клетка на них нанесена все тою же преисподней смесью: основа — сера, уток — фосфор и оттого возгорается вмиг все, к чему они прикоснутся!
Говорили, государь никак не велел торговать спичками — опоили государя, вырвали указ!
Но еще страшнее был слух, рвавшийся из глубины души вот уже с год и сдерживаемый лишь страхом:
— Барчуки за волю, дарованную народу, лишают царя столицы!
Подметные письма весь год этот ходили по господским рукам, грамотные люди сами видели, что в тех письмах. Писаны по-немецки, с ушкуйным клеймом — две руки одна другую жмут, как сговариваются: по счету три — начинай! В черных книгах вычитано: быть зною и жаре к вознесенью, а по тем зною и жаре ждите остатнего подметного письма!
И — диво! Ровно за три дни до пожаров появилось то: письмо: жечь город! И в том огне убить царя и всю августейшую фамилию, чтоб народ оказался без головы. И сказано в той дьявольской грамоте, чтобы жгли и убивали студенты за то, что он-де, государь, повелел pacпустить сих злодейских вьюношей по домам, прикрыв их средоточие — университет. И про военных тоже сказано. чтоб, не мешкая, изменили государю и отступились от присяги, потому что все равно — смерть императорской семье!
Адом горел Санкт-Петербург.
И напуганные, изумленные бессмысленной жестокостью знающие люди бежали уговаривать Николая Гавриловича, умолять, чтоб унял своих юношей, чтобы вспомнил бога, который един для всех…
Дроздов рассказывал, сидя на железной арестантской кроватке, в камере Петра Заичневского, стараясь передать, что видел, но — не умел. Память держала виденное сильно, четко, однако речь не умела выхватить, а слова изобразить выхваченное. Ужас, теперь уже неопасный, теперь уже восстанавливаемый памятью, все равно был ужасом.
Здесь, в камере Тверской части, где не нужно было ни растаскивать баграми, ни обмывать ожоги, ни выносить на носилках, ни отбиваться от дикой толпы, ни втолковывать полоумным квартальным: здесь, в арестантском доме, где у высокого окна, глядя на небо, спокойно стоял Петр Заичневский, он, Дроздов, ощущал саднящую жгущую истину.
— Петр… Этот Стебницкий только хотел разобраться — кто… Его не слушали! Он никого не обвинял… Но он писал в проклятой «Северной Пчеле», и этого было достаточно, чтобы его прокляли.
Заичневский стоял во весь рост и, подняв выше, чем надо, голову, расставив длинные ноги в сапогах, умяв кулаки в поясницу под чудным своим кафтаном.
— Ну правильно, — проговорил Заичневский. — «Северная Пчела» есть «Северная Пчела»… Изучать ее экивоки некогда и нет смысла… Есть линия, отделяющая нас от не нас… И кто не с нами, кто даже только пытается взять нас под сомнение — тот против…
— Петр, — сказал Дроздов, осторожно рассматривая широкую спину, — я бы хотел, чтобы ты это увидел…
Заичневский не обернулся. Он выстраивал в воображении сбивчивый рассказ Дроздова.
Первыми объединились в дружины для правильного противостояния стихии студенты. Но именно их толковая сплоченность добавила ужаса и толпе, и полиции. Измазанные гарью, оборванные, обсмоленные, как черти в аду, студенты что-то делали в огне — раскидывали рундуки, выбивали окна, гнали людей. Студенты валили их на носилки, чем-то мазали, и люди орали, кричали, звали о помощи.
На пылающем Толкучем рынке городовые разгоняли, оттаскивали студентов медико-хирургической академии. Вырывали йод, бухали в огонь пробирки со спиртом, посуда вспыхивала, как бомбы. Толпа кинулась на подмогу. Белоглазый очумевший квартальный схватил длинного, размахивающего марлей, как флагом, длинный отбивался;
— Идиоты! Уймитесь! Дайте работать!
— Р-разойд-и-и-ись!..
— В участок его, в участок!
— В о-о-ого-о-нь его-оо!
Началась свалка, драка кулаками, кирпичами, обугленными головешками… Раненные, обгорелые, брошенные на носилках кричали, выли. Студенты отбивались, уговаривали:
— Да вы же видите, что мы делаем! Мы медики, мы врачи! Мы лечим! Спасаем!
Но обезумевшая страхом, неведеньем, яростью, бессмыслием толпа, распаленная уже не пожаром — местью, кинулась хватать, бить, валить. Длинный студент с марлей взлетел в дымный воздух. Ухнулось что-то в огонь, вскинулись искры, сбилось на миг пламя и вспыхнуло, и оттуда, из огня, последний крик:
— И-ди-о-ты!.. Идиоты-ы-ы! О господи…
Толпа отхлынула, будто осознала, чего наделала, квартальные рванулись к огню, будто осмыслили неосмысленное, студенты разгребали огонь, но человеческое тело уже трещало в костре. Беспомощные слезы размывали копоть на лицах.
Заичневский обернулся.
— Вот она — толпа! Звереет, когда ее боятся, и смиряется, когда чувствует твердую руку.
— Какую руку? — закричал Дроздов. — Они кинули в огонь человека так же искренне, как искренне бросились спасать его! Это совсем не то, Петр! Здесь нет никакого механизма — чувствует, смиряется… Ты не видел! Это — стихия!
…И вдруг в багровой ночи — ликующий, набожный, осатанелый крик:
— Госуда-а-рь! Госуда-а-арь!
Толпа хлынула к воротам государственного банка. Там на ступенях, окруженный свитою, возник царь Александр Второй. Он стоял перед грандиозным зрелищем. Он не распоряжался, он смотрел. И никто из его свиты не бросался в огонь с распоряжениями. Лица были разгоряченны, любопытны, сюртуки расстегнуты (жара!), что было и вовсе непривычно для свитских. А толпа грохнулась на колени, крестясь размашисто, истово, самозабвенно.
Ветер дунул дымом, искрами по Садовой. Вмиг как из-под земли явились экипажи, и все стихло, как и не было. Толпа, не поднимаясь с колен, крестилась вслед исчезнувшему видению. Какой-то студент, размазывая по лицу слезы горя и гари, все-таки сострил:
— Нерон?
Другой, стоя на коленях перед извивающимся обожженным мастеровым, всхлипнул, разрывая зубами марлю! — Не злитесь, коллега… Работайте…
— Петр! — резко вскрикнул Дроздов. — Упаси бог! Этого нельзя! Человек трещит, когда горит!
Заичневский прошелся по камере, остановился. Он был бледен, темные глаза его припухли. Дроздов встал:
— Это… Нельзя… К этому нельзя звать… Дикие люди уже готовы к этому… Это первое, на что они способны… они мешали полиции, пожарным, они не давали…
— Какой полиции? Ты же говоришь, что квартальные…
— Нет, Петр! Были герои! Я видел и солдат, и городовых… Они нам помогали… Ты бы видел их в огне!
— Тебя не разберешь! То они кинули в огонь, то они сами тушили пожар. Одно что-нибудь!
Дроздов захлопал глазами, замотал головой, будто разгоняя видение:
— Петр! Когда горит город, нельзя думать, где свои, где чужие! Надо тушить! Нельзя спихивать вину на чужих и нельзя присваивать истину своим! В огне не может быть противостояния! Огонь не разбирает! Погиб генерал — восемьдесят лет… Забыл фамилию… Герой отечественной войны…
— Ну-у! — протянул Заичневский. — Это — сантименты! Старик и так был…
— Но он жил! Жил! Петр! Веселые люди ездили в Кронштадт любоваться оттуда заревом! А среди них были студенты и курсистки!
— Послушай! Ты можешь выстроить картину без этих путаных подробностей? То у тебя власть не в состоянии, то у тебя студенты едут в Кронштадт… Точнее!
— Точнее — огонь! — закричал Дроздов. — Смерть! Всеобщая для всех! И в этой смерти люди были, как были! Сообразно своим свойствам! Были славные городовые и подлецы студенты, и наоборот! Были болтуны, фаты, трусы, герои, жертвы, хамы, дикари! Все было! Были барышни, визжавшие от счастья, как на фейерверке… — и зло, резко, обвинительно: — Заичневский! Я не видел линию, отделявшую императорскую партию от народной! Я ее не видел! Этой линии нет, когда горит земля!
Заичневский вглядывался в побелевшие глаза Дроздова, пытаясь понять — известно ли там, в Питере, кто писал прокламацию? Дроздов замотал головою: нет!
— Я не боюсь, — небрежно взял папиросу со столика Заичневский, — а ты — трусишь.
— Это сейчас, Петр, — всхлипнул Дроздов, — сейчас. Там я не боялся. Там я делал, что мог… А сейчас я боюсь… Потому, что я задумался.
Заичневский сел на койку рядом (скрипнула досками).
— Покури.
Дроздов сдавил зубами папиросу. Заичневский, усмехаясь, зажег спичку, поднес. Огонек сверкнул на залоснившемся лице Дроздова.
— Не могу, — Дроздов ткнул папиросой в железную полосу койки. — Не могу… Пахнет паленым… Я сойду с ума, Петр…
— Власть ничего не умеет, — сказал Заичневскнй. — Все, что ты рассказываешь, — власть ничего не умеет…
Дроздов изумился:
— Но как же не умеет? Я же тебе рассказываю! Но ты слышишь только то, что тебе нужно! Пожар ведь погашен!
Заичневский не слышал:
— Она сплочена дикостью… Ей нужно противопоставить организацию — тысячу, может быть — две, но — организацию… Успокойся… Революция, которая боится зайти слишком далеко, — не революция, ее и начинать не надо… И знаешь, что я тебе скажу? Надо было бы поддержать версию «Северной Пчелы»! Да, господа! Студенты! Молодежь! Военные! Старообрядцы! Они жгут Питер потому, что вышли в бой с императорской партией!
— Я тебя не понимаю, Петр, — опешил Дроздов и даже отступил к стене.
— Очень жаль… Уходи. Мне надо поразмыслить…
V
— Чего поволите, барин?
— Братец, ты уж послужи… А то у меня — сенная лихорадка… Внизу там скажи — лекарь, мол, столичный… Так ты уж пусти…
— Так ведь не велено…
Заичневский и сам знал, что не велено. После петербургского пожара о нем как будто забыли. Только солдатик этот и ходил в нумер. Что-то происходило там, на воле, куда уже не велено было выходить, даже в «баньку». Визиты тоже кончились. Не велено. Внизу пожарные прогуливали желто-пегих битюгов.
— Держи-ка пятачок, братец, помолись за меня.
— И, барин, — принял беленькую монетку солдат, — молиться за вас еще не время! Премного благодарен! Не нынче завтра батюшка за вами тройку пришлют и — шабаш! Вас ли судить? А университет — бог с ним! Кто без ума, тому и профессоры вроде тетеревов: токуют-токуют, а все как горох!
Знают в Петербурге, кто писал прокламацию? Знают или не знают? Если знают — как обойдется? А вдруг — спросят? Как же не спросят? Видели же эту прокламацию здесь! Черт возьми, не тюрьма, а проходной двор…
Заичневский взял папиросу, солдатик кресанул кремнем на трут, поднес тлеющий гриб. Заичневский приложил папиросу к тлению. Запах был не ветошный, чистый, без вони. Раскурил, пустил струйкой пряный синеватый дым.
Чемодан с прокламациями вез Дроздов, и эта фурия Александровская увязалась. Знала она, что везет Дроздов? Так и не спросил Дроздова. А Перикл предостерегал от нее. Да нет, пустое… Психопатка и все… А если — не психопатка? Да нет, пожалуй, давно бы уже был здесь какой-нибудь потаповский…
— Ступай, братец, скажи…
Солдатик вздохнул, вышел.
Может быть, Грек был прав? Черт подери! Почему не спросил Дроздова? Слушал всякие страсти, а не спросил? Стал думать об Александровской. Она засиживалась дольше других, а когда бывала на людях, подчеркивала свое особенное право на дружбу с ним. Однажды, когда все ушли (демонстративно дождалась, покуда выйдут), она бросилась к Заичневскому:
— Мой повелитель! Я вся твоя!.. Ты молод, ты чист… Я знаю, что оскверню тебя… Но я твоя раба… Вспомни Магдалину… Осквернив тебя, я очищусь! Спаси меня…
Заичневский испугался. Периклес Емельянович (находился еще тут, в части) вошел бесшумно (ходил он вообще тихо, будто не касался земли), увидел висящую на Заичневском Александровскую, сказал спокойно:
— Варвара Владимировна, присядьте, вам будет удобнее…
Александровская прижалась сильнее и вскрикнула:
— Он мой!
И вдруг резко выскочила из камеры. Огонек свечи метнулся вслед и едва не погас. Аргиропуло засмеялся тихо, необидно, даже сочувственно.
— В качестве Магдалины она должна была прижиматься ко мне. А к тебе — только в качестве персидской княжны. Так что брось-ка ее в воду — и дело с концом. Отделайся от нее. Подари ей что-нибудь, что ли… Кроме шекспировской страсти, которая, разумеется, облагораживает ее, не испытывает ли она к тебе, я бы скачал, некоторый казенный интерес? Остерегайся ее.
Александровская исчезла (говорили, была арестована) и вдруг появилась снова в начале апреля. Появление ее после ареста насторожило Заичневского, и он поспешил сделать, как советовал Перикл. Заичневский поднес ей фотографию свою с ни к чему не обязывающей надписью: «Варваре Владимировне Александровской oт Петра Заичневского. 1862 г. Апреля 4». Александровская не приняла — схватила карточку, прижала к груди, поцеловала и прослезилась. Слезы были натуральны, они смутили Заичневского: шут ее разберет, эту чертову бабу! Может быть, действительно — втрескалась? Когда юноше нет еще и двадцати лет, а дама, которой уже — все тридцать, называет его своим повелителем, ему, юноше то есть, никак не хочется думать о том, что к слезам этой дамы присоединен, кроме благородной страсти, еще и казенный интерес. С чего он это взял, умный Грек?
Александровская… Да черт с нею! Что она может знать и что она может сказать? Заичневский прилег на скрипучую койку и стал соображать, кто знает? Ах, как много народу знает! Ему показалось, что знают все, а если не знают — догадываются. Выходило — не было человека на этой суетной земле, кто бы не знал сочинителей прокламации «Молодая Россия»! Озоровали, шумели, веселились, когда сочиняли. Послали Ильенко с этим солдатиком — для конспирации! Можно было что угодно внести — вынести, но с конспирацией было веселее! Дроздов ездил во Владимир, вез рукописную…
Вошел высокий человек лет тридцати по крайней мере: при молодом округлом лице в темной бороде белые нити, Петр Заичневский с юношеской придирчивостью оценивал возраст, уже заранее ощущая готовность противостоять или сразу нападать. Ему всегда хотелось спора, возражений, которые он был готов разбить безо всякой пощады.
Гость поклонился дружелюбно, осмотрел камеру, увидел обнаженную дранку на обвалившемся потолке и почему-то глянул на пол — куда должна была грохнуться штукатурка. Заичневский заметил, сказал вальяжно:
— Штукатурку вымели! Обвалилась…
— И никого не задело? — спросил гость.
— Вообразите! Возвращаюсь с прогулки — куча алебастра! Садитесь, Александр Александрович. Вот сюда — кровать, почетное место.
Щеколда так и не звякнула за гостем. В незапертую дверь сунул стриженую голову солдатик:
— Барин… Не велено более одного… А там изволят Иван Иванович…
— Проси!
— Так ведь не велено, беда…
— Грех тебе, право! Иван Иванович невелик, кто увидит?
— Упекут нас с вами, не дай бог…
— Проси!
— Воля ваша… Вы хоть не гремите на всю часть…
Появился Гольц-Миллер — тощий, с нездоровой краснотою щек, с темными мягкими волосами по плечам. Щеколда захлопнулась. Гольц-Миллер узнал Слепцова, посмотрел на Заичневского: кстати ли он, Иван Гольц-Миллер, явился? Заичневский присел на подоконник:
— Прошу вас, Александр Александрович! Не желаете ли папиросу?
— Я по делу неотложному, — сказал Слепцов, взял из кармана пенсне с золотой дужкой, обеими руками надел на широкую переносицу. — Вам, разумеется, известно, что Петербург сгорел…
— Ну уж так весь и сгорел!
— Весь не весь, а беды вы наделали предостаточно.
— Кто это — мы?
Слепцов не ответил, вынул из длинного сюртука исписанную бумагу, посмотрел на нее сквозь овальные стекла, шевельнул носом, сбросил пенсне, которое повисло на черной нитке, прицепленной к пуговице жилета, и несколько раз качнулось на весу.
— Вот, — протянул Слепцов развернутую бумагу со следом сгиба крест-накрест, — надеюсь, господин Гольц-Миллер нам не помешает.
— Напротив! Поможет! Что это? — принял бумагу Заичневский и близоруко приблизил к лицу.
— Мы вам предлагаем, — сказал Слепцов, — чрезвычайно внимательно прочесть это и высказать свое мнение…
— «Предостережение», — прочел Заичневский и спросил, — да что же это? Кто кого и в чем предостерегает?
— Мы предостерегаем публику от известной вам (Слепцов подбавил голоса, но не громко) «Молодой России».
— Иван Иванович, — посмотрел на Гольц-Миллера Заичневский, — помнится, мы никого не просили предостерегать…
— Оставьте этот тон, Заичневский, — перебил Слепцов, — прочитайте внимательно и терпеливо.
Заичневский усмехнулся, стал читать вполголоса, чтобы слышал и Гольц-Миллер.
«Несколько пылких людей написали и напечатали публикацию, резкие выражения которой послужили предлогом для нелепых обвинений»…
— Не несколько молодых людей, — добродушно посмотрел на Слепцова Заичневский, а — Центральный Революционный Комитет в полном составе…
Гольц-Миллер кашлянул.
— Будет вам врать, — сухо сказал Слепцов, — это значительно серьезнее…
— Да уж куда серьезнее, — усмехнулся Заичневский, — если вы прискакали тушить пожар ко мне в камеру!.. Упустили такой шанс! Эх, революционисты!
— Вы сумасшедший, — обомлел Слопцов, — какой шанс?..
— Профукали все дело, господа «Земля и воля»!
— Да как вы смеете так говорить! Вы хотя бы прочитайте!
«Довольно прочесть эту публикацию со вниманием, — читал Заичневский, — чтобы понять чувства ее издателей: это люди экзальтированные и уже потому самому не способные иметь никаких низких намерений. Они сказали несколько опрометчивых слов, но, конечно, не придавали им смысла, какой хочет видеть в них правительство и находит петербургская публика».
— И вы хотите, чтобы мы это подписали? — насмешливо причмокнул Заичневский, — Иван Иванович! Они вообразили, что здесь — приют для маленьких шалунов!..
Слепцов вздохнул и сказал очень сдержанно:
— Заичневский… Это не по-товарищески… Вы должны прочесть до конца…
— Бене, — кивнул Заичневский и стал читать дальше: «Из их слов для нас ясно было их желание сказать только, что правительство ведет народ к восстанию и что они готовы встать в ряды народа при наступлении вооруженной борьбы. (Поднял голову, посмотрел на Гольца, пожал плечами.) Но не отстать от народа, когда он поднимается, вовсе не то, что возбуждать его к резне. Думать, что облегчение судьбы простого народа не будет слишком дорого куплено ценою революции, — вовсе не то, что поджигать жилища и лавки бедняков. Эта разница очень ясна, но теперь публике угодно было заняться сплетнями, вместо того, чтобы вникнуть в дело».
— Но это — блуд! Это мы-то — опрометчиво? При чем тут ваша публика? Что вы путаете? — спросил Заичневский. — Кто писал эту чепуху?
— Это не важно, — вдруг закричал Слепцов, но Заичневский перебил:
— Тише! Мы — в тюрьме все-таки…
— Вы можете сообразить, — вполголоса повторил Слепцов, — что вашу «Молодую Россию» нужно дезавуировать? Вы можете сообразить, сколько беды она наделала и еще наделает? Сообразите! Вашу публикацию связывают с пожарами! Это выгодно правительству! Да прочтите, в конце концов!
Заичневский не ответил, читал дальше:
«История свидетельствует, что демократы никогда не действовали ни поджигательствами, ни другими подобными средствами… Революционная партия никогда не бывает в силах сама по себе совершить государственный переворот. Пример тому — многочисленные попытки парижских республиканцев и коммунистов, которые всегда так легко подавлялись несколькими батальонами солдат. Перевороты совершаются народами».
— Оставьте вы эту чепуху! — загремел Заичневский, не заботясь, что находится в тюрьме, — это почему же партия не способна? А кто способен? Где вы видели перевороты, сделанные народами? Вы бунты видели! Вы вольницу видели! Все эти пожары, которые приписывают нам подлецы, — стихия, как и народ! Вот именно, что революционная партия…
— Заичневский! Опомнитесь! Сейчас нужно спасать революционную партию!
— Партию, которую надо спасать, — спасать не надо! Пусть летит к чертям собачьим! От кого вы нас спасаете? Мы вас не просили!
— Да хотя бы прочитайте до конца!
Заичневский шумно вздохнул, читая:
«Мы — революционеры, то есть люди, не производящие переворота, а только любящие народ настолько, чтобы не покинуть его, когда он сам без нашего возбуждения ринется в борьбу, мы умоляем публику, чтобы она помогла нам в наших заботах смягчить готовящееся в самом народе восстание».
— Опять — вздор! Что означает — не производящие, а любящие? А кто производит, если не революционеры? Какую публику вы умоляете смягчить? Любить! Народ не барышня, чтобы его любить! (Вспомнил почему-то Александровскую.)
— Читайте дальше!
— Читаю… «Нам жаль образованных классов; просим их уменьшить грозящую им опасность. Но для этого нужно, чтобы публика сделалась более хладнокровие и менее легкомысленна, чем какою выказала она себя в сплетнях о пожарах. Перестаньте поощрять правительство в его реакционных мерах»…
— Сумбур, — кинул лист на столик Заичневский.
— Так слушайте! «Земля и воля» имеет определенное, я бы сказал, сильное влияние… Существует комитет… Избранный не без Чернышевского! «Молодая Россия» ваша — горячечный бред! — Заичневский молчал. Молчание это прибавило Слепцову уверенности: — Справедливости ради мы показали ее Чернышевскому! И что же? Чернышевский отказался распространять вашу публикацию!
Слепцов привел этот довод как самый важный, самый убедительный. Но Заичневский только спросил холодно:
— Ну и что?
Слепцов изумился, даже всплеснул руками:
— Как — ну и что?! Вы меня пугаете своим легкомысленным бесстрашием! Чернышевский отказался, вы понимаете это?
— Да что тут не понять… — лениво сказал Заичневский. — Чернышевский… Тоже — хорош! Человек он кабинетный — ну и сиди при своих книгах! А он — людей в комитет выбирает. Мастер, нечего сказать… Все равно, как жену себе выбрал… Нашел кого — Пантелеева, Жука… Эка его… Упустили такой шанс!..
— Да какой шанс, черт вас побери?!
— Пожары! — упер кулаки в бока Заичневский. — Неразбериху! Ваша «Земля и воля» — нуль! Организации вашей нет! Мне говорили — царь ездил по Питеру, как новый Нерон! Министерство Валуева горело! Казармы горели! А где были вы? Ездили в Кронштадт любоваться? Где был Чернышевский, если он так влиятелен?
Слепцов побелел, лицо его окостенело:
— Милостивый государь! Если бы вы не были узником, я влепил бы вам пощечину! Можете ее считать за мною!
— Иван Иванович, — холодно сказал Заичневский Гольц-Миллеру, — надеюсь, ты мне окажешь честь? Будешь секундантом? — И — Слепцову: — На чем предпочитаете? На шпагах или на восклицательных знаках?
Слепцов остыл, даже присел на подоконник, скрестив руки:
— Весьма остроумно… Но вы нанесли неслыханное оскорбление революционерам, которые не менее вас… Ваше преимущество в том, что вы арестованы…
— Разумеется, — кивнул Заичневский, — но мы не идем на попятный. Наше преимущество именно в этом.
Слепцов разнял руки, выпрямился:
— Ну так я вам скажу! Не желаете подписаться вашим мифическим Центральным Революционным Комитетом — мы и без вас опубликуем это предостережение, — взял со стола бумагу, уважительно сложил вчетверо, сунул во внутренний карман сюртука. — Мы сами, — чопорно поклонился Слепцов и шагнул к двери. Дверь не поддалась. Заичневский благодушно усмехнулся:
— Тюрьма-с…
И трижды стукнул изогнутым пальцем в дверь. Громыхнула щеколда, дверь открылась. Слепцов посмотрел на узника. Усмешка все еще не сошла с толстоватых губ Заичневского:
— Кланяйтесь Николаю Гавриловичу!
— Мальчишка!.. — жестко сказал Слепцов.
Дверь закрылась плотно. В коридоре Слепцов, должно быть, столкнулся с кем-то. Послышался высокий голос солдатика: «Виноват, барин». И снова щеколда.
— Ну, что ты скажешь? — спросил Заичневский.
— Конечно… Мы уведомили, что все издания будут выходить за подписью Центрального Революционного Комитета… — всматривался в глаза Заичневского Иван Гольц-Миллер. — Им бы хотелось, чтоб и эта бумага… Преемственность…
Заичневский насторожился:
— Что же ты не поддержал его?
— Я не собирался… Мне жаль, если Чернышевский против…
— Ну и пускай — против! Им — в бирюльки играть, а не в топоры… Упустили такой шанс! Когда еще?
— Петр, когда еще — сказать трудно. Но будет еще шанc! Когда в России что-нибудь да не горело?
— Вздор! Надо знать, когда загорится, за месяц, черт возьми, за год! Надо знать, когда будет пожар, война, чума, голод! И быть готовым каждую минуту!
Петр Заичневский был твердо уверен, что революцию шестьдесят третьего года сама судьба чуть было не поднесла на год раньше, если бы Центральный Революционный Комитет, находившийся сейчас почти в полном составе в этой камере Тверского частного дома, был бы не вымыслом, а действительной организацией. Ах, если бы в его распоряжение — да хотя бы одну тысячу безукоризненно организованных лиц!
Петру Заичневскому было двадцать лет. Ивану Гольц-Миллеру — тоже…
VI
Умер Аргиропуло в тюремном лазарете. Умер без исповеди, прогнал священника: и так подохну. Похоронили его тайком на Миусском кладбище. Тридцатого декабря в церкви Иерусалимского подворья отслужили панихиду по нем человек двести студентов.
Смерть эта потрясла Петра Заичневского. Перикл, Грек, Периклес Емельянович, боже мой… Они ведь спорили, противостояли, он ведь писал «Молодую Россию» в пику Греку с его неконсеквенциями! Но Грек умер! Умер самый благородный, самый… самый… Боже мой… Тогда он жил, и они спорили. Но теперь он умер, умер, как умирает часть души… Какое значение имеет теперь то, что он бывал против? Какое значение, когда Грека нет?! Нет, нет, нет Грека!
Он не стеснялся слез. Солдатик этот приносил арестантскую пищу. Все разбежались, все покинули… Черт с ними…
— Сядь, братец, сядь… Сядь, дорогой… Сам-то ты откуда?
— Орловской губернии, Мценского уезда…
И то, что солдатик этот оказался, как и он, Мценского уезда, не успокоило, нет, добавило слез.
— Сам царь в Москве, ваше благородие… Оттого и держим тебя тут… Чтоб, значится, не того… Ждут, пока отъедет… Чтоб, значит, без помехи в Сибирь, ваше благородие…
Ну и что, что царь? Плевать на царя! Грек умер, при чем здесь царь, при чем здесь — держат… Ах да, должны отправить в Сибирь… За пропаганду перед крестьянами… За все, что звучит теперь пустяком рядом с «Молодой Россией»…
— Мценского уезда?
— Так точно!.. Там, слыхал я, и у вашего благородия — отчий дом…
ОТЧИЙ ДОМ
1858–1861.
Орел, Москва
I
Воспитанник Орловской гимназии Петр Заичневский живал в имении отца своего полковника Григория Викуловича только на вакациях. Сельцо Гостиновское помещалось в двадцати семи верстах от Орла, имение было расстроено. Находилось в нем сто семьдесят крепостных мужеского пола, да дворовых холопей было двадцать человек.
Петр рос младшим в семействе, последышем. Старше его был братец Николенька и — еще старше — сестрицы Сашенька и Надежда. Маменька Авдотья Петровна была весьма строга к мужикам, угрозлива, однако до конюшни дело доходило весьма редко. Мужики объясняли это не одною отходчивостью барыни, но также странною дружбой младшего барчонка с крепостным мальчишкой Лукашкой — сыном кормилицы Акулины.
Этот Лукашка был чистый бес. Барыня держала его при себе, когда бывала в Орле, и без себя посылала служить сыновьям-гимназистам. Лукашка вместо службы господам вертелся на ярмонках, присматривался к торговле, отпрашивался на оброк в свои сопливые года, ладил с прасолами и даже с иными помещиками в торговых делах. Пятнадцати годков поднес он от своих прибытков шаль Акулине и сам, шельмец, ходил в сапожках по праздникам. И никто, разумеется, не знал, не ведал, что разбитной сей малый, напускающий невинной придури в светлые свои глаза, держал у себя в каморке листы и книжицы, за которые полагалась одна дорога — в Сибирь. И еще мотался он в Москву (с бумагой честь по чести), откуда доставлял молочному брату-барину отнюдь не учебники по чистописанию. Молочный брат рвался в древнюю столицу, куда этим годом переезжал на юридический факультет Московского университета старший Николай и где у них, у обоих, были тайные друзья-приятели.
Петр Григорьевич, несмотря на то что был меньшим в фамилии, верховодил с отроческих годков, и, бывало, сам барин Григорий Викулович, полковник, кавалер и все такое, в час, когда иной отец руку приложит, только пальцем грозил.
Полковник Заичневский принадлежал к числу тех людей, которые готовы без страха пролить кровь, ворваться в расположение неприятеля, рубиться в неравной схватке мужественно, неукротимо, не задумываясь. Однако стоило лишь зацепиться неумелой головою за суть бытия, как сердце вдруг вспархивало пугливой пичугой. Страх перед словом, неведомый в честном бою, сшибал геройство, калечил и заставлял цепенеть. Полковник принадлежал к тем героям, кому не страшно умереть за царя — страшно о нем слово молвить. Приятели его, соседние помещики, почитали верноподданническую сущность полковника, потешались над нею (про себя, разумеется), ездили к нему, разговаривая о том о сем, стараясь не касаться политики.
На террасе пили чай гости — Степан Ильич и коллежский асессор Проскуров, Селивестр Николаевич, большой вольнодум, издавна нагонявший страх на Григория Викуловича своими рассуждениями. Допущен был к столу также Петруша, даже не допущен, а так — сам по себе — пришел и сел.
Говорили, о чем все говорят: о непреложном вскорости освобождении крестьян. Пересказывали журналы, газеты, мнения.
Степан Ильич сказал, насупясь:
— Слово нынче за мещанами. Ни Чернышевский, ни Добролюбов — не дворяне. А поди найди среди дворян этакие перья!
— Однако Искандер…
— Беглый-с! Дворянин либо на рожон, либо в бега! Ему вольность нужна. А тут, под нагайкою, поди-ка попиши! Поразглагольствуй! Это только тяглым под силу. Дворянин — барии, ему покой надобен, кофей с булкою для размышления по утрам. А разночинцу и хлев — кабинет!
— Однако, Степан Ильич, бывали и среди наших перья-с…
— Не без того. Да перья-то были как шпаги, либо как розги. Либо в поединке пронзить, либо холопа поперек рожи. Нет, господа, мещанское перо не шпага и не лоза. Это — пика пугачевская, рогатина мужицкая. Ни для дуэлей, ни для конюшни, а для чего-то такого-этакого, что и подумать страшно…
Петр слушал и чувствовал, что отцу это неприятно, даже боязно. Странная трусоватость отца саднила отроческое сердце. Отец был не глупее их, несомненно! Но почему он всегда сникает перед ними?
Разумеется, Степан Ильич читал эти запретные листы Искандера. Он даже говорит словами этих листов. Искандер, барин, беглый, писал трубно, непримиримо:
«Выходите же на арену, дайте на вас посмотреть, родные волки великороссийские, может, вы поумнели со времен Пугачева, какая у вас шерсть, есть ли у вас зубы, уши? Выходите же из ваших тамбовских и всяческих берлог — Собакевичи, Ноздревы, Плюшкины и пуще Пеночкины, попробуйте не розгой, а пером, не в конюшне, а на белом свете высказаться. Померяемтесь!»
Петр покраснел, преодолевая отцовский запрет вмешиваться во взрослые разговоры:
— Степан Ильич, вы прочитали все это в «Колоколе».
Отец испугался смелости. Сын смотрел недружелюбно, опасно, того и гляди скажет дерзость похуже.
— Петруша, я ведь наказывал…
— Папенька, я уже не мальчик.
— Да видим! — рассмеялся Степан Ильич. — Запретные листы читаешь!
— Так и вы читаете! И очень вам не нравится, особенно про Пеночкина!
Степан Ильич пропустил дерзость, продолжал весело:
— Дурак ваш Пеночкин! Да и Тургенев тоже не умен! Барин, как и я, да я умнее.
— Чем же вы умнее?
Это была уже не дерзость — оскорбление. Но Степан Ильич не обиделся, сказал строго:
— А ты смекай, отчего мои мужики в смазных сапогах ходят? — помолчал, сощурясь. — Секу! Не за вино неподогретое или иной вздор, а за бедность! Беден, стало быть — ленив! А ленив — на конюшню! Три дня барщина, три дня — свои! Как же тут стреху не починить? Как же не посеять вовремя, не сжать? Как же тут не обернуться при трех-то днях? Вот и секу! Пока моя воля. А уж когда государева грянет — не виноват-с!..
Это было заявлено смело. Только начитавшись запретных листов, можно было вот так-то о великом государевом деле. Листы подстрекали царский замысел дать волю мужику, а Степан Ильич, начитавшись тех листов, шел против царского замысла, предсказывая от него одну гиль. Петр никак не мог согласовать в своем воображении острословие Степана Ильича — черту завидную — с мерзким его кнутобойством. Потому-то, собственно, он и надерзил. Но Степан Ильич воспринял дерзость добродушно, как мячик, брошенный резвым дитятей.
Мужики ненавидели Степана Ильича люто. Однажды подстерегли в лесу. Степан Ильич езживал без кучера — не любил лишних холопей. Остановил коня, привстал в бедарочке, руку с плетью упер в бок:
— Почему не при деле?
Мужики вместо того, на что шли, поснимали шапки. Степан Ильич кивнул в ответ:
— Дураки вы, дураки. Знать я вас не знаю, видеть вас не видел. Ни тебя, Мишка, ни тебя, Колька, ни тебя, Трошка. Так всем и скажите. А розги у меня не перевелись и не переведутся, пока я из вас хозяев не выучу.
Случай этот рассказывали в уезде, кто с осуждением, кто назидательно, а кто и с недоверием. И только сам Степан Ильич посмеивался: мало ли как бывает в земледелии.
Отрок Петр не мог согласовать этакую бравость перед опасностью (ведь могли же прибить ненавистного барина мужики — для того и собрались) со все тем же отвращающим мерзким кнутобойством.
Степан Ильич не робел ни перед богом, ни перед чертом, ни даже перед самим государем. Год назад он привез Григорию Викуловичу новость: учрежден одиннадцатый по счету секретный комитет для обсуждения крестьянского вопроса.
— Секретный! — ехидствовал Степан Ильич. — Понеже все касаемое до народа у нас — тайна! Долгоруков, Адлерберг, Орлов, Муравьев! Чем не декабристы? Тайное общество!
Григорий Викулович принимал ехидство привычно, покорно. Петр ликовал: складно-то как сказано! Вот бы научиться так говорить — резко, легко, обидно и бесстрашно.
Отец все же спросил:
— Как же вы, Степан Ильич, будучи дворянином, осуждаете деяния своего государя?
Степан Ильич наморщил лоб, как от головной боли:
— Историю России знаете?
— Понаслышке, — ответил за отца Проскуров.
— То-то и оно… В России народ всегда и ликовал, когда боярские головы летели. Кабы не бояре — давно бы мужик на печи лежал в охотку. Вот какое было мнение народное. А бояре-то наши были глупы отродясь. Им бы сговориться — царя в уезде держать по-европейски. Не сговорились. Вот и жнем!
История России в устах Степана Ильича звучала вовсе не так, как отложилась в молодой свежей памяти Петра Заичневского. Ему казалось, что и история этому барину — всего лишь предлог для ехидства.
Побрюзжав вокруг истории, Степан Ильич вдруг объявил:
— Кликни сегодня государь: «Работайте, дети!» — и что? В затылке поскребут. А кликни он: «Режь помещиков!» — и пойдет потеха! Вот чего я опасаюсь! Не живота лишиться, нет. Бог не выдаст — свинья не съест. Гили боюсь! И глядите-ко, как поповичи подговаривают царя супротив бояр! «Современник»-то, а? Ишь как стелет. Ты-де, государь, — не иначе, как Людовик Святый! Ришелье! Дави феодалов, как тараканов! Режь аристократов! Грецкие тираны да римские императоры вышли не из ризницы, а из предводителей народной ватаги! Вот перо какое, сударь мой! Рогатина! Что там Искандер!
— Да погодите, Степан Ильич, не так он вовсе пишет, — возразил Петр.
— Нет, так!
— Но как вы сами себя аттестуете с вашим кнутобойством? Ведь это же — варварство!
— Варварство, милостивый государь, рожном землю козырять! — крикнул на отрока Степан Ильич. — И лебеду жрать! Варварство — водку трескать и в лаптях ходить по чернозему!
— Но мужик не свободен! Потому он…
— У меня свободен! А освободи от моей лозы — по миру пойдет! Народу нужна сила, умный барин, не транжира, не игрок картежный — отец!
— Да где же вы этого умного барина возьмете? — примирительно спросил Проскуров.
— В том-то и горе наше, — неожиданно сник Степан Ильич и даже губу опустил по-стариковски.
Петр, ожидавший едкого острословия, удивился и ощутил привычную для молодых людей досаду неожиданного проигрыша. Он едва не пожалел, что надерзил старику, — столь беспомощным показался Степан Ильич, волк, Пеночкин.
Проскуров словно дождался, пока старик сникнет, заговорил о Европе, о западном влиянии, о том, что воленс-ноленс и нам приспела пора усвоить гуманизм и не чуждаться новых веяний.
— Приобщиться к неведомому…
— Это вы напрасно, сударь мой, — вдруг взбодрился Степан Ильич. — Русский человек кидается за чужой мудростью не оттого, что своей нет, а оттого, что чужая запретна. Дозволь чужую мудрость — он и плюнет на нее: эка невидаль! Вы приглядитесь — он ведь первым делом норовит чужую мудрость обрядить своим армяком! Ему и Кавур — не Кавур, и Прудон — не Прудон, ему Черт Иваныч нужен, свой, исконный.
— Однако, непременно, чтоб жантильом, — не сдавался Проскуров.
— Да кто вам сказал?
— Однако читаем мы и Милля, и Смита, и Монтескье…
— И на здоровье! Толку-то?! Нам какой немец по нутру? Тот, который топор поднял! А как увидим, что топор поднят не головы рубить, а сруб класть — так мы и радуемся: немец-немец, а дурак! Не знает, что топором-то делать!.. Вот вам и вся чужая мудрость! Европа нам не указ. Она уже двести лет, как пошабашила, а мы только во вкус входим.
— Какие двести лет, — возмутился Проскуров. — Французская революция только что была!
— Батюшка Селивестр Николаевич, — сказал Степан Ильич, — жантильомы и у нас бывали. Аккурат после отечественной войны-с. Нагляделись, как французский мужик салат с винегретом кушает да анжуйским запивает, позавидовали: нашему бы Ваньке этакое меню! Да как раз в Сибирь и поехали! Потому что у нас без битья нельзя. У нас и понятия такого нет, чтобы — без битья! Европа царей-то во-он когда окоротила! Там у них власть публике служит. А у нас, ежели власть только вздумает публике служить, публика, первым делом, такую власть за водкой посылать станет! Что это за власть, ежели не сечет?
— Но то, что вы говорите — дико!
— Дико-с! А Стенька Разин лучше? А Емелька Пугачев — лучше? Вы еще увидите, что мы с этим нашим жантильомом сделаем — отпусти он бразды! Мы же его со света сживем!
«Это он про царя!» — радостно вспыхнул Петр.
— Стало быть, вы еще двести лет будете сечь мужика? — насмешливо спросил Проскуров, делая вид, что не понял про царя.
— Буду! Пока не разбогатеет! А разбогатеет — поумнеет. Тогда и у нас жантильомы объявятся безбоязненно…
II
Гимназия окончена была с серебряной медалью за благонравие и отличные успехи.
Жизнь складывалась как нельзя лучше, если не считать домашних неурядиц: сельцо Гостиново, или Гостиновское, как его еще называли, доходу давало только на прокорм, да и тот скудел. Мужики чуяли — будет воля, хоть что хочешь, а будет! И трудились через пень-колоду, не то что в прежние времена. В прежние времена, увидав барскую повозочку, мужики, бабы валились на колени, кланялись истово, от всей своей дремучей души, радовались. Урожай брали — овса сам-пять, а ржи и сам-восемь. Чернозем! Девки водили хороводы, ребята на поясах состязались кто — кого. Свадьбы, веселье…
Петр Заичневский рано стал чувствовать ложь воспоминаний. Кормилица его Акулина (Лукашкина мать) кидала прибаутки: в прежние времена — все сполна. Лиха беда — не сеять, не жать, сидеть вспоминать! Древние старухи, как вывороченные пни, со слезящимися бесцветными глазами, смотрели на божий свет беспамятливо, изломав не то улыбкою, не то недугом проваленные рты. Может, они и водили хороводы? Нет, не было счастья на земле, все — выдумка, все — самоутешенье.
Он ехал в Москву, начитавшись Луи-Блана, Леру, Прудона, Лассаля, Искандера (что попадало в Орел). Слово «социализм» стучалось в нем ключом к разгадке бытия. Неужели не найдется товарища, который разделит ею горячие познания, его ослепительные открытия?
Когда провинциальный юноша попадает в столицу, он с изумлением находит, что не он один так сведущ и начитан, не он один употреблял дни и ночи на познание истины. Открытие это огорчает глупцов, как будто их обокрали среди бела дня. Но острых умом и жадных до дела открытие это веселит. Сами по себе складываются компании и сами по себе, без всяких договоренностей, появляются в них вожаки и авторитеты. Поначалу происходит что-то вроде петушиных боев за первое место — остроты, шпильки, ревность. Но и соревнование придает ума.
В Московском университете несомненно верховодил студент юридического факультета Перикл Аргиропуло. Петр Заичневский ревниво осмотрел небольшого юношу, которого старила южная чернота. Манеры Аргиропуло были изящны. Это даже взбесило Заичневского, который предпочитал ходить увальнем. Однако, встретившись взором с черными, печальными и вместе с тем неуемно веселыми (умными то есть) очами, он рассмеялся:
— А я ведь тебя невзлюбил! Не терплю барышень в мужском обличье…
— Это от непривычки к барышням, — сказал Аргиропуло, на что Петр Заичневский вспыхнул приятной застенчивостью.
В этот день и вечер они гуляли допоздна. Знания Петра Заичневского, столь возвышающие его в собственном мнении, не оказались чрезмерными. Перикл Аргиропуло щадил его самолюбие, что, возможно, объяснялось тем, что был он старше Петра Заичневского на несколько лет. Прибыл он в Москву из Харькова (тоже — провинциал!), был сыном первого драгомана при русской миссии в Константинополе, недавно принявшим русское подданство. Перед Периклом Аргиропуло, потомственным аристократом, родичем греческого посланника, богачом, открывался нешуточный дипломатический карьер. Самим провидением был он предназначен к высокомерной отчужденности, но Петр Заичневский с первых же минут знакомства отметил надежную братскую черту Грека, с которым подружился в Москве гораздо больше и теснее, чем с родным своим братом.
Говорили обо всем сразу, радуясь, что нашли друг друга, что читали одни и те же книги, что горели одними и теми же мыслями. Петр Заичневский успел уже присмотреться к профессорам, он гремел, размахивая руками:
— Вот кто возрадовался бы, если бы все социалисты в один день исчезли с лица земли! А мы не исчезнем, Грек! Черта с два! Нас будет все больше и больше! И когда-нибудь они вынуждены будут признать в своих лекциях нашу силу! Ора э семпрэ, черт их раздери!
Это он — из Мадзини, из «Молодой Италии», которую знал и Перикл Аргиропуло.
Юность склонна затевать общества. Должно быть, все партии на земле основаны были молодыми людьми. В Московском университете сложился тесный кружок, называемый «Библиотека казанских студентов». Сначала лица казанского землячества, затем Поволжья, затем иных губерний сходились в этом кружке. Основал его бывший казанский, а затем московский студент Макковеев, юноша странный, замкнутый и нелюдимый. Целью кружка, библиотеки, в которой собирались запрещенный в России книги, намечалось, между прочим, сближение с офицерами московского гарнизона для пропаганды среди них революционных идей. Идеи были покуда еще не лены самим устроителям…
Перикл Аргиропуло и Петр Заичневский посещали собрания библиотеки, которая ставила первейшим условием конспирацию даже вопреки здравому смыслу. А тем не менее хотелось дела…
III
Еще в пятьдесят седьмом году правительство выпустило книгу барона Корфа (говорили, пушкинского однокашника по лицею) о восшествии на престол царя Николая Павловича. Правительство пыталось взбодрить память об этом монархе перед лицом неотвратимых преобразований российской жизни. Восшествие Николая сопровождено было бунтом на Сенатской площади, и барон Корф весьма злобно (не в назидание ли новым революционерам?) изображал декабристов честолюбцами.
Огарев в Лондоне напечатал разбор корфовской книги, опровергая измышления барона. Нужно было, чтобы как можно больше русских людей прочитали этот разбор.
Лука Коршунов, присланный служить барчукам, отпросился на оброк в какое-то москательное дело. Лукашка понимал Петра Григорьевича, ловил сказанное с полуслова, с миганья. Шляясь по московским базарам, входя в дружбу с себе подобными оброчными, он заводил знакомства, совершенно необходимые. Петр Григорьевич томился без печатни (а было их на Москве, почитай, штук полтораста), Лукашка понимал томление братца-барина. Как-то привел он справного молодца, по бумаге — оброчного крестьянина госпожи Кондыревой Ванюшку Макарова. Ванюшка этот подал прошение господину обер-полицмейстеру — открыть типографию. А пока — вот он весь душой и телом, ежели, скажем, отлитографировать лекции господам студентам — отчего же, можно-с…
Так была отлитографирована запретная книжка Огарева, с портретом его, в трехстах оттисках по шестьдесят пять копеек серебром за оттиск. Синеватые, как голуби, литографии разлетались вмиг. Вмиг же разлетелось оттиснутое письмо лондонского Искандера государю императору.
Говорили, полковник Воейков (из жандармского управления) забеспокоился, засуетился, стал искать — кто. Пристав Пречистенской части, бывший кирасир господин Пузанов натянул на себя кирасирский мундир (для красоты, что ли, или чтоб не узнали?), явился на студенческую квартиру — якобы приглашать господ студентов в репетиторы к своим детишкам. Тары-бары, то да се, дети учатся скверно, а также строга ценсура. Студенты встретили пристава всей душою: все так, однако ценсура их не касается, ибо печатают они на общий кошт лекции для лучшего заучивания. И действительно, в подвале дома господина Полетика находилась литография, где оброчный крестьянин Иван Макаров тискал эти невинные лекции, а более ничего. Репетиторов же отставной кирасир так и не нанял: дорожились, да и малых детишек, собственно, не было.
Библиотека казанских студентов, законспирированная тщательно, на риск не шла. Удача с книгой Огарева подбодрила Аргиропуло и Заичневского. Они уже строили планы великие: типография, станок, может быть, даже журнал в недалеком будущем. А пока выходили запретные Герцен, Огарев, а также Фейербах, Бюхнер, Лоран. Заичневский переводил своего Прудона.
Выручка шла к Периклу. Он был казначей. От него получали вспомоществование необеспеченные студенты, он же торговался с литографщиками: на оттиск — два, рассылал по Москве печатанье. Литографщики брали работу — за деньги почему бы не взять? Да и беды покуда от такой негоции не было: печатаем, мол, лекции, учебники, дело торговое, коммерческое, а в прочем не виноваты.
В Москве потребовались учебники: сами по себе стали возникать воскресные школы. Мастеровой люд, обыватели — взрослые люди помимо детишек тянулись в эти школы нешуточно. Господа студенты молодыми зычными голосами излагали основы наук. Москва припоздала с этими школами: они уже существовали и в Петербурге, и в Киеве, и в Могилеве, и в Екатеринославе, даже в иных уездах Московской губернии.
Надо сказать, заглавным правилом этих школ (в Москве их оказалось двенадцать — девять мужских и три женских) было непременное обращение на «вы» ко всем, без различия звания и состояния. Слыханное ли дело! Говорили, какой-то малец на вопрос господина студента: «Как звать?» — ответствовал бодро, привычно:
— Кузька…
— А родителя как?
— Федька…
— Так вот, сударь. Отныне вы — Кузьма Федорович, запомните твердо и на собачьи клички не отвечайте.
Такой поворот дела поначалу изумил, а потом — действительно! Люди же все-таки!..
В школах преподавали: Аргиропуло, Покровский, Понятовский, Новиков, Праотцев, Евреинов, Славутинский (младший) и оба брата Заичневские.
IV
Князь Долгоруков — царю:
«Правительство не может допустить, чтобы половина народонаселения была обязана своим образованием не государству, а себе или частной благотворительности какого-либо отдельного сословия».
Надежда Степановна Славутинская с сестрою (дочери известного литератора) садились в аудитории рядом с братом своим Николаем. Попечитель, генерал Исаков, любезно предоставивший дамам возможность посещать лекции по примеру петербургских дам, вдруг призвал к себе Николая Славутинского:
— Молодой человек, вы будете уволены из университета, если ваши сестрицы не оставят своей неприличной манеры.
— Какой манеры, ваше превосходительство?
— Вы понимаете сами! Я только сейчас понял причины их рвения к наукам!
Старый кривляка, должно быть, получил нагоняй от начальства.
Появление девиц Славутинских в университете произвело шум немалый. Генерал, любезник и европеец (пора, пора и нам преодолевать предрассудки!), не мог предвидеть обыкновенного похабства: господа студенты гыкали, отпуская по адресу «синих чулков» остроты, которые казались не весьма приличными даже несшим службу при университете нижним чинам. Гыканье сие было воспринято начальством как вокс гуманум — глас народный, тем более и солдаты, подражая господам, стали дерзить весьма грязно.
Надо сказать, возмущению господина попечителя предшествовал случай неприятный. В перерыве студент Заичневский приблизился к кучке наиболее речистых обсуждателей женского вопроса и приказал замолчать. Обсуждатели умолкли, однако вечером пытались устроить ему темную, накинув на голову плед. Заичневский увернулся, схватил двоих за вороты и стукнул их головами с арбузным треском (иные говорили — треск был бильярдный). Драка была короткой, Заичневский вывихнул большой палец, который ему через полчаса вправил приятель студент-медик Линд. Назавтра (с перевязанной кистью) Заичневский сказал одному из вчерашних собеседников, имевшему приличный синяк под глазом:
— Коллега, хорошая погода, не правда ли?
— Мы еще посчитаемся, — озлился собеседник.
— Едва ли, — улыбнулся Заичневский, — дарую вам жизнь в надежде, что вы поумнеете…
Начальство узнало о происшествии тотчас, резонно приписав вину за него девицам Славутинским. Начальство поступило как начальство: убрать причину следствия!
Оскорбленный Степан Тимофеевич написал жалобу министру, сестры негодовали, Николай искал, на ком излить зло.
Вечером у Славутинских собрались Аргиропуло, братья Заичневские, Линд, молодой граф Салиас и юный поэт Гольц-Миллер.
— Вас не требовали? — испуганно спросила Наденька, глядя на перевязанную кисть своего рыцаря.
— За что? — почти непритворно спросил рыцарь.
— Вам нужно непременно держать руку в холодной воде с уксусом…
— Ах, это! — махнул ушибленной рукою Заичневский. — Пустяки! Колотил в стены самодержавия!
— Вы так и скажете генералу?
— Так и скажу! А хотите, скажу самому государю?
— Нет, — опустила глаза Наденька. — Не хочу… Я вообще за вас опасаюсь.
Неожиданно явился уланский корнет Всеволод Костомаров, молодой литератор, подающий надежды. Только что в Петербурге виделся он со знаменитым поэтом Михайловым. Невзрачный корнет смотрел искательно, виновато, младшая Славутинская находила, что глаза его напоминают глаза собаки, которую ни за что ударили палкой. Но знакомство с самим Михайловым возвышало корнета, рисовало его более значительным. Костомаров выпил чаю, съел три булки с ветчиною и удалился.
Заговорили о славном поэте, о статье его, о воспитании женщин, о значении их в семье и обществе. Разумеется, рыцарство Заичневского никак не шло в сравнение с великим рыцарством Михайлова, как не идет в сравнение мальчишеская шалость с деятельностью не мальчика, но мужа.
Михайлов публиковал свои сочинения в «Современнике». Чернышевский, бросивший как-то, что женский вопрос хорош тогда, когда нет других вопросов, весьма проигрывал в прекрасных очах рядом с Михайловым. Даже происхождение поэта от киргизской княжны и тяглого в прошлом человека придавало ему особенный, романтичный ореол. Заичневскому с обиды хотелось объявить, что и он по матушке Юсупов: уж слишком обидно снисходила к нему Наденька, за которую он полез в драку.
Старик Славутинский, избавлявший молодежь весьма деликатно от своего присутствия, все-таки возвращался из кабинета слушать этого грека, Перикла Эммануиловича. Студент был образован не по летам, и то, что говорил он, было и знакомо и — непостижимой новизны. Разумеется, и Милль, и Бокль, и Луи-Блан, и Прудон, я Спенсер, и Шлоссер были известны старому литератору. Однако в речах Аргиропуло звучало какое-то практическое российское толкование отвлеченных заморских теорий. Даже этот неуемный, как бишь его, Заичневский (Степан Тимофеевич не жаловал громогласных юнцов), стихал и слушал, и в близоруких глазах его играл нетерпеливый ум. Впрочем, он подрался за девочек, что рисует его со стороны благородной. Как же быть в этой ужасной империи, где чиновники образованные, изящные в манерах, принадлежащие, казалось бы, к кругу жантильомов, служат суеверной дикости необразованных классов? Мальчики эти занимаются литографированием запрещенной литературы (Степан Тимофеевич и это знал), но что же им делать?! Они жаждут распространить просвещение. Они действуют подпольно, негласно, но разве не самодержавная власть, подпольная по самой своей сути, повергает их на этот путь? Однако какова Россия? Не прошло и пяти лет с окончания темной эпохи недоброй памяти царя Николая Павловича, как страна забурлила, задвигалась, предъявив миру лучшие свои сердца! Скоро, очень скоро грянут перемены важные, исторически необходимые, болезненно назревшие, и, может быть, тот самый социализм, о котором так умно и чисто говорит этот мальчик Перикл, похожий на того аптичного своего тезку, восторжествует к радости и счастью всех сословий огромной пробуждающейся страны?
А правительство? Степану Тимофеевичу хотелось думать, что и оно не чуждо новым веяньям. Явные признаки свободы, несмотря на сопротивление ретроградов, были налицо. Даже этих молодых людей открыто называли обществом коммунистов без неприятных для них последствий… И как знать, может быть, упрочится за этими молодыми людьми благодарность народа, к огорчению мрачных крепостников, но к радости новой молодой России?..
Говорили, двадцать восьмого января шестьдесят первого года — на сто тридцать шестую годовщину смерти Петра Великого — в заседании Государственного совета государь Александр Николаевич держал речь по крестьянскому вопросу. Во время речи обвалилась штукатурка. Царь стряхнул с эполета известь, продолжая речь. Спокойствие императора при очевидной опасности признано было достойным умиления и расценено как предзнаменование демократического начала новой жизни России.
Пять лет царя пугали. Пугали те, кто не желал освобождения мужиков, и пугали те, кто видел в освобождении великую пользу империи. И обе стороны сего противостояния имели свой резон:
— При объявлении свободы озлобленные долгой неволей крестьяне ударятся в разгул и пьянство и перевернут вверх дном всю Россию. Поберегись, государь!..
— Если ничего не будет сделано для освобождения крестьян — чернь сама явится к Зимнему дворцу. Поберегись, государь!
И вот эта штукатурка в Государственном совете! К добру ли, к беде? Однако государь был спокоен.
V
Через три недели, в воскресенье, девятнадцатого февраля одна тысяча восемьсот шестьдесят первого года божьего милостью император всероссийский взял гусиное перо и обмакнул в хрустальную чернильницу…
Говорили, государь удалил всех из своего кабинета, пожелав остаться наедине с собою, со своими предчувствиями и надеждами. Еще ни одному русскому царю не приходилось подписывать манифеста об освобождении от крепостной зависимости почти двадцати трех миллионов крестьянских душ.
Стало известно, что оглашение манифеста народу имеет быть пятого марта в прощеное воскресенье масленицы. День сей избран был с умом, с великим смыслом: обыкновенное христианское прощение обид друг другу пред великим постом превращалось в необычайное прощание с предыдущей великой кривдою — крепостной неволей. Мужик да простит барина за былое угнетение, барин же — да простит мужика за вольную, полученную мимо барской воли от самого государя.
Но одновременно с вестями высокими, достойными воодушевления доходили вести нелепые. Будто с той минуты, как государь задумался в полном одиночестве с гусиным пером в руке (да и то, надо сказать, задумаешься!), князь Долгоруков и оба Адлерберга не выходят из Зимнего дворца и даже ночуют в сапогах. Будто ждет повседневно и повсенощно под аркою (где Эрмитаж) государева карета, а во дворце удвоены (даже утроены!) караулы. Будто обер-полицмейстер Паткуль всыпал двести розог дворцовому дворнику, который напился пьян и, бил себя в грудь, хвалился первым крикнуть ура воле, как только государь скажет, что можно уж и кричать.
Нелепые вести эти доходили до Москвы — похоже было — тщанием злоумышленников, однако и в Москве, при полицейских частях, оказались зачем-то солдатские полувзводы и выданы им были патроны с пулями. А через Кремль прекратили вольный проезд будто бы на время, пока подметут Ивановскую площадь.
И вот ударил Иван Великий и отозвались московские колокола, и дома и храмы поплыли, как льдины, в сплошном черном людском море. Куда уж тут полувзводам! С папертей сверкали ризы, дымили кадила — не поймешь, кто говорит, кто плачет, кто так — вздел руки к небесам. Слабые в неимоверном гуле захлебывающиеся голоса возвещали:
— Осени себя крестным знамением, православный народ! И призови с нами божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного!..
Лукашка (оказался на Арбате), в новой синей поддевке, в хороших плисовых шароварах, в крепких сапогax, крестился наотмашь, истово, слезы золотились на рыжеватой полудетской растительности, волосы желтые и вовсе ребячьи, расчесаны были пополам и смазаны, суконный черный картуз Лукашка мял левой рукой.
Возле Спаса на песках Лукашка разглядел в толпе обоих своих господ да с ними еще веселых барчуков.
— Петр Григорьевич, — не крикнул, всплакнул с воплем Лукашка, — Христос воскресе!
И бросился прижиматься мокрым лицом к суконной груди (выше не дотягивался). Петр Заичневский приобнял его, взял голову, поднял к себе, посмотрел в детские синие глаза, стал вытирать пальцем Лукашкины слезы:
— Так рано еще ему… Не пасха ведь еще… Ты картуз надень… Простудишься…
Лука удивленно сквозь слезы посмотрел на картуз: действительно! Надел…
Николай Григорьевич и прочие рассмеялись обидно, барственно. И эта обида передалась Луке как плетью поперек лица. Что же это? Всем радость, а этим глумление? Лука Коршунов, кинувшийся было истово, но православному, к бывшему (видал как? Теперь уж бывшему!) барину, вдруг заподозрил неладное. А может быть, и впрямь господа не рады народной радости? Kaк же теперь там — в Гостином? Хозяйство и так шло через пень колоду. Лукашка сызмальства, чуть не с мальчишеских лет понимал за господами все их премудрости. Но вот — меньшой Заичневский, последыш, любимчик. Ему-то что достанется при разделе? Шиш с маслом! Но ведь и он — прямой барин!
Слезы высохли вмиг. Лукашка открестился от насмешливого кирпоносого лица Петра Григорьевича:
— Дьявол!
— Да остынь ты, дурак, — строго приказал Петр Григорьевич.
И они все опять рассмеялись.
— Дьявол, — шепотом повторил Лука.
— Господа! Эхо — наш Лука! Богат, как Крез… «Ваш, — зло сверкнул умом Лука, — как же… был ваш… А теперь — выкуси! Теперь я — государев!»…
— Господа, — сказал Петр Григорьевич. — Он теперь таков, что, пожалуй, сможет и нас на волю выкупит.! Лука Семеныч! Сторгуешься с Александром Николаичем?
Лука, приученный сызмальства к забавам барчука, понимал, что речь идет о государе, понимал он и злорадный смех всей компании.
— Неуместно, барин, — негромко сказал он одному Петру Григорьевичу, будто никого рядом и не было, будто никто и не реготал на кощунственное суесловие.
Слова Луки, спокойные (никак не поверить, что только что рыдал он от умиления царской милостью), будто отрезвили всех. Но Лука не умолк. Сказал негромко, дельно, предупредительно:
— Выкупать вас будем. Да не у того, у кого чаете…
— Каков?! — гневно (вот сейчас велит ободрать кнутом) вскрикнул барчук в высокой шапке.
— А ведь он прав, — тихо сказал Николай Григорьевич. — Пойдем с нами, Лука, не сердись.
Лука и сам остыл от обиды. Дела у него сегодня не было кроме радости о монаршей милости. А деньги — были. На херес и мадеру хватит. Лука знал, что господа студенты зелена вина не потребляли.
Господа студенты, с коими водились Николай и Петр Григорьевичи, виделись пронырливому глазу Лукашки не такими, какими пытались предъявить себя, а истинными, сокрытыми, такими, какими были на самом деле. Он видел нищих, гордецов, жадных, щедрых, простецов, спесивых, всяких. Николаю и Петру Григорьевичам и в голову не приходило то, что у Лукашки, пожалуй, и не выходило из головы: беден человек или богат? Лукашку нельзя было заморочить ни одеждою, ни повадками. Зная за своими господами всю подноготную, зная и о соседних помещиках больше, чем они сами ведали, Лукашка с детства обладал обстоятельностью и чувством выгоды, как никто другой. Первый свой капитал — восемь рублей серебром — Лукашка приобрел на барской спеси помещика Оловенникова. Оловенников этот продавал цыганам жеребца и требовал за него сто рублей кругло. Лукашка же взял сто восемь. Он честно сказал барину, как было дело. Но барин кинул ему за сметливость этот выторгованный лишек. Уж больно понравилась барину пронырливость мальчишки:
— Большая шельма из тебя вырастет.
Это было давно. А сейчас Лука потчевал бывших своих господ со товарищи. Лука угощал степенно. Научился, шельмец, кивать половым вполкивка, и те понимали без звука и с уважацией: крепостной человек потчует блинами и протчим молодых господ. И то, что сами они, половые то есть, были оброчными, до нынешнего часа крепостными же, придавало им смелости: так ли еще дело дальше пойдет.
Один, нестарый, рябой, в холщовой рубахе, с особенным удовлетворением ставил на стол пищу — блины, семгу, ачуевскую черную икру, ахтарские балыки:
— Пожалуйте-с, ваше степенство…
И — ровно не было никаких господ и гулял один Лука Коршунов, бывший крепостной человек.
К вечеру прощеного воскресенья слезы радости стали подсыхать. Выяснилось от тех, кто стоял ближе и слышал лучше, что воля-то не дана покудова, а лишь обещана через два года. Как-то так получалось, что воля еще не вышла.
И поплыл слух: опять господа за свое! Подменили царскую грамоту! Зачем бы государю на два года раньше народ мутить?
Веселье, да еще на прощеное воскресенье масленой вдруг обернулось не зеленым вином, не блинами, а догадкою: господа своего не упустят: и здесь нагадили!
Оказалось, на масленую эту, на великий день провозглашения высочайшего манифеста, противу всякого ожидания, к разорению владельцев питейных заведений, Москва потребила вина почитай на две тысячи рублев менее, нежели в прошлогоднее прощеное воскресенье. Оказалось также, что противу прошлогодней масленой у городовых оказалось поменее дел — будто ни с того ни с сего народ стал трезвее.
Господа, конечно, радовались такому преображению: трезвенная компания, затеянная как бы наперекор ожидаемому повелению торговать вином повсеместно, ocoбенно оказала себя в сей торжественный день.
— А не задумался ли мужик с горя?
— Это — в Москве-то?
— Именно! Оброчных полна Москва!
— Ждите потехи, господа! Ждите потехи…
VI
На Моховой появились списки странного воззвания, не то прокламация, не то проповедь на панихиде:
«Други нечеловекоубиенные! Сам Христос возвещал пароду искупительную свободу, братство и равенство во времена Римской империи и рабства народов по пилатскому суду кровию запечатлел свое демократическое учение. В России за 160 лет, стали являться по причине отсутствия просвещения среди сельских общий свои мнимые Христы, которые по-своему возвещали свободу от своего рабского, страдальческого положения…» С половины XVIII века эти мнимые Христы стали называться пророками, искупителями сельскою народа, вот явился новый пророк и также возвещал во имя божие свободу, и за то много невинных жертв пострадало, «не поняв ограниченного государственного положения по причине не дарованного им просвещения. Мир праху вашему, бедные страдальцы, и вечная память! Да успокоит Господь ваша души, и да здравствует общинная свобода, даруемая вашим живым собратиям!»
Списки исходили от студентов казанского землячества («Библиотека»!), и оттуда же шли слухи о явлении в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии некоторого пророка, возвестившего волю.
Название уезда (во имя Спаса!) пророчески соприкасалось с названием села, ибо сказано в двадцатой главе Откровения: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну…»
Не предзнаменование ли? Не рухнет ли, наконец, в бездну сатанинское самодержавие?
Разумеется, питомцы альма-матер на Моховой были позитивисты, атеисты, безбожники и даже (страшно сказать) богохулы. Однако страстная жажда революции, жажда сокрушить самодержавного дьявола не отторгала ничего, что шло бы на пользу. И подобно тому, как Шлоссер и Милль необходимы для образованного класса, апокалипсические предсказания могут же быть необходимы для темного народа!
— Если народу нужна религия — пускай его! — говорили атеисты. — Пускай наш мужик верит в бога и в черта! Воспользуемся суеверием народа для его же счастия!
Но по убежденному голосу, по круглым смелым глазам видно было, что суеверная надежда отнюдь не исчезла в глубине души и самих атеистов. Слухи множились, обрастали подробностями и теперь, с появлением странного воззвания, реальность обрела ужасный смысл.
В понедельник, третьего апреля в село Бездна Спасского уезда в имение графа Мусина-Пушкина доставлено было Положение. Губернаторский чиновник привез три книги — одну отдал в контору управляющему, другую — сотнику Матвееву, третью же — старосте деревни Волховской, приказав, однако, избрать чтеца из мужиков, чтобы крестьяне читали Положение сами, своим глазом.
Мужики поначалу, по покорной доверчивой привычке просили читать и управляющего, и конторщика, однако никто из них в тех царских книгах не вычитал воли, а, как сговорившиеся, твердили одно: надо оставаться в прежнем состоянии еще два года.
Сего быть никак не могло. И конторщик (пьяница и ерник), и управляющий (благообразный вор) были хоть и малые, а — господа и, разумеется, держали сторону господ во всяком деле, особливо же в таком, как царская милость народу. И тогда крестьянин Матвей Михайлов предложил миру позвать из села Бездна молодого грамотея Антона Петрова сына Сидорова. Тамошний управляющий Пашка Родионов отпустил Антона, не переча: пускай читает!
Антон же, прочитав Положение, объявил, что крестьяне должны робить на графа всего сорок дней, об остальном же сказал, что покуда ничего хорошего не вычитал.
Однако мужики не теряли надежды и ждали — авось вычитает, ибо Антон был таким же, как они, крепостным, так же, как они, желал воли и к тому же был просвещен грамотою и молился по старому обряду.
И Антоя вычитал! Были в Положении слова на будущее: «…после ревизии отпущены на волю», а также «…отпускаются после ревизии на волю». Вспомнив, что последняя, десятая то есть, ревизия была два года назад, Антон смекнул, что не через два года быть воле, а уж два года, как государь объявил ее, да господа поставили все вверх ногами! Вольные-то мы уж, выходит, с десятой ревизии!
Так объявился народу истинный толкователь Положения и остальные чтецы были признаны ложными. Да как не признать, если еще неделю назад становые секли мужиков за один вопрос — правда ли, что вышел высочайший Манифест? Стало быть, взял государь верх над бояры!
Из Юркуля, из Щербети, из Мулина, из Екатериновки, из Буракова мужики двинулись в Бездну слушать истинную волю, вычитанную Антоном Петровым. Двинулись иные семейно, иные с образами, но все принаряженные: шутка ли дело! Сказывали, сам государь император Александр Николаевич и с ним государь наследник Николай Александрович и вся императорская фамилия пожалуют в Бездну, для чего (многие видели воочью!) в Спасск уж прибыл отряд свиты его императорского величества генерал-майора графа Апраксина охранять священную особу государя от адских злоумышлении помещиков! Ибо открылись слова государя: «Кто в три месяца в присланной книге не разберет воли, тот будет трижды проклят, и государь от него отступится!»
Сведенья эти, романтизированные в духе старозаветных сказаний, сумбурные, полные трагикомических нелепостей, столь милых сердцу почитателей народного простодушия, пришли на Моховую как бы сами по себе, просочившись из писем, получаемых казанцами.
Разумеется, что-то происходило в Казанской губернии. Непонимание крестьянами Манифеста никого не удивляло: Положение 19 февраля было многословным, длинным и неясным.
Острословы разносили найденные каким-то дотошным исследователем слова покойного государя Николая Павловича (иные говорили — статс-секретаря Сперанского): указы следует писать неясно, чтобы народ постоянно нуждался в разъяснениях начальства. Мысль эта, циничная и по-существу холопская, почему-то веселила. Почему-то желчное горячение неустройством государства утоляло душу.
Но что-то происходило в Казанской губернии.
И вот появились очевидцы. Все было так — и Спасский уезд, и село Бездна, и грамотей Антон Петров, и тысячи мужиков, явившихся со всего уезда слушать истинную волю.
Сатанинское воображение тридцатипятилетнего мужика, читавшего с листа не то, что там написано, а то, что ждали мужики и бабы, потрясло уезд, изумило господ посредников, напугало господ помещиков. Посредник ласково, человечно, буква за буквою показывал Антону слова Положения: гляди-ко, братец! Ты ведь просвещен грамотою, а городишь нелепицу! Да кто вам сказал, что в Бездну пожалует сам государь?
— Пожалует, ваше сиятельство! Пожалует! Как ему не пожаловать, ежели сызнова — кривда и сказано в писании — конец ей пришел! И его сиятельство граф Апраксин не напрасно прибыл оберегать государя от вашего упрямства! Государь — за народ, вы же — поперек стали! Студент Николай Молоствов, родич спасского предводителя, клялся, что сам слышал нелепый этот разговор и будто даже видел, как испарина покрыла плешеватый, с жидким коком лоб посредника (стоял на ветру без картуза по причине почтения к царской книге). Земский исправник Ростислав Васильевич Шишкин нехотя позволил этому Молоствову сопровождать себя, и Молоствов рассказывал:
— Антон с сынишкой на руках толковал мужикам: «Не бойтесь! Войска будут стрелять в нас, это точно, однако три первых выстрела большого вреда не сделают, а более трех раз по народу стрелять нельзя. Я выйду к начальству, меня закуют, повезут к государю, и он, государь, велит расковать и пришлет волю — истинный милостивый Манифест»… Первые три залпа мужики выдержали. Но Апраксин велел стрелять еще… Это было страшно… Крестьяне валились, как снопы. Они падали мертвыми, но никто не мог поверить, что они убиты!.. Мне достанет этого зрелища на всю жизнь… Ужасно, господа… И они кричали при этом, падая и умирая: «не нас бьете! Государя императора бьете!» Они ведь обрадовались, когда узнали об Апраксине! Они ведь, по совету Антона Петрова, выслали стариков с хлебом-солью встречать войско! Право же, господа… Когда поручик Половцев спросил: «Кому хлеб-соль?» — старики поклонились: «Вашему императорскому величеству!»… То ли они спутали с государем Половцева, то ли — Апраксина… Они ждали к себе царя и не верили своим глазам, потому что не хотели им верить!.. Они не хотели отдавать Антона Петрова: «Воля, воля! Не сдадим! Умрем за царя Александра Николаевича! Стреляйте! Потечет кровь царская! Мы одни за царя!»
— А Петров? Петров?
— Он пошел к Апраксину, переступая через тела… Он нес над головою Положение: он был уверен, что в царский указ не посмеют стрелять… Ах, господа, это надо было видеть! Вообразите — стоят перед ружьями живые, верящие и — вдруг — трупы, разбросаны руки, ноги… Кровь на бородах и лежат — кто как упал… А Петрова расстреляли… И — все…
— А оружие? — спросил Заичневский.
— Какое оружие?
Заичневский стукнул кулаком о стол с досадою…
— Какое оружие? — закричал на него брат Николай. — Они не смели! Ты можешь понять? Не смели! Сколько их было?
— Много… Тысячи!..
— Тысячи! И не справились с батальоном? — усумнился Заичневский. — Да пока солдаты перезаряжают ружья, их можно было передушить голыми руками!
— Так вот — не передушили! Когда Ростислав Васильевич спросил, почему они не хотят читать Положение, ему сказали старики: бог с ней, с книгою-то, вот она что у нас наделала…
Сообщение Молоствова произвело ощущение тяжкое, унылое. Но человек устроен так, что не способен терзать себя долго. И всегда у него, у человека, имеется в запасе приправа к ужасу — избавительная, прохладительная, уводящая от сути: свойство беды, даже той, которую почувствуешь всей душою, таково, что, если она не зацепила тебя самого, развести ее по нитке нетрудно и даже увлекательно. Приправа к ужасу, как к несъедобной снеди, которую лишь поперчи и — можно потребить, вычитанная из книг, высказанная в беседах, подводила итог услышанному:
— У народа нет вождей. Нет людей, кто знал бы истину и повел бы за собою народ… Антон Петров делал все не так…
Разумеется, после того как кто-нибудь сделал что-нибудь не так — судить его просто. Все, кто погиб, делали не так.
А как?
Молодой граф Салиас распалился, превозмогая шум:
— На Сенатской площади солдаты требовали Конституции! Они считали, что Конституция — это супруга Константина! Просвещенные господа декабристы не перечили: и солдатское невежество пригодится! Рай для народа можно ли строить на народной темноте?
— Да ведь народ и впрямь темен! Пока…
— Пока? Да это пока — от Гостомысла! Валяй супругу Константина! Ужо-тко после разберемся! Не разберемся, господа! В тюрьмах сгинем, не разберемся!
— Будет вам! — объявил Заичневский. — Чем хуже, тем лучше! Кровь льется все равно. Нужно, чтоб она не лилась даром.
— А может быть — чтобы вовсе не лилась?
— Мы не барышни! Пусть нас расстреливают! Пусть нас истязают! Пусть! Пусть правительство само своими дикими расправами, своими звериными способами ожесточает народ! Народ верит в царя? К черту! Нужно ему втолковывать, что во всей его беде виноват царь!
— Долго втолковывать! В тюрьмах сгинем!
Странная не то прокламация, не то проповедь, появившаяся в списках на Моховой, была, как потом оказалось, речью бакалавра Афанасия Щапова на панихиде по убиенным в селе Бездна крестьянам. Панихиду служил шестнадцатого апреля, в вербное воскресенье, в Казани на Сибирском выезде в кладбищенской церкви отец Бальбуциновский, собралось же студентов сто пятьдесят, и еще иные люди.
Антон Петров расстрелян был по повелению государя императора в среду на страстной неделе, девятнадцатого апреля, через три дня после панихиды по себе…
VII
Освобождение крестьян, ожидаемое бурно, нетерпеливо, обернулось кровью. Все было не так. Положение оказалось тяжелым, несправедливым, безрадостным. Оскорбленный народ негодовал, противился, угрожал вот-вот взяться за оружие.
Так думали молодые люди, окружавшие Аргиропуло и Заичневского, и пока никто не мешал им так думать. Освобождение русской общественной мысли от ценсурных колодок сделалось их целью. Необходима была правильная собственная типография — чтобы не зависеть от случайных московских литографов.
Тайна затеваемой вольной типографии была не так уж и глубока, переговоры начались, однако перенесены были на осень, поскольку наступили вакации.
Двадцать первого мая Петр Заичневский выехал из Москвы к себе в Орел. Аргиропуло остался в Москве.
Главное, что занимало разъехавшихся студентов, была неудавшаяся крестьянская реформа. Говорили, министр внутренних дел докладывал царю о крестьянских волнениях и было тех волнений, по слухам, кроме Безднинского, множество и что в иных местах взвивался над мужиками красный флаг социализма.
Московский обер-полицмейстер — московскому генерал-губернатору:
«Получено мною сведение, что выехавший на днях отсюда Орловской губернии, Орловского уезда, в имение своего отца помещика Заичневского, студент здешнего университета Петр Григорьев Заичневский намерен распространять мнение в народе, и первее всего в именин своего отца, что вся земля помещиков принадлежит бывшим их крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости».
Лошади скакали бодро (четверка цугом) по накатанному тракту, пассажиры в колымаге разговаривали как старые знакомцы, что случается только в пути — здрасьте, не желаете ли с краю, так вам будет удобнее, прекрасная погода, не правда ли? Никто не знал ничьих имен, обходились «сударем» и «сударыней». Петр Заичневский в красной косоворотке, в брезентовом пыльнике, в высоком картузе похож был на степного помещика. Молодость (редкий пушок вокруг толстоватых губ) подчеркивала, что помещик сей только что обрел наследство, однако приучен к хозяйству сызмальства. Должно быть, ездил в Москву, выбравшись из дальней своей глубины по делам. Сидел он спиною к кучеру рядом с молодым военным, прямым, как аршин (даже подпрыгивал на ухабах, как деревянный).
Старик в седых бакенбардах а ля государь, рядом две дамы — постарше и помоложе, должно быть жена и дочь, спросил Заичневского, прокашлявшись:
— Большим ли имением изволите владеть?.. Пардон, из-во-ли-ли…
В этом по слогам сказанном слове было достаточно язвительности, чтобы уразуметь отношение старика к крестьянской реформе. Заичневский рассмеялся!
— Никаким! Все мужикам отдал!
— Да-с? — помрачнел старик. — То-то я смотрю, на вас красная рубаха…
Девица отвернулась, Заичневский заметил румянец под дорожным капором и скрытую улыбку уголка рта. Он уже привыкал к разговорам отцов взрослых дочерей, невест, и это вызывало в нем самозащитительного веселья более, чем требовали приличия. Военный еще за Серпуховской заставой сказался женатым, старик потерял к нему интерес.
— А вы, сударыня, — спросил девицу Заичневский, — какого мнения об освободительном манифесте?
Девица вспыхнула ярче, не ответила, старик же сказал:
— Покудова особа эта — в родительской воле… И воспитана, знаете ли, в старых порядках…
— Ну да это ведь — как случится!
— Что-с? Как это — случится?
— Да так! Россия становится на новый путь, а ваша дочь достаточно молода, чтоб и на ее долю выпали новшества! Не так ли, сударыня?
Девица наконец повернулась, посмотрела на Заичневского печально, несколько напуганно, но превозмогла себя, краснея болезненно:
— Не знаю, что вы имеете в виду…
Колымага взобралась на бугор, откуда виделся ужо город Подольск, кресты золотились солнцем. Заезжий двор расположился тотчас за бугром, лошади остановились привычно. Можно было прогуляться. Заичневский соскочил на мягкую землю, на чистую майскую травку.
Внизу, в полуверсте, вокруг невысокого строения толпились мужики. Толпы такие теперь были привычны — должно быть, собрались слушать посредников.
— Не желаете ли? — спросил Заичневский девицу, кивнув на толпу и протянув руку, чтобы помочь слезть.
— Я бы предпочел, чтобы вы остались, — тихо, по-французски приказал девице старик.
Заичневский улыбнулся, сказал по-французски же:
— Уверяю вас, сударь, ничего предосудительного мадемуазель не услышит. Это имение князя Оболенского.
Говорил он легко, привычно, старика смягчила легкая французская речь.
— Только ненадолго, — согласился старик. Военный увязался тоже. Они подошли к толпе. Сам князь в венгерке с куньим воротником изящно протянул руку, в коей держал хлыст, к двум нестрогого виду господам, должно быть мировым посредникам, сказал в толпу:
— Прежде я был вашим отцом и благодетелем, теперь — они. Во мне прежде вы находили барина и защитника, теперь найдете в них. Прошу любить и жаловать.
С этими словами он шагнул к хорошему коню (гнедому в белых носочках, с белою звездой на лбу), легко метнул в седло тучноватое, ладное свое тело и ускакал. Мужики без шапок проводили его взором. Посредники стояли на крыльце.
Заичневский рассмеялся. Мужики обернулись (веселый какой!), осмотрели недружелюбно молодого барина в красной рубахе. Заичневский, расталкивая их, пошел к крыльцу, стал фертом, не обращая внимания на посредников:
— Братцы! Ускакал князь-благодетель на резвом скакуне!
Мужики оживились: и правда, что ускакал. Посредник в бекешке спросил:
— А вы, собственно, кто будете?
— Божий странник! Не узнали?
— Вы знаете — нет, — сказал посредник в бекешке.
— И — напрасно, — ответил Заичневский, и сказал в толпу: — Братцы! Земля-то ваша! Вы ее сдобрили, отцы ваши, деды и прадеды! А Положение глаголет так, что вы должны кланяться барину в той земле! А вы ведь можете просто взять ее! Взять, и дело с концом!
— Да кто вы такой? — повторил посредник.
— Я уже представился: божий странник!
И сошел с крыльца. Мужики развеселились его ответом, окружили, пошли провожать к колымаге, бросив посредников. Заичневский взял за плечо длинного в старой барской кацавейке:
— Небось — дворовый?
— При поварне, ваше благородие…
— Что ж ты-то станешь делать на воле без земли?
За дворового ответили сбоку:
— Не иначе ему, как, значится… Того…
— Добудем землю-то, — негромко сказал небольшой мужичонка с глазами хитрыми, аспидными.
— Это — голыми руками? — спросил Заичневский. — Вы слыхали про Антона Петрова? (Мужики притихли, поскольку не слыхали.) Тоже вот так — добудем, добудем… А не добыл. Отчего? Оттого, что не было у него оружия. Думайте об этом, братцы. Думайте промеж себя, запасайтесь впрок и помните: оружие в городах. Там, в городах, и люди есть, которые с вами всей душою. У вас мир, община, сходы — неужто не сговоритесь?
— Сговоримся, барин… Как не сговориться?..
Колымага тронулась, Заичневский махал мужикам картузом. Мужики смотрели вслед.
Военный сидел выпрямлено, молча, делая вид, что рядом никого и нет. Старый барин сказал, когда проехали городок:
— Как же вы можете, милостивый государь, будучи дворянином, подбивать мужиков на бунт?
— Да земля ведь нужна им более, чем нам с вами!
— Вам откуда знать — нужна мне земля или не нужна?
— Помните, сказано: они работают, а вы их труд едите? Для того и нужна! Да справедливо ли это?
Военный не сдержался:
— Странно… Неужели вы станете проводить подобные мнения к своим крестьянам?
— Вообразите! — не глянул на него Заичневский. — Толкование этих истин я полагаю задачей своей жизни!
— Вот как?
— Именно так! И проповедовать их я буду не только в деревне, но везде, где только возможно!
Военный промолчал, но старик не унимался.
— Ну а вот придет Пугачев к вашему батюшке! — вскрикнул он. — Вы-то как поступите? К Пугачеву пойдете в прислужники, а отца с матерью — на виселицу? Хорош сынок!
— Сударь, — приличным, даже печальным голосом сказал Заичневский, — вы стращаете меня тем, чему сами виною.
— Как-с? Объяснитесь!
— Извольте, — вздохнул Заичневский. — Пугачев — порождение общества самодержавного, принуждающего. Это пружина, которая в конце концов не выдерживает сжимания.
— Но вот ведь государь дал волю!
— Кому?
— Как это — кому? Я пугаюсь, сударь, здоровы ли вы?.. Как это — кому? Крепостным!
Они не понимали друг друга. Старику казалось, что доводы его объяснительны и для дитяти: помещик отпускает своих крепостных, своих работников, свою собственность, как же отпустить их за так, безо всякого удовлетворения? Заичневскому казалось, что его довод неопровержим: земля принадлежит тому, кто ее возделывает, при чем здесь помещики? Он не думал при этом (в голову не шло), что и он — помещик, что отец его в Гостином, возможно, представлял мужикам мировых посредников так же, как здесь князь Оболенский.
Девица (оказалась племянницей этого старого ретрограда) молчала. Но она то вспыхивала румянцем, то загоралась взором, как бы принимая горячее участие в споре, причем, несомненно, на стороне молодого, образованного смельчака в красной рубахе.
Перед самым Орлом военный не сдержался, сказал, будто вызывал на дуэль:
— Милостивый государь, как верный присяге офицер, я считаю своей обязанностию доложить о вашем поведении господину губернскому предводителю, а также его превосходительству генералу Толю, с которым я имею честь быть знаком!
— Доносите! — весело сказал Заичневский.
Военный (по лени, должно быть) не подал рапорта, укатил дальше, кажется, в Харьков. Старик же весьма удивился, что и в Орле ему — по дороге с этим невыносимым юнцом! Юнец — к Депишам, старик с дамами тоже — в Остриковский.
VIII
Счастье встречи было велико. Все семейство находилось в Орле, ждали обоих, но то, что Николенька задержался, не уменьшило радости Авдотьи Петровны. Она любила Петрушу, это понимали все, да и можно ли ревновать к меньшому?
Петру Заичневскому казалось, что подольский разговор с мужиками был первым удачным опытом его истинно пропагаторской деятельности. Теперь и речь на паперти в Милючевском переулке не воспринималась неудачею. Он не любил людей, которые ни черта не смыслят в своей же пользе, как им ни толкуй. Мужики же — смыслили (как этот, небольшой, сказал: добудем, барин, волю!), это было так очевидно! Нет, крестьяне, не в пример всей этой буржуази лэтрэ, дельные ребята.
Впрочем, и среди буржуази лэтрэ имеются кроме него, Петра Заичневского, и Грека (он полагал истинными социалистами пока только себя и Аргиропуло) дельные люди. Эта тихоня, дорожная спутница (звали ее Натальей Георгиевной, Наташей), преподала ему урок конспирации. Оказывается, она знакома с Греком, с Иваном Гольцем (знала на память даже его стихи), оказывается, она видела и его, Петра Заичневского, и слушала его речи, но скромности затерявшись среди других барышень.
Ах, эта славная конспирация — неуемная, веселая, смелая! Литографированные листы «Колокола» (те самые, которые тискали в Москве) появились в Орле в присутственных местах, в извозчичьих пролетках, прямо на крылечках! И все это делалось кем-то, не им, потому что он распространял крамольную литературу дельно, среди знакомцев.
— Хоть бы сказали! — пенял он Наталье Георгиевне. Она отвечала, распахнув чистые глаза, голубые, как весенние окна:
— Не знаю, о чем вы говорите…
Нет, поистине женщины просто созданы для конспирации! Они созданы для верной дружбы, исключающей все эти пошлые дурацкие жениховства! И как важно знать, ощущать, что среди банальных говорунов, глупых и неразвитых, находится близкая душа, которая все понимает, как мы, и думает, как мы, и, как мы, смеется над упрямой нашей непонятливостью!
Они являлись порознь и в Собрание, и на частные вечера. Присутствие Наташи (верного друга) придавала Петру Заичневскому веселых сил, бодрило его, задирало, куражило. У него была одна истина, одна вера, одна забота: дразнить помещиков реформой, поносить самое реформу, возвещать наступление нового века — социалистического.
В особняке на Волховской в ожидании ужина (хозяин был хлебосол) обсуждали дерзость новых карбонариев: никогда еще на почтенный, благонравный Орел не обрушивалось такое количество запрещенных листков.
— Я знаю, кто это, — сказал вдруг нестарый помещик в венгерке с брандебурами, — это девицы с Кузнецкого моста. Понятие чести и совести у них весьма о-ри-ги-наль-но…
Петр Заичневский вспыхнул, шагнул к нему:
— Объяснитесь!
Помещик был не трус, посмотрел на юношу снисходительно:
— Вы не осведомлены, по молодости, о заведениях Кузнецкого моста…
— В таком случае — молитесь! — раскраснелся Заичневский, — вам с вашей пещерной моралью незачем жить на этом свете!
— Молодой человек, вы…
— Молчите! Что вы можете сказать, кроме грязных глупостей? Вы — в осаде! В осаде во всех отношениях! В осаде ваших мужиков, которые рано или поздно рассчитаются с вами! В осаде вашего тупого непонимания — что происходит! В осаде ваших диких представлений о женщине!
Помещик побледнел, но не оскорблением, предшествующим дуэли: в осаде мужиков, в осаде непонимания — это серьезнее, чем — к барьеру.
— К столу, к столу! — спохватился хозяин, — мы обсудим все за столом, господа!
За столом помещик в венгерке вдруг протянул к Петру Заичневскому высокий толстодонный стакан шампанского:
— Помиримтесь, бог с вами… Выпьемте за коммунизм…
— Охотно! — откликнулся Заичневский, сверкнув глазами на Наталью Георгиевну, которая сидела рядом с дядюшкой, чинно, невинно, покорно, — охотно! Я надеюсь, этот тост вам не помешает!..
И вдруг — с той стороны стола:
— И все-таки, господа, социалисты сорок восьмого года доказали опытом несостоятельность своих теорий…
Петр Заичневский обернулся на голос:
— Говорить следует о том, что знаешь, а о чем не знаешь — лучше молчать и слушать! Революция сорок восьмого года неприятна вам изначально как революция! Мы— помещики, и для нас всякое сопротивление эксплуатируемого большинства— зло! А между тем сопротивление это — неизбежно! И оно растет! Известна ли вам история Антона Петрова в Казанской губернии?
— Известна, — весело сказал старик, сидевший рядом с Натальей Георгиевной, — начетчик и старообрядец…
— Однако им занимался сам государь!
— Ну да… Приказал расстрелять его!
— А что еще остается делать русскому царю, как не расстреливать? Вы это понимаете? Можно ли расстрелять народ? Вы это понимаете?..
— Господа, господа! Мы горячимся не шампанским! Это несуразно за столом…
Из письма Петра Заичневского к Периклу Аргиропуло: «Случилось несколько скандалов в моих препираниях с помещиками. Один из них остался недоволен Наташей и сказал, что таких типов бездна и что весь Кузнецкий мост переполнен ими. Я вышел из себя и, признаюсь, немного погорячился. Я ему прочел молитву и, наконец, перешел к ругательству…».
IX
Перикл Аргиропуло все-таки перетащил к себе станок, не дожидаясь осени.
В первом часу ночи Грек читал на своем диване. Свеча поставлена была за головою на высокой тумбочке. Вдруг вошла хозяйка — заспанная, испуганная, неприбранная…
— К вам, господин студент…
Это «господин студент» вместо «Перикл Эммануилович», осенило догадкою неприятною. В комнату вслед за хозяйкой вошел полицейский офицер и за ним чины.
Аргиропуло небрежно, сколько позволяло самообладание, листнул книгу:
— Наконец-то, господа! Милости просим! Давно вас жду…
— Как-с? — удивился офицер. — Не понимаю! Вы что же, были предуведомлены?
— Ничего положительно не могу вам сказать, однако ждал вас, не скрою…
— Это изумительно, — сказал офицер, обернувшись к своей команде, — как же эти господа революционеры бывают осведомлены преждевременно о распоряжениях полиции! — И Греку: — Так, стало быть, вас и обыскивать нечего?
— Нет уж… Пожалуйста, обыщите…
— Да как вы узнали о нашем визите?
— Господин капитан, все проще, чем кажется. Если в империи существует полиция, следовательно, ей нужно исправлять свою службу.
— И вы готовы подвергнуться обыску?
— Всегда, мой капитан… Почему же вы не приступаете?
— Не станем терять время, господин студент… Вы слишком готовы к обыску.
— Жаль. Так может быть — чайку? Пелагея Федоровна, взбодрите-ка нам самовар…
— Сейчас, Перикл Эммануилович, — засуетилась хозяйка, но капитан отверг угощение:
— Честь имеем — до следующего раза…
— Извините, господа, в следующий раз я приготовлю чай загодя. Английский сорт «Белые волосы»… Мне прислали от греческого посланника, моего дядюшки. Вообразите, старик предпочитает чай кофию, что весьма странно для грека, вы не находите?
Х
Григорий Викулович был напуган поведением сына нешуточно. Объяснить его выходки одною молодостью было никак невозможно. В прошлый приезд Петруша был моложе, однако рассудительнее и спокойнее: читал, занимался физическими опытами, объяснял устройство электрофорной машины и вольтового столба, рассказывал о Фарадее, щекотал тонкой медной ниткою лягушек; радоваться не нарадоваться: сын растет ученым человеком.
Но вот это проклятое лето шестьдесят первого года! Может быть, сбылось ехидное пророчество Степана Ильича, и действительно пошла гиль после царского манифеста о воле? Мужики переменились, смотрели в барские очи недобро, уклончиво. Удобной земли, поступавшей и крестьянский надел, оказалось четыреста шестьдесят пять десятин — чуть более трех десятин на душу. То, что еще полгода назад как бы не замечалось, вдруг плеснуло наружу: бесхозяйные, безлошадные, бескоровные, у иных, выяснилось, и избы-то своей нет. Появились, выпрыгнули, как лягушки из болота, арендные цены, мужики и меж собою возмутились — у кого четыре лошади, а у кого — ни одной, кто выкупится шутя-играючи, а кто и в поколениях не выкупится. Григорий Викулович отметил, что воля оказалась с руки богатеньким мужичкам, но именно эти, богатенькие то есть, зарились на помещичье добро исподволь, неотступно, втихомолку, улыбчиво — сам кланяется, шапку ломает, а сам хитрющими щелками оценивает: сколько ж ты стоишь, барин, ежели тебя, к примеру, целиком закупить, с потрохами стало быть?
Нищие, конечно, больше горланили, грозились спьяна «пустить петуха» или иной какой страстью. Григорий Викулович к ужасу своему увидел, что Петруша тяготеет именно к нищим и тяготеет не ватажным тяготением, а подводя под их озлобление научный резон: так-де и должно быть! Воля историческими причинами предназначена именно голытьбе!
Полковник и сам не понимал — хорошо ли сделал, увезя сына из города в имение. В городе была опасность полицейская (схватят за противогосударственные речи!), здесь же, в Гостином, была опасность не менее страшная: Петруша не выходил из мужицких изб, разговаривал, расспрашивал, записывал и — учил объединяться, подобно этому ужасному Антону Петрову, который не сходил у него с языка.
— Петруша… Что тебе начетчик этот?.. Право же… Читал не то, что написано… Эка его…
— Папенька, вы не понимаете! Он читал то, что должно быть написано! Должно быть! И — будет!
Полковник отчаялся, вызвал старшего, Николеньку — может быть, образумит?
А пока Петр Заичневский ходил по избам толковать с мужиками о воле. Мужики привечали молодого барина охотно. Помнили за ним игры с дворовыми ребятишками и как бы не дружбу с кормилицыным сынком Лукашкой, который сейчас выбился в люди — рукой не достать. А тут как раз выдавали замуж Кузнецову Машутку за Мельникова Евлашку. Петр Григорьевич явился чин по чину, почеломкался с молодыми, обозвав Марией Ивановной и Евлампием Васильевичем. Мужики раздвинулись, дали место, ждали напутственного слова. Петр Григорьевич провозгласил многие лета и детям, и родителям, выпил, крякнул по-простому (аж вкусно стало) и сказал:
— Господа! (Так и сказал простым людям, вчерашним своим крепостным!) Господа! Я желаю, чтобы вы осознали природное свое право — право на землю! Земля — ваша!
— Вестимо, — поддержал мельник, — государь даровал волю…
— Что означает — даровал, Василий Евлампиевич (знает имя-отчество, черт желанный), вы вдумывались?
— Вдумываться нам не приходится, Петр Григорьевич, ежели у нас дела выше глотки…
— Ну так слушайте!
— Послушаем, барин, давно не слушали… С самой масляной…
За столом (пировали на подворье, под вязом, не бедный был двор у мельника) засмеялись, Петр Григорьевич и сам развеселился.
— Государь может быть лишь тогда справедлив, когда он выражает волю трудящегося большинства, вашу волю, волю вашей общины…
— Так-то оно так… Да ведь господа не дадут… Господа, они… Того, значит… Не в обиду тебе… ваше высокоблагородие…
— Выпьем-ка лучше, православные…
— Погоди… Выпить завсегда можно…
— Земля, вишь, наша… Стало быть, батюшку твово — рожном?.. Вашего, то есть… А сам, к примеру, что кушать станешь?
— А мы ему курицу последнюю отдадим! Петр Григорьевич! Не слушай их! Клади сладкие слова далее! Наливайте, люди добрые, на том свете не дадут!..
Приехал брат Николай, вызванный отцом. Пошутил поначалу из Пушкина: «Отец понять его не мог и земли отдавал в залог». Но потом стало не до шуток. Отец слег. Левая рука болела колючими мурашками. Варили ему настой — пустырник, валерьяновый корень, ландышевый. Ждали из Орла Сашенькиного жениха, лекаря.
Григорий Викулович лежал на диване в кабинете своем, недужный, бледный, верный присяге слуга отечества. Он не спорил, не повышал голоса, был тих, покорен.
— Петруша… Поясни, дружок… Не разумею… Не нами ведь заведено… Моя-то вина в чем?
— Папенька, вы пейте лекарство…
Из бумаг следственной комиссии:
«В Заичневском… встречаются странные противоположности: он добрый сын и вместе с тем своими выходками причинил семейству много горя; точный математик и верящий на слово разноречивым учениям социалистов; русский патриот и поборник отделения Польши; в области науки мирный труженик и вместе с тем старающийся всеми силами на подмостках политических бредней добиться венца мученичества и гонений за те идеи, которых сам еще не выработал и не усвоил».
— Папенька, вы пейте лекарство… Историю излагают кратко… На одной страничке — двести лет… А сколько людей рождается и (хотел сказать — умирают, но не посмел)… живут в эти двести лет… Кто-то видит дальше других, кто-то короче… Кто-то понимает, что происходит, а кто и не понимает… Империя будто бы крепка, а и у нее — слабости… Право же, я отнюдь не стремлюсь выделиться из всех… Не на Голгофу иду… Хочу понять, папенька, и радуюсь, когда понимаю…
— Да понимаешь ли, Петруша? — тихо спросил полковник, не ожидая, впрочем, ответа. Он слушал разговор сына как уютное успокоение, как ворожбу, слушал, как другого человека — не буйного смутьяна, возмутителя спокойствия, а раздумчивого толкователя бытия. Ах, мальчик… Что там у него в душе, в голове?
— Вы поспите, папенька… Вам легче станет…
XI
На Илью-пророка в Орел прибыл из Москвы жандармский полковник Житков и через день, на мироносицу Магдалину, явился в Гостиное.
Братья Заичневские находились во флигельке, где, по обыкновению, спорили. Медный трехсвечный шандал с оплывшими огарками стоял на круглом столике, покрытом рытым синим бархатом, впрочем, весьма потертом. На медном подносе спиртовка грела кофий: по утрам молодые господа чаю не пили, по столичному обычаю. Старший брат старался не горячиться, выслушивая и другую сторону (юридический факультет!), говорил ловко, убедительно:
— Почему же ты не считаешься с Греком? Допустим, мы для тебя — нуль… Но Аргиропуло! Ты ведь не проповедуешь! Ты — бунтуешь! Право же, Периклес не глупее тебя и не меньше твоего разбирается в социализме…
— Меньше! Революция, опасающаяся зайти далеко, — не революция! Чего тогда стоит принятый нами девиз Мадзини: «Ора а семпрэ»? Я еще доберусь до него в Москве, чтобы расставить точки над i!
Младший недавно отправил Греку грозное послание: «Я не стану спорить наедине с человеком, которого я не уважаю, но когда кто-нибудь начинает возражать против истин, составляющих мое достояние, при собрании нескольких зрителей, то я начну спорить, потому что знаю, что эти-то посторонние зрители симпатизируют ему, что они считают свое мнение непогрешительным, а на прочих людей, увлекающихся различными теориями, смотрят, как на погибших и ослепленных. Пора! Настало время показать этим господам, что скоро, скоро рухнет окончательно строй, к которому они принадлежат. Они чувствуют это хорошо сами, но как умирающим христианам (в особенности первых веков) грезились страшные картины ада, так им теперь в тумане является новая жизнь, основания которой мало-помалу выясняются, и жутко им становится за себя и за детей, воспитанных в их вере».
Он писал письмо это горячо, искренне, даже добывая досадовать на себя за свой возвышенный стиль (ничего не мог поделать с эпистолярным громогласием).
И сейчас, вспоминая это письмо, он старался говорить спокойнее, проще. Боже праведный, как они все не могут понять простых вещей!
Во флигель вошла Авдотья Петровна. Она была бледна, нижняя ее губа дрожала. «Что-то с отцом!» — хлестнуло изнутри Петра Заичневского. Он бросился к ней:
— Маменька! Что?..
— Петруша… Ты не волнуйся, Петруша…
— Что, маменька?!
— Там… Приехал жандармский офицер…
— Уф, гора с плеч! Можно ли так пугать?!
Николай схватил брата за плечи:
— Вот видишь!
— Остынь, — дернул плечами Петр. — Зачем его принесло?
Авдотья Петровна опустилась на гнутый стул, затряслась в плаче, сказала сквозь платочек:
— За тобою, Петенька…
Петр Заичневский выбежал. Солнце ухнуло в глаза. Белые гуси, высокомерно выдлинив шеи, переваливались цугом по лебеде. Петр Заичневский рассмеялся: уж больно они были смешны — глупые, важные, надменные, предназначенные для жаркого.
На веранде пили чай отец, Проскуров и еще двое — молодой судейский в венгерке и незнакомый офицер — толстенький, крепенький, однако не шустрый, что скорее подходило бы к его внешности, а как бы подернутый ленцой. Отец был словно чужой самому себе. Он сидел выпрямленно, как кукла, как оловянный солдатик. Халат смущал его. Должно быть, при регалиях он чувствовал бы себя естественнее. Судейский помалкивал, офицер мазал масло на ломоть, Проскуров улыбался деланно, некрасиво, нес чепуху:
— Арестовывать друзей неприятно… Я не имею к этому отношения… Поверьте… Весьма, весьма неприятно-с… Вот, извольте видеть, чай… Самовар-с… И вдруг — пермете муа — обыск… Дружба — дружба… и вдруг — служба…
— Обыска не потребуется, — небрежно сказал офицер и, увидев Петра Заичневского, встал. Отец смотрел на офицера с каменной завороженностью: государство, которому он, полковник Заичневский, служил верой и правдой всю свою жизнь, вторглось в его покои.
— Бонжур, мсье лейтенант-колонель, — объявил Петр Заичневский, — вы, кажется, не доели бутерброда… Здравствуйте, господа!
Проскуров и этот судейский засуетились:
— Здравствуйте, Петр Григорьевич!
Кругленький подполковник Житков сел:
— Веселый спутник — полдороги… Собирайтесь, господин Заичневский… Поедем мы с вами в Санкт-Петербург… Я думаю, господа, все образуется…
Тяжело поднялась по ступенькам Авдотья Петровна. Лицо ее было приветливым, как у радушной хозяйки.
— Маменька, — сказал Петр Заичневский, — мы с господином жандармом прокатимся на казенный кошт в столицу! Не тревожьтесь обо мне — с таким попутчиком никакие разбойники не страшны.
— Разумеется, — твердо сказала Авдотья Петровна, — я велела изжарить в дорогу гуся. Чтобы не слишком разорять казну.
Николай Заичневский остался во флигеле прибираться на случай обыска…
Мужики стояли в сторонке, смотрели на тарантас отчужденно. Бабы, прикрыв узловатыми руками подбородки, полуоткрытые рты, каменно наблюдали из-под ситцевых платочков, опущенных до глаз. Акулина, кормилица, вздумала было заголосить, но барыня глянула на нее сверлом…
Тарантас покатился на Хотетово…
Ехали поначалу молча, сидели рядышком. Жандарм, нижний чин, примостился с кучером на облучке, рассуждая с ним вполголоса о покосах, о землице (хороша земля в Орловской губернии), о том, что теперь, стало быть, после государевой воли, мужику вроде бы надо вперед глядеть, а что там впереди — один господь бог знает. Рожь наливалась вдоль дороги, а за нею голубел овес — вот-вот и косить пора. Навстречу ехала телега. Справная гнедая коняга тянула груз — два каменных катка. Хороший хозяин готовился к молотьбе. Везли, должно быть, в Семеновку к Степану Ильичу.
Разговор в тарантасе не ладился поначалу. Но постепенно разговорились и господа. Подполковник сказал:
— Хороша погода, не правда ли?
— Будет вам скоморошить, — отвернулся Петр Заичневский.
— А вы — напрасно… Я ведь к вам зла не имею… Вы ведь сами, господа, неосторожны… Плохо тайничаете… Нет ничего такого тайного, что не стало бы явным… В писании сказано…
— Да ну! — глянул на Житкова Заичневский. — А я думал, в вашей инструкции…
— Пустое, Петр Григорьевич… Есть власть — есть крамола… Одно без другого не бывает-с…
— Так будет! Будет другое государство! И обойдется оно без жандармов. Потому что будет оно — народное!
— Как же вы достигнете такого государства?.. Поясните… Право же, я — не в службу, а в дружбу…
Заичневский усмехнулся:
— Да очень просто, мсье лейтенант-колонель. В империи восемь тысяч студентов, да войско, в котором офицеры — образованные люди, да арестанты, вроде меня, да раскольники, которых вы притесняете! И все — недовольны! Организуемся, объединимся и — переворот!
— И вы — вот так-с… Запросто об этом? — вполголоса спросил Житков.
— Да что скрывать-то? Подполковник покачал головою:
— Однако…
— А вы не тревожьтесь! Вы (осмотрел с насмешливой юношеской почтительностью немолодого подполковника) к тому времени уж и в отставку выйдете! Мы вас не тронем! Живите себе да замаливайте грехи!
— Спасибо на добром слове, — почти серьезно сказал Житков.
— Не на чем!
— Стало быть, вы этак рассуждаете без стеснений!
— Чего же стесняться в своем отечестве?
— Да уж это… само собою… Я-то думал, быль молодцу не укор… Мало что в юности взбредет… А вы, оказывается, всериоз… И печатни ваши, и речи…
— Да как же не всериоз? Революция в России будет непременно! И сделаем ее мы!
— Вы… Как не так… Ваши-то уж все и взяты…
— Ну и что? Мы выйдем на свободу…
— Возможно… Ежели по-умному с графом Петром Андреичем…
— С каким Петром Андреичем?
— Вот — революцию желаете делать, а управляющего Третьим отделением не знаете…
Заичневский рассмеялся:
— Узнаем!..
Житков тоже повеселел:
— Не беда… Перемелется — мука будет…
— А кто из наших взят? Аргиропуло взят? Новиков, Покровский…
Житков весело, будто не слышал вопроса, сказал:
— Никогда не называйте имен, Петр Григорьевич.
Заичневский осекся и вспыхнул. Он — проболтался.
Он вдруг, в один миг, сообразил, что все его конспирации были просто забавами, что в истинную осторожность не играют.
— Неужели вы донесете? — резко спросил он. Житков улыбался:
— Вы честны, а потому доверчивы… Но служба есть служба… Да вы не отчаивайтесь… Многие ваши взяты, может быть, и эти (нарочно не повторил имен)… Так что ничего нового служба моя не добавит… Революционеры и жандармы — они, насколько я понимаю, как бы впряжены в одну телегу-с… Игра есть такая детская… Казаки-разбойники… Знаете?
В этот миг кончилось детство Петра Заичневского. Оно кончилось не в родительском доме за чтением философов, не в гимназии над запрещенными листками, не в университете за тайными книгами. Оно кончилось не в отчаянных спорах о народной доле и не в печатнях, не в ярких речах, не в смелом вызове окружающей действительности, нет. Оно кончилось здесь, в полицейском тарантасе. Потому что детство исчезает лишь тогда, когда реальная ответственность реально хлестнет поперек честной, открытой, ни в чем не сомневающейся души.
Здесь, в полицейском тарантасе, бок о бок с жандармским офицером, на дороге, пропадающей в хлебах, и был, собственно, закончен пролог его жизни…
ОТ АВТОРА
То была пора Чернышевского и Герцена. В. И. Ленин писал, что «беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы…». В те времена и было поднято, как писал В. И. Ленин, «великое знамя борьбы путем обращения к массам с вольным русским словом».
Так явилось название моей книги о Петре Заичневском:
СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО.
Примечания
1
Лезть на рожон (франц.).
(обратно)2
Это невозможно… Никогда (франц.).
(обратно)3
Теперь и всегда. Лозунг итальянских революционеров 30-х годов XIX века.
(обратно)4
Образованные горожане (франц.).
(обратно)5
Не так ли? (франц.).
(обратно)6
«Вперед, дети отечества!..». «Марсельеза».
(обратно)7
Вашу независимость (франц.).
(обратно)8
Собачья судьба (франц.).
(обратно)9
Да здравствует наша победа! Да здравствует гражданин Красный Петр! (франц.).
(обратно)10
Потапов А. Л., управляющий Третьим отделением в 1861–1864 годах.
(обратно)11
Вы сами этого хотели (франц.).
(обратно)


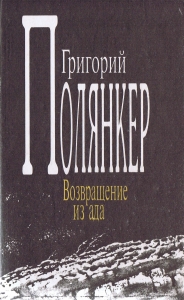
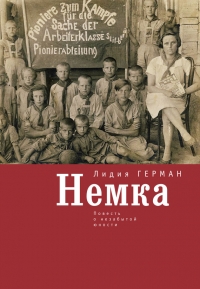


Комментарии к книге «Сначала было слово. Повесть о Петре Заичневском», Леонид Израилевич Лиходеев
Всего 0 комментариев