Варлам Тихонович Шаламов Четвертая Вологда
I
Есть три Вологды: историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда – четвертая.
«Четвертую Вологду» я пишу в шестьдесят четыре года от роду… Я пытаюсь в этой книге соединить три времени: прошлое, настоящее и будущее – во имя четвертого времени – искусства. Чего в ней больше? Прошлого? Настоящего? Будущего? Кто ответит на это?
Прозаиком я себя считаю с десяти лет, а поэтом – с сорока. Проза – это мгновенная отдача, мгновенный ответ на внешние события, мгновенное освоение и переработка виденного и выдача какой-то формулы, ежедневная потребность в выдаче какой-то формулы, новой, не известной еще никому. Проза – это формула тела и в то же время – формула души.
Поэзия – это прежде всего судьба, итог длительного духовного сопротивления, итог и в то же время способ сопротивления – тот огонь, который высекается при встрече с самыми крепкими, самыми глубинными породами. Поэзия – это и опыт, личный, личнейший опыт, и найденный путь утверждения этого опыта – непреодолимая потребность высказать, фиксировать что-то важное, быть может, важное только для себя.
Границы поэзии и прозы, особенно в собственной душе, – очень приблизительны. Проза переходит в поэзию и обратно очень часто. Проза даже прикидывается поэзией, а поэзия – прозой.
Я начинал со стихов, с мычанья ритмического, шаманского покачивания – но это была лишь ритмизированная шаманская проза, в лучшем случае верлибр «Отче наш».
Тогда мне было непонятно, что поэзия – это особый мир, что начавшаяся с песни поэзия доходит до высот Шекспира и Гете и что никакие арины родионовны не остановят ее развития. Путь этот – необратим.
Для письменной речи песня акына лишь подножье, почва, окультуренный сад.
Я пишу с детства. Стихи? Прозу? Затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Проза тоже требует ритмизации и без ритма не существует. Но писание как особенность мгновенной отдачи, для которой я нашел мне принадлежащий, личный способ торможения, фиксации, – а торможение внешнего мира и есть процесс писания, – я отношу к десяти годам, к времени возникновения моей игры в «фантики», моих литературных пасьянсов, которые так тревожили мою семью. Вологда – не просто город Большого Севера, Севера с большой буквы, не просто архитектурная летопись церковной старины. Много столетий этот город – место ссылки или кандальный транзит для многих деятелей сопротивления – от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Германа Лопатина до
Луначарского. Нет в русском освободительном движении сколько-нибудь значительного деятеля, который не побывал бы в Вологде хотя бы на три месяца, не регистрировался бы в полицейском участке. И далее – либо увязал обеими ногами в жирную унавоженную кровью вологодскую почву, либо, обрывая эти корни, бежал. Вот этот классический круговорот русского освободительного движения – Петербург – тюрьма – Вологда – заграница, Петербург – тюрьма – Вологда – и создал за несколько веков особенный климат города, и нравственный, и культурный. Требования к личной жизни, к личному поведению были в Вологде выше, чем в любом другом русском городе.
В Вологде всегда подвизались профессиональные учителя жизни. Со сцены: Мамонт Дальский, Павел Орленев, Николай Россов. Антреприза городского театра держала курс именно на этих проповедников, пророков, носителей добра, а не красоты – передовых, прогрессивных гастролеров, а не на моду, вроде Художественного театра. Художественный театр признавался Вологдой, но только в ряду подальше, чем пьесы Шиллера, Гюго, Островского и Гоголя, принесенные скитающимися звездами – гастролирующими пророками столичной и провинциальной сцены. То обстоятельство, что в «Лесе» Островского Несчастливцев путешествует из Керчи в Вологду – было самим документом. Ибо именно в Вологде такой гастролер мог встретить и понимание, и помощь, и поддержку. Вологда была передовым актерским городом, где жили высшие ценители, высшие критики, высшие русские авторитеты – общество вологодских ссыльных.
Ни Ярославль, ни Архангельск, ни Самара, ни Саратов, ни Сибирь – Восточная и Западная – не имели такого особенного, нравственного акцента.
Это относится не только к театру.
II
Есть три Вологды.
Первая Вологда – это местные жители Сольвычегодска, Яренска, Усть-Сысольска, Великого Устюга, Тотьмы, говорящие на вологодском языке, одном из русских диалектов, где вместо «красивый» говорят «баской», а в слове «корова» не акают по-московски и не окают по-нижегородски, а оба «о» произносят как «у», что и составляет фонетическую особенность чисто вологодского произношения. Не всякий приезжий столичный житель освоится сразу с вологодскими фонетическими неожиданностями. Первая Вологда – это многочисленное крестьянство подгороднее: молочницы, огородники, привлекаемые запахом легкого заработка на городском базаре.
В этих близких и дальних северных деревнях спокон века есть свои грешники, свои праведники, свои карьеристы и злодеи – человеческий тип синантропа немногим отличается от современника, изучающего кибернетику и ритмы Гете. Фашизм, да и не только фашизм, показал полную несостоятельность прогнозов, зыбкость пророчеств, касающихся цивилизации, культуры, религии.
Но до революции именно в эту зыбкость-то и не верили, убаюкивая себя и своих близких скорым пришествием рая – все равно, земного или небесного.
Сюрприз крестьянства был только одним из многих сюрпризов революции.
Революция вошла в село решительной походкой, удовлетворяя прежде всего деревенскую страсть к стяжательству.
Стяжательство вологодских крестьян имело свои особенности. На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет – на жирности молока это не отражалось. Торговки никогда не доливали молоко водой, что крайне удивляло театрального гастролера Бориса Сергеевича Глаголина. Привыкший ко всему петербургский желудок знаменитого русского актера испытывал неуверенность в честной, христолюбивой Вологде.
Царское правительство вербовало из вологодских рекрутов самую надежную тюремную стражу, конвойные полки и часовых на тюремные башни.
Подобно тому как профессия дворника закреплена в Москве за татарами, подобно тому как калужане – землекопы, а ярославцы – торгаши, конвойная служба от века и века в руках вологжан. Свое место в царской империи вологжане заняли, охраняя тюремные замки и защелкивая тюремные замки.
Выражение «вологодский конвой шутить не любит» вошло в историю революционного движения, укрепилось в тюремной традиции и после революции дошло до наших дней, вписав надлежащие сведения в охрану концлагерей двадцатых, тридцатых, сороковых годов.
Я был поражен, читая в «Былом» протоколы «дела Нечаева» – подготовку его уникального побега из Шлиссельбурга. Вся охрана Шлиссельбурга – а ее судили за подготовку побега Нечаева – состояла из вологжан[1].
Случай Нечаева заслуживает того, чтобы о нем вспомнить подробно.
Нечаев – и это уникальный, единственный случай в мировом революционном движении, – будучи безымянным вечником шлиссельбургской одиночки, лишенный имени и засунутый на самое дно карцера самого глухого в России, не только сам подготовил свой побег изнутри, но связался с Исполнительным комитетом «Народной воли», переписывался с этим комитетом, давал советы. Когда народовольцы хотели освободить Нечаева, Нечаев отказался от побега ради другого варианта – убийства царя. На цареубийстве были сосредоточены все силы «Народной воли». Нечаеву самому дали решить этот вопрос, и он его решил в пользу центрального удара, что и привело к 1 марта 1881 года. Нечаев понимал, конечно, что такой выбор обрекает его самого на смерть, ибо неминуемо усилят охрану, живым не выпустят. Действительно, после цареубийства, после усиления бдительности была разоблачена и разгромлена попытка солдат подготовить нечаевский побег, и сам Нечаев умер безымянным через несколько лет естественной тюремной смертью. Заговор был открыт, солдаты осуждены военным судом – протоколы их допросов печатались в «Былом».
Каким же путем Нечаев приобрел такое влияние на своих часовых?
Можно допустить исключительный талант Нечаева Б конспирации, гипнотическую силу знатока человеческих душ и сердец.
И все же – с чего началась деятельность Нечаева в Шлиссельбургском каземате?
Шлиссельбург знал голодовки, протесты, самосожжения, самоповешения на простынях, на белье. Здесь обливали себя керосином и сжигались, умирая от ожогов, срывали погоны с тюремных генералов.
Нечаев поступил иначе. Он ударил кулаком в лицо шефа жандармов генерала Потапова. Ударив, разбил тому нос в кровь. И – не был расстрелян, избит или задушен.
Угрозы расправиться с Потаповым сопровождали этот поступок.
Случай, небывалый случай, подвергся бурному обсуждению в общежитии конвоиров.
Никто не мог дать сколько-нибудь разумного объяснения. Ждали смерти Нечаева – Нечаев продолжал жить.
– Это, наверное, брат или родственник царя, – вот единственное объяснение, которое нашел конвой.
– А если так, действительно так, – говорили конвоиры, – нам нужно держаться осторожно. Завтра он выйдет на волю и нам отомстит. Сотрет нас в порошок.
Нечаев, гений всяческой мистификации, конспирации, не мог не почувствовать, что солдаты его боятся. Он сам стал играть в брата царя. Через полгода солдаты носили его письма на волю. Златопольский, кажется, дал ему адрес Исполкома и явку к «Народной воле». И переписка Нечаева с народовольцами началась.
А когда Александр II был убит, солдатская организация все еще существовала. Нечаев все еще ею командовал. Но после убийства Судейкина в Шлиссельбург пришел Стародворский – главный физический убийца Судейкина. Стародворский во время следствия стал осведомителем и, придя в Шлиссельбург, выдал Нечаева. Нечаеву-то, конечно, ничего не было. Но его охрану судили, дали каторжные приговоры.
Современный историк почему-то умолчал об этом красочном эпизоде публичной пощечины шефу жандармов Потапову. Потапов умолчал об этой пощечине по очень простой причине – донести об этом царю значило самого себя поставить в положение, приводящее к отставке.
Потапов прослужил царю еще много лег, и о пощечине документы были опубликованы лишь в «Былом» – в 1907 году.
Итак, первая Вологда – это деревенское стяжательство и верная служба режиму.
К этой же, первой, Вологде относится и неяркая северная природа, а также знаменитые на весь мир сливочное масло и вологодские кружева.
Вторая Вологда – это Вологда историческая, город церковной старины, в то же время ярчайшая страница русской истории.
Нужно вернуться в доисторическое время, чтобы ощутить глубину дыхания тогдашней Вологды, силу ее могучих мышц, ее инфраструктуру – говоря современным языком, ее санные пути, ее реки, пристани и причалы, крепости, монастыри, военные склады, транзитные могучие транспортные артерии страны.
Россия Ивана Грозного – Север, Ермак. Россия Петра – Балтика. Россия Николая – Россия Юга, Черного моря.
Вологда была и местом героических сражений – война с поляками второго самозванца проходила именно здесь.
Вологда знала и военные предательства, горестные поражения и радостные победы.
Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей России вместо Москвы.
Москву Грозный не любил и боялся.
Грозный бывал в Вологде не один раз.
Софийский кафедральный собор, «Холодный собор», как его звали в нашей семье, был построен в честь царя, и Грозный был на освящении храма.
«Холодным» собор назывался потому, что это был единственный храм в Вологде, где не было отопления. Молиться в соборе можно было только летом. Поэтому рядом стоял другой собор – с печами, более теплый, где и молились.
И пасхальные, и рождественские службы проходили в «теплом» соборе, и только летом железные двери Софийского собора раскрывались, а с первым снегом запирались опять.
На Троицу, Духов день службы служили в Холодном соборе.
Высоченные колонны уносили вверх расписное небо, огромные трубы ангелов тревожили мое детское небо, звали к каким-то необычайным земным свершениям.
Трубы ангелов закрывали все небо. На отсеках были фрески, знаменитые фрески Рублевской школы: князья и отцы церкви.
К алтарю ставился обыкновенный земной иконостас, упрятывая и загораживая святых и воителей на фресках и столбах.
Молиться нужно было не фрескам, а иконам, где тысячи свечей горели. И я ребенком нет-нет да и взглядывал вверх – на ногу ангела, из которой выпал камень.
Предание говорило, что во время молебствия на ногу Грозного упал кирпич, выпавший из ноги ангела в росписи церковного потолка. Кирпич раздробил большой палец ноги царя. Грозный, напуганный приметой, изменил решение – Вологда не стала столицей России.
Дело совсем не в том, что в Вологде не нашлось столь смелого хирурга, чтобы ампутировать раздробленный царский палец. Значение таких грозных примет в жизни любого государя, а тем более русского самодержца, не следует преуменьшать. Именно так, как поется в песне, и обстояло дело.
И тут суть не в том, был ли Грозный свободомыслящим или рабом религии своего века. Ни один политик не мог бы пройти мимо такого события. Кирпич, упавший на ногу царя во время молитвы, был ясным советом, и уклониться от него не мог бы ни один царь мира, начиная с Соломона, ни один политик.
Вологду царь оставил не по своему капризу, а затем, чтобы не пренебречь мнением народным. Ни отец, ни Грозный не были людьми суеверными. Просто они отдавали дань паблисити и не хотели искушать судьбу именно в этом земном смысле.
Я много раз бывал в э том храме, ведь мы жили рядом, в доме соборного причта. Я помню черную дыру в потолке. Пустоту – след, оставленный камнем в небе храма. Эта пустота на ноге ангела береглась много столетий.
Софийский собор – это храм холодный, и даже в официальной переписке и газетных корреспонденциях того времени назывался Холодным собором, с большой буквы, – будто это официальное название храма, возведенного в честь Софии.
В моем детском мозгу слово «Софийский» не отражалось, но держалось. Холодного собора было вполне достаточно не только для детских воспоминаний.
Это – угрюмый храм, хоть и красивый, – нет в нем душевной теплоты.
Желтые трубы ангелов так велики и так тревожны, что заполнили весь потолок, весь купол храма, и сразу дают знать, что близится Страшный Суд – в земной ли его либо в апокалиптической сущности, было для храма, для священников, и для причта, и для молящихся, и, вероятно, для Бога – все равно.
Тревога есть тревога, сигнал есть сигнал.
Рублевские или околорублевские фрески заполняли весь храм, а суть Рублевской школы в ее заземленности – в смешении неба и земли, ада и рая.
И действительно – не звуки этих ангельских желтых труб собирают, трепеща; сами земные люди – ближе к входу (он же и выход) – это уже послерублевские напевы. Рай и ад теснятся поближе к выходу – а сам храм – во власти ангельских труб, тревоги Страшного Суда.
Для того чтобы сгладить, смягчить иконопись Холодного собора, рядом стоит зимний, теплый, уютный собор – где бывать неинтересно, – защищенный от всех ветров и дождей, от всей метеорологии. Потолки здесь низкие, углы сглажены, иконы – робкие, свечи – полупритушены. Никаких ангельских крыльев нет в этом соборном храме – он, с его архитектурой и иконами, держится на отступлении от неба, от слишком серьезной требовательности Холодного собора. Здесь все – современность, столько же древнего, как Государственный банк, присутственные места.
Вблизи нет зданий, которые могли сравниваться с Холодным собором. Но на одной из улиц стоит деревянная церковь – ценность зодчества, равная Кижам, – церковь святого Варлаама Хутынского, покровителя Вологды, В честь этого святого назван и я, родившийся в 1907 году. Только я по своей воле превратил свое имя – Варлаам – в Варлама. По звуковым соображениям новое имя казалось мне более удачным, без лишней буквы «а».
Церковь эта – классический памятник русской архитектуры XVII века.
Наречение меня в честь покровителя Вологды тоже дань декоративности, склонность к паблисити, которая всегда жила в отце.
В Вологде жил десятки лет Батюшков, великий русский поэт, помешанный сифилитик. Много лет он прожил в психическом расстройстве и похоронен в Прилукском монастыре – в семи верстах от Вологды.
Отец никогда не говорил мне о Батюшкове, хотя на доме Батюшкова, где располагалась Мариинская женская гимназия и где учились мои сестры, есть большая мемориальная доска, которую я мог читать не менее десяти раз в день, ибо этот дом – в двухстах метрах от нашего дома.
Из этого я заключаю, что отец не любил стихов, боялся их темной власти, далекой от разума, а главное – от здравого смысла. Поэтому только взрослым мне удалось повторить своими губами и гортанью: «О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной», но и понять его удивительную допушкинскую власть над словом – более свободную, чем у Пушкина, более необузданную, хранящую самые неожиданные открытия. Если бы не было Пушкина, русская поэзия в лице Батюшкова, Державина и Жуковского – стояла бы на своем месте. Лермонтова, возможно бы, не было. Но по сравнению с Батюшковым, Державиным, Жуковским Лермонтов не такая уж ощутительная потеря для русской поэзии.
Это – не хула Лермонтову, не хула Пушкинской плеяде! Но в допушкинских поэтах есть все, что дает место в мировой литературе русским именам.
К высотам Грозного Вологда никогда не возвращалась.
Петр I постройкой Петербурга взял совсем другой курс: «ногою твердой стать при море» – Балтийском. «Прошло сто лет, и юный град…» Прошло сто лет, и другой выдающийся русский император сумел «ногою твердой стать при море» – Черном.
Строительство Российской империи, начатое Петром, было закончено Николаем.
Николай I – фигура мало оцененная и историками, и писателями как судьями историков. Ошибался – это мы учим ежечасно, ежедневно, только потому, что воспитаны на Герцене и Льве Толстом. На декабристах, а не на стратегии Николая. То, что Николай был декабристом без декабризма – железные дороги, наступающая Россия, отмена крепостного права – как план чрезвычайно энергичного международного политика, – все это забыто.
В отличие от Наполеона Николай не ошибся в оценке роли парового винта.
Отношение Николая к Пушкину, даже к декабристам, в действительности было иным, чем заученные нами с детства эпизоды. Николай – фигура, которая еще ждет в истории своей реабилитации.
Современный историк (Пирумова) выражается о Николае так: «Чего-чего, а уж ума у этого императора хватало».
Строя Петербург, Петр не забывал о Севере. Дом Строгановых до революции сохранял некие торговые позиции и в Сольвычегодске, и в Вологде.
Петр ориентировал Вологду на Петербург – стало традицией поступление в высшие учебные заведения вологжан именно на берегах Балтийского моря. Москва для вологжан стала заштатной столицей, приютом неудачников и ворчунов, вроде Чаадаева, – история России решалась на Невском проспекте во всех ее неожиданностях – в бомбах, в выстрелах, в крестных ходах, в забастовках.
Только в двадцатые годы двадцатого столетия Вологда вернулась к своей допетровской позиции – в инфраструктуре более Ивана Грозного, чем Петра.
Вологда была провинцией и для Петербурга, и для Москвы, но для Петербурга она была городом менее заштатным, городом, где деятели будущею могли отдышаться после бурного бега. Это и была третья Вологда.
Третья Вологда обращена духовно, а зачастую и физически, материально – к Западу, к обеим столицам – Петербургу и Москве – и тому, что стоит за этими столицами, Европе, Миру с большой буквы.
Эту третью Вологду в ее живом, реальном виде составляли всегда ссыльные и по моральным, и по физическим причинам. Для этих ссыльных – сколько бы поколений ни жили они в городе – Вологда была лишь тюремным транзитом, ссыльным этапом их напряженной жизни.
Именно ссыльные вносили в климат Вологды категорию будущего времени, пусть утопическую, догматическую, но отвергающую туман неопределенности во имя зари надежд.
Это будущее России в Вологде было уже настоящим в философских спорах кружков, диспутах, лекциях.
Надежды эти всегда сбывались и сбывались немедленно – ссыльные бежали, их привозили из побегов, и все начиналось сначала.
Именно из Вологды Герман Лопатин увез Лаврова, чтобы тот успел принять участие на баррикадах Парижской коммуны – по железной дороге Вологда – Петербург. Лопатин в Вологде долго ждал поезда и чуть не сгубил дело.
Но поезда не стали ходить медленнее. Напротив, поезда стали ходить чаще, расстояние от столицы до Вологды все уменьшалось. Бежать становилось все легче и все заманчивей.
Тех ссыльных, кто не бежал, освобождали по заявлению. Вернуться в столицы было легко. Вековать в Вологде никто из ссыльных не хотел и не вековал.
Вот эта устремленность на Запад и создает третью Вологду – Вологду ссыльных – бывших, сущих и будущих. Такие семена никогда не остаются бесплодными.
Почва слишком богата, жирна, пропитана кровью – и в буквальном, и в переносном смысле.
Споры ссыльных между собой – это не споры о пальце Ивана Грозного – а о будущем России, о смысле жизни.
Временность ссылки не подменяет временности земного бытия, свободомыслие цветет в Вологде ярким цветом – свободомыслием Джефферсона, Франклина.
Доклад о современных, революционных движениях любой вологодский ссыльный может сделать вполне квалифицированно – на уровне самых последних философских, религиозных, экономических течений.
Политика здесь, как всегда, выступает в смысле рычага общей культуры. Вологда осведомлена и о Блоке, и о Бальмонте, о Хлебникове, не говоря уж о Горьком, или о таком кумире русской провинции, как Некрасов. «Колокол» Герцена – а не только «Кто виноват» – идет нарасхват.
Естественно, что отец – шаман и сын шамана[2] – вернулся после двенадцати лет заграничной службы европейски образованным человеком – вернулся не к первой Вологде – оттуда он вышел родом, не ко второй – исторической, от имени которой он уже научен был говорить, а к третьей Вологде – Вологде освободительного движения. В эту третью Вологду отец и вошел со всеми своими знакомствами, интересами, связями и идеалами – по возвращении из Америки, в 1905 году, за два года до моего рождения. Уже замысел моего рождения продиктован другим человеком, чем тот священник, который уезжал в прошлом столетии на Алеутские острова.
Я не был экспериментом отца, я был ставкой, шашкой в его игре – в шахматы отец не умел играть, а то бы я применил другое сравнение, – отнюдь не азартной, а рассчитанной, продуманной, разумной, победоносной партии.
И не вина отца, что силы, с которыми он столкнулся, были слишком неожиданны, масштабы их нельзя было определить ни в каком политическом клубе.
Даже Достоевский, который много угадал, прошел мимо практического решения этого теоретического вопроса.
Отец мало обращался к Достоевскому, к художественной литературе вообще. Позитивист до мозга костей, он не верил никаким пророчествам. Напротив, пророчества оскорбляли его разум – отец не нуждался в пророчествах. Поэтому в будущем он ничего не угадал… Он только воспитал в себе вкусы, понятия, пытался по этим понятиям жить и учить как-то других.
У Вологды была еще одна важная сторона. Там создавалась как бы «обязательная школа», «техминимум революции», выражаясь языком тридцатых годов. Эта обязательная школа, может, была и побольше, чем техникум, – вроде гимназического диплома.
Вологда была легкой ссылкой, и в то же время обязательной, как бы почетной и зависящей от самого ссыльного.
В этой легкости – ссылка могла быть прервана в любой момент по заявлению ссыльного, да еще близость к столицам – ночь до Москвы, ночь до Питера, – создавалось для либеральных высших чиновников статистическое оправдание. Ведь в тюремных заведениях статистика всегда в почете.
Сколько сослали – столько-то. Борьба, значит, ведется. А куда же сослали? В Вологду. Цифры успокаивали верхи и радовали либералов.
Вологду не сравнивайте с Сибирью. Вологда – это Москва и Петербург. Только об этом не говорите при начальстве.
Вологодская ссылка была отпиской либеральных царских министров начала XX века. Потому-то в Вологде и не проходило дня без рефератов, диспутов, споров.
Конечно, как во всякой ссылке, в Вологде были свои драмы, свои вожди и пророки, свои шарлатаны.
Но я не пишу ни истории революции, ни истории своей семьи. Я пишу историю своей души – не более.
Но: публичность этой третьей Вологды, ее ориентация на глобальность, на современность создает особую страну в северном русском городе.
Эта третья Вологда не писала своей истории, как написали Нерчинск, Акатуй и – в более широком смысле – Сибирь.
Для русского освободительного движения Вологда – это своеобразный Барбизон для французской новой живописи.
Третья Вологда была вся в живой борьбе, глубоко дыша воздухом обеих столиц. Укрепляла свои силы мышцами традиций поисков смысла жизни, решения вечных вопросов.
Энтузиастов хватает в каждом русском поколении.
Во время моей юности я слушал лекцию Владимира Александровича Поссе[3] – тоже одного из праведников прошлого столетия. Сама лекция его так и называлась: «В чем смысл жизни?» В. А. Поссе был только одним из сотен, из тысяч других.
Все эти речи обращались именно к третьей Вологде. Традиции города в этом смысле были чрезвычайно плодотворны. И хотя меня не лекция Поссе заставила задуматься над смыслом жизни – Поссе немного опоздал, – все же я слушал его с большим мальчишеским вниманием и пиететом.
Поссе был седой краснощекий старик в вельветовой куртке, размахивающий маленькими короткими руками над затаившим дыхание залом женской гимназии.
Дорог для утверждения добра Поссе предлагал очень много, слишком много для такого юного догматика, каким был я.
Третья Вологда знала пути на любые вкусы. Третья Вологда организовывала народные читальни, библиотеки, кружки, кооперативы, мастерские, фабрики.
Каждый уезжающий ссыльный – это было традицией – жертвовал свою всегда огромную библиотеку в книжный фонд Городской публичной библиотеки – тоже общественного предприятия, тоже гордости вологжан.
III
Резкой металлической дробью щелкал рукомойник, и где-то совсем близко за стеной на этот звук отзывались колокола. Чесучой шуршала одежда отца, вздыхала с чуть слышным скрипом тяжелая дверь в парадное, выпуская отца на улицу, звякал тяжелый крюк, возвращаясь в гнездо под рукой матери. Все стихало. Через какое-то время звуки возвращались в обратном порядке. Стучал откидываемый крюк, скрипела дверь, шуршала одежда. Колокола негромко отыгрывали какую-то поспешную, торопливую мелодию, металлом гремел рукомойник на кухне.
Семья садилась за утренний завтрак, который у нас почему-то назывался чаем, хотя меньше всего тут было чая.
Каждому выдавалась серебряная ложка; ставилось молоко – топленое и обыкновенное – и сахарный песок наполнял сахарницу – отец не признавал другого. Ни пирожных, ни конфет никогда не давалось. А если пироги, то только собственной материнской выпечки, да и то если остались от праздничных трудов.
Праздников, впрочем, в городе было немало. Я как-то подсчитал все царские дни, церковные и светские праздники. Насчитал около 120 дней в году – когда пироги могли быть традицией.
Большой раздвижной стол с обеих сторон занимали дети – отец на главном месте со своим стаканом с серебряным подстаканником и огромной, какой-то особенной ложечкой, которая щелкала весьма выразительно, аккомпанируя то заочным мыслям, то открытым поучениям отца.
Для матери тут не было места. Она только носила посуду, подавала самовар, успевала все нужное сварить и приготовить. Вдобавок отец любил черный хлеб собственной материнской выпечки. Это заставляло мать ежедневно заводить опару, выпекать хлеба, хотя в магазине хлеб был гораздо вкуснее и дешевле, и все дети любили магазинный хлеб.
Но дома подавался хлеб только домашний, и притом самой свежей сиюминутной выпечки, теплый.
Отец вечно спешил на какие-то заседания, собрания – уже за завтраком было видно, что он давно вне дома.
И вот он вынимал свои огромные золотые часы, резко щелкала крышка, привлекая всеобщее внимание к солнечному лучу зайчика, прыгавшего на этой крышке. Крышка закрывалась, и отец уходил.
Эти золотые часы – американский полухронометр – хорошо известны мне с детства. Именно по ним мама моя проверяла, заводила и переводила свои дешевые кухонные ходики с гирями. Никаких других часов, настольных, например, в нашем доме не было.
Когда наступило время продажи этих часов, выяснилось, что часы – не золотые, а только позолоченные, – тоже одно из открытий моей юности. Но как бы то ни было, часы пережили разрухи, революцию и войны, пережили и лагерь – были со мной на Колыме, после освобождения и вернулись в Москву и живут до сих пор у меня.
IV
Крошечная казенная квартира из трех комнат и кухни для семьи из шести, а когда родился я – из семи человек;[1] в казенном соборном доме для причта – старинной постройки, охраняемой государством сейчас, – дом уцелел из-за близости к собору Ивана Грозного, к ценному архитектурному комплексу.
Устраивал он отца и не только по своим архитектурным качествам.
Жизнь соборного священника, живущего на жалованье, а не на сбор подаяний во время «славления», привлекала его, и ни старшие дети, ни я никогда к этой стороне поповской жизни не обращались – отец просто выключал свою семью из разнообразного круга влияний специфического быта духовенства.
Вторым достоинством этой службы была близость к реке – от реки Вологды дом отделяла минута ходьбы, что отец – рыбак и охотник – считал весьма важным.
Недалеко был и базар.
При квартире во дворе стояли сараи – «дровеники» на ярком вологодском диалекте, – были огороды, сад, где у всех были участки, чтобы духовенство не заболело архиерейской болезнью, описанной Лесковым.
Вплотную к огородам примыкал большой архиерейский сад, правильнее назвал бы его парком, где иногда прогуливался архиерей, живший тут же, только в особых палатах.
Тут было чем компенсировать некоторую квартирную тесноту. Ни сыновья, ни дочери никогда не имели в доме отца даже подобия отдельной комнаты – ни в детстве, ни в молодые годы.
Отец – полузырянин, выходец из самой глуши усть-сысольских деревень – считал, видимо, такую возможность излишней, и прежде всего по педагогическим соображениям.
Позднее я попал в гости к своему гимназическому товарищу Виноградову, сыну ссыльного меньшевика, и был просто поражен, что в его собственном двухэтажном деревянном доме у городского театра все дети имеют отдельные комнаты.
Но, разумеется, и не только потому, что авторитет отца был в нашей семье непререкаем, а просто мне своим детским разумом казалось, что столь просторной жилплощади и не нужно. И я не завидовал.
По резкому звонку – электричества в доме нашем не было – открывалась обитая клеенкой дверь парадного, и я перешагивал порог своей квартиры. Не очень нам разрешалось пользоваться парадным для повседневной жизни, существовало черное крыльцо, но гости, визитеры попадали именно через это парадное крыльцо, на котором была приколота визитная карточка отца.
Дверь эту я вспоминаю по двум причинам. Во-первых, именно эту дверь я затворил за собой, навсегда покинув город своей юности, дом, где я родился и вырос. Это было ветреной дождливой осенью 1924 года в листопад боярышника, березы. Вихри метелей кружились по городским улицам, взрывались при неожиданном изменении направления ветра.
Другая причина та, что этой тяжелой дверью в мальчишеской драке мне оторвали палец – палец попал в самый замок и был оторван, как срезан, и мне слепили в больнице и кое-как срастили. Но случай этот с пальцем я и сейчас не могу забыть.
Да, как-то вышло, что я уходил не с черного крыльца.
В прихожей, где, впрочем, нам (или мне) не давали играть, стояли вешалки и открывалась дверь в зало. Другая дверь вела в кухню, но мне пользоваться этой дверью не приходилось – для детей было открыто только черное крыльцо.
Слева стоял огромный дубовый шкаф с тяжелой дверью, которой надлежало распахиваться, открывая свои тайны в полутьме – свет доходил только через дверь, ведущую в зало, и дверь, ведущую на кухню, – но этих двух лучей было недостаточно, чтобы осветить внутренность шкафа, и летом, и особенно зимой, тогда зажигали лампу-пятилинейку, вешали на стену. Мы действовали в шкафу на ощупь. Дубовый шкаф заключал в себе только отцовские вещи.
Отец не без основания в своей общественной карьере придавал большое значение паблисити.
В шкафу висела повседневная одежда отца – хорьковая шуба с бобровым воротником, бобровая шапка, шелковые рясы самого модного и дорогого покроя.
Второй шкаф был отведен для домашних вещей нашей остальной семьи – мамино пальто, Наташино, Галино пальто, а также и одежда двух братьев, а позднее и трех. Прикасаться нам к отцовскому шкафу, именуемому «гардероб», запрещалось.
Из прихожей прямо против входной была другая дверь без стекла, ведущая в проходную комнату, где спали три брата. В углу прихожей располагался уверенно и просторно багажный сундук, в каком плавали в заморское путешествие вещи семьи. Сундук был заклеен всевозможными путевыми заграничными клеймами, что, по тайной мысли отца, содействовало паблисити. А может быть, и без всякого паблисити отцу просто нравилось, чтобы вещи напоминали ему о чем-то важном или любимом, о чем-то дорогом.
Поэтому этому сундуку всегда находилось достойное место. Сундук отвечал на внимание хозяев удобствами, и в нем на легчайших крестообразных прокладках помещалось множество вещей. В революцию были проданы вещи, а потом и сам сундук, увезенный в какую-то крестьянскую обитель, чтобы в свою очередь напоминать деревенскому хозяину о времени, о победе, успехе.
V
Глухая дверь с двумя створками – свет шел только из фрамуги – открывалась в зал, или, по домашнему диалекту, – «зало».
Это была проходная комната с такой же двойной створчатой дверью справа, ведущая внутрь квартиры, в комнату сестер. В мое детское время комната эта была наглухо заперта на ключ и никогда не открывалась, а в мое юношеское время была отобрана, и в ней жили жильцы по ордерам горжилотдела. Дверь в комнату сестер забили гвоздями, и пользоваться парадной дверью нам уже почти не пришлось.
На окнах висели легкие кружевные занавески – отец не переносил штор, а между окнами стояли зеркала от потолка до полу в дорогих рамах черного дерева.
Диван и два глубоких кресла черного дерева с плетеными сиденьями стояли слева у стены, еще один диван того же гарнитура с плетеным сиденьем стоял у стены напротив удивительного предмета – ящика тоже черного дерева, застекленного параллелепипеда с открывающейся стеклянной крышкой, со стеклянными стенками вроде аквариума. Но это был не аквариум, а коллекция редкостей, которую вывез отец с Алеутских островов. Коллекция эта была составлена по знаменитому принципу Музея естественной истории в Нью-Йорке. В том музее отец бывал неоднократно за свою двенадцатилетнюю службу в Америке.
Бывал он и в других музеях – в Берлине, в Гамбурге.
Принцип подлинности – вот что отличало черный ящик в зале. Тут не было никаких копий, никаких муляжей, а труды отца Марины Ивановны Цветаевой, наверное, не были одобрены моим отцом.
Не муляжи в натуральную величину, не фальшивые подделки, а подлинность, вот что хранилось в этой стеклянной коробке.
Индейские стрелы, алеутские топоры, культовые предметы эскимосов и алеутов – маски шаманов и орудия еды, моржовый клык во всем его желтоватом блеске лежали тут же…
Тут же лежала бутылка с кораблем внутри – известный портовый сувенир массового производства. Хранил ее отец, наверно, в память океанских своих путешествий. Тут же лежала фотография парохода, на котором отец двадцать лет назад уехал в Америку.
Даже я сумел сделать вклад в эту этнографическую коллекцию. Пойдя в годы революции по подвалам архиерейского дома, по закоулкам Вологодского кремля, я нашел два каменных ядра, которые после проверки у музейных работников – такие проверки отец считал необходимыми, и приговор официальных работников такого рода был для него непререкаем, – каменные эти ядра он запер собственной рукой в нашу домашнюю естественнонаучную коллекцию.
Создание такой коллекции вполне отвечало тщеславию отца, служило темой для «светских» разговоров во время приемов и визитов и семейных праздников, вообще было подходящим материалом для бесед отца, – ненавидящего пустые разговоры.
Эта коллекция должна была высечь искру из моего «медного лба», чтобы загорелся свет не столько Божий, сколько Прометеев.
Лбы моих братьев, наверно, уже были испытаны этим домашним музеем и не дали желаемого результата. Но, критически относясь к педагогической деятельности своего отца, – а он считал себя великим педагогом, – при воспоминании об этой коллекции я могу только восхищаться принципами, правилами, океанским ветром, залетевшим в наши комнаты, и следом великих походов.
Отец хорошо понимал разницу между подлинным и муляжом. Напрасная трата денег в музее Александра III возмущала его.
На стенах не висело никаких портретов – ни священнослужителей, ни царских, ни мертвых, ни живых.
Стены были оклеены обоями, пол выкрашен.
В комнате находилась еще одна экзотичность, вызывавшая разговоры во всем городе, – ее я приберег на конец.
Это висевшая в правом углу большая, даже огромная, икона с огромным ликом Христа в терновом венце. Перед ней круглые сутки горела лампада на серебряной цепи.
Отец и молился перед этой иконой и служил молебны, когда приезжали в праздники «славильщики», – это была традиция, от которой отец уклониться не мог. Но все молебны служили именно перед этой иконой. Это не была старинная икона, не Рублев и не Феофан Грек, хотя Рублевская школа сильная имелась в Вологде – в Прилуках, Кириллове, Белозерске, и старинных икон видел отец, наверное, немало.
Отцовская икона была – репродукция картины Рубенса, простая олеографическая картинка, наклеенная на фанеру и заключенная в узкую раму. Эту репродукцию отец надлежащим образом освятил, освятил по всем каноническим правилам, и молился перед ней – до самого конца жизни.
Бешенство, в которое приходила «черная сотня» Вологды при виде этого кощунства, было в городе хорошо известно. И в столицах тоже.
Митрополит Александр Введенский, приятель отца, при сходных обстоятельствах, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.
Я не епископ и не священник. Но свою маму хотел бы причислить к лику святых.
Тщеславие отца питали другие, вполне земные истоки.
VI
Это была проходная комната с одним окном и тремя дверями, где жили два моих брата Валерий и Сергей. Кровати их стояли, как и кровати сестер, под прямым углом друг к другу, и подоконники, и кровати, и стены в этой комнате были завешаны охотничьим оружием и рыболовными снастями. Под кроватями спали две собаки: сеттер Спорт и пойнтер Орест, визжавшие при каждом движении братьев, когда они собирались на охоту.
У каждого из братьев было свое ружье – двустволка центрального боя, традиционный подарок отца мужчинам в нашей семье с незапамятных времен.
У Сергея, младшего, талантливого охотника и беззаветного рыбака, были еще два ружья, которые он купил самостоятельно, и что, конечно, вызывало всегда одобрение отца. О брате Сергее, которого я считаю не менее известным в городе человеком, чем отец, хотя и своеобразной известности, я напишу отдельно…
Комната была в беспрерывном движении – заряжали патроны, пробовали двустволки, новые охотничьи приборы.
В этой же комнате слева от двери – сразу у стены стоял большой купеческий сундук «со звоном». Этот сундук ни в какой Америке не бывал, но оказался очень удобной вещью гардероба в большой семье – сундук было удобно открывать, и мать держала в нем всякие свои вещи.
А на крышке сундука на тюфячке спал я всю тамошнюю жизнь, тюфячок только становился все длиннее.
Тут я рос и вырос и научился раскладывать длинные литературные пасьянсы. Оружие братьев, их дела не вызывали у меня ни малейшего интереса.
У меня были свои дела – школа, товарищи, чтение, игра в фантики.
Я по возрасту далеко отстаю от братьев и сестер. Ближайшая ко мне по годам сестра Наташа старше меня на семь лет. В 1914 году мне было семь лет, а ей четырнадцать – разница очень велика.
Потом на моих глазах охотничье оружие сменилось боевым – оба брата вернулись из армии – один офицером, другой солдатом. Они привезли, особенно второй брат, большое количество боевого оружия: винтовки, револьверы, пулеметные ленты. После все это было сдано на военные склады – один брат демобилизовался, а второй, Сергей, продолжал служить до 1920 года, когда был убит взрывом гранаты. А собаки были все те же, Спорт и Орест, стали чуть постарше, но выли и в упоении бросали лапы на плечи братьев.
А я все так же спал на том же сундуке и раскладывал свои литературные пасьянсы, свои таинственные фантики.
Позднее, уже в юности, я переехал с сундуком в комнату родителей – в угловую с тремя окнами на двор, где стоял обеденный стол раскладной, самой дешевой фабрики, и семейная кровать с пружинным матрасом и решеткой с шишечками. Ширма отделяла кровать от комнаты. Здесь же стояло единственное кресло отца, домашнее, с высокой спинкой, но не вольтеровское, а со скошенными перилами. Это кресло придвигалось к обеденному столу. Перед письменным же столом стояло кресло отца типа венского стула – легкое, твердое и сухое.
Письменный стол только в юности казался мне огромным – это был фабричный письменный стол с двумя парами тумбочек, в которых хранились отцовские бумаги.
Чернильница, письменный прибор, икона, лампада.
Картина Рубенса после жилищного ограничения переехала именно сюда.
Тут же стоял комод довольно затрапезного вида с всегда раскрытыми ящиками, буфет ломаный-переломаный – и все. Никаких других буфетов и комодов у мамы не было.
В нашем детстве за этим столом обедала вся семья, а в юности моей только мама с отцом и я, а сестер и братьев уже не было дома.
В праздник стол накрывался в комнате сестер.
VII
В комнате сестер с двумя окнами по фасаду стояли две кровати с пружинными матрасами под прямым углом друг к другу, а вдоль стены два шкафа – один вроде комода, поверх которого стоял шкаф карельской березы – много-полочный, многоящичный – кустарное изделие какого-то местного искусника. Это была аптечка – царство отца: всевозможные рецепты на сигнатурках, порошки, пластыри. В те времена не было таблеток, поэтому все лекарства готовились и принимались только порошками. Тут же стояла склянка с йодом и следы брызг от нетерпеливой руки отца – единственного авторитетного лекаря в доме. Какие-то отвары, декокты – все это остатки от каких-то исключительных событий – отец не любил ни лечиться, ни лечить. Он твердо держался курса Земляники: что «если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».
Смеясь над этой репликой в театре или в домашнем чтении, отец твердо держался этих высмеиваемых правил.
Никаких кавалеров сестры тут принимать, конечно, не могли, и вся их девичья жизнь проходила вне дома.
Рядом со старым комодом, задевая за шкаф карельской березы, стоял большой книжный шкаф отца – средоточие моих детских мечтаний. Если мебель в гостиной была из черного дерева, – книжный шкаф, огромный, глубокий, застекленный, был из красного дерева.
Это тоже было отцово царство, с ключом от верхней и нижней половин. Нижняя была двустворчатая, глухая – не было видно, какие книги там лежат, а верхняя – под стеклом. И я в детстве забирался в комнату сестер, разглядывал, встав на табуретку, отцовские книжные сокровища.
Не давая рассмотреть ничего другого, том в том стояли книжки «Знания», переплетенные, со штампом городской библиотеки Общества трезвости.
Остальные части занимали евангелия и потертые отцовские требники, несколько таких же затертых служебных книг.
Далее на тех же полках стоял «Петербург» Белого, курс «Новая история», сборник «Вопросы идеализма», книга Булгакова «Капитализм и земледелие», Флоренский – «Столп и утверждение Истины», несколько брошюр Маркса, Толстой – «Война и мир» в четырех томах, хрестоматия Галахова для средней школы, трехтомник Михайлова, переводы Гейне без переплета – приложения к журналу «Семья и школа» или «Природа и люди» – и все.
Очевидно, сокровища скрывались в нижней половине, и мне еще только предстояло их разглядеть.
С этими мыслями я слезал с гигиенического венского стула – в квартире не было мягкой мебели – и переходил в следующую комнату, где спал я сам.
VIII
Брат мой Сергей, исключенный из пятого класса вологодской гимназии за неуспеваемость, был в высшей степени примечательным человеком, талантливым и одаренным в не меньшей степени, чем отец, хотя и в несколько ином роде, не менее популярной в городе личностью.
В шестидесятых годах в Москве, в беседе со мной, коренной вологжанин – художник Сигорский[2] сказал: «А я и жил напротив Шаламовской горки».
Шаламовская горка – это Соборная горка, но прозвище получила отнюдь не от отцовской фамилии. Она названа, прозвана и спокон века называлась в Вологде по имени моего брата Сергея.
Выросший на Алеутских островах – знаменитый в городе пловец, удачливый охотник, он был главным организатором знаменитого в Вологде народного катанья – ледяной горки с высокой Соборной горы, где сани взлетали на противоположный берег реки, и свист саней заглушал моторы первых самолетов, поднимавшихся в небо Вологды.
Эта гора строилась под непосредственным руководством брата.
Во всяком любительском общественном деле есть человек, который найдет поливщиков льда, срубит елки в лесу, не менее трехсот, – вколотит эти елки в снег вдоль ледяной дорожки, достанет провода, электрические лампочки, осветит фонарями эту бесплатную городскую гору – любимое зимнее развлечение вологжан. Само собой вышло, что этим делом всегда занимался Сергей.
Он был хозяином Соборной горы, главным инженером. Гору открывали к Рождеству для катания всего города, а таяла она в марте. На следующий год все начиналось сначала.
Все это делалось, разумеется, в порядке, как теперь говорят, субботников, но гораздо раньше события на Казанской дороге. Молодежь трудилась самозабвенно – с утра до ночи. А Сергей управлял всем этим строительством как безусловный и окончательный авторитет.
Я тоже был однажды освещен отблеском его славы.
Брат привел меня на воскресное катанье и поручил какому-то мальчику постарше меня.
– Ну-ка подвинься, пацан, – весело сказал мне усаживающий свою даму на сани «тормозки», как они назывались на ярком вологодском диалекте.
– Это не пацан, – холодно сказал мой провожатый, – это брат Сережки Шаламова.
Пареньку пришлось усадить свою даму чуть пониже, а я остался стоять, разглядывая гору сверху.
Рядом город всегда делал большой каток, где не было, правда, беговых дорожек. Это был прямоугольник льда, который тоже поливали, чистили, загораживали елками.
Ходил Сергей и на лыжах в большие походы.
Летняя известность брата в городе превосходила его зимние успехи.
Знаменитый пловец на великие скорости еще без секундомера, на стайерские дистанции еще без стайерских правил и марафона. Плаванье в одиночку из устья реки Тошни до Вологодского моста – на спор. Каждое лето приносило подвиги брата в таком же роде.
Брат – самый лучший в городе ныряльщик за мертвецами.
Мертвецов – в пьяном, разумеется, виде – в Вологде тонуло очень много. Всегда ездила вдоль берега лодка, нащупывая шестом тело. И уж если тело было не прибито к берегу, а найдено шестом и нащупано – три четверти успеха обеспечены.
Я сам подошел к такой лодке, караулившей что-то в воде или на дне.
– Что это?
– Мертвец.
– Ну что, чего ж его не тащат?
– Сережку Шаламова ждут. Он будет тащить.
И действительно, примчавшийся брат быстро разделся, по какой-то лодчонке перешел на лодку, державшую мертвое тело шестами, и по одному из шестов скользнул вниз и вынырнул вверх, таща за собой за волосы мертвеца. Сдав мертвое тело родным, брат направился для совершения своих очередных подвигов, вроде уличных драк.
Но самая главная слава брата была в его удачливой охоте, брат дышал охотой, вся жизнь была подчинена охотничьему ритму, начиная с ранней-ранней весны, с половодья, где в топях брат убивал уток во время перелетов. Эта охотничья страсть не может быть удовлетворена одним ружьем. Одно ружье – это прогулка, даже охотничьи поездки брата на собственной лодке, с собственным ружьем напоминали охотничьи экспедиции, когда длились по нескольку дней.
В конце какого-то дня еще с берега начинался крик: «Едут, едут, Сережка едет!» – и к городской пристани, где полоскали белье, причаливала лодка, осевшая от тяжести уток.
Добыча тащилась к нам на двор, и мама распределяла на крыльце все это богатство поровну между всеми участниками – только за лодку Сергей получал лишнюю часть. Это я хорошо помню. В его охотах никто не стрелял «на себя», а дележка всегда была у нашего крыльца.
Толпы зрителей, радостный вой похудевших охотничьих псов – все нравилось и отцу, и матери чрезвычайно.
В компании городских охотников Сергей был авторитетом. Он знал на тридцать верст кругом города все охотничьи места. Подружейная охота – прогулка с сеттером по лесам и полям подгородним – мало как-то занимали Сергея. Он ходил и на эти прогулки, но оживлялся только во время больших экспедиций, подготовленных им самим.
Брат был столь же удачливым рыболовом, – отцовские сети – закидной невод и ботальница – всегда были к его услугам. Так подплывали лодки, доверху груженные рыбой, и рыба взлетала на нашем дворе, подброшенная рукой матери.
Кончалось лето – охота, рыбная ловля, плаванье, и начиналась ледяная гора.
В этот круговорот природы брат вписался необычайно удачно.
Весь день с нашего двора шла стрельба – проверка кучности боя и прочих достоинств централок.
Точно так же на сборы ягод, грибов уходили отцовские лодки, и в этих экспедициях Сергей играл немаловажную роль.
Именно Сергей ездил за мукой во время разрухи в какой-то «Ташкент – город хлебный» и привез мешок муки.
Сергей был любимым сыном и матери, и отца.
И хотя я был самым младшим, на десять лет моложе Сережи, последним ребенком матери, я не мог занять в ее сердце первого места. Первое место было отдано целиком Сергею.
Матери – потому, что именно он был вполне реальной поддержкой в семье. Семейный авторитет был для него выше всего на свете, за исключением охотничьих прогнозов. Сергей почти никогда не забывал во время многочисленных охотничьих поездок привезти матери что-нибудь в хозяйство, что всегда было и нужно, и полезно. Для отца и выбора не было. Сергей был его незаживающей раной, вечной обидой – проигранной картой в общественных сражениях отца.
И хотя ничего особенного в исключении брата из гимназии не было, – родившийся где-то на острове Кадьяк, выросший в морской свободе, эту свободу он считал своим идеалом и мог заниматься действительно плохо, – отец никогда не простил отцам города исключение сына из гимназии.
В отцовском понимании, и мать разделяла это мнение, – исключение сына вызвано исключительно политикой – способ личной мести отцу за его смелую борьбу за лучшее будущее России.
Отец не хотел подумать, что Сергей действительно плохо занимался – вырванный из жизни и природы и поставленный в унизительные школьные условия – непереносимые по дисциплине, по ненужности занятий.
Сергей был, безусловно, авторитет, идеал, которому подражали все уличные мальчишки. Но не только по уличным подвигам, не только охотой вошел Сергей в сердце отца и матери.
Сергея всю жизнь преследовала смерть.
Череп брата, левое темя было разрублено в детстве тяжелым ударом – звездчатый рубец прикрывал детскую травму.
В детстве, в состязании луков на Алеутских островах товарищ брата запустил индейскую железную стрелу. Стрела вернулась и рассекла череп брата. Сергей лежал дома, не вставая, там ведь не было больницы, несколько месяцев, между жизнью и смертью. Спор был решен в пользу жизни. И Сергей поднялся.
Весной город управляет ручьями, ищущими выхода, грозящими половодьями. Соборная гора не укреплена и требует внимания и заботы всего населения, чтобы снеговые ручьи отошли по канавам, канавкам, канавищам в большие оттоки – протоки. Сотни мальчишек по берегам орудуют, ставя плотины, разрушая заторы. Брат самым естественным образом занимал командное положение в этой работе – она кончалась с ледоходом.
Река Вологда – медленного течения, и ледоход спокоен, как бы ни были велики снегопады. Важно только управлять лесным снегом весной на ее последнем этапе, когда снеговая вода по побуревшим от грязи и солнца ледяным откосам сольется с потоками весенней воды, несущей разбитые льдины.
Ручьи, водотоки – все это работа нескольких дней в вологодской весне.
Вот тут человек самым естественным образом сливается с природой – традиционное единство.
На Соборной горе стояли испокон века деревянные скамейки, врытые в землю скамейки без всяких спинок, – просто длинные доски прибиты к врытым в землю столбам. Там отдыхали горожане летом и осенью. Да и весной тоже.
В 1914 году с началом войны, с победными реляциями о подвигах генерала Самсонова и Кузьмы Крючкова, с обилием конфетных бумажек с портретами генералов, спичечных коробок, оклеенных физиономией геройского казака, подцепившего на пику десятки тевтонов, в Вологду стали прибывать первые доказательства силы, мудрости и военного таланта наших генералов – захваченные в плен немецкие солдаты и офицеры. Немецкие каски показывались в каждой семье.
Вологда всегда была местом, где размещались военнопленные – и австрийцы, и чехи, и галичане, после Брусиловского прорыва. Но в начале войны – только немцы. Ходили они по улицам города свободно, дышали той же самой весной. Гуляли немцы обычно компаниями – возгласы ликующих мальчишек не смущали их.
И вот в весну 1915 года немецкие солдаты затеяли перебранку с той группой весенних гидрологов, которую возглавлял брат…
Немцы не знали русского языка, русские – немецкого, а на незнакомом языке любое оскорбление принимает неожиданно значительные формы. Возможно, что немец, ругавшийся с Сергеем, был тоже из молодых каких-нибудь дрезденских героев, который боялся отступить, показаться недостаточно храбрым в глазах своих же товарищей. Этот дрезденский герой, возможно, был похож на вологодского героя – моего брата.
Как уж можно оскорблять, не зная языка? Брат потом говорил, что напомнил о зверствах над Панасюком. Фотография Панасюка с отрезанным носом и ушами обходила тогда газеты. Рукой, что ли, Сергей показывал немцу историю с Панасюком.
Эта военная пантомима, завуалированный танец, громкий спор двух врагов с помощью рук – боевое сближение двух городских героев привело к паузе, – и хотя немец был взрослым солдатом, а Сергей мальчишка пятнадцати лет, Сергей, конечно, не побежал и не отступил. Говорят, немец ударил брата кулаком, а Сергей ударил немца палкой, той самой палкой, которой проводил ручьи.
И тогда немец вынул кинжал военный и ударил брата кинжалом, целясь в сердце. Сергей отклонился, и кинжал немца пропорол ему живот. Нож – страшное оружие для брюшных ранений – гораздо хуже пули, дроби.
Сергея увезли в больницу. Хирургом там был Мокровский – знаменитый хирург и энтузиаст, в совершенстве знавший свое дело, достойный наследник Пирогова.
Но в 1915 году Александр Флемминг еще не изобрел пенициллин – до открытия оставалось еще поколение, и жизнь брата повисла на волоске.
Мокровский поступил по самым совершенным рецептам, которые, впрочем, мало отличались от рецептов Пирогова: удалил пораженные кишки, сшил остальные. Сергею надлежало перебороть инфекцию самому.
На начавшийся перитонит Мокровский ответил новой операцией, новым удалением всего опасного. И после этой двойной операции Сергей выздоровел.
К этому времени относится странное детское воспоминание – раздраженный шепот отца, даже не шепот, а приглушенный голос. Будто я сплю, а где-то рядом шуршит газета, и отец гневно комментирует «Ша! Жэ! Не могли напечатать полностью, что ли?»
В памяти моей осталась газетная заметка строк на шестьдесят, где описывается этот случай так, как я только что рассказал. Но заметки такой в «Вологодском листке» сам я никогда не читал, – запомнил с чужих слов, что ли?
В 1968 году, перебирая «Вологодский листок» военных и революционных лет, пока газета не преобразилась в «Известия Вологодского Совета», я нашел странную заметку в марте или апреле – не помню сейчас.
«Что касается происшествия на Соборной горе с гимназистом Ш., то редакция обещает, по расследовании обстоятельств дела, опубликовать все, что интересует читателей».[3]
Вот такие бывают чудеса памяти.
Ранение брата входило в область международного права, и решения по этому делу никогда не были сообщены семье.
Впрочем, не прошло и двух лет, как Вологда, и страна, и наша семья были потрясены событиями, оттеснившими ранение Сергея в самый глухой угол. Только я о нем помню. У брата <не было> ни невесты, ни жены, когда он умер. Только в зыбкой памяти моей хранится его рана и судьба.
Меня вместе с сестрой Наташей мама водила к Сергею, когда он уже шел на выписку. Издали он мне показывал, отогнув рубашку, звездчатый рубец, коричневый, в правом углу живота.
– Попутно удалили аппендикс, – сказал Мокровский, стоявший тут же. Я тогда не понял, о чем тут идет речь, о каком аппендиксе, и только через много лет сообразил, что Мокровский был сторонником раннего удаления червеобразного отростка слепой кишки и проводил свою идею постоянно, не теряясь в самых неожиданных ситуациях.
Сергей вернулся домой, пошел добровольцем в армию в 1917 году простым солдатом – образование не давало ему права на офицерскую школу, как старшему брату, приезжал в революцию домой, потом поступил в Красную Армию красноармейцем химической роты и был убит в 1920 году <осколком> от разрыва гранаты. Отец сам ездил за телом.
Сам он стоял около гроба в первой комнате, в зале. Оттуда были вынесены все красоты паблисити, и отец остался лицом к лицу со смертью своей главной надежды. В епитрахили, измятой, перекосившейся, отец сидел на стуле около тела сына всю ночь. Оторванный нос брата, ухо дали надежду поверить, что это не брат, что погиб кто-то чужой, и когда отец вышел куда-то, я проскользнул в комнату и отогнул простыню для самой надежной проверки. Именно я открою семье, что произошло, что тело – совсем не Сергея. Я воскрешу семью, возвращу ее к жизни. Но звездчатый шрам в правом углу живота был на месте, грубая толстая кожа брата была мертвой, холодной, и я выскользнул из комнаты.
IX
Старший мой брат Валерий был ничтожеством. Отец совершенно подчинил его волю своей.
Валерий окончил Вологодскую гимназию и мог, и хотел получить высшее образование. Право на поступление без экзамена в университет у него было. Но Валерий не имел склонности к медицине, а отец не представлял иного высшего образования для мужчин из Шаламовского рода, исключая духовное, к которому у Валерия не было склонности.
Но ведь можно было окончить традиционный для вологжан Лесной. Выбор был достаточный. Однако отец заставил его в порыве патриотизма поступить в офицерскую школу, и как только школа была окончена – пойти на фронт, на передовую, в Действующую армию, как это тогда называлось.
Валерий заикнулся было, что хотел бы жениться, и невеста уже есть, но отец наотрез отказал.
– После первой раны. Приедешь в отпуск, и сыграем свадьбу.
Так и было. Была торжественная офицерская свадьба, где я сидел по левую руку отца. Отец, верный своим обычаям, не пил и не считал нужным пригубить.
Невесту Валерий показал отцу. Она понравилась обходительностью, бойкостью.
– Она умнее тебя, – сказал отец сыну.
Свадьба не была удачной, ибо измены начались чуть ли не со свадебного дня. Потом она как-то скоро умерла, уже в разводе с Валерием, – от туберкулеза.
На фронте Валерий встретил революцию, приехал домой, и вот тут-то я был свидетелем одного важного разговоpa. Отец меня не стеснялся, мальчиком, что ли, считал, а может быть, его вечная привычка – учить детей извлекать поучительные уроки из самых разнообразных жизненных ситуаций – такой вариант возможен вполне.
– Я слышал, – сказал отец, – что ты хочешь демобилизоваться из Красной Армии.
– Да, – сказал Валерий, – я так решил.
– Не советую тебе этого делать, – сказал отец. – Подумай хорошо. Ведь военное дело – это твоя специальность, твоя профессия. Так какого черта ты не идешь дорогой, которую уже выбрал и даже успел получить образование и стаж? Ты не хочешь служить в Красной Армии? Напрасно. Боишься разговоров о классовом враге? Пойми, что именно в армии будут наибольшие послабления. Разве не делает так Брусилов, Бонч-Бруевич? Разве ты один? Все они служат России. В России сейчас Советская власть. Вот и служи ей, как военный специалист. Ни в коем случае именно сейчас не уходи.
Но желание родственников жены оказалось сильнее, и Валерий демобилизовался.
Это было страшной ошибкой, исковеркавшей всю его жизнь, хотя отец, за исключением популярного примера из лучших людей России, ничего, наверное, и не имел в виду в своих опасениях и предостережениях.
Но оказалось, что кроме высоких слов о долге русского гражданина – есть еще такая неприятная, но весьма реальная вещь, как ЧК.
Всю жизнь потом Валерия до самой его смерти вызывали в ЧК, время от времени задавая один и тот же вопрос:
– Почему вы, царский офицер, уже служивший в Красной Армии, демобилизовались в такой важный, в такой ответственный момент, час, как 1918 год? Почему вы оставили Красную Армию?
Валерия сделали осведомителем, унижали, топтали, и подняться он уже не мог.
Валерий – сын, который публично отказался от отца-священника: в дальнейшем понадобились и такие демонстрации.
Я бывал у него во время моей учебы в университете; он работал в секретариате Наркомзема на какой-то канцелярской должности и ретиво принимал участие в выпусках Наркомземовской стенгазеты – прошлое и душа художника, которые он еще не забыл при выпиливании рамок по чужой канве, уменье растворять краски, хотя бы клеевые. Валерий был главным оформителем праздничной стенгазеты Наркомзема и очень гордился пользой, которую он как художник не перестает приносить.
Я встретился с ним на похоронах отца неожиданно, потому что он никогда не помогал отцу и матери – ничего, кроме проклятий по их адресу, не слышал я из его уст, – и вдруг лямка отцовского гроба.
Уезжали мы не вместе – он попозже, я пораньше. И когда пошли прогуляться, выяснилось, что он чего-то ждет.
– Да, Валерий, вот возьми отцовскую цепочку и игрушку – моржового слоненка. Я их приготовила в столе.
Наташа, которая в нашей семье олицетворяет справедливость и которая лучше всех знала материальные возможности матери и отца, бросилась на Валерия тут же.
– Да как ты смеешь просить такой подарок? Ведь мама на эту цепочку проживет не один год.
Но мама ясно и твердо сказала:
– Он ничего не просил и не просит, это я так хочу.
Валерий умер в тот самый день и час 12 ноября 1953 года, когда иркутский поезд дальнего следования подошел к московскому перрону и я вылез после шестнадцатилетнего отсутствия.
X
Сестра Наташа была старше меня на семь лет. Значит, в 1917 году ей было 17, а в 1918 – восемнадцать.
Эти два рубежа – возрастной и исторический – тесным образом переплелись в жизни моей сестры.
Семнадцатый год Наташа встретила в белом платье с сияющим лицом. Представители городской думы поздравляли Наташу с окончанием женской гимназии.
– Он сказал нам – товарищи! – без конца повторяла Наташа, кружась по комнате, целуя отца и мать, тиская меня.
Все горизонты мира распахивались перед Наташей, и она настроена была использовать все возможности – образования, путешествий, свободы.
A b 1918 году перед семьей стоял суровый человек, переживший вместе с семьей тягчайший удар – и моральный, и материальный.
Никакой возможности куда-то ехать внезапно не стало, и на Наташу самым тяжелым образом упала ответственность за семью. Наташа сразу как-то поняла, что не время трепать языком, а надо искать какую-то реальную опору для своей жизни, чтобы реально помочь семье и себе.
Наташа сейчас же поступила в сестринский техникум двухлетний, с военного времени существующий в Вологде, и как было ни ничтожно это образование – это давало возможность помочь семье.
Брат Валерий, женившийся в 1915 году, оставил дом. Его же путем пошла сестра Галя. Сергей был в армии, я – в школе.
Путем исключения легко догадаться, что вся ответственность и материальная тяжесть легли именно на хрупкие плечи Наташи. Ее работа дала ей хлебные карточки, сохранила квартиру от дальнейших уплотнений – сколько ни мала была эта помощь, сколько ни жалким был общественный вес, все же в ней было единственное спасение.
Именно Наташа сохраняла семью целый ряд лет гражданской войны.
Именно она бегала на приемы ко всем председателям новых городских организаций, доказывая, протестуя и добиваясь.
Потом Наташа вышла замуж за одного профсоюзника, работала, уехала из дому, родила сына – воспитала <этого> сына и дочь от первого мужа и уехала из Вологды в Нижний Новгород, где ее <второй> муж работал на высокой должности, а потом в Москву, где он устроился в какой-то наркомат, получила квартиру в Москве на Потаповском, работала медсестрой в поликлинике ВЦСПС.
Наташа была олицетворением справедливости на наших семейных совещаниях, превосходя в этом отношении даже мать. Наташа смело бросалась во всякие домашние сражения, обличая неправоту, фальшь и ложь.
Наташа безоговорочно поддержала меня в отказе от духовной карьеры, одобрила все решения, связанные с моим отъездом из города.
Совещание это происходило на печке в кухне, на лежанке русской печи, где лежали Наташа и я, а снизу отец и мать задавали мне последние вопросы о моем будущем.
– Я мог дать тебе письмо для Духовной академии, к Введенскому.
– Я не хочу учиться в Духовной академии.
– Тогда – на свободу. Будешь искать свое место в жизни сам.
– Пусть так.
Мать, которой хотелось видеть меня именно в Духовной академии, грустно молчала.
Но я выбрал другую дорогу, и все охотничье оружие, все славное наследство братьев было продано до последней рыболовной снасти, до последней гильзы – и я уехал в Москву.
Вот в этом-то совещании Наташа и одобрила именно это мое решение.
Потом Наташа вышла замуж и ей пришлось выдержать большую борьбу не за свою семью, а за нашу – ибо начался очередной жилищный бум – выселение с милицией. Наташе почему-то везло именно на выселения.
Второй ее муж – профсоюзный работник получил комнату в квартире барачного типа в Потаповском – верх мечтаний тогдашней Наташи, воспитывавшей двухлетнего сына, семилетнюю дочь от первого брака.
Еще в Нижнем Новгороде выяснилось, что муж Наташи, профсоюзный работник, – запойный пьяница. Запои – это страшная русская болезнь. Человек пропивает абсолютно все, до старого чужого белья, все, что видит и может схватить, унесет в кабак.
Трезвый, организатор Общества трезвости, отец едва ли был польщен родством с алкоголиком.
Муж Наташи был парень хороший, как все запойные алкоголики, доброжелательный. Наташа выходила за него замуж под честное слово, что он бросит пить.
Таких честных слов в истории русского общества, в семейных архивах хранятся не миллионы, а миллиарды.
Наташе хотелось верить и в себя, и в него, и вместо того, чтобы бежать от него, как от чумы, она вышла за него замуж. Он не сдержал слова, да и не мог сдержать – нет таких примеров в истории, и Наташа шагнула обеими ногами в разряд мучениц.
Когда муж стал не только пропивать все свое, но и чужое, и детское, Наташа с ним развелась, поступила на работу снова медсестрой в поликлинику своего Наркомтруда, а потом ВЦСПС, когда жилищный фонд был передан профсоюзам. Это было в 1934 году. Я был в Москве.
Объявили ремонт – ликвидацию всех перегородок, а после ремонта весь этаж должен был превратиться в одну квартиру, не то для секретаря ВЦСПС, не то для какого-то министра, или наркома – как их тогда называли.
Все было сделано абсолютно по закону – всем живущим в доме, имевшим отдельные комнаты, дали отдельные же комнаты, а то и квартиры – даже отдельные дачи. Беда была только в том, что эти дачи, ордера на которые выдал жильцам райжилотдел, были в Перове. История эта – обычная для тридцатых годов, – когда министр топтал подчиненных, и все подчинялись и освобождали помещения.
А Наташа не поехала, обжаловала решение, но, инстанция за инстанцией, проигрывала решение и дело.
По этому делу Наташиного выселения я ходил на прием к прокурору города Москвы, к Филиппову, и получал от него отказы. Был назначен срок, подана машина, и милиционер с представителями ВЦСПС стали выносить в коридор немудреные Наташины пожитки.
Вот как раз в это самое время, по этому самому Наташиному жилищному делу, я обратился к Сосновскому, известному фельетонисту «Известий». Сосновский вернулся после ссылки и работал в «Известиях». Попасть к нему было очень легко.
Сосновский спокойно выслушал все обстоятельства дела – я не давал себе увлечься всякими аналогиями – и тут же позвонил прокурору Филиппову, посадив меня около стола.
В трубке был хорошо слышен голос Филиппова, догадываться мне было не надо. Я записал этот разговор тотчас же по возвращении домой.
– Товарищ Филиппов, это Сосновский говорит.
– Здравствуйте, товарищ Сосновский, чем могу служить?
– Вот у меня сидит человек по делу об одном выселении медицинской сестры Шаламовой.
– Товарищ Сосновский, – заговорил прокурор, – я хорошо знаю лично это дело, и брат медсестры был у меня еще вчера. Тут все сделано по закону, все совершенно правильно.
– У меня складывается другое впечатление, – холодно сказал Сосновский. – Но дело не в этом. Я попрошу вас лично, городского прокурора, остановить это выселение своей властью. Пошлите милиционера от себя – там уже выносят вещи. Потом мы увидим, кто тут прав, но выселение надо остановить.
– Хорошо, товарищ Сосновский, я сейчас же пошлю милиционера, – сказал городской прокурор.
– И позвоните мне завтра.
Я пожал руку, поблагодарил Сосновского.
Вот мой единственный разговор с Сосновским по личному делу…
Все дело в том, что сзади этого вопроса стояло очень многосложное, болезненно пережитое Москвой дело Зорича, фельетониста «Правды», пострадавшего в сходных обстоятельствах несколько лет назад.
Дело Зорича было одной из самых первых административных расправ сталинской эпохи, расправ принципиальных, означавших какой-то важный поворот в принципах партии и страны.
В чем было дело? Жены видных партийных работников старались вести себя в большинстве вроде Аллилуевой, Крупской, Цюрупы, не только не давая повода для злословия, но крайне болезненно относясь к репутации чисто личного плана.
И Бухарин, и Сталин, и Рыков – также жили очень скромно. Еще скромнее жили их жены.
Исключение составляла только жена Кирова, которая еще по Баку прославилась захватом буржуазных квартир для родных своего мужа. Притчей во языцех была эта дама. Подвиги ее говорили, что у Кирова не хватает времени, чтобы одернуть ретивую жену.
В 1926 году Киров получил назначение в Ленинград на борьбу с оппозицией и выехал громить троцкистов. А жена его осталась в Баку и – когда она позднее прибыла к мужу – замучила всю железную дорогу. Она ехала в двух вагонах – сама в одном, в другом кировские собаки. Управление дороги было приведено в трепет ее телеграммой в Ленинград Кирову для ускорения движения спецпоезда в северную столицу.
По прибытии в Ленинград дама эта бросилась выбирать и отбирать уже квартиры побогаче, чтобы дать наконец отдых мужу, мучающемуся в «Астории», не имевшему угла отдохнуть.
Перебрав несколько квартир, переехав из одной в другую за неделю, жена Кирова не оставила вмешательства во всевозможные дела.
Вот об этом странном путешествии по железной дороге Баку – Москва этой энергичной дамы и был написан Зоричем фельетон. Ясно, что документов в таком деле у фельетониста было более чем достаточно.
Зорич работал тогда фельетонистом в «Правде» наравне с Кольцовым. Фельетон был напечатан в 1927 году под названием «Дама с собачкой».
Зорич ждал, как поставят Кирова на место, укажут, чего можно и чего нельзя руководителю советскому и партийному.
Всего год назад на пристани Энгельс – Саратов председатель Совнаркома Республики Немцев Поволжья (Курс) ударил кулаком в лицо комсомольца, не пустившего Курса в пьяном виде на пароход.
Курс не успел еще проспаться после пьянки, как был снят со всех постов, и вынырнул много лет спустя директором Московского отделения «Интуриста».
Именно таких результатов и ждал Зорич от «Дамы с собачкой».
Результат разбора «Дамы с собачкой» в ЦКК принес неожиданный результат:
1) Зорича исключили из партии.
2) Запретили работать в печати пожизненно.
3) Уволили из редакции «Правды».
Все материалы данного решения – сделать широко известными всей партии снизу доверху.
Киров, энергично поддержанный Сталиным, среагировал самым принципиальным образом.
Партийные решения не должны касаться ошибок, клеветы, неверной информации.
Факт, по мнению Кирова, с опубликованием «Дамы с собачкой» (хотя там не было опубликовано ни фамилии, ни названия дороги), есть только один.
Журналист замахнулся на члена Политбюро, первого секретаря обкома – ничего другого Киров и знать не хочет и ставит вопрос о принципиальном примерном наказании фельетониста. Вопросы правды-неправды тут вовсе не встают и не могут вставать.
Решением по делу Зорича на много лет номенклатурные работники были ограждены от критики, тем более в печати.
Так и было сделано. Зорич до самой смерти не имел возможности писать в «Правде» – перешел на очерки, на рассказы. Смерть не очень задержалась. Зорича расстреляли в 1938 году как троцкиста, хотя он ни к какой оппозиции никогда отношения не имел.[4]
Сосновский, который знал про это дело (еще бы!), смело вступил на путь защиты маленьких людей. Сосновский был расстрелян в том же 1938 году, но это я так, к слову.
Дело о выселении кончилось победой министра над медсестрой. Наташа выехала в Перово.
У Наташи мне было хорошо бывать, можно было поесть и подумать над своим без ущерба для чувства гостеприимства. Можно было встать и уйти, ничего не объясняя и ничего не обещая.
Последний раз я видел Наташу в Перово над стиркой в мыльном пару, выжимающей с усилием не то скатерть, не то простыню.
Как легко может догадаться внимательный читатель, Наташа умерла тридцати семи лет от туберкулеза в Кратовском тубсанатории. А ее запойный алкоголик-муж, уморив трех жен, одной из которых была Наташа, умер персональным пенсионером в возрасте 84 лет от инсульта.
XI
Я никогда не видел маму красивой, хотя и прожил с родителями целых семнадцать лет. Я видел распухшее от сердечной болезни безобразно толстое рабочее животное, с усилием переставлявшее опухшие ноги и передвигающееся в одном и том же десятиметровом направлении от кухни – до столовой, варящей пищу, ставящей опары, с опухшими руками, пальцами, обезображенными костными панарициями.
В деревнях приходилось мне встречать единственный способ облегчения женщинам кухонного дела – варить щи, а мясо в горячем вареном виде резать. Так я видел в рабочих артелях, например.
Но в нашей семье делали и вторые блюда – жаркое какое-нибудь, котлеты, рыба, дичь или свинина своего убоя. И третье – гороховые, овсяные кисели. Каша обязательно гречневая, рассыпчатая – по вкусу отца.
Мама печь хлеб и варить суп не умела, но семейная жизнь на Алеутских островах выучила ее и печь хлеб, и стряпать.
Какие тут потрачены нравственные силы, нервы – я боюсь и сейчас подумать.
Даже хлеб выпекался у нас ежедневно, той же маминой рукой, – значит, должна быть всегда опара. Ежедневно свой свежий хлеб – это отец считал элементарным, обязательным.
В магазинах города хлеб продавался и дешевле, и вкуснее, но нами покупной хлеб приобретался только в большие праздники. И мы отдавали ему честь среди бесчисленных домашних пирогов, которые умеют и любят печь в Вологде, – Вологда славится пирогами.
Но мама не любила печь, мама любила стихи, но не рецепты поэтической кухни довелось ей выполнять, а самые важные – из поваренной книги. Поваренных книг у нас было две. Популярная Молоховец, засаленная, затертая, оправдавшая себя на двести процентов, и переплетенная в изящный фиолетовый переплет, особая книга вегетарианской кухни под названием «Я никого не ем».
Но отец не был вегетарианцем. Напротив, он считал вегетарианство фокусничеством, извращением – его языческая сущность, его охотничье прошлое, его ясное понимание законов природы – где существуют и охотники, и волк, и капуста, и только в гармонии взаимного убийства развивается видимый мир.
Пошлые советы Толстого или Репина вызывали у отца только смех. У нас никогда не готовили вегетарианского. Вопрос этот никогда даже не обсуждался в семье. Зачем же отец приобрел сборник вегетарианских рецептов? Я думаю, из того же паблисити сделал он этот подарок матери. Стараясь показать, между прочим, что вегетарианская пища сложнее, дороже – и чтоб был какой-нибудь справочник под руками.
Слева от входа была дверь в «зал», а справа дверь на кухню, в мамино царство.
Стояли лари с мукой, бочки соленья, варенья, квашенья, висели нитки грибов, батманы лука, связка лука на вологодском языке называется «батман», – весом батман может быть до десяти килограммов.
Посреди кухни был вырублен подвал, который был забит обязательно каким-то особенным, по рецепту отца – синим льдом с реки. Дверь в просторный подвал, лестница вниз шла посреди кухни. Подвал был набит битой птицей покупной и дичью, стрелянной сыновними руками, тушами баранов, колотых кабанов, выкормленных матерью.
Кабаны визжали на дворе, блеяли козы – несколько коз. Отец, по каким-то своим экономическим подсчетам, еще без помощи электронных машин, вычислил, что три козы по удою заменяют корову, а козье молоко – козьим молоком отец увлекался всегда, до самой смерти.
Ловя детей, две охотничьи собаки плясали среди этого звериного царства.
Кошка была единственным домашним животным, которого никогда не было в нашей семье. Ее независимый характер не устраивал отца.
Несколько поленниц березовых дров, купленных на базаре, – сухих, уже черных березовых поленьев. Полено и косарь – щепать лучину на самовар.
Древесный уголь на растопку и огромная русская печь, где с ухватом тяжелыми чугунами круглые сутки ворочала мама моя.
И все это я ненавидел с самого раннего детства, как помню себя.
Моя оппозиция, мое сопротивление уходит корнями в самое раннее детство, когда я ворочался с огромными кубиками – игрушечной азбукой – в ногах моей матери.
Я был педагогическим маминым экспериментом, единственным опытом, который провела мать для себя и по своему собственному соображению.
Козы у нас были и в довоенное время, и в разруху, и в гражданскую войну, словом – всегда.
Кудахтали куры – отец был куровод, менял породы. По десятку-два кур яйценоских, вроде итальянских леггорнов, держались у нас всегда.
За грибами, за ягодами в нужное время плыла вся семья на двух лодках – две лодки отец имел постоянно, с миллионом корзин, и мама делила грибную или ягодную удачу.
Варенье вот варить только мама никогда не выучилась – все то жидко, то перестоит или изойдет пеной, и для варки варенья приглашались посторонние люди, умевшие обуздать медный сверкающий таз.
Стоя на крыльце, мама встречала целые лодки рыбы, которые привозил брат Сергей, целые лодки уток, застреленных братом во время его охотничьих поездок, делила мама.
Хлюпали в лужах домашние утки, и гусаки гоготали.
И все это я ненавидел.
Мама печь хлеб не умела и не любила кухни. Мама любила стихи, а не ухваты.
Мама моя была тяжелая сердечная больная, ковылявшая по комнате, где жила она с отцом, из огромной квартиры их давно выкинули, выселили, – держась за стенки, за мебель – от кухонной печки до семейной кровати под образами.
Передвигаясь на огромных опухших ногах, мама что-то стирала, что-то мыла, а отец сидел в кресле в углу у окна, полузакрыв глаза. Отец ослеп после смерти сына, моего брата Сергея, и прожил слепым четырнадцать лет. Вот эти четырнадцать лет мама кормила и себя, и отца.
Так чем же жила мама эти четырнадцать лет? Ведь надо есть двоим четыре – или по крайней мере – три раза в день. Какие тут рецепты? Это одна из тайн, которую я никогда не узнаю.
Конечно, и я после женитьбы, и Наташа еще раньше, предлагали переехать в Москву. Но и мать и отец категорически отказывались, и были правы, конечно.
Когда мать осталась одна – то есть в 1934[5] году, – я еще раз предложил ей переехать в Москву.
Мама смеялась:
– Как я уеду из города, где я прожила всю жизнь вместе с отцом.
– Я умру скоро, – сказала мама. – Есть примета. Если живут дружно столько лет…
– Да, – сказал я.
– Так вот, мы не жили дружно. Мы жили трудно. Дело не в последних четырнадцати годах, когда он был слепой, – это все другое, более ясное и простое. Трудно было раньше. Ах, как мне хотелось, чтобы ты женился в Вологде. Тебе я могла рассказать.
Я слушал, затаив дыхание.
Но больше мама ничего не сказала.
У мамы было собственное, эсхатологическое, в высшей степени своеобразное учение о конце мира.
Успехи науки, особенно химии, вдохновляли маму на соображения о Страшном Суде и воскресении мертвых. Постепенно люди превратятся в тончайших духов, существ почти бестелесных. К воскресению мертвых все люди превратятся в духов и одновременно воскреснут, и не будет на земле тесно.
Я слушал все это с величайшей внимательностью, просто с жалостью и болью.
Отец мой человек светский, то есть гражданский, мирской до мозга костей.
Все, что могло служить успеху, то и одобрялось.
Но потом, взрослым, уже сидя в тюрьме, я изменил это детское мнение.
Не то что изменил, а из большой тени, что отбрасывала фигура отца на прошлое, выползала вдруг на самый яркий свет опухшая грубая фигура моей матери, судьба которой была растоптана отцом.
С мамой моей отец никогда и ни в чем, даже в мелочах, не считался – все в семье делалось по его капризу, по его воле и по его мерке.
Но – при его жажде успеха – зачем он стал священником, зачем взял на себя неправедное право – право давать советы другим.
Трудно? Почему же? Почему же трудно?
Отец мой был человек абсолютно мирской, никаких потусторонних интересов не было у него в Вологде. Конечно, я – пятый ребенок в семье, да трое родились мертвыми – мама испытала обычную русскую женскую судьбу. Мама посвятила всю себя интересам отца… Мама – способная, талантливая, энергичная, красивая, превосходящая отца именно своими духовными качествами. Мама прожила жизнь, мучаясь, и умерла, как самая обыкновенная попадья, не умея вырваться из цепей семьи и быта…
Этого я долго не понимал. Мне все представлялось, что именно отец, блестящий диалектик, умелый оратор светского толка, популярный городской священник, принял на себя столь жестокий удар судьбы, как слепота! Отец – герой.
Я могу понять какого-нибудь аскета, пророка, внимающего голосу Господа в пустыне. Но обращаться к Богу за мирскими советами и испрашивать советов Бога для других, чтобы передать благодать, – это было мне чуждо и не вызывало ни уважения, ни желания подражать…
XII
Отец мой родом из самой темной лесной усть-сысольской глуши, из потомственной священнической семьи, предки которой еще недавно были зырянскими шаманами несколько поколений, из шаманского рода, незаметно и естественно сменившего бубен на кадило, весь еще во власти язычества, сам шаман и язычник в глубине своей зырянской души, был человеком чрезвычайно способным.
Сама фамилия наша – шаманская, родовая – в звуковом своем содержании стоит между шалостью, озорством и шаманизмом, пророчеством.
И того, и другого в избытке хватало в характере отца.
Успеху своему на выбранном пути отец был обязан самому себе, а путь был выбран еще в юности.
Отец родился в 1868 году близ Усть-Сысольска и учился в Вологодской семинарии, идя по традиционной для рода дороге. Отец проявил блестящие способности и, поработав года полтора учителем среди коми-зырян, женился и принял священнический сан. В Духовную академию, куда отцу была открыта дорога, отец не пошел, а сразу, с молодых лет пошел на заграничную службу – поехал в Америку, на Аляску, на Алеутские острова православным миссионером среди алеутов и проработал там двенадцать лет.
Заграничная служба в православной церкви давала большую пенсию, достаточную для того, чтобы безбедно кормить большую семью. Эта пенсия давалась за двадцать лет службы. Но можно было уволиться, вернуться и после десяти лет службы – тогда пенсия была половинной, платилась пожизненно и сохранялась при всех условиях – продолжал ли пенсионер церковную службу или нет.
Отец вернулся в 1905 году[6], привлеченный революционными ветрами первой революции – свободой печати, веротерпимости, свободой слова, надеясь принять личное участие в русских делах.
К этому времени заграничная служба отца достигла двенадцати лет, и отец пользовался правом на половинную пенсию.
Отец не поехал в столицу, а вернулся в тот город, где он учился в семинарии и женился. А мать моя – не из духовного звания, как это бывает по традиции, не из епархиального училища, а из самой нормальной светской Мариинской женской гимназии – той самой, которая расположена в доме Батюшкова, где мемориальная доска.
Мать – учительница, из чиновничьей семьи, ее сестра пыталась поступить на Бестужевские курсы и получила медицинское образование, работала всю жизнь фельдшерицей в Кунцеве.
Замужество матери тоже было встречено с удивлением в либеральной семье чиновника, где нет людей из поповского рода, но мать выбрала отца, вместе с ним уехала в Америку и разделила его судьбу и его интересы в многочисленных общественных начинаниях.
Мать – коренная вологжанка, и выбор службы отца в Вологде связан с корнями матери. У отца никаких родных нет, или, если и были, связи с ними разорваны из-за заграничного жития, и в доме у нас никто из родственников отца – если они и были – никогда не бывал.[7]
Отец получил службу четвертым священником городского собора. Для церковных властей это было хорошим решением – молодой проповедник из заграничной службы, владеющий английским в совершенстве, французским и немецким со словарем, лектор, миссионер и насквозь общественный организатор – кандидатура отца у Синода не вызывала, конечно, возражений. А что он стригся покороче, носил рясы покороче, чем другие, крестился не столь истово, как остальные, – все это не пугало Синод.
Место городского священника было почетным местом – движением ввысь по служебной лестнице духовенства.
Служба в городском соборе – как ни тесна была наша крошечная квартира на Соборной горе – устраивала отца еще по одной немаловажной причине.
Соборный священник получает жалованье или подобие жалованья вполне официально и избавлен от унизительного «славления», собирания «руки», подачек в рождественские, пасхальные праздники. А ведь из этих подарков-подачек и складываются главные заработки приходского священника – все равно, в деревне или в городе.
Отец не любил этих унизительных молебнов «на дому» с закуской и выпивкой – от закуски можно было бы еще отбиться, от денег – никогда.
Соборный же священник избавлен от этих поездок.
Даже после собора, когда отец нашел службу у ссыльной миллионерши-анархистки баронессы Дес-Фонтейнес – там тоже он получал оговоренное жалованье, а не жил на «поборы».
Однако первая же проповедь отца вызвала усиленное внимание духовной цензуры.
Вологда – город «черной сотни», где бывали еврейские погромы.
Отец самым резким образом выступал в соборе против погромов, а когда в Петербурге был убит председатель Думы депутат Герценштейн, отец отслужил публичную панихиду по Герценштейну.
Эта панихида отражена в истории русского революционного движения – не один отец поступил таким же образом.
Отец был отстранен от службы в соборе и направлен в какую-то другую церковь, кажется, Александра Невского. Отец обжаловал решение местных церковных властей, и с этого времени начинается длительная, активная борьба с архиереями, которые, на грех, приезжали один черносотеннее другого.[8]
Естественно, что поведение сразу его отбросило в лагерь вологодских ссыльных. Ссыльные, которых в Вологде было много, – стали друзьями. Это – Лопатин, меньшевик Виноградов, активные сионисты вроде Митловского, значительный слой тогдашних эсеров.
Отец, чрезвычайно активный общественник, беспрерывно открывал то Общество трезвости, то воскресные школы, то участвовал в митингах, которых было тогда очень много.
Центром приложения сил, прогрессивных и черносотенных, была в Вологде ряд лет постройка по подписке Народного дома. Этот Народный дом выстроен на месте теперешнего городского театра (бывшего Дома Революции), и отец на митингах в нем выступал несколько раз.
Этот Народный дом был сожжен дотла осенней ночью черносотенцами, виновники не найдены[9]. Здание отстроено лишь после революции, хотя поднимались стены и раньше, до первой войны, и восстановление было прервано именно войной.
Дом Революции был открыт (в 1924 году) киносеансом Гриффита «Нетерпимость». Тогда в Вологде существовал городской театр, деревянный, который не перенес поджогов, ибо не был «Народным домом», а обычным театральным зданием. Театр старой архитектуры сгорел все же – и никогда не был восстановлен.
Дом Революции, построенный вместо Народного дома 1905 года, стал называться городским театром.
Но в мое время был и театр, и Дом Революции.
У отца, чрезвычайно активного общественного деятеля, была и своя собственная социологическая теория, основанная на глубоких выводах, солидных основаниях, надежных перспективах.
Отец уверял, что будущее России в руках русского священства, и именно русскому священству сужден самой судьбой путь государственного строительства и обновленчества – и государственных реформ, и личного быта.
Для этого – по мысли отца – есть все основания. Священство – четверть населения России. Простой цифровой подсчет убеждал в серьезности этой проблемы. Составляя такую общественную группу, духовенство еще не сыграло той роли, которая ему предназначалась судьбой – дав им право исповедовать и отпускать грехи всех людей – от Петербурга до глухой зырянской деревушки, от нищего до царя.
Никакое другое сословие не поставлено в столь благоприятные условия.
Эта близость к народу, знание его интересов начисто снимает для разночинцев проблему «интеллигенция – народ», ибо интеллигенты духовного сословия – сами народ, и никаких тайн психологии народ для них не приносит.
Это не разночинство отрицания типа Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Кибальчича, Гапона, а разночинство созидания, типа Ключевского, Пирогова, Павлова, Булгакова, Флоренского, Григория Петрова.
Это должно быть священство мирское, светское – живущее вместе с народом, а не увлеченные ложным подвигом аскеты вроде старчества, монастырей. Монастыри – это ложный путь, как и распутинские прыжки.
Церковь должна быть светской, мирской, жить мирскими интересами, а в самой мирской жизни быть началом разума, культуры, образования, цивилизации.
История хранит бесконечное количество подвижников, пророков из духовного сословия.
Но задачи XX века более сложны, более земны.
Русское священство должно обратить внимание не на личное совершенствование, на личное спасение, а на спасение общественное, завоевание выборным путем государственных должностей и поворачивать дело в надлежащем направлении. Не в старообрядчестве и не в сектантстве нужно искать, а в самом современном церковном служении.
Даже такой вопрос, как распад семьи – профессиональная болезнь русской интеллигенции, – может быть решительным образом ослаблен, и не только примером многочисленных семей духовенства. Но эта проблема, по мысли, разрешится сама собой.
Что плохо – не безбожие, а малая культурность народа. Безбожие исчезнет вместе с неграмотностью.
История русской культуры должна гордиться своим духовным сословием.
Славные имена выходцев из духовного сословия – знаменитых хирургов, агрономов, ученых, профессоров, ораторов, экономистов и писателей известны всей России. Они не должны терять связи со своим сословием, а сословие должно обогащаться их идеями.
Русское священство, белое духовенство – вот кому принадлежит главная роль в воспитании общества.
Не аскеты монашества, не истерические старцы, а традиционная форма грамотного культурного русского священства.
Не истерические проповеди Иоанна Кронштадтского, не цирк Распутина, Варнавы и Питирима.
А женатое, семейное священство – вот истинные вожди русского народа. Духовенство – это такая сила, которая перевернет Россию. Надо только сделать ниву культурной – совершенно земные задачи совершенно земных людей.
Себя отец и считал человеком, посвятившим себя высокой цели освобождения России…
Умение хорошо одеваться отец, не без основания, считал важным и надежным средством паблисити. Зимой он ходил в дорогой бобровой шапке, в хорьковой шубе с широким воротником морского бобра, в шелковой щегольской рясе. Все это было пошито в столицах у модных портных – по чуть укороченному, далеко видному, но все же не нарушающему канон фасону.
Серая шляпа, вроде котелка, самого дорогого качества, уверенно сидела на уверенно посаженной, коротко подстриженной голове.
Мать обычно ножницами доводила отцовскую прическу до желаемого ему конца.
Щелкали ножницы в руках матери, раздавался резкий голос отца: «Короче! Короче! Еще короче!» – потом начиналось оглядывание прически в зеркало.
Камилавки – служебный церковный головной убор отца – всегда были высшего качества и всегда свои. В церкви для службы даются и казенные камилавки – но камилавки с другого человека, со следами чьей-то чужой головы внутри – этого бы отец не перенес.
Обувь – щегольские полусапожки с резинкой, тщательно начищенные. Дома отец переодевался в домашнее, но тоже добротное, удобное, хотя и недорогое. Был у отца и штатский костюм весьма невыразительного свойства. Поскольку для паблисити священнику костюм не был пригоден в те времена – брюки в полоску, сапоги или плащ брезентовый для дождя.
На всех церковных службах отец выглядел самым красивым, самым картинным во всяком случае, чем мать немало гордилась.
Скромность отец не считал достоинством. В программу паблисити, которую отец перенес как педагогический прием в воспитание своих детей – дочерей и сыновей – входило всегда публичное утверждение достоинства, преимуществ – всяческих соревнований, начиная от состязания умов, вроде диспута, и кончая гонкой лодок, плаванием, стрельбой, охотничьей удачей.
– Надо взять себе за правило – не скрывать своих преимуществ перед сверстниками, – учил отец, – знаешь вопрос – смело поднять руку на вопрос учителя и смело отвечать, только надо знать, а не молоть пустяки. В состязаниях юности всякий ложный стыд вреден, а смирение паче гордости – чушь!
Скрывать свое умение, свое превосходство отец не имел привычки.
У нас было две лодки, и лодки эти отец выбирал всегда сам – ездил куда-то в верховья Сухоны в надежные места и на барже или пароходе привозил, тащил лодку в свое собственное хозяйство. Но лодки северные – это долбленые челноки. Для того, чтобы превратиться в рыболовную, в охотничью лодку, челнок должен обрасти бортами. Это немалое умение, и не всякий столяр успешно нарастит в нужном весе, размере борта. Этой работой отец занимался всегда сам, выполняя ее в высшей степени эффектно и уверенно.
Столярный верстак становился поперек двора, отец взмахивал рубанком, и сотворение лодки начиналось. Собирались зеваки, а также жаждущие инструктажа, и отец под взмах рубанка, срезающего легкие осиновые стружки, читал соответствующую лекцию о новом способе наращения бортов, которому он выучился или в юности в Усть-Сысольске, или почерпнул у алеутов на острове Кадьяк, либо вычитал из книжки и сейчас хочет попробовать.
Я думаю, эти спектакли имели многие значения, как всякое действие отца, всегда многозначное, всегда с подтекстом.
Помимо прямого паблисити – поп с рубанком – было еще удовлетворение жажды физических движений – чисто спортивная форма отца. Давал примеры сыновьям, учил друзей техническим приемам стружки. Просто отводил душу в любезных сердцу разговорах. Что еще?
С детства меня раздражало совмещение приятного с полезным, а для отца это было испытанным педагогическим приемом, даже принципом.
За чайным столом мы всегда видели отца аккуратно одетым и куда-то спешащим.
В семье у нас не знали кофе – пили только чай. Отец покрепче, дети – пожиже.
Мать сидела у самовара. Самовар отец считал важной приметой быта. У нас было два самовара, большой ведерный, блестящий, но дешевый – он сохранился надолго, и малый, желтой меди, на десять стаканов, который мы очень любили. В гражданскую медный был продан за муку, а побольше – стоял на кухне, потом был починен и какое-то время служил отцу и матери…
На торжественные службы отец надевал крест червонного золота, который сам же в торгсинное время разрубил топором на куски. Я написал об этом рассказ «Крест», входящий в «Колымские рассказы».
Мою мать отец тоже заставлял носить новое, делал ей подарки. Деньгами в доме распоряжалась мать, но как-то так выходило, что семейные лодки, козы, собаки диктовались потребностями и вкусами отца. Личных же ценных вещей у мамы не было; кроме дорогой шали черного кружева и венчальных свечей, ничего мать в своем сундуке не хранила. Наверное, были подарки вначале, но дети – восемь человек детей, из них трое умерших – заставили мать или передаривать или перешивать детям – либо сам вкус ее изменился и вошел в привычный круг потребностей и планов отца.
Кроме этой черной кружевной шали, никаких вещей у мамы не было. Да и шаль полетела на рынок много раньше отцовских вещей. Муфта была еще у мамы модная, шляпка какая-то с перьями.
Как и подобает потомственному шаману, отец был у нас главный лекарь, лечил всех без врачей, полистав модный лечебник, терапевтический справочник и ограничившись визуальным осмотром. Лечить бы ему по-алеутски, по-шамански, – успехов было бы больше. Лечение давало плачевные результаты…
Никак не хотел согласиться на операцию при своей глаукоме, болезни мучительной, сводящей больного с ума. Достаточно было перерезать нерв, и боли исчезли бы. Время операции, когда можно было рассчитывать на успех, он прозевал, и хотя объехал буквально всех главных специалистов Москвы – Страхова, Головнина, – вылечить его было нельзя. У меня хранится письмо Страхова ко мне – я просил его написать по поводу отцовской болезни. Почему отец не согласился на операцию – не знаю. Исход, наверное, был не ясен, и решил, превозмогая боли, прожить в полуслепоте. Очки отец носил с юности. Но это решение ждать совпало со смертью сына Сергея, и процесс слепоты полетел под откос. Отец ослеп в 1920 году, а умер в 1934. Четырнадцать лет слепоты. Надежда была, наверное, наивная – что вот-вот найдут какое-нибудь средство против глаукомы. Средство такое не найдено и сейчас.
Со своей безграничной верой в силу печатного слова, главным образом, газетного – американская школа паблисити, заокеанская надежность газетных объявлений – он и лечил по книгам в физическом смысле и в духовном. В физическом – он доверялся популярному «лечебнику» – толстенной книге, в которую заглядывал много раз, а также унаследованному от русских и алеутских шаманов «умению» управлять холодом и теплом в их почти безграничной клавиатуре.
Души он лечил советом, как исповедник, исповедующий вместо лечебника – Евангелие или требник, давал советы по всем случаям жизни.
Лечение физическим методом было всегда удачным – ведь неудачи в практике такого рода не регистрируются.
Не регистрируются и утешения, и пророчества.
В Вологде он вмешался в мою болезнь, не понял ее, и я промучился целую жизнь с хроническим насморком, да не пустяковым, а таким, что заполняет нос. Я навсегда лишен обоняния, слух мой испорчен бесповоротно и безнадежно. Только потому, что меня не показали в раннем детстве врачу. У меня природное искривление носовых перегородок – пустячная операция, и мне возвратился бы орган обоняния.
Мать много раз просила показать меня врачу-специалисту. Ответом был только презрительный хохот. Именно отец дал мне в семье прозвище «тяптя» – ты сопля – из-за вечного насморка. Сопли эти не вылечились и на Колыме и заливают мой нос и по сей день. В день я трачу два носовых платка.
Отец все толковал слишком просто: «Не хочет высушить ноги, дрянь. Пройдет».
Но сопли и потеря обоняния – это еще не все.
Вторым моим позором в глазах отца была моя болезнь, нарушение моего вестибулярного аппарата, то, что называется болезнью Меньера.
У меня – боязнь высоты. На вологодской колокольне – триста ступеней беспрерывного ежедневного страха, шатаний. А ведь колокольня – единственное развлечение вологжан, да еще ребят вологодских.
Каждое воскресенье колокольня открывается – такие виды на весь город, и весь город тянется пролезть к железным перилам, весь город, кроме сына отца Тихона, который шарахается от высоты, плачет и бежит вниз.
Все это было расценено как заговор против доброго имени отца – вырастил неженку.
Болезнь Меньера не дала мне побеждать на гимнастическом бревне, прыгать через ручьи, переходить по бревнам лесные рвы, лазить за яблоками, зорить птичьи гнезда, пробегать по одной доске, прыгать на одной ноге, гонять железное колесо по городу. Во всех этих играх я был самый последний. Ничего, кроме многолетних издевок, я не услышал от отца.
Мать тоже не понимала моей болезни и тоже плакала, что я не хочу зорить гнезда, хотя это истинно мужское занятие для мальчишек и Шаламовского, и Воробьевского рода.[10]
Но и нераспознанный Меньер не был концом моих детских страданий.
У меня – своеобразное устройство глаз: правый близорукий, а левый дальнозоркий – редчайшее сочетание, которое без очков позволяет и читать, и глядеть вдаль. У меня нет очков и сейчас. Эту мою особенность открыл мне доктор Страхов – бывший главный врач Алексеевской больницы, тогда мне было уже 27 лет, и я явился к нему за советом.
Страхов проверил, лучше ли я вижу обоими глазами, чем одним, при добавлении на другой глаз усиления или уменьшения, убедился, что зрение мое при любом добавлении стекол остается тем же самым, и предсказал мне всю мою редчайшую глазную судьбу.
Это пророчество – на сей раз научное пророчество – исполнилось самым абсолютным образом. Я до сих пор, до 65 лет, читаю без очков и хожу без очков, не обращаюсь к глазным врачам.
Но у Страхова я побывал после смерти отца. А все мое детство я прожил под градом оскорблений.
– Не хочет стрелять! Врешь, что не видишь мушки! Ведь ты читаешь? Как же ты можешь не видеть мушки?
Мое нежелание убивать, стрелять, охотиться, резать кроликов и кур, закалывать кабана – тоже привело к тяжелому конфликту. Пока я категорически отказывался от охотничьего ружья, богатый семейный арсенал был продан – к позору отца, и сын уехал в Москву.
Вот к какому тяжелому, многолетнему конфликту привела медицинская неграмотность и самоуверенность отца.
То, что я прекрасно плаваю, управляю лодкой – без всякого обучения и показывания, – тоже казалось отцу вредным ударом по его авторитету, – значит, можешь, не инвалид.
Не выдержав экзаменов в королевскую гвардию – охотничью дружину, отказавшись от рыболовства, я был передвинут в ряды домашней обслуги – ухаживать за скотом.
Тут я нашел себе применение, нашел себя – но скоро выяснилось, что я не переношу смерти коз, кроликов, и сам не хочу, не могу убивать.
По книгам выбирались козы. Книга князя Урусова «Коза – корова бедняка» всегда лежала на его письменном столе вместе с требником и была надежным пособием в отцовских экспериментах.
Охота, рыбная ловля, кролики, куры, огород, – все это было и до революции, все это отец держал из чистого любительства. В революцию это чистое любительство вдруг обернулось и вполне реальной пользой, хотя и не такой значительной, как хотел представить отец. А когда он ослеп, уход за козами в течение нескольких лет дал ему отвлечение, сознание какой-то пользы, которую он утверждал с всегдашней своей самоуверенностью. Мать не спорила с ним. Ведь именно матери нужно было и покупать коз, и варить им корм, заготовлять сено на зиму. Кроме своей еды – должна была заготовляться еда козам. Все это ведь каждодневно…
Куроводство у нас тоже велось по книгам. Покупались необходимые проспекты. Отец писал заказ в магазин, выписывались семена каких-то трав, огурцов, необыкновенного редиса.
У нас никогда не выписывали семян цветов, и даже на куст сирени, расцветшей в общем огороде, отец смотрел подозрительно. На своем участке он выращивал помидоры. Отец провел свою семью мимо цветов.
На сей предмет читались, впрочем, и лекции – как хорошо собирать полевые цветы, – и все братья, все сестры, особенно брат Сергей, привозили матери охапки полевых васильков, кувшинок, лилий из своих охотничьих поездок. Но никто никогда не привозил в наш дом цветов оранжерейных.
Не было у нас ни фикусов, ни герани. Помню какой-то олеандр в бочке – единственное оранжерейное растение, которое пыталось прижиться в нашей квартире, но из-за невнимания к поливке как-то этот олеандр не нашел себе места в моей памяти.
Никаких цветочных горшков не было на окнах нашей квартиры. За окном при входе на наше крыльцо цвел вологодский боярышник, а не сирень.
Странной и страстной, постоянной мечтой отца было участие во всяких сельскохозяйственных выставках, особенно со своими экспонатами – тыквой или парой кроликов.
Отец – один из организаторов в Вологде сельскохозяйственных выставочных дел.
В голодные годы важной культурой стал картофель. Отец высаживал картофель строго по книжке – по самой модной, хоть и советской инструкции, – был ли в этом толк, ответить сейчас не могу.
Гроб сыну – моему брату Сергею – отец хотел выбрать тоже по какому-то кладбищенскому проспекту – но в то время было не до проспектов. Помню, мы вдвоем с отцом везли откуда-то с горы, из-за города, тяжелый сырой деревянный крест – санки разъезжались по грязи, крест был сырым, тяжелым, тот самый Голгофский крест Христа. Санки – обыкновенные вологодские «тормозки» – заносило, и тогда тяжелый крест сам командовал этим движением, сам отдыхал и сам двигался дальше по грязи, по лужам, по льду. Мы – я и отец – только сопровождали, только присутствовали при этом неторопливом движении.
Самой главной личной проблемой отца во время его двенадцатилетней службы в качестве православного миссионера на Алеутских островах было своевременное и разумное полноценное обучение детей.
Я, к счастью, родился после этих педагогических экспериментов отца.
У отца была философия: «каждый пробьется сам», принцип, который он считал пригодным и для гуманитарного апостольства XIX века, и для жестокой конкуренции ХХ-го, хотя практические рецепты философии Максима Горького явно не годились для послереволюционных лет.
И в этом вопросе отец поступил в полном согласии со своими убеждениями, сводом правил, из которого не было исключений.
Выписал на Алеутские острова заочный курс «Гимназии на дому» – было такое халтурное издание – и со всей страстью убежденного заочника занялся подготовкой и педагогической деятельностью вполне во вкусе яснополянских упражнений Толстого, кое в чем – по тайной гордости отца – и превосходящей затеи графа.
К счастью, рядом с отцом была моя мать – профессиональный педагог, сменившая указку городской учительницы на ломаное алеутское копье, совершившая с отцом заокеанское путешествие. Мать организовала несколько алеутских школ, а своих детей учила сама по школьным программам казенных учебных заведений, ни много ни мало целых двенадцать лет.
Так учились Валерий, и Галя, и Наташа. Только второй сын, Сергей, отставал из-за лени. Отец, получив своеобразный сигнал, взялся за обучение Сергея сам, чтобы показать матери, насколько прогрессивны методы, разработанные лучшими людьми России – цветом русской профессуры – для популярного издания «Гимназия на дому».
В 1905 году отец с семьей вернулся в Вологду, второй мой брат, Валерий, поступил в гимназию – в тот самый класс, куда и надлежало ему поступить, сдал и вступительные, а позднее – и выпускные экзамены.
Так было и с сестрами, Наташей и Галей. Галя даже получила серебряную медаль при окончании Мариинской женской гимназии. Все братья и сестры проходили в Вологде одинаковые испытания, все сдавали вступительные экзамены, соответственно возрасту, и, один за другим переходя из класса в класс, доходили до выпуска. Наташа, младшая сестра, кончила гимназию в 1917 году.
Иначе пошло дело с Сергеем, которого готовил для верности сам отец по прогрессивной «Гимназии на дому».
Сергей был принят, но только в пятый, а не в шестой, как было задумано. В пятом классе брат был оставлен на второй год, а потом – исключен за неуспеваемость.
Этого оскорбления отец никогда не простил хозяевам города. Со своей холерической мнительностью, привыкший все усложнять, менять масштабы явлений, отец не хотел и подумать о самом простом ответе на этот столь важный для него вопрос, перебирая различные варианты подспудного борения высших сил. О том, что Сергей просто не имеет способностей для учения в школе в том классе, который намечался отцом, а «Гимназия на дому» есть только «Гимназия на дому» – учебник для заочного образования. Не хотел поглубже заглянуть в психологию собственного сына.
А если бы заглянул, увидел бы, что по своим качествам, физическим и моральным, по праву на карьеру, на успех, по беззаветной способности показать личный пример – Сергей для нашего города не менее яркая и не менее характерная фигура, чем отец – того же нравственного ряда, но физического, а не духовного порядка.
Здесь я продолжаю рассказ о педагогических воззрениях отца, с которыми столкнулся и не согласился его третий сын – я.
Было ясно, что я поглощаю и способен проглотить огромное количество книг.
Но книг-то у отца и не оказалось. Кроме справочников по животноводству и профессиональных требников в книжном шкафу отца не было <ничего>.
И это одно из самых поразительных моих детских открытий.
Книжный шкаф красного дерева, который так выгодно был продан в годы голода, выменян на целый пуд муки, не скрывал за собой никаких книжных сокровищ.
Ни Достоевского, ни Шекспира не было в библиотеке отца. Но был Розанов – «Легенда о великом инквизиторе» – и это все. Кто-то сюда же поставил «Войну и мир», переводы Михайлова, Гейне в переводах Вейнберга, однотомник Жуковского. Но это были все не отцовские книги. Старшие мои братья и сестры удовлетворялись хрестоматией Галахова.
Я помню чей-то разговор, чей-то вопрос по этому поводу. А может, я этот разговор и вопрос выдумал сам. И отцовский ответ.
«Передовая русская интеллигенция должна удовлетворяться народной библиотекой. Кропоткин и Лавров для этого и жертвовали свои книги и библиотеки, чтобы каждый мог пользоваться. Мой сын может пользоваться».
К счастью, мне удалось получить разрешение на получение книг в новой «Рабочей библиотеке» – образованной из конфискованных помещичьих библиотек. Там я досыта начитался Дюма, Буссенара, Жакоба, капитана Марриэта.
Наиболее ценные книги шли в Публичную библиотеку.
Но и этого было, конечно, мало, хотя я читал дни и ночи напролет. К счастью, у нас никогда не запрещали читать за столом во время обеда и ужина.
Отец читал газеты, журналы. Мне, конечно, сейчас же выписали журнал «Семья и школа», но я давно очень далеко ушел в чтении вперед, и «Семья и школа» могли только льстить тщеславию моего отца.
В это время, кроме быстрого чтения, я открыл в себе еще одну способность, о которой не знали и не подозревали ни отец, ни мать, ни сестры.
Лет примерно восьми с помощью так называемых фантиков – сложенных в конвертики конфетных обложек – легко проигрывал для себя содержание прочитанных мною романов, рассказов, исторических работ, а впоследствии и своих собственных рассказов и романов, которые не дошли до бумаги и не предполагалось, что дойдут. Это оказалось в высшей степени увлекательным занятием в виде литературного пасьянса. Я играл в эти фантики сам с собой несколько лет – тюрьма Бутырская, кажется, остановила эту игру.
Мы жили очень тесно. Мое место было последним, а мир фантиков был моим собственным миром, миром видений, которые я мог создавать в любое время.
Сестры, да и мать думали, что я таким способом зубрю или учу уроки. Но никаких уроков с помощью этих фантиков я не учил. Я увез коробку фантиков в Москву, и только после моего первого ареста сестра, уничтожая всю мою жизнь – все мои архивы, – сожгла и эту драгоценную коробку вместе с моими дневниками и письмами.
Так вот, отключаться в этот мир мне было очень легко, и, в сущности, все читанные мною книги я с помощью фантиков повторил.
Отец уже начинал слепнуть, и то, что я не занимаюсь, читаю только за обедом, раздражало отца. Он пытался иногда вмешаться в этот мир.
– Что ты делаешь?
– Читаю.
Все мы трое – мать, отец и я – сидим очень тесно у керосиновой лампы семилинейной, в ее керосиновых лучах я ловлю буквы, перелистывая толстую книгу.
– Что ты читаешь?
– Книгу.
– Какого автора?
– Понсон дю Террайля.
– Как называется?
– «Похождения Рокамболя».
Отец встает, и мне следует выволочка и длительное объяснение, что чтение таких книг не приведет к добру.
– Мой сын должен читать Канта и Шеллинга, – важно говорит отец, – а не Понсон дю Террайля, не Конан Дойля.
Отец что-то думает и выносит решение в своем энергическом стиле:
– Надо сходить к дяде Коле.
Дядя Коля – старший брат матери, единственный ее родственник, с которым у отца хорошие отношения. Дядя Коля – чиновник Казенной палаты. У него свой дом двухэтажный. Жена его давно умерла, а жена, которая жила с ним без венца, – хозяйка местной типографии, тоже приятельница отца. Она умерла первой, и отец служил панихиду на ее могиле.
Дядя Коля одинок в большом новом двухэтажном доме. Оба этажа – в стеллажах действительно большой библиотеки тысячи на две, а то и на три тысячи названий. Дядя Коля выписывает много журналов самых передовых, ведет дневники – каллиграфическим почерком, сочиняет сатирические стихи, обличающие местное начальство.
Мать показывала мне дяди Колину эпиграмму на очередного губернатора.
Когда подобострастно льстивые уста Ему лизали жопу с чувством наслажденья, А у него была вся жопа нечиста, То это, господа, достойно удивленья.Эта эпиграмма закончила служебную карьеру дяди. Тогдашний «самиздат» работал достаточно проворно и с хорошей отдачей.
Мать показывала мне несколько дядиных поэм и в более приличном, несколько мечтательном и вполне самокритичном роде.
Хранил от всех их много лет Затем, что не был я поэт.Не только любителем литературы, дядя был и квалифицированным судьей тоже.
– Вот Андерсен.
– Это все я читал.
– Ну, лишний раз прочтешь, – миролюбиво сказал отец.
– А Канта?
– Да! Вот стоит у вас «Критика чистого разума».
– Это тебе еще рано, – сказал отец.
– Видите, какие проблемы, – сказал дядя Коля неуверенно.
– Ну, вот что, Николай Александрович, – сказал отец, поднимаясь уходить. – Я зачем к вам – жизнь есть жизнь. Оставьте вашу библиотеку Варламу.
– Охотно, – сказал дядя Коля с улыбкой. – Можешь считать себя наследником моей библиотеки.
Меня покоробило от бесцеремонности отца. Но разговор был весь в его стиле.
Случилось так, что Галя – красавица и скромница – скоропалительно вышла замуж вовсе не в ту семью, о которой думал отец, – за сына местного жандармского офицера. Муж ее дослужился до штабс-капитана, был ранен и отсиживался в Вологде.
Молодые искали квартиру, и дядя Коля предложил отцу поселить их у себя. В ту же зиму дядя Коля умер от инсульта, а муж сестры продал все книги букинистам, кроме томов энциклопедий Брокгауза и Граната. У дяди было несколько словарей, которые сестра и муж сожгли зимой, не заботясь о покупке дров.
Это потрясло отца, и он проклял дочь. Разумеется, тут дело не в продаже букинистам, не в краже, а именно в сожжении, в физическом участии дочери в таком варварском акте.
С этого часа и до самой смерти Галя в Вологду не являлась. И никакие материнские мольбы не могли изменить отцовского решения.
Это был тот самый муж, который выдавал Гале рубль в день на хозяйство в течение нескольких лет, пока она не бросила его и не уехала в Сухум со своим вторым мужем.
Старший сын Валерий был человек, раздавленный отцом, – первое из его многочисленных семейных разочарований. Любитель-художник, вернее, рисовальщик, достигший немалой искусности в выпиливании по дереву по готовым рисункам. Эти рисунки, к позору брата, украшали его стену в братской комнате (проходной).
В юности отец дал ему возможность съездить в Третьяковку, к передвижникам, конечно, ибо другой живописи для отца не существовало.
Визит этот краткий не дал желаемого результата. Вообще отец практиковал своеобразный педагогический прием: любого знакомить с любым искусством – хоть с эстрадой, хоть с цирком, с модерновыми стихами и Четьи-Минеями, с живописью и философией, с животноводством и огородничеством, охотой и плаваньем.
Получив этот первичный толчок, сын, по мысли отца-творца, должен откликнуться и в унисон тому толчку, который дан, зазвучать сам.
Так и меня он водил то в церковь, где служил сам, то на бумажную фабрику, то в синагогу.
То заставлял участвовать в каком-то детском спектакле. Влечения лицедействовать в пять лет я не получил, но впоследствии не один год был связан с литературно-драматическим кружком школы и через этот кружок – с городским театром.
Для первого моего посещения театра отец сам выбрал пьесу – было это в восемнадцатом году. Пьеса и автор были выбраны умело – «Эрнани» Виктора Гюго. Умело выбран был и актер Россов, восьмидесятилетний старец, игравший двадцатилетнего короля Карла.
Впечатление было ошеломляющим. С театральным правом на возраст я соглашаюсь всю жизнь.
Следующий спектакль, на который мне были куплены билеты, были «Разбойники» Шиллера, где Россов играл Франца.
А затем последовало бесконечное количество показанных в Вологде в те годы спектаклей.
В Вологодском театре я даже жалованье получал, как статист, один какой-то сезон в бумажных миллионах. Театр полюбил, но актером не стал.
Тогда была мода на диспуты, на обсуждение репертуара.
Борис Глаголин там ставил и играл ряд сезонов. Кончался спектакль, Глаголин выходил на сцену, не разгримировываясь, и начиналось обсуждение спектакля.
Актера из меня не получилось, даже для школьной драмы. Но любовь к театру я сохранил.
Театральные кружковые дела давали мне официальную возможность поздно приходить домой. Матери было запрещено расспрашивать что-либо о проведенной ночи. И мать обычно говорила, отпирая дверь и зажигая лампу: «На шестке там стоит суп – ешь».
Этой вольной жизнью пользовался не только я – десятилетний мальчик, но и мои старшие братья и сестры.
За чтением детей следили, но по каким-то старым, давно установленным правилам, которые никто из старших детей и не думал нарушать и которые внезапно выплыли в самом моем раннем детстве.
Так выяснилось, что мне можно читать – кроме школьного чтения – Уэллса, Майн Рида, Жюль Верна, Густава Эмара, Киплинга «Маугли», Виктора Гюго. Стендаля, Анатоля Франса я прочел много позже.
В индексах запрещенной литературы числились почему-то Александр Дюма, Жаколио, Луи Буссенар, капитан Марриэт и особенно Конан Дойль. Почему такая жестокая дискриминация постигла Александра Дюма с Конан Дойлем – я не знаю.
Александра Дюма я ввел в наш дом всем девяностопятитомным изданием сразу – из новой библиотеки, составленной из конфискованных книг помещичьих усадеб. Штампов я уже не помню. Штампы были, их не вырезали, а просто ставили новый: «Рабочая библиотека г. Вологды». Все эти тома, их было очень много, были переплетены в веселенькие ситцевые переплеты.
А с Конан Дойлем случилась такая поучительная история. Я как-то открыл чулан – он был под лестницей – и вытащил из-под пыльного хлама бумажный, выгоревший на солнце полуистлевший клад. Это были приключения Шерлока Холмса, неразрезанной пачкой, хранящей следы веревки. Я понял, что это приложение к сойкинскому журналу «Природа и люди», который выписывали моему старшему брату несколько лет.
Отец отобрал приложения и запер в чулан, судя по истлевшей бумаге, несколько лет назад.
Я, конечно, прочел это чудное чтиво. А потом уж из библиотеки достал и другие романы Конан Дойля вроде «Затерянного мира», «Похождений бригадира Жерара».
Конечно, чтение и знание – разные вещи. Но ни на какое земное счастье не променяю ощущения жажды чтения, которое нельзя насытить никаким количеством книг, страниц и слов, это сладостное чувство еще не прочтенной хорошей книги. Я глубоко понимаю людей, которые не хотят слушать даже беглого изложения сюжета принесенной, врученной, но еще не прочитанной книги.
Сам я прочел бесчисленное количество книг в любом порядке и давно. Научился разбираться – интересная книга или нет. Я не считаю свой метод познания мира идеальным, но даже в университете не научился отделять полезное от чтения вообще.
Уэллс, Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер – суховатое чтиво, вовсе недостаточное, чтобы залить просыпающуюся жажду чтения. Все эти авторы и в подметки не годятся Александру Дюма – романисту, и Киплингу, Джеку Лондону.
Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский – все это школьное чтение, и на него нет эмбарго.
Катастрофа, которую потерпел отец в обучении своего сына Сергея, исключенного из гимназии за неуспеваемость, подействовала на отца самым угнетающим образом.
Третьего сына – меня – отец готовить в школу не стал и бросил мое обучение на руки матери.
Мать, вместе со своими обязанностями кухарки, поварихи и скотницы, стала меня готовить к школе. Никаких игрушек. Только кубики с буквами.
Быстро выяснилось, что у меня хорошие способности и что меня могут принять раньше на год – то есть семи лет.
Отец при известии о таком успехе приободрился и велел обучать меня по самой лучшей, самой модной, самой прогрессивной, самой современной «Новой азбуке» Льва Толстого.
Выяснилось, что педагогические способности графа ко мне нельзя применить, ибо мне не нужна «Новая азбука», я читаю с трех лет и пишу печатными буквами с этого же возраста, без помощи прогрессивной азбуки. На учебнике «Новая азбука» я написал несколько слов и цифр печатными буквами, мать обвела их чернилами и строгой своей учительской профессиональной рукой написала дату. Эта «Новая азбука» долго хранилась у матери и сожжена лишь во вторую мировую войну – в моем архиве.
Ознакомившись с результатами моего соревнования с Львом Толстым, отец решил подать мои бумаги в Вологодскую гимназию – ту самую, где учились мои братья и где Сергей потерпел столь тяжелый крах всего несколько лет назад.
В Вологде два средних учебных заведения для мальчиков – гимназия и реальное училище. Реальное училище было обеспечено педагогами лучшими – да и время тянуло в сторону техники, науки, – словом, более современным было бы учиться мне именно в реальном училище. Но окончание гимназии давало право поступления без экзамена в университет, что дальновидный отец имел в виду, во избежание каких-нибудь конфузов.
Через десять лет я мог поступить на медицинский факультет – никакого другого образования отец не представлял для своего сына, идущего по светской части.
В реальном училище я был бы, конечно, избавлен от произвола гимназических учителей и отцов города, командующих в гимназии Александра Благословенного, – выгода немалая для мнительного отца.
Реальное же училище не давало таких прав, как гимназия, – там давали знания, а не права. Но все это было отклонено отцом, ибо никакой другой карьеры, кроме карьеры врача, он не представлял.
Словом, обдумав все «за» и «против», в которых немалое значение имели мои личные способности, расчет доказать всему свету и произвол русский, и талантливость нашего рода, которую опровергали черносотенцы, отец лично за руку отвел меня в гимназию – подавать документы.
В вестибюле, прохладном и полутемном, люстры не зажигались, отец подвел меня к мраморной доске, где были высечены золотыми буквами фамилии первых учеников, окончивших мужскую Вологодскую гимназию имени Александра Благословенного с года ее открытия и по 1913 год.
– Вот здесь, – протянул руку отец, – в таком-то году, – отец подсчитал в уме чуть-чуть нетвердо, – должна быть высечена твоя фамилия.
– Хорошо, папа, – сказал я покорно.
Осенью 1914 года я начал там учиться. Из приготовительного класса я перешел в первый – с лучшими отметками по всем предметам.
В течение всей жизни своей я никогда не учил уроков – с первого до последнего класса, все запоминалось в школе. Немудрено, что я всегда был плохой педагог, никогда не умел толком объяснить другому решение задачи, хотя бросался помогать другим много раз.
Все задания на дом я делал в первый же час по приходе домой, часто еще до обеда, пока мать разогреет суп – с тем чтобы ничего не оставалось не только на завтра, не только на сегодняшний вечер, но и на следующий час после прихода домой.
Не знаю, сам ли я научился такому способу занятий или мама подсказала, только я этим способом учусь всю жизнь.
Во время революции целый ряд лет ученикам вовсе не давали «домашних заданий» – принципы и практика Дальтонова плана[11] устраивали меня вполне.
Вскоре я обнаружил, что обладаю даром, который в нынешней науке называется быстрым чтением.
Тяжело мне досталось в семье мое быстрое чтение.
В мое зрение попадают двадцать – тридцать строк сразу, и так я читаю все книги всю жизнь.
Способность эта обнаружена мной в самом себе еще до школы за нашим общим чайным или обеденным столом. Читать у нас за столом не запрещалось, так сказать, юридически, и пока отец справлялся с «Русскими ведомостями», я обычно успевал пролистать полромана, а то и целый очередной роман. Уэллс, Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер входили в индексы дозволенных к чтению книг.
– Ты не читаешь ведь, а проглядываешь.
– Нет, читаю…
Школьные дневники мои были в пятерках, но отец не верил никому, кроме себя. Постоянное мое чтение за столом не нравилось отцу – хотя всегда декларировалось в нашей семье весьма часто. Отец решил лично и публично разоблачить вундеркинда, открыть его тайну, изобличить и разоблачить.
Великий вечер настал. Для эффективного сокрушения восьмилетнего грешника была собрана вся семья, и отец приступил к публичному допросу, то глядя на свои золотые часы, то опять убирая в карман свой американский «полухронометр», как нам объяснялось всегда, когда нам удавалось дотронуться до этого священного отцовского предмета.
В нашей семье не вертели спиритических блюдечек – занятие, которым увлекалась вся интеллигентная Вологда. В нашей семье не играли в лото – любимое препровождение времени чиновничьими вечерами, кроме преферанса.
Но карты были запрещены отцом и даже для пасьянса, для гостей береглась одна колода, но она никогда не вскрывалась, и мать не раскладывала пасьянсов.
Поэтому я не знаю, есть ли у меня флюиды в пальцах – и что нужно кричать, вытаскивая из мешка бочонок с цифрой «90».
Не умею я прикупить втемную, как, впрочем, и в светлую.
Все это я считаю лишним – как музыку, как живопись – способности мои не сумели развиться.
И если в живописи я имею какие-то любительские, но все же устойчивые вкусы, то к музыке и подступиться не решался. Учитель пения Александров захлопнул эту дверь.
Можно было бы ведь что-то слушать на музыкальных вечерах – ходить на концерты и вести себя в этом зыбком море.
Способностей музыканта у меня не было. Но вот мать предъявляла какие-то мои новые качества, не менее тонкие, как какие-нибудь «до-диез», и не менее необъяснимые.
Отец был преисполнен решимости разоблачить зазнавшегося медиума, зарвавшегося спирита, свившего гнездо в собственной его семье, положить конец шалостям новоявленного гения, дать публичное представление на манер спиритического сеанса, где восьмилетний медиум – отец не любил спиритизма, которым увлекалась вся Вологда тогда, – под твердой научной рукой будет разоблачен.
Горела керосиновая лампа с резервуаром в форме капустного кочана. В темноте вздыхали сестры, Наташа и Галя, – и где-то в глуби, почти растворившаяся во тьме, стояла мать, вышедшая из кухни.
Мы сидели друг против друга. Венские стулья потрескивали, у отца – почаще, у меня – пореже.
Цирковое представление не обещало быть долгим – об этом можно было судить по нервным пальцам отца, перебиравшим стопку книг на этажерке.
– Ну, – сказал отец громко и раздельно. – Возьмем что-нибудь такое, чтобы сразу стало ясно. Вот – «Строитель Сольнес» Ибсена – это ты читал?
В руках отца была тоненькая книжка «Универсальной библиотеки» в издании Сытина.
– Читал, – сказал я. – Еще в прошлом году.
– Расскажи содержание.
Я напрягся, и губы сами собой начали выговаривать фразы тем способом, который внесли в мою жизнь «фантики».
– В норвежские горы приезжает архитектор, чтобы построить храм Богу. – Голос мой креп с каждой фразой, и я уверенно пересказал «Строителя Сольнеса». Я ничего не забывал, а тем более читанное год назад.
– Да, вроде правильно, – сказал отец, поигрывая часами и что-то соображая. Не то он сам не мог вспомнить содержание ибсеновской пьесы, не то, наоборот, с удовольствием вспоминая.
– Правильно! – вздохнули сестры в темноте.
– Правильно! – показалась на свет мать.
Но спектакль еще не был окончен.
– Но ведь ты рассказываешь сюжет? – озаренный какой-то новой педагогической идеей, спросил отец.
– Сюжет, – подтвердил я.
– Сюжет, – торжествующе дохнули сестры.
– Сюжет, – подтвердила мать, растворясь во тьме.
– Тонкостей не улавливаешь? – строго спросил отец.
– Тонкостей не улавливаю, – покорно согласился я.
– Он не улавливает тонкостей, – задышали сестры.
– Не улавливает, – дохнула из кухни мать.
– Так зачем же такое чтение? – отец уже уселся на своего любимого коня. – Зачем же такое пустое чтение? Прочтя художественное произведение, человек должен уметь увидеть характеры героев, увязать их с эпохой, со средой, а не тратить время на это бесполезно, прямо-таки вредно. Ты понимаешь, если чтение бесполезно, то оно тем самым и вредно?
– Понимаю, – сказал я.
– Вот видишь, понимаешь. А сам читаешь этого капитана Марриэта. Где ты берешь этого капитана Марриэта?
Я сказал, что беру у одного из школьных товарищей, Воропанова.
– Надо записаться в школьную библиотеку, или даже в городскую библиотеку. И там читать. Эти библиотеки создавали лучшие люди России. И сами лучшие люди России в свои школьные годы читали в таких библиотеках.
– Там мало дают, – искренне сказал я.
– Как мало дают?
– Две книги в неделю. Третью я успеваю прочесть, пока в очереди стою.
– Это совсем не мало. Над вопросом, сколько давать книг читать, думали лучшие люди России – Рубакин, Владиславлев. Норма эта – результат глубокого изучения вопроса, а не высосана из пальца, не взята с потолка. Ты должен читать в той же библиотеке, где читает вся русская интеллигенция, а не пользоваться какой-то контрабандой вроде капитана Марриэта. Я завтра же скажу директору Публичной библиотеки, и он даст распоряжение, чтобы тебе давали три книги в неделю. Библиотечные книги, кстати, нельзя будет читать за чаем, это отучит тебя загибать страницы, что ты допускаешь в отношении капитана Марриэта.
Залить эту жажду чтения не удалось. По совету кого-то меня отвели к вологодскому ссыльному, содержавшему библиотеку. Визит этот и его последствия описаны мной в рассказе «Ворнсгофер».
Мычанье, шепот искали выхода и слова. Никакие «Ай-ду-ду» не могли заменить того, что существовало помимо меня, жило помимо меня, хотя и во мне. Владея грамотой с трех лет, я к пяти годам научился пересказывать своими словами то, что я прочел в книжке. Но это были не сказки, не детские «Ай-ду-ду», а странным образом прозаические пересказы для старших классов мужской гимназии. Я подобрал хрестоматийного Знойко, попавшегося мне в учебниках брата Валерия. Вот из этой-то хрестоматии я почерпнул свои импровизации, которыми развлекал сестер, тревожил мать.
Мне было предложено показать случившееся со мной высшему арбитру – отцу, и отец выслушал не без интереса Плутарха и Овидия Назона из уст своего собственного сына.
Никакого решения по этому вопросу в семье принято не было, но с этого времени меня каждый вечер заставляли являться пред светлые очи отца, который сидел с гостем или в зале, если гость был дальним, либо в комнате сестер, если гости были ближними – родственниками, хорошими знакомыми, соратниками отца по его кооперативным сражениям, и меня заставляли без подготовки рассказывать миф Назона либо биографии из Плутарха. Сначала я делал это охотно, но мне это осточертело, такая профанация того таинственного дара, который стучал в моем сердце. Как я ни старался варьировать какой-нибудь миф о Ниобее и биографию Цезаря, мне было тесно в границах прочтенного, и отец легко обнаружил, что я не всегда барабаню одинаково, а пытаюсь, как он выражался, «подвирать». Это подвиранье нарушало какой-то его тайный идеологический принцип, и вскоре меня не стали вызывать для рассказа о мифах.
Разумеется, хотя речь шла об адаптированной для средней российской школы хрестоматии без «Метаморфоз» Овидия и страстных биографий Светония – где все было целомудренно по-вегетариански, все же гости ожидали от способного мальчика, что он шагнет за страницы учебника Знойко и угостит слушателей настоящим Овидием, поэтом науки страсти нежной, или воскресит Агриппину, задушившую мужа, чтобы сделать императором сына.
Но я не уходил далее Знойко, не было у меня и сведений об этом.
Плутарха, конечно, нужно читать в юности, в детстве. Это книга вроде Библии. Но не в адаптации для школьников. Поэтому Плутарх не мог оказать на меня влияния ни вредного, ни полезного – просто потому, что это был не Плутарх…
Когда я поступил в Вологодскую гимназию в приготовительный класс в 1914 году – и переходил далее в первый, второй – революция застала меня в третьем классе гимназии, – я был предупрежден отцом и мамой, чтобы я не огорчался, если буду получать плохие оценки, хотя буду заниматься хорошо. Не плакал, словом, не обижался, – на это есть высшие причины.
Однако никаких высших причин не оказалось, я окончил и приготовительный, и первый, и второй классы первым учеником. Родители внимательно рассматривали все мои пятерки – в дневнике, а также в свидетельстве об окончании четверти, полугодия всегда были пятерки.
– Меня боятся! – комментировал презрительно отец.
Стихи отцом презирались. Вот газетные заметки или статьи – другое дело – это патент на признание, а уж работа в редакции журнала – я заведовал в тридцатых годах двухнедельным журнальчиком в Москве[12] еще при жизни отца – такая деятельность вызывала в нем одобрение и уважение, хотя что может быть менее солидно. Отец не мог оценить и художественную прозу.
Я читал его очерки (мать показывала) о Кадьяке в церковном журнале, читал воспоминания о вологодских епископах, напечатанные в церковной прозе двадцатых годов.
У отца не было литературного таланта, американскими очерками он очень гордился, гордилась и мать.
Гимназическое учение начиналось с приготовительного класса, который считается теперь первым. В приготовительный класс принимали с восьми лет, но делалось и исключение. Я сел за гимназическую парту этой гимназии осенью 1914 года. Все экзамены, опросы шли в высшей степени благополучно для тщеславия отца, за исключением урока пения.
Пение преподавал городской капельмейстер по фамилии Александров, по кличке «Козел», чьи белые перчатки я часто видел мелькающими почти в цирковом темпе у городского военного оркестра, духового оркестра, хлещущего летний вологодский воздух резкими звуками, как бы пощечинами по вологодской тишине.
Малышом, затерянным в толпе, я часто вглядывался в неподвижное маскообразное лицо капельмейстера и удивлялся, как по взмаху именно его палочки то бушует, то смиряется оркестр. Как можно при таком неподвижном лице указать какие-то аллегро и престо, сразу доходящие до глубины души слушателей, ибо оборванные небрежной рукой в белой перчатке туши, гимны сейчас же вызывали движение, возгласы толпы. Ни одного лица оркестрантов я не видел. Лица были закрыты геликонами, корнет-а-пистонами, и что за тайна скрывается там, я еще не знал. Но лицо капельмейстера я видел ясно, вглядывался в его черты напряженно, хорошо запомнил его маскообразность, равнодушие.
И вот сейчас этот изученный мной на всех городских парадах человек подходит ко мне, но не с геликоном, не с флейтой-дубинкой, чтоб оглушить, навсегда лишить слуха мои бедные уши, а со скрипкой, чтоб тончайшим ликованьем, движеньем смычка извлечь сокровенную суть детской души. И звенит струна, поет, пищит струна учителя над самым ухом.
– Ну! Тяни за мной! А-а-а…
Я протянул, подчинившись этой все сметающей воле, погрузившей меня в невидимый, неслыханный дотоле мир.
Учитель пения поглядел на меня с интересом, и тщеславное мое сердце уже забилось ожиданием очередной победы, ибо и арифметика, и русский язык – все это уже были проверенные рубежи.
Все в классе остановилось, замерло.
– Ну, потяни еще раз.
Я потянул еще раз.
Учитель сказал:
– Слух у тебя, Шаламов, как бревно. – И перевел внимание своей скрипки на следующего ученика.
Я расплакался нервными истерическими слезами, ничего не понимая. На перемене парту мою окружили товарищи.
– Дурак, – кричали они. – У тебя же нет слуха.
– Нет слуха, – в отчаянии ревел я.
– Так что же ты ревешь, дубина? Тебе не надо будет ходить на спевки.
Но я был неутешен, обижен этой неожиданной дискриминацией.
Отчет мой дома был выслушан не то что недоброжелательно (с отцом всякое бывало), а просто.
– Нет так нет…
Отец, вероятно, не имел бы ничего против, если бы я пел в каком-нибудь детском хоре – но законами физики отец командовать не мог, и семья примирилась с этой моей утерей.
А утеря была очень большая. Я так и вырос без музыки, представляя уже взрослым музыку мира по Блоку – как некий шум времени. Но шум этот вовсе не был музыкальным. Ритмы, которые слышал Блок, скорее уж относились к конкретной музыке, а к ограниченности гамм никакого отношения не имели.
Между тем малыш так тосковал именно по ритму, что задумал быть даже певцом – не художником, не скульптором, а певцом, и именно эта тяга к музыке и свела мальчика со стихами.
Капельмейстер «Козел» – Александров – появляется в моей жизни еще дважды. Не пройдет и пяти лет, как в послереволюционной школе я буду раздавать посылки «Ара»[13] и делить школьный хлеб – всем школьникам в тот год давали, кроме четверки – четверти фунта по общей карточке, – еще и восьмушку в школе. Прямо привозилась черная теплая буханка ржаного хлеба, липкого, грязного, и делилась – всегда мной в нашем классе.
После резки и раздачи обычно я вытряхивал мешковину, на которой резали хлеб, кому-то в руки. Но на этот раз не сумел сделать этого последнего движения.
Из темноты класса, откуда-то из коридора приблизилась фигура, в которой я с трудом узнал нашего учителя пения из первого класса гимназии, нашего городского капельмейстера Александрова. Он был, разумеется, в штатском, в каком-то кургузом пальто не по росту. Пение у нас давно, разумеется, не преподавалось, как буржуазная наука, и не было жертв – дискриминированных только потому, что у них музыкального слуха нет.
Я с трудом узнал капельмейстера.
– Разрешите мне, – сказал Александров приглушенно, – собрать эти крошки хлеба. У меня – курочки, курочки есть просят.
– Собирайте, – разрешил я. И Александров умелым движением повернул мешковину и вывел все хлебные крошки себе на ладонь. С ладони он пересыпал крошки в какую-то торбочку, мешочек, но торбочка была невелика.
Я спрятал мешковину, нож и пошел домой. Выбираясь из коридора школы, я увидел Александрова, вытряхивавшего себе в рот крошки.
Третий раз судьба свела нас еще через два года.
Начался нэп, и в родной город к отцу явилась его родная дочь. Ни более ни менее как балетная артистка. И не просто балетная артистка, а сама Мария д'Арто – таков был псевдоним этой популярной, прогрессивной, вошедшей в историю русского балета артистки, подруги Веры Комиссаржевской. Мария д'Арто провела в Вологде несколько концертов, но сразу было видно, что балерина отяжелела, что ей не поспеть за бойкой чечеткой местной «Синей блузы». И Мария д'Арто покинула Вологду.
Александров, ее старик отец, посещал, разумеется, все концерты своей любимицы, да еще артистки такой прогрессивной славы. Александров, одетый в лучший костюм, чуть припахивающий нафталином, сидел в первом ряду, ловя каждое слово, каждое движение знаменитости.
Следующим важным рубежом на моем пути к музам был урок рисования. Рисование началось не с начала года, как пение, и я был уже предупрежден дома, что я – не Рембрандт и не Репин, спросу с меня в школе будет немного, как и интереса к моим многочисленным рисункам – зверькам, человечкам, домам, – похожим больше на иконы в церкви, чем на произведения настоящего художника, обладающего знанием перспективы. Однако я должен очень внимательно вести себя на уроках рисования – ибо учитель Трапицын, преподававший две науки – чистописание и рисование, – родной брат нашего архиерея Александра Трапицына и даже живет в архиерейском доме – в соседстве с нами.
Рыжий, пухлый господин Трапицын, по-видимому, и от своего брата получил указание, как действовать с дерзкими школьниками, потому что никакого интереса моя личность в нем не вызывала. Я срисовывал какие-то кубы, цилиндры, сдавал контрольные работы, получал оценки – пятерки, не ниже четверок, ибо главное тут оценивалось – внимание, добросовестность выполнения задания – и все.
С революцией Трапицын исчез из нашего города, из нашей гимназии, из нашего класса, из моей жизни – навсегда.
Уроки рисования не были для меня ни скучными, ни веселыми, не хуже и не лучше математики и русского языка. И пятерки за них я получал так же, точно таким же способом, как и за решение арифметических задач. Но первого и единственного урока пения я не забыл никогда.
После архиерейского брата, носившего фамилию Трапицына, а не Тряпицына, как легко запоминалось, перебирая в уме звуковую основу фамилии – первые уроки геометрии мы уже получили, – я подумал, что наш учитель рисования – не от «тряпки», что было бы слишком для архиерейского брата, а от трапеции. Трапицын от трапеции. В этом нечто благородное, достойное. Но исчез с революцией Трапицын, и я перестал думать о правильном произнесении его фамилии; тем более что имя у учителя рисования было вполне подходящее – «Аполлон», Аполлон Александрович!
Я уже забыл думать о своем живописном образовании, продолжал рисовать свои домики, как вдруг году в восемнадцатом, что ли, было объявлено, что наш класс примет новый учитель рисования Александр Николаевич Россет – прямой родственник фрейлины Смирновой, приятельницы Пушкина и Гоголя, калужской губернаторши.
Но о калужской губернаторше мы еще ничего тогда не знали и встретили нового учителя со страстным интересом. Казалось, что именно он написал «Евгения Онегина» и «Пиковую даму».
Россет нас не разочаровал. Одетый в черный отутюженный костюм, в сверкающей белизной накрахмаленной рубашке, с платочком, сложенным каким-то необыкновенным углом, – новый преподаватель был сама учтивость.
Сейчас же все ученики засели за рисунки – поставлен был для всех не то цилиндр, не то куб – белый, на подставке, и каждый на ватмане или просто белой бумаге попытался уловить душу этого белого куба.
Все еще рассчитывая, что пламя Микеланджело наверняка горит в моей душе, я, не жалея времени, изображал белый куб со всей строгостью того небольшого реалистического багажа, который был внесен в мою душу Аполлоном Трапицыным, а также и всем уровнем и вкусом тогдашнего русского искусства.
Все мои тридцать соседей сделали то же самое.
Россет собрал рисунки и сел за учительский стол.
– Ну, – сказал он, смешивая и перекладывая наши листочки, тасуя вверх-вниз, как колоду карт, – художников среди вас – нет. И я не ставлю задачу сделать из вас художников. Художниками надо родиться. А вот графически грамотными людьми можно стать, и этому я вас выучу.
К сожалению, Россет исчез из Вологды после первого же урока. Но еще долго мне чудился в классе запах его отличных духов, его крахмальная сорочка.
Живописную культуру мне пришлось уже пройти попозже – в музее Западной живописи на Кропоткинской, на выставках тогдашних – их было немало. Третьяковка меня угнетала с первых дней. В живопись передвижников я никогда не верил.
Врубель? Но про деятельность Стасова с Горьким против Врубеля на Нижегородской выставке[14] мне, к сожалению, не было известно. Врубеля в моей жизни было очень мало, и я очень медленно ощутил и принял его силу.
Рисунки мои, тетрадочки и показать было некому. Проклятый куб закрывал дорогу моим домикам, медведям и лисам в моем саду.
После приговора Россета надежды отца на мою живописную одаренность, которую, по его мнению, мог скрыть архиерейский брат Трапицын, умышленно мстя отцу, – развеялись в дым…
Участие в драмкружке давало возможность не бывать дома вечерами на законном основании, без всяких доводов, докладов и разрешений.
Деятельность этого кружка описана мною в очерке «Некрасовский вечер в клубе «Красная Звезда».
К тому же у нас был кружок литературно-драматический, и я именно литературной силой-то и был – издавал рукописный журнал, делал доклады о поэтах, читал стихи на вечерах.
В двадцать первом году доползла до Вологды книга – один экземпляр на целый город – однотомник Некрасова под редакцией Корнея Чуковского с ГИЗовской маркой. Книга была отпечатана очень бледно – смутный текст на плохой оберточной бумаге – но это был новый, невиданный некрасовский текст стихов и поэм, заученных нами ранее в ином, в куцем варианте.
Прибытие книги вызвало энтузиазм в городе, и в нашем школьном литературно-драматическом кружке было решено кое-чем дополнить программу вечера памяти Некрасова, чье столетие со дня рождения отмечалось в нынешнем году. Мы уже давно готовили «Мороз – Красный нос», «Железную дорогу», «Размышления у парадного подъезда», и наш руководитель давно уже вел борьбу с потоком шипящих «Рыцаря на час». Все это было выбрано и заучено еще нашими старшими братьями и старшими сестрами. Дорога для нас была давно проторена.
Но теперь был новый текст. Стихотворение, посвященное Комиссарову[15], исчезло, а вместо точек в «Княгине Трубецкой» появились слова.
Решили инсценировать разговор с губернатором, который затеяла княгиня в Иркутске. После долгих проб, сцен зависти, ревности и огорчений решили, что губернатором будет Лев Шиловский, пятнадцатилетний сын председателя местной талмуд-торы, врача-психиатра городской психиатрической лечебницы.
Его уверенный басок напоминал отцовское покрикивание на городских психов в сумасшедшем доме – отец работал психиатром в загородной психиатрической лечебнице много лет, там жил и отдыхал.
Губернатор в тогдашнем нашем понимании должен был иметь начальственный басок – да и для наших зрителей только такой губернатор произвел бы впечатление реализма и жизненной правды.
Княгиней Трубецкой была Лида Перова, бывшая гимназистка из Мариинской женской гимназии, сущая школьница женской трудовой школы – в Вологде долго не вводили совместного обучения. Пятнадцатилетняя Лида была единственная старая сотрудница нашего литературного кружка. Главной задачей Лиды было донести до слушателей этот новый, найденный и опубликованный Чуковским некрасовский текст.
Сцена на станции нас не смущала: стол из фойе, две табуретки, коробка есть, чтоб чиркать спичкой и зажечь спектакль. Но княгиня! Меха! Соболя! Правдой был бы реальный тулуп ямщицкий, сибирский – только в такую овчину кутали княгиню в ее долгой морозной скачке. Но нам казалось – тулуп это не то, это не для княгинь. У самой же Лиды дома никаких мехов драгоценных не нашлось.
Выручила учительница немецкого языка Елизавета Николаевна. Она только что вышла замуж и «справила» себе к свадьбе беличью муфту и беличью шапку – да не ушанку, а цилиндром. Елизавета Николаевна, узнав про наши меховые затруднения, дала на время муфту и шапку княгине Трубецкой. Вопрос аппликации для княгини был решен.
А губернатор? Как быть с мундиром губернатора? С любым военным мундиром… Года четыре назад это в Вологде не было проблемой. Но через четыре года после революции? Затруднение казалось непреодолимым. В конце концов кто-то принес адмиральскую двууголку, новенькую, с атласной подкладкой, пахнущей нафталином.
– А вы меня не угробите, ребята?
Ребята не угробили. Потом эта двууголка так и осталась у нас – никто не хотел брать обратно.
Литературный вечер должен был состоять из двух частей. «Княгиня Трубецкая» была вторым, заключительным отделением. А первое было – концертом.
От ликующих, праздно болтающих, Обагряющих руки в крови, Уведи меня в стан погибающих За великое дело любви. …………………………………………….. Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?Концерт был большой. По два стихотворения никто не читал – в кружке было более ста школьников. Я тоже читал в том концерте стихотворение, но не Некрасова, а Игоря Северянина, из «Поэзоантракта». Стихотворение называлось «Сеятель» и было посвящено и адресовано Некрасову. В этом стихотворении не было никаких ананасов в шампанском.
А еще учкомом школы я был уполномочен попросить у заведующего школой две керосиновых лампы-«молнии» по 30 «линий», как это тогда называлось, ибо в клубе «Красная Звезда» электрического света не было. Эти две керосиновые лампы со стеклянным резервуаром и высокими ламповыми стеклами были величайшей драгоценностью для заведующего школой, ибо училась наша школа второй ступени, наша ЕТШ № 6, где придется, часто по вечерам, в темноте, и керосиновая лампа была единственным светочем, ведущим нас к высотам знания. Школу гоняли из помещения в помещение – лазареты, госпитали, военные курсы вытесняли нашу школу из одного помещения в другое: без керосиновой лампы в нашем пути нечего было делать. Лампы берегли. Керосин был тоже ценен, но тут не в керосине было дело. Лампы были большие и осветить сцену должны были, по нашему мнению, отлично. Переговоры об этих лампах велись с заведующим школой давно, но Леонид Петрович отказывал наотрез, – все, что у ламп можно было разбить, уже было разбито, – это были последние две лампы, я пошел к заведующему школой последний раз.
– Хорошо, – сказал Леонид Петрович. – Даю, Шаламов, под вашу ответственность личную. И если что-нибудь…
– Я даю вам слово, что ничего не случится. Я буду сам наблюдать.
На том мы и порешили. Почему понадобились эти лампы на сцену: ведь мы уже ставили вечера Пушкина в Доме Революции, Лермонтова – в городском театре, вечер Островского – в бывшей гимназии, но там в дни спектаклей работал свет. А Некрасовский вечер должен был быть в новом, свежесрубленном клубе 6-й армии «Красная Звезда». Электричество туда еще не было проведено. Наш некрасовский спектакль и начинал жизнь этого клуба. Этот дом, этот клуб и сейчас показывают туристам, если городской музей закрыт по случаю выходного дня и туристов возят на автобусе по улицам Вологды глазеть на образцы деревянного зодчества – северную архитектуру в дереве – теплую, живую, в отличие от знаменитого, но мертвого камня южных стран.
У строителей северных храмов, деревянных церквушек был большой перерыв – война, революция, гражданская война. Накопленное уменье мастеров, религиозный пыл зодчих деревянных храмов нашел выход в яростном возведении клуба «Красная Звезда». Это было первое здание после революции, где методам топора и пилы было что сказать, доказать и показать. Укороченные церкви, превращенные в кинотеатры, в народные дома, мало что говорили прохожим о северном зодчестве, о деревянной архитектуре.
Клуб был выстроен на пустыре, на углу двух улиц к четырехлетию Октябрьской революции. Достраивался клуб в спешке, в фойе валялись балки, не ставшие балками. Еще занавес ходил туго, останавливался, когда хотел, и нарочно поставленные люди раздвигали и задергивали занавес изнутри – дополнительное зрелище сатирическое и лирическое. В клубе пахло еловой смолой, а не табачным дымом.
Программа Некрасовского вечера должна была начинаться с выхода бирючей с ручными трещотками перед закрытым занавесом. Трещотки мы брали в городском театре, где за контрамарки служил статистом один из наших школьников.
Трещотки эти и бирючи остались на Некрасовский вечер от Лермонтовского. При инсценировке «Песни про купца Калашникова» там эти трещотки и бирючи среди всяких «Гой-еси» были весьма к месту.
К месту бирючи были и в Пушкинском спектакле, привлекая внимание к перипетиям сюжета «Бориса Годунова». Было ясно, что и в Некрасовском вечере обойтись без бирючей нельзя.
Оба эти мальчика-бирюча были нашими же школьниками. Они привыкли к трещоткам, и трещотки привыкли к ним. Трещотки иногда заедало, но наши бирючи действовали весьма уверенно. Бирючи выходили на авансцену, в зал давался свет и только после бирючинского пролога выключался. Выключался свет и в Доме Революции – том самом Пушкинском доме, который был сожжен черносотенцами в 1906 году. Выключался в городском театре – крошечном деревянном здании, где в зрительном зале были при партере ложи, бельэтаж и галерка.
В клубе «Красная Звезда» сцена была крошечная, а света совсем не было – только две школьные керосиновые лампы на полу. Слышно было, как тяжко дышит, как переполняется зал. Никто не снимал полушубки – в зале было морозно. Махорочное облако плыло над залом, где сидели вразвалку в левом углу бойкие парни в ярко-синих или ярко-красных галифе, в которых отплясывали они на всех вологодских вечерах падеспани и падекатры, падепатинеры, матчиши, и вальсы, и краковяки. На этот Некрасовский вечер висела рукописная афиша – «Танцы до утра! Фейерверк!». Танцы эти шли под трехрядку – один из бирючей и был гармонистом.
Долго не налаживался занавес, долго в последний раз устанавливалась очередность участвующих в концерте. Наконец школьник-сценариус – тогда помощники режиссера назывались сценариусами – толкнул бирючей в спину. Пошли. Бирючи выходили с разных сторон занавеса. Пространство до края рампы было так мало, что, отодвинув ногой занавес назад, бирюч зацепился и разбил лампу. Лампа вспыхнула и сейчас же была потушена. В щель занавеса я увидел искаженное от злобы лицо Капранова. У другой лампы стоял караульный, чтобы при первой тревоге погасить свою лампу. Так он и сделал, и бирючи остались в полной темноте. Это были ребята опытные. Зная, что в зале света не будет, по давно заученному счету «раз! два! три!» бирючи запустили трещотки.
Тут же в зале раздался винтовочный выстрел, второй, слова короткой команды. Бирючи наши смолкли. Как-то удалось зажечь оставшуюся лампу и развести занавес.
В зрительном зале была уже построена круговая оборона – почти у всех оказались винтовки, наганы; вперед, замаскированный скамейками, был выкачен пулемет «максим». Пулеметчик уже заложил ленту.
Немногие штатские – в том числе и наш заведующий школой Капранов были положены на пол, в сторону.
Два красноармейца-латыша пробежали по сцене, под сценой, выскочили во двор, пробежали вокруг дома, вернулись, доложили командиру, и Некрасовский вечер продолжался. Скамейки были расставлены по местам, и заведующий школой с его штатским спутником был усажен на почетное место.
Все номера обоих отделений прошли с огромным успехом, воодушевлением и артистов, и зрителей, которое все росло от стихотворения к стихотворению. Княгиня Трубецкая произвела фурор.
Злосчастный бирюч приблизил пальцы к ладам трехрядки, и падеспани и падекатры зашуршали по новенькому полу. Красноармейцы, шаркая валенками, крутились в бесконечных падеспанях.
Усталый бирюч ждал сигнала на вальс, ведь вальс – последний танец, такова традиция вологодских вечеров, а вальса все не было. Но прошел и вальс, и толпа высыпалась на ступени клуба – и исчезла в безлунной ночи.
– А где же фейерверк? Фейерверк!
Я вытащил пять военных ракет, пять картонных трубок с военного склада. Это тоже, как губернаторская двууголка, как беличья муфта княгини Трубецкой, было сюрпризом. Я сорвал крышку, обнажил запал. Зеленая парабола взлетела в вологодское небо.
Уже ушедшие домой красноармейцы кинулись к клубу обратно, пулеметчик тащил пулемет, а губвоенком еще не ушел.
– Опять он зеленое пускает, товарищ комиссар!
– Это мы пускаем, – сказал военком. И повернулся ко мне: – Больше не надо фейерверка.
На другой день меня потребовали к заведующему школой. Но что я мог сделать? Да и он – что он мог сделать? Футляр лампе смастерили цинковый вместо стеклянного, но вот стекла лампового не было уже никогда. Консервная банка была для него приспособлена, а когда достали новое ламповое стекло в 30 линий, пришел нэп, а я – кончил школу.
В коридоре у директора ждал меня незнакомый человек.
– Я главный режиссер театра, – сказал он, – и хотел бы с вами поговорить.
– Пожалуйста, – сказал я с облегчением.
– Я был вчера на вашем вечере в клубе «Красная Звезда». Лежал там среди стружек рядом с Леонидом Петровичем. Вы читали там Северянина, да?
– Да, Северянина, – сказал я, все еще не понимая, в чем дело.
– Вы не могли бы прочесть это самое стихотворение сегодня в Доме Революции? Я ставлю там Некрасовский вечер. Вечер кончается апофеозом. Нечто вроде живых картин. Но эти живые картины – мертвы. Их надо оживить. Поставить стихотворную строчку. Вот это самое ваше стихотворение. Так как? Согласны прочесть в конце вечера то, что вы читали вчера?
– Хорошо, – сказал я. – Только…
– Без всяких только. Вы приходите, оба отделения – у нас тоже два отделения, как и у вас, – посмотрите из зала, а после занавеса приходите за кулисы и читайте стихи во время апофеоза… Я махну вам рукой, когда начинать.
В тот же вечер я прошел в театр и поднялся в антракте на сцену. Главный режиссер ждал меня.
– Вот тут и встаньте и лицом к залу прочтете. Здесь холодновато, вы шубы не снимайте, а шапку, пожалуй, снимите, в руках ее, что ли, держите. – Главный режиссер удалился, и ко мне сейчас же подступил человек, вышедший из-за кулис.
– А чем кончается ваше стихотворение?
– Как, чем кончается?
– Какая последняя фраза?
Сразу я не мог вспомнить последней фразы и стал читать стихотворение с самого начала.
– Нет, избавьте, – остановил меня новый мой знакомый. – Только последнюю фразу вашего стихотворения.
– Это не мое стихотворение.
– А чье же?
– Игоря Северянина.
– Игоря Северянина? Некрасову? Это – оскорбление. Игорь Северянин – не поэт. Это – футурист. Ну – какая последняя фраза этой бездарности?
– «Слава тебе».
– «Слава тебе»! «Слава тебе», «слава тебе», – энергично повторил мой новый знакомый, – а Виктор Николаевич, режиссер, говорит, что малыш… сочинил… Все обман!
Главный режиссер мчался мне на выручку.
– Это машинист сцены, – объяснил он мне, – ему надо знать, когда закрывать занавес, на какой фразе. Ни Северянин, ни Некрасов его не интересуют.
– «Слава тебе» – вот эта фраза, – сказал я.
В апофеозе участвовали загримированные актеры городского театра, размещенные на сцене по принципу физкульт-паузы в спортивном параде, или так, как размещал фотограф группу своих клиентов, – чтобы все попали в объектив, а на почетном месте оказался самый знатный из клиентов. Самым знатным в том некрасовском апофеозе был сам Некрасов. Некрасовым был загримирован актер Вологодского театра с заношенной до предела театральной фамилией Ленский.
В городе не было второго экземпляра нового издания под редакцией Чуковского, поэтому о «Княгине Трубецкой» не могло быть и речи. В концертной программе жали на «Княгиню Волконскую», на декламацию и мелодекламацию, на лирическое сопрано и меццо-сопрано, на басы и тенора – все это имелось в вологодской труппе. Впрочем, иркутский губернатор участвовал в апофеозе, напялив на лоб двууголку похуже, что была на нашем вечере.
Был дан свет на сцену, и я, держа шапку в руках, не стегивая ватного пальто, прочел стихи Северянина. Легко побежал занавес, отгородивший искусство от жизни…
Когда я увлекался футболом, да еще в школьной команде играл, отцу это не понравилось. Посмотрев один из календарных матчей городских команд, отец сообщил:
– Смотрел я эту новую игру. Бегаете в поту, в пыли, в грязи. Что за интерес? Пойди к матери и дров наколи!
Но отучить меня от футбола отцу не удалось.
Отец верил в личный пример. Всякое отрицание в его душевном строе выглядело как символ веры, немедленно подтвержденный. Отцовский символ веры последовательней и неуклонней самого символа веры из молитвенника, ибо тот, как казалось мне, – литература, а отцовский пример – вот он.
Отцовская проповедь в Обществе трезвости – а этих обществ он открывал немало – была вовсе не пустые слова.
Отец не пил, не курил, и никто из его гостей не пил и не курил в его присутствии. Даже в самые большие праздники, так называемые двунадесятые, даже на Пасху и Рождество, в нашем доме не подавалось никаких алкогольных напитков – ни виноградного вина, ни настоек или наливок, ни пива – ничего, что могло бы скрывать в себе алкоголь.
Это страстное воздержание имело и одну чисто личную причину. Отец отца – мой дед, деревенский священник где-то в усть-сысольской глуши, – был пьяница. Часто ссорился с бабкой. Однажды он напился и дошел пьяный до дома, стучался, но бабка не открывала. И дед мой умер на крыльце собственной избы, замерз.[16]
Мне это рассказала мать. Отец не считал нужным в своих действиях с детьми ссылаться на какие-то примеры, из жизни или из книг – все равно. Единственный пример, на который он ссылался, – это была ссылка на лучших людей, но я хорошо знал, что вслед за упоминанием о лучших людях России последуют щипки и толчки.
Хоть ты тысячу раз почетный гость, но если ты хочешь курить, то вылезай из-за стола и иди на кухню или на улицу, если лето. Кухня была мамино царство с более либеральным принципом жизненного устройства.
Исключений не делалось ни для кого.
Естественно, что при таких традициях, да еще трактуемых как символ веры, гостей у нас было очень мало. Даже в большие праздники приходили братья матери, и то ненадолго. Своих родственников в городе у отца не было.
Результат этого догматического воспитания подтвержден личным примером.
Все три брата и две сестры – нас в семье было пятеро – курили все. Я сам курю с восьми лет. Дома, конечно, не курил никто, никогда. Я первый раз закурил на похоронах отца, закурил дома открыто.
Потянулся за пачкой в карман и рефлекторным движением встал, чтобы пойти на кухню. Мать рукой удержала меня на месте.
– Кури уж здесь.
Я сел и закурил.
После смерти отца стала курить и мама, понемножку, целый год курила, а потом умерла.
Конечно, при таких жестких правилах воспитания любая брань не только изгонялась и осуждалась. Даже за слово «черт» следовал немедленный шлепок, а то и построже что-нибудь. Никто из детей, разумеется, и не думал о ругани, любой – это было вытравлено в нашей семье. И сам отец, конечно, никогда не ругался: ни «сволочь», ни «черт» – вообще никаких бранных слов не могло быть в его лексиконе.
Но однажды я случайно услышал, как отец бранится про себя, и этот единственный случай запомнил на всю жизнь.
Я и он в темном сарае поили коз. Козы – животные чрезвычайно дисциплинированные. Перепутать порядок кормления просто невозможно. Та, которой дано не в очередь, принятую в этой группе коз и установленную самими козами, – не возьмет ни за что свою еду. Услышав матерную брань отца, я подумал, что какая-нибудь Тонька или Машка кинулись не в очередь хватать хлебово. Но оказалось, что матерная брань отца относится не к козам, а к Финляндии, которая только что отделилась. По этому воспоминанию я могу рассчитать и месяц – вроде декабря 1917 года…
Ни к живописи, ни к музыке, ни к театру способностей у меня не оказалось, оставались одни стихи, но о стихах отец и думать не хотел.
Я пишу стихи с детства, и это неприятно удивляло отца, не подозревавшего, что настоящая поэзия начинается очень поздно.
Ломая дурную привычку, отец подарил мне к пятилетию, узнав от матери, что я читаю с трех лет, типографским способом изготовленную, тисненную золотыми буквами толстую тетрадку «Дневник Варлама Шаламова». Вся страсть отца к паблисити была в этом подарке. Отец произнес небольшую речь, общий смысл которой был таков: вот, дескать, тебе дневник – мы будем совершать героические поступки, а ты – их описывать. Но, конечно, в прозе: факты там всякие, делать вклейки.
Словом, ни одной страницы в этом дневнике так и не было записано.
Сестра Галя, заглянувшая в дневник, подивилась моему упорству. С того момента, как сестра заглянула в дневник, он был для меня осквернен.
Я никогда в жизни не вел дневников. Жизнь, правда, сложилась так, что и возможности вести дневник не было. Моим дневником были стихи. Это я отчетливо чувствовал, ибо по поводу этого подарка я сочинил стихи о том, как мне подарили дневник.
В самом этом факте уже был ответ на отцовский вопрос. Но отец этого никогда не почувствовал.
Когда я поступил в гимназию и стал учиться на пятерки, это не удалило меня от стихописания. Одно из стихотворений – военных, разумеется, – было показано отцу, но отец перенес решение в официальную организацию – велел показать преподавателю русского языка Ширяеву.
Я помню и сейчас одну из строф, разумеется, беспощадно слабых:
Вот кавалерия неслась, В столбах пыли извиваясь. Невдалеке гром пушек грохотал, Свистели ядра, в воздухе взрываясь. И страшный взрыв людей там убивал.Я ждал, разумеется, одобрительного приговора, но приговор Ширяева был неодобрительный.
Более всего меня поразил разбор этого стихотворения, сделанный тут же:
– По-русски надо писать:
Вот в столбах пыли извиваясь, Кавалерия неслась.В этом роде, отвергая начисто пушкинскую инверсию и даже более элементарные вещи.
Я со страхом увидел и услышал, что наш преподаватель литературы, как и мой отец, вовсе не понимает, не «слышит» стихов.
Отзыв Ширяева – мне было тогда восемь лет, – разумеется, упрочил мнение о моем графоманстве.
Через все мое детство, через все мои вечера проходит крик отца:
– Брось читать!
– Положи книгу!
– Туши свет!
Лампа у нас была одна, но речь тут шла не о лампе, а о свете в его самом высоком значении. По мысли отца, далеко не всякая книга полезна, а беллетристика и стихи определенно вредное чтение.
Мать заботилась о керосине в смысле физического света, отец же разумел свет духовный.
Ссоры отца с архиереями – притча во языцех в городе – все дальше толкали нашу семью в сторону дружбы с политическими ссыльными.
В доме бывали эсеры, меньшевики из ссыльных. Семья Виноградова, где мне разрешили бывать, – как раз семья ссыльного меньшевика, обосновавшегося в Вологде. Алексей Михайлович Виноградов был присяжный поверенный.[17]
В это время началась первая мировая война. Война изменила положение отца в глазах и светского, и духовного начальства, точно так же, как изменила положение всех ссыльных «оборонцев» от Керенского до Плеханова и Мартова, от Кропоткина до Лопатина, от Савинкова до Николая Морозова.
Во время войны тиран сближается с народом – это свидетельство истории. Не было исключения и в войну 1914 года.
Ораторская энергия отца, которому было тогда всего 46 лет, нашла выход в бешеной прямо-таки военной пропаганде. Отец, конечно, немедленно попросился на фронт, в Действующую армию, на «театр военных действий», как это официально тогда называлось, – но, получив отказ из-за многосемейности, сейчас же послал старшего сына, моего брата Валерия, в офицерское училище, сорвав ему высшее образование, хотя брат никакого патриотизма не обнаруживал.
Неудачу армии Самсонова отец переживал как свой личный позор.
Вступление немцев в Бельгию, Реймс и бомбардировка Роттердама – все это соответствующим образом комментировалось отцом и публично – во время служб, панихид, и дома – за чайным столом. Отец каждый день читал газеты – «Русские ведомости» и «Вологодский листок» – о чем, о чем, а о немецких зверствах наша семья была осведомлена более чем достаточно…
Галоши – великая вещь в русской провинции с ее вековой липкой грязью, глинистой грязью, облизывающей сапоги, распутицей, разрушающей обувь.
В 1956 году в Озерках, после Колымы, после многих лет сухой горной устойчивой почвы, несмотря на всю ее гибельность, я видел, как родители носят детей в школу на руках круглое лето, чавкая резиновыми сапогами, и только в крайнюю жару трещины и провалы поселка превращаются в гигантские впадины, похожие на калифорнийские каньоны, и становятся доступны пешеходу.
Вологда любого, в том числе и семнадцатого года, была такой же опасной, грязной, засасывающей, как и среднерусские тверские Озерки. Жить в городе нельзя было без галош, которые в Вологде почему-то назывались «калоши» и в устной, и в письменной транскрипции, и только в Москве я с трудом отучил себя от вологодского произношения сего важного предмета.
Существовало даже выражение «поповские галоши» – глухие, с пряжками – того самого фасона, что в Москве пятидесятых годов был модой. Потом уже пошли галоши на «молнии».
Все городское священство носило как бы форменные, глубокие теплые галоши на застежке. Но отец не носил поповских галош, он подчеркнуто шлепал по грязи в светских, коротких, блестящих галошах.
В раннем детстве я гляделся в отцовские галоши, как в зеркало. Светлые, блестящие, новенькие отцовские галоши всегда стояли в передней. Разумеется, дети подрастали, им покупались галоши такие же, новые.
Свою же столь стеснительную обувь я ненавидел. Но правила вологодские требовали галош.
Поэтому одно из воспоминаний связано, сцеплено с сияющим ясным днем, солнцем, заливающим все тротуары и особенно ярко играющим на двух парах галош – отцовских и моих.
Февральская революция начинается для меня с блеска галош.
Февральская революция встречена была в городе восторженно. В ясное голубое утро началась в Вологде манифестация – так это тогда называлось.
Отец взял меня с собой, твердя: «Ты должен запомнить этот день навсегда», – и вывел меня на городскую улицу. Оба мы, сняв шапки, шли к городской Думе. Туда же со всех сторон города текли ряды людей с красными бантами, снявших шапки, взявшихся за руки. Все пели. Пели разные песни – каждая колонна свою, но главными были: «Смело, товарищи, в ногу», «Отречемся от старого мира», «Вы жертвою пали» и «Вставай, проклятьем заклейменный».
Было слышно и видно, что текст любой песни еще не заучен всеми на память. Песня рвалась и продолжалась снова. В семьях города и городских школах учили эти песни наизусть, переписывая друг у друга слова.
Но уже через несколько дней в Вологду был привезен из Петрограда выпущенный каким-то энергичным издателем целый песенник революционных песен. Песенник на газетной бумаге, в белой обложке, с краткой надписью «Гимн свободы». Там были тексты всех песен революции, вплоть до анархического гимна «Черное знамя», «Вставайте же, братья, под громы ударов…». Открывался сборник «Марсельезой» – «Отречемся от старого мира…».
Был там и «Интернационал», амфитеатровская «Дубинушка» и «Утес Стеньки Разина» Навроцкого заняли свое законное популярное место.
Но во время манифестации пели неуверенно, завидуя тем, кто по счастливой случайности или семейным обстоятельствам знал все слова.
Полиции не было – движением управляла новая молодая вологодская милиция с красными повязками на рукавах.
– Звездани его! – советовал товарищам какой-то милиционер, пользуясь вологодским глаголом.
Поющая толпа плыла к городской Думе, где на балконе стояли люди, которых я не знал, но городу они были известны.
Мы с отцом пошли к нашей гимназии. Около гимназии была толпа, а с фронтона гимназии старшеклассник в гимназической шинели сбивал огромного чугунного двуглавого орла. Чугунный орел был велик, с размахом крыльев метра полтора. Гимназист никак не мог ломом вывернуть птицу из ее гнезда.
Наконец это удалось, и орел рухнул на землю, плюхнулся и засел в сугробе снега. Мы двинулись дальше, а отец твердил что-то о великой минуте России.
Февральская революция была народной революцией, началом начал и концом концов.
Для России рубеж свержения самодержавия был, может быть, внешне более значительным, более ярким, что ли, чем дальнейшие события.
Именно здесь была провозглашена вера в улучшение общества. Здесь был – верилось – конец многолетних, многостолетних жертв. Именно здесь русское общество было расколото на две половины – черную и красную. И история времени так же – до и после.
Февральская революция была в Вологде праздником, событием чрезвычайным. В русском обществе водораздел сил шел именно по трещине, щели, линии свержения самодержавия. К длинному плечу этого рычага второго рода было приложено множество сил.
Февральская революция была народной революцией, стихийной революцией в самом широком, в самом глубоком смысле этого слова.
Десятки поколений безымянных революционеров умирали на виселицах, в тюрьмах, в ссылке и на каторге – их самоотверженность не могла не сказаться на судьбах страны.
Для того чтобы раскачать эту твердыню, было нужно больше, чем героическое самопожертвование.
Героизм должен быть безымянным. История не сохранила имен тех людей, кто взорвал дачу Столыпина, а ведь чтобы искать такие имена, открыть архивы, нужна революция.
Люди эти, столько раз менявшие фамилии, что нет никаких надежд напасть на их след, как, впрочем, они хотели и сами.
Разве мы подробно знаем о Тетерке? Об Ошаниной? О Климовой? О Клеточникове?.[18]
Ошанина и Климова в галерее русских женщин более значительны, чем прославленная Перовская или некрасовские героини.
Февральская революция была точкой приложения абсолютно всех общественных сил, от трибуны Государственной думы до террористического подполья и до анархических кружков.
И, конечно, в первых рядах жертв, борцов шла русская интеллигенция. В этой борьбе было всякому место: профессору и священнику, кузнецу и паровозному машинисту, крестьянину и аристократу, либеральному министру и колоднику-арестанту. Каждый старался вложить все свои силы. Это было моральным кодексом времени – встречать репрессии царского правительства с мужеством. Эти репрессии более всего касались партии эсеров, которая неожиданно стала партией миллионов.
Тут нет никакого чуда – эсеров в 1917 году было более миллиона. Февральская революция в значительной степени была сделана руками эсеров, и они получили большинство мандатов в Учредительное собрание.
Я не собираюсь здесь делать никаких подсчетов, хотя этот подсчет уже давно есть.
Для меня речь идет о детских впечатлениях, о юношеском восприятии событий, отраженных в нашей семье.
Отец мой был оборонец самого патриотического толка – как Кропоткин, Лопатин, Савинков, Горький, Сологуб, Бальмонт, Григорий Петров, Александр Введенский, Николай Морозов. Та борьба с царизмом, в которую вступил отец на своем месте, которая привела его в ряды освободительного движения еще при возвращении из Америки и свела с культурным священством – вроде Булгакова и Флоренского, при Временном правительстве показалась отцу недостаточно левой.
Силу освобождения России отец увидел в эсерах – в Питириме Сорокине[19], земляке и любимом герое отца – по теории «живых Будд».
Известна статья Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина»[20] и статья, написанная Сорокиным после беседы с Лениным в Бутырской тюрьме. Эта-то беседа и сохранила жизнь Сорокину, арестованному в Великом Устюге ЧК, и дала Ленину возможность написать «Ценные признания Питирима Сорокина».
Питирим Сорокин – будущий гарвардский профессор, президент Всемирного союза социологов, историк культуры, создавший многотомную теорию конвергентности. Истоки этой теории уходят в вологодскую глушь.
В Учредительное собрание отец голосовал по списку эсеров. В семнадцатом году после свержения самодержавия естествен поворот влево на несколько десятков градусов – от 90 до 180. Оценки, переоценки, заскоки и недоскоки.
Вот этот поворот и нуждается в жертвах, в живой крови.
Уже недостаточна была деятельность культуризма, воскресных школ, тут отец разошелся со своими всегдашними советчиками – Флоренским и Булгаковым.
Отец считал, что сам поворот этого огромного колеса, какими бы соединенными силами, разными силами ни вызывался, обязывает не тормозить его движения – в церкви, в воскресной школе, а, наоборот, ускорить ход, раз уж этот механизм пришел в движение.
Конечно, все это теперешние мои соображения.
Для «полевевшего» отца – слишком ясной была беспомощность в физическом смысле кадетской партии: отец стал искать себе новых кумиров.
Вне всякой связи с отцом, а, наоборот, как бы в пику его вкусам, как бы вызовом недостаточной левизне его взглядов, в наш дом, в мою душу хлынул поток новых книг. Их немало было издано в 1917—1918 годах, на оберточной бумаге с бледной типографской краской. Хлынули книги, которых раньше не бывало.
«Андрей Кожухов», «Штундист Павел Руденко» Кравчинского, «Взаимная помощь, как фактор эволюции», «Записки революционера» Кропоткина, «Овод» Войнич, сборники «Былое» и особенно книги автора, который оказал сильнейшее влияние на формирование и укрепление моего главного жизненного принципа, соответствия слова и дела, – определили мою судьбу на много лет вперед.
Этим автором был Борис Викторович Савинков, романист Ропшин, особенно его книги «Конь бледный» и «То, чего не было».
Тогда говорили очень много, каждый был оратором, митинговал, мобилизовывал: каждый, во всяком случае, испытывал себя на ораторской трибуне.
Даже поговорка существовала: «При Романовых мы триста лет молчали, работали. Теперь будем триста лет болтать и ничего не делать».
Но митинги, устная агитация, ораторские баталии – хотя и с немедленным вывозом на фронт против Колчака – «Бей буржуя!» – то была лишь наиболее парадная часть этого перелома, этого землетрясения.
К этому же времени все типографии России на все запасы бумаги, до последнего фунта типографской краски печатали огромное количество книг – еще невиданных, неслыханных российским читателем. Какая-то брешь была пробита в 1905 году, теперь в эту брешь направлялся поток – не только листовок, что было и в военное время средством борьбы регулярным и действенным, классическим средством, а поток книг, брошюр самых разнообразных политических направлений – анархисты Бакунин и Кропоткин, эсеры Савинков и Чернов, Степняк и Вера Фигнер, Войнич «Овод». Ропшинский роман вдруг приобрел популярность и ответственность катехизиса, учебника жизни, не говоря уже об «Оводе» Войнич.
«Спящий пробуждается» мирного Уэллса толковали как взрыв, как лозунг.
«Записки цирюльника» Джерманетто разрывались на части рядом с романом о Спартаке. Этих книг оказалось не так мало.
Я не знаю, включил ли Керенский себе в заслугу эти многочисленные издания, которые вышли к душе читателя.
Не «Антона Кречета», не Ната Пинкертона, не «Пещеру Лейхтвейса» требовал новый читатель, а то, что было вокруг него и где он сам мог найти сразу в день, в час свое самое активное место.
Соответствие слова и дела этих авторов определило мою судьбу на много лет вперед.
Герцен и Чернышевский, явившиеся в магазинном издании, много теряли в своей привлекательности, не были столь жизненно важными – кислорода в них было маловато, то есть попросту таланта.
Книгу Ропшина «То, чего не было» всю почти помню на память. Знаю все почему-то важные для меня абзацы, целые куски помню. Не знаю почему, я учил эту книгу наизусть, как стихи. Эта книга не принадлежит к числу литературных шедевров. Это – рабочая, пропагандистская книга, но по вопросу жизни и смерти не уступала никаким другим. Дело тут в приобщении к сегодняшнему дню, непосредственной современности. Это – книга о поражении революции 1905 года. Но никогда еще книга о поражении не действовала столь завлекающе, вызывая страстное желание стать в эти же ряды, пройти тот же путь, на котором погиб герой.
Этот фокус документальной литературы рано мной обнаружен и учтен. Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и его товарищи были героями, и мне хотелось только дождаться дня, чтобы я сам мог испытать давление государства и выдержать его, это давление. Тут вопрос не о программе эсеров, а об общем моральном климате, нравственном уровне, которые создают такие книги.
Запойное мое чтение продолжалось, но любимый автор уже был определен.
Первая за триста лет свободная манифестация продолжалась.
Как всегда, кто-то кого-то толкнул, вырвал из рук кумачовый лозунг, разорвал ряды людей, пытавшихся спеться на ходу, хотя бы на «Вы жертвою пали…».
– Звездани его! – кричал вологодским глаголом молодой милиционер с красным бантом своему товарищу про нарушителя, прорвавшего ряды.
У праздника был свой план, диспозиция.
Отец неодобрительно покачал головой и вывел меня в сторону от перебранки.
– Толпа – это толпа, – прошептал отец.
Эти слова я вспомнил позже, когда читал дневник комиссара Временного правительства Панкратова[21], народовольца и бывшего шлиссельбуржца. Панкратов караулил царя в Тобольске, был комиссаром Временного правительства при царе, когда Временное правительство уже не существовало. Панкратов запретил царю и его семье молиться в соборе, хотя собор был через площадь в несколько десятков метров.
Когда царь попросил объяснений и заявил протест, Панкратов, сам шлиссельбуржец, сам испытавший немало расправ русского православного народа с врагами царя, заметил царю так:
– Да, это я запретил. Мой приказ. Поймите, гражданин Романов, толпа – есть толпа.
И Николай Романов понял и больше не просил разрешения ходить в собор, а молился в домашней церкви.
Было тут что-то общее не в ситуации, а в самом существе дела.
Если бы я пробегал на улице этот день один, а не прошагал, держась за руку отца, я больше бы почувствовал, больше бы понял, настолько был тонок мой нервный механизм, всегда напряженный. Но отец и не думал о таком варианте. Он считал, что, если он сам, своей рукой будет водить меня по праздничной России, я крепче запомню все, что увижу, запомню, во всяком случае, и его собственное участие в моем приобщении к «великим вопросам России».
Во всяком случае, кроме глухого недоброжелательства к отцу и недовольства этим путешествием, – память моя ничего не сохранила.
Мне все время было всюду тесно. Тесно было на сундуке, где я спал в детстве много лет, тесно было в школе, в родном городе. Тесно было в Москве, тесно в университете. Тесно было в одиночке Бутырской тюрьмы.
Мне все время казалось, что я чего-то не сделал – не успел, что должен был сделать. Не сделал ничего для бессмертия, как двадцатилетний король Карлос у Шиллера.
Я опаздывал к жизни, не к раздаче пирога, а к участию в замесе этого теста, этой пьяной опары.
Даже в первой моей семье дело кончилось крахом – двадцатью двумя годами тюрьмы заплатил я при столкновении интересов семьи и государства. Государство топтало любые семьи, дробило их на мелкие. Можно было сказать что-то, что-то склеить, если бы моя семья опиралась на семью, не прибегая к помощи государства.
Увы, в нашей семье при всех обстоятельствах делался выбор всегда в пользу государства, хотя это никого и никогда не спасало.
Но сейчас не время, да и не место вспоминать что-либо, кроме Вологды, – все мое прошлое было еще впереди.
Незадолго до революции в Вологодскую губернию была выслана знаменитая анархистка – миллионерша, баронесса Дес-Фонтейнес.
Наследница огромного состояния, баронесса не дала его в фонд какой-нибудь революционной партии России – как это часто делалось, традиция даже была, а нашла возможность использовать свои колоссальные деньги в высшей степени эффективным и оригинальным способом.
Ее люди скупили все бумажные фабрики Севера, все леса Вологодского, Архангельского, Великоустюгского, Тотьменского, Сольвычегодского края и приступили к постройке бумажных фабрик в этих краях.
Старый фабрикант Печаткин, имевший бумажную фабрику на тряпье на Сухоне, продал ее баронессе. Баронесса расширила Печаткино, а рядом с ним выстроила фабрику «Сокол» – под таким названием эта фабрика на Сухоне работает и сейчас. Это название было дано баронессой.
Такому фабриканту бумаги, как Сумкин, пришлось уступить свои торговые связи баронессе.
В тридцати верстах от Вологды баронесса возвела эту фабрику «Сокол» по самой модной модели. Иностранные инженеры – англичане, бельгийцы, получавшие бешеные деньги, составляли технический штаб баронессы.
Там был восьмичасовой рабочий день. Поселок для семей рабочих был выстроен по самому прогрессивному плану. Заработки и на фабрике, и на лесозаготовках, принадлежавших также баронессе, были гораздо выше, чем в соседних селах, районах, городах, вплоть до Вологды, где и жила сама баронесса.
Я учился с ее сыном – сын мой сверстник, только он учился в реальном училище, а я – в гимназии.
Вокруг этих фабрик в деревнях Вологодской губернии росли школы – преподавание там велось по лучшим заграничным образцам.
Все ее дела развернулись наглядно в огромное культурное начинание.
Для рабочих была выстроена и церковь – новая церковь, деревянная, как резная игрушка, поставленная на снег среди высоченных елей, и сама деревянная, еловая, резная.
Вот в эту-то церковь и приглашен был фабричным священником мой отец в 1917 году, после Февральской революции ушедший со службы в соборе.
В 1917 году после резкого конфликта с духовным начальством отец ушел из собора вовсе. На этот раз он не был лишен сана, ему не было запрещено священнослужение, только городской собор ему пришлось оставить. Отец принял предложение ссыльной миллионерши, анархистки, баронессы Дес-Фонтейнес и перешел фабричным священником на ее бумажную фабрику.
Отец перевез туда книжный шкаф красного дерева, письменный стол белого дуба и переехал сам.
Дети, сестра Наташа и я, жили у него там поочередно.
Лагауэр, учившийся в Брюсселе пожарник, развлекал гостей за табльдотом, который держала его жена.
Я был очередной жертвой неистощимого дружелюбия брюссельского брандмейстера. Со мной брандмейстер немедленно заключил пари, что встанет с кровати, где спит в белье, и наденет свою амуницию в одну минуту по секундомеру. Я – человек еще далекий от прикладной физкультуры, заинтересовался опытом. Действительно, надев брюки и всунув ноги в стоящие наготове сапоги, брандмейстер уже надел плащ и каску, когда еще не исполнилось и минуты.
Что там Россия! Там пожары!
По окончании моего кратковременного визита отец объявил, что перед моим отъездом мне, десятилетнему мальчугану, покажут всю фабрику, ни много ни мало.
Хотя меня и не очень интересовало, я согласился, чтобы не огорчать отца.
Бумажная фабрика, бумажная машина – это зрелище очень эффектное: ведь на одном конце заталкивают в дробилку бревно, а на другом – машина сама вяжет готовую бумагу в тетради.
Мне подарили кучу тетрадей в желтой обложке. Я осмотрел все производство. Инженер, или кто-то из начальства, сопровождал меня – именно меня, а не отца – в этом был весь фокус: сам отец эту фабрику уже, конечно, знал.
На этой-то фабрике для отца и строили новую церковь. Он участвовал в ее освящении и был первым священником там. Отец выбирал иконы для иконостаса и алтаря, советовал в росписях храма. Я был у него на одной из таких служб зимой 1917—1918 года.
Крошечная церковь стояла в густом еловом лесу. Снег был густой, и это еще увеличивало игрушечность новенькой церкви.
Люди сходились туда тропками с высокими бортами, почти коридорами снежными. На отцовских службах присутствовали все иностранные инженеры – американцы, англичане, служащие баронессы. Им тоже весьма импонировало и то, что отец владеет английским языком, и вся его биография, и то, что он служит на русском языке, а не на славянском.
К сожалению, эта кратковременная удача быстро была прервана рукой судьбы. Баронесса уехала за границу, церковь закрыли. Фабрику конфисковали.
Зимой восемнадцатого года, возвращаясь с «Сокола» в Вологду, отец заболел крупозным воспалением легких.
Поезда тогда ходили плохо. Из-за поднявшейся метели отец ожидал поезда на каком-то полустанке. Следующий шел утром. Ждать отец не стал и пошел пешком по шпалам в город с чемоданом сквозь жестокую метель. Дойти-то он дошел, но продуло его насквозь, и он заболел крупозным воспалением легких с последующим плевритом – это были дофлемминговские времена. Ничего, кроме тепла и собственного сердца, человек не мог противопоставить болезни. Началось воспаление легких, плеврит, но он все же поднялся, хотя в это время по городу уже шли постоянные обыски и больного каждую ночь поднимали с кровати, вытаскивали и ощупывали самым жестоким образом.
Церковные дела моего отца были в высшей степени связаны с борьбой обновленческого движения против патриарха Тихона. Службы в церкви отцу не нашлось.
Выздоровев после воспаления легких, отец поступил заведующим книжным магазином «Жизнь и Знание», принадлежавшим той самой кооперации, чьим организатором и членом правления был отец с незапамятных времен, и несколько недель работал там – это не только давало карточки на хлеб, но было гораздо большим в жизни отца.
Но после газетной заметки в «Известиях Вологодского исполкома», заменивших «Вологодский листок», «Поп в книжном магазине»[22] – отец был отстранен от работы…
Отец не понял чего-то очень важного, что случилось со страной, чего не могли предсказать никакие футурологи из русской интеллигенции и что, с другой стороны, было давно предсказано, угадано, но от этих предсказаний и пророчеств отец отвернулся, ибо он не был поклонником ни Достоевского, ни Леонтьева. Этим пророчествам отец боялся поверить – все его прошлое бунтовало в его крови.
Девятнадцатый век боялся заглядывать в те провалы, бездны, пустоты, которые все открылись двадцатому столетию.
Слепому добраться до любой новой истины нелегко. На церковную службу отец вернулся уже слепым – в момент взрыва, подъема так называемого обновленческого движения. Вот тут-то отец и познакомился с Александром Введенским, знаменитым вождем радикального крыла обновленческого движения, встречаясь с ним неоднократно лично.
Об этом обновленческом движении бытует мнение, что вот были борцы с патриархом Тихоном, затем патриарха Тихона сменил патриарх Сергий, и Сергий ликвидировал обновленческий раскол, приняв покаяние всех обновленческих епископов, кроме Введенского.
На самом деле все было гораздо сложнее и гораздо проще.
В обновленческом движении – новом церковном движении в России, в котором имелись другие истоки, судьбы и пути, чем пути реализации философских исканий русского священства, – отец принял самое горячее участие. Именно это движение несло дорогую сердцу отца реформу – служба на русском языке, второбрачие духовенства, борьба белого духовенства с черным монашеством. Но самый главный свой вклад отец внес в тогдашнюю борьбу за веру – в антирелигиозные диспуты, которые с благословения или разрешения новой власти проходили во всех городах в открытом ораторском состязании. Вот тут-то отец и принимал самое горячее участие.
Опытный полемист, хороший оратор – все были ораторами в наш ораторский век, – отец не пропустил ни одного такого диспута. Их было очень много и в школах, и в мастерских, и в рабочих клубах, и в городском театре.
Слепого, я водил его на все эти диспуты и по сигналу председателя подводил к кафедре или столу, а после выступления отводил на место. Случалось, отец ошибался в направлении – в волнении, в жестикуляции, поворачивался лицом не к залу, и тогда я подходил, поправлял его позицию. Успех его речей был в Вологде велик, да в самом деле он был хороший оратор, опытный полемист. Речь его была абсолютно светская, со множеством светских примеров, что, конечно, производило хорошее впечатление.
Я помню его замечание на речь анархиста Герца, отбывавшего ссылку в Вологде, царскую еще…
Герц повторил вольтеровский каламбур о том, что верующий лавочник обманет меньше, чем неверующий лавочник.
«Если это так, – говорил отец, – одного этого достаточно, чтобы оправдать существование религии, если вас не будут обманывать в лавках».
Второе хорошее замечание запомнилось по поводу моднейшего тогда лозунга «Религия – опиум для народа», вывешенного на всех фронтонах театров, на всех площадях страны.
– Мы можем принять этот лозунг Маркса. Да, религия – опиум. Лекарство. Но кто из вас, – следует обводящий зал жест, – может сказать, что нравственно здоров?
Знаменитого столичного оратора двадцатых годов митрополита Александра Введенского я слышал много раз в антирелигиозных диспутах, которых тогда было очень много. Введенский разъезжал с лекциями по России, вербуя сторонников в обновленческую церковь, да и в Москве его проповеди в храме Христа Спасителя или диспут с Луначарским в театре – собирали неисчислимые толпы.
И было что послушать.
Александр Введенский из всех ораторов был самым выдающимся, самым ярким, значительно превосходя Троцкого, Бухарина, Луначарского, Зиновьева, Керенского – все они были тогда ораторами.
Человек колоссальной эрудиции, исключительной памяти, цитировавший во время речи на десятке языков философию, социологию всех лагерей и наук – для того, чтобы, процитировав, разбить и сразить острейшим орудием своей сверкающей мысли.
Его службы в храме Христа <Спасителя> собирали тысячи людей.
Дважды на него совершалось покушение, дважды ему разбивали лоб камнями, как антихристу, какие-то черносотенные старушки. Дважды Введенский лежал в больнице после этих покушений, и в то время, когда я его слушал на диспуте, – носил черную повязку на лбу.
Смугловатый, худощавый, высокий, в черной рясе, с крестом и панагией – знаками епископского достоинства, черноволосый, коротко подстриженный, Введенский производил сильнейшее впечатление еще до того, как ему удавалось, прервав овации, начать речь, разинуть рот. Оратор абсолютно светский, длиннейшие речи Введенский произносил без бумажки, без тени конспекта, записи какой-то, и это тоже производило впечатление.
Радикальное крыло православной церкви, которое возглавлял Введенский, называлось «Союзом древле-апостольской церкви». Несмотря на некоторую грузность термина, уступавшего более краткому «Живая церковь», что из-за своего удобства в запоминании вошло в историю, хотя «Союз древле-апостольской церкви», возглавляемый Введенским, был гораздо многочисленнее, чем «Живая церковь», возглавляемая Красицким и его группой.
Литературность, звучность формулы в истории много значат. Но в «Союзе древле-апостольской церкви», сокращенно СОДАЦ, что тоже было данью моде, данью влечения к всевозможным растущим как грибы «аббревиатурам» тех лет, была главная мысль Введенского – жить по заветам древних христиан, самих апостолов.
Героическая пробоина во лбу митрополита, прикрытая черной повязкой, свидетельствовала, что это не пустые слова. Какая-то старуха, агент тихоновской церкви, пробила Введенскому голову, когда тот выходил из храма Христа <Спасителя> в Москве.
Таких покушений, после которых митрополит лежал в больнице, было два – в 1922 и 1924 году.
В практической жизни, в каноническом плане Введенский действовал весьма решительно, ставя все точки над «i».
Подобно тому, как мой отец освятил рубенсовскую репродукцию головы Христа и перед ней молился дома, митрополит Введенский, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.
Любой епископ может выдвигать в святые любого человека, нужно только пропеть определенное количество или число молитв определенного чина в определенном порядке.
Ничего неканонического в поступке Введенского не было. Его святительская уверенность производила сильное впечатление.
Проповедь Введенского о Блоке, сказанная в храме Христа <Спасителя>, распространялась с энтузиазмом самиздата в наши дни.
Митрополит Введенский был не из церковных кругов. Сын директора гимназии в Витебске и сам учитель гимназии, он принял сан в 1912 году. Уже во время войны он выдвинулся своим ораторским талантом и деятельностью, весьма заметной. В 1917 году Введенский участвовал как делегат в Демократическом совещании в Москве, произнес там речь в поддержку Временного правительства, а перед наступлением 18-го июня поехал на фронт, где, по примеру Керенского, пытался вдохнуть боевой дух в русские войска.
После Поместного собора 1917—1918 года, избравшего патриарха Тихона руководителем русской церкви, Введенский возглавлял борьбу церковной оппозиции, резко выступая против призыва патриарха Тихона не сдавать церковные ценности для помощи голодающим. Введенский был в числе тех пяти священников, добившихся у патриарха Тихона отказа от патриаршей власти, отказа от руководства русской церковью.
Именно в руки Введенского патриарх Тихон передал письменное заявление о том, что Тихон отказывается управлять русской церковью и поручает управление ярославскому митрополиту Агафангелу. В это время патриарх Тихон был арестован и начался его процесс. Арестован был и митрополит Агафангел, принявший церковную власть. Русская церковь осталась без управления. Вот тут-то Введенский вместе с другими и организовал свое обновленческое Высшее Церковное управление.
Начался обновленческий раскол, продолжавшийся более двадцати лет и оконченный в 1946 году со смертью митрополита Александра Введенского.
Обновленческое движение – яркая страница истории русской, ибо патриарх Сергий, решительно боровшийся с обновленчеством, взял на вооружение именно идеи Введенского.
На церковной сцене был разыгран не очень новый сюжет.
Победив Введенского, патриарх Сергий взял на вооружение именно его идеи – за исключением вопросов о монашестве, бесплатных требах – и победил.
Суть победы Сергия была в том, что он (а все заявления Сергия в правительство написаны в тюрьме) казался Сталину более надежным представителем русской церкви, более типичным, более авторитетным, чем модернист Введенский, соратник Керенского, постигающий тайны Блока. Само образование Введенского было помехой на его пути к переговорам с властью, хотя именно Введенский провозглашал, что коммунизм – это Евангелие, напечатанное атеистическим шрифтом. Луначарскому это суждение казалось тонким, Ленину смешным, Сталину опасным. Поэтому правительство поддержало более ему знакомые формулы патриарха Сергия.
Проповедь Сергия – за советскую власть – по радио, решавшая пути церкви и русских православных мирян, решила судьбу и Сергия, и Введенского.
Тут-то и было покончено с обновленчеством.
Этой известной проповедью и начал свой победоносный путь Сергий – митрополит, но еще не патриарх (патриархом Сергий стал в 1943 году, что имеет свои подробности). Когда Сталин выразил согласие на предложение Сергия о поддержке правительства по радио, именно Сергию доверялась эта речь. Поспелов[23] вел эти переговоры: Сергий – Сталин. Сталин сказал: «Надо получить текст речи и можно разрешить». С этим явился Поспелов к Сергию. Сергий наотрез отказался.
– Я произношу проповеди, говорю без подготовки всю жизнь. Я никогда не выступал и не буду выступать по бумажке. Если товарищ Сталин хочет, чтобы я выступил, пусть разрешает без подписанного текста.
С этим ответом Поспелов приехал к Сталину, и было решено рискнуть.
Митрополит Сергий говорил два часа.
Доверие власти здесь было ему оказано, им – оправдано.
В 1943 году Сергий стал патриархом, разгромил обновленцев, взяв их программу, а в 1944 году умер, передав бразды правления Алексию.
Но в 1923 году все было еще впереди.
Введенский был создателем собственной оригинальной концепции в христологии, отличающейся, скажем, от Ренана или Штрауса.
Христос в понимании Введенского – земной революционер невиданного масштаба.
Толстовскую концепцию о непротивлении злу Введенский высмеивал многократно и жестоко. Напоминал о том, что евангельскому Христу более подходит формула «не мир, но меч», а не «не противься злому насилием». Именно насилие применял Христос, изгоняя торгующих из храма.
В работах всех христологов концепция Введенского обязательно излагается.
Обновленческое движение погибло из-за своего донкихотства: у обновленцев было запрещено брать плату за требы – это было одним из основных принципов. Обновленческие священники были обречены на нищету с самого начала; и тихоновцы, и сергиевцы как раз брали плату – на том стояли и быстро разбогатели.
Идея союза с передовой наукой, борьба со всякой магией, колдовством, понимание обрядности в свете критического разума – тоже было идеей Введенского.
В обновленческом расколе было много личного, много мелкой политики, много от пресловутой «конкретной ситуации».
В идейном же смысле церковная смута закончилась полной победой Александра Введенского.
Но тогда, сорок лет назад, Введенский казался разрушителем, лже-Христом, то есть Антихристом. Так его черносотенцы и называли.
Удивительным образом договоренность правительства с вождями церкви велась как бы в тюрьме. Именно из тюрьмы писал свои послания Тихон Белавин, его местоблюститель Агафангел. Не изменил этой русской традиции и митрополит Сергий – его проект об организации русской церкви прислан из Бутырской тюрьмы в 1927 году.
Введенский же в тюрьме не сидел. Он проводил в 1925 году Третий Поместный Собор[24] в Москве и сам был докладчиком по всем важнейшим вопросам церкви.
По просьбе отца я ходил на открытие Собора в 1925 году – чтобы не упустить, пользуясь словарем отца, великий день России.
Введенский был очень эффектен на фоне монашеских либеральных клобуков в самом темном подвале Троицкого подворья на Самотеке – месте баталии за высшую церковную власть.
На самом Соборе обновленческое движение не захватило, к моему удивлению, никаких новых рубежей.
Среди всевозможнейших диспутов, лекций, ораторских сражений, конгрессов, совещаний, когда дня не хватало студенту, чтобы пробежать по всем этим чудесам, когда каждый день мы стояли перед выбором – куда же пойти? Кого же послушать – анархиста Иуду Гроссмана, Розанова или обер-прокурора Синода Львова? или Бухарина или Кони? Чью проповедь выслушать? Куда пойти – в подпольный анархический кружок или к Мейерхольду в буденовке, размахивающему пистолетом? В Кривоколенный к Воронскому или в Колонный зал к Троцкому? Послушать лекцию в РАНИОНе[25] о Фурье или выслушать Густава Инара, участника Парижской коммуны?
Горький был прогнан за границу, и не было известно, вернется ли он в Россию.
Но из самых высоких ораторских зрелищ того ораторского века были, безусловно, диспуты Луначарский – Введенский. Их было много: «Бог ли Христос?», «Христианство и коммунизм».
Попасть на эти диспуты было очень трудно, не потому, что они были платные, – но ограждение пройти было совершенно невозможно даже таким специалистам, как я и мой ближайший друг, студент того же курса и факультета МГУ, что и я.
У нас сорвались все попытки хоть какой-нибудь бумажкой заручиться. Оставался день до диспута, и я решился на крайнюю меру. Шапиро пришла мысль пойти и попросить контрамарки, но не у Луначарского и его многочисленного окружения – а у Введенского. «В этом есть что-то – комсомолец МГУ у архиепископа – обязательно даст», – рассуждал Шапиро. Но кто пойдет? Кто будет говорить? И что?
Но у меня сразу же сверкнул в голове план, и мы помчались в Троицкое подворье отыскивать Священный Синод, а там получить домашний адрес епископа.
По узким, заставленным шкафами коридорам, мы добрались до канцелярии Священного Синода. Одна-единственная комната с единственным столом. Сидевший за столом человек встал и сказал, что архиепископа сейчас нет.
– А где он живет?
– Да тут и живет, – сказал канцелярист, – вот тут за дверью. Что ему сказать, если он дома? Кто его спрашивает?
– Скажите, что его спрашивает сын священника Шаламова из Вологды.
Закрытая дверь сейчас же распахнулась, и Введенский вошел в комнату, очевидно, стоял за дверью и слышал наш разговор. Дома он был в вельветовом пиджаке и полосатых каких-то брюках.
Я изложил нашу просьбу.
– Охотно, – сказал Введенский, сел к столу и, выдвинув ящик стола, взял тонкий листок с типографским адресом и написал: «На два лица. А. В.».
– С удовольствием выполняю просьбу, – сказал Введенский. – Прекрасно помню вашего отца. Это слепой священник, чье духовное зрение видит гораздо дальше и глубже, чем зрение обыкновенных людей.
Я, разумеется, написал об этом отцу и доставил ему большое удовольствие.
Обрадованные, с заветной контрамаркой, не зная, где только ее сохранить ночь, мы помчались на ближайший митинг во втором Госцирке – на Садовой-Триумфальной, – от Самотеки, с Троицкого подворья было рукой подать. Вернее, «ногой», ибо трамвай и по Садовой ходил, кольцевой «Б», увешанный людьми, да еще ползущий мимо базара всех времен и народов, Сухаревки, которая в те времена действовала еще по всем правилам и во всей силе.
Мы добрались до Госцирка, где был митинг – протест по поводу поражения английской забастовки, – даже Триумфальная площадь была заполнена народом, и оттуда доносился резкий высокий тенор председателя Коминтерна Зиновьева: «Продали! Предали!» – осуждая английских профвождей, предавших английскую стачку.
Митинг закончился только с темнотой, и мы пешком добрались: Шапиро к родным на Арбат, а я в Черкасский – в общежитие.
Мы спали спокойно, обладая чудодейственными контрамарками с инициалами А. В. Это было силой, которая дала бы нам возможность не только пройти все контроли, но и разгромить театр, если понадобится.
Но все же, оценивая ситуацию, мы собрались на диспут на два часа раньше. Все улицы, все подходы вокруг театра Зимина – к Дмитровке (теперь Театр оперетты) были заполнены народом.
Диспут «Бог ли Христос?» – Луначарский – Введенский. Быстро работая локтями, мы добрались до первого контроля и попали во внутреннюю цепь – добровольцев, которые сами, каждый вызвался на эту работу, чтобы послушать двух знаменитых ораторов.
Мы постарались проникнуть в партер, и нам это удалось. Хотя, конечно, все время пришлось стоять. Но это не имело никакого значения.
Все понимали отчетливо, и сам Введенский в первую очередь, что он выступает впервые за время существования советской власти открыто в защиту веры, поднимает перчатку, брошенную властью атеизма, безверия – как государственной религии тогдашней России. Если раньше сражение с попами велось в ЧК или в приемных народных комиссаров, то из церквей христианская религия впервые выходит сегодня на открытое сражение с властью в одном из главнейших вопросов идеологии.
Атеистические власти обязательно должны были бросить перчатку вызова на такой диспут – герольды ЧК должны были обязательно проскакать по всем площадям России, вызывая Бога на турнир словесный – другие турниры были выиграны властью давно. Крайне было важно для церковников, для верующих мирян, чтобы представителем религии – религии, не церкви – был достаточно талантливый, достаточно яркий и достойный человек.
Таким человеком и был Александр Введенский, священник в войну, протоиерей в революцию, епископ после церковного переворота, архиепископ во время диспута, митрополит в будущем, – а в самые последние годы имевший чин «митрополита-благовестника», то есть митрополита-пророка, предвещателя побед.
Александр Введенский вышел в черной рясе, перекрещенной цепями креста и панагии, черноволосый, смуглый, горбоносый. Вышел и сел за длинный красный стол без всякой застилки, где в президиуме уже сидели лица разного революционного калибра – от народовольца вроде Николая Морозова до социал-демократов вроде Льва Дейча.
Сел Луначарский в весьма пристойном пиджаке, перебирая пачку конспектов пальцами – собирал и раскладывал стопку листов. Ему надо было начинать доклад, а время уже истекало. Взрывы аплодисментов, требующих начала – существует такой вид аплодисментов, – становились все чаще.
Наконец Луначарский встал и пошел к трибуне, разложил на ней листки и начал свой доклад – одно из тех пятидесяти выступлений Луначарского, которые довелось слушать мне, тогдашнему студенту.
Луначарский был нашим любимцем. Это был культурный, образованный человек, чуть-чуть злоупотреблявший этой культурой, почему недруги из нашей же среды звали его «краснобай». Эта интеллигентность, мягкость Луначарского в то время не нравилась не только скептикам из студенческой среды.
Я сам слышал своими ушами доклад Ярославского в Театре Революции к десятилетию Октября, где позиция Луначарского во время штурма Кремля вызывала всякие поношения твердокаменного Емельяна в наглухо застегнутой кожаной куртке, произносившего с авансцены Театра Революции свои осуждающие слова по адресу Луначарского. Ярославский в Октябре в Москве был комиссаром ЦК при Москве.
Но мы не разделяли столь сурового ригоризма. Нам Луначарский казался барином, присоединившимся к революции барином, который, если его держать в узде и надеть ошейник, может принести большую пользу тому же Ярославскому.
В годы революции и гражданской войны Луначарский не играл в Москве большой роли и тем более не поправлял, не учил Ленина, как замечено и некоторыми документальными картинами последнего времени («Шестое июля»).
При Луначарском в Наркомпросе всегда был комиссар – сначала Крупская, потом Яковлева, потом Вышинский. Любой вольт и загиб наркома можно было вовремя удержать.
Хозяевами Москвы тогда были Сапронов, Бухарин, Преображенский – все РАНИОНовцы, строившие новую жизнь. Практика Луначарского насчет Маяковского и Большого театра неоднократно осуждалась Лениным.
Все это нам было известно. Известно было и то, что Луначарский вступил в партию лишь около 1917 года – в числе межрайонцев – на Шестом съезде партии.
Его сражения с Лениным после 1908 года – каприйская школа и школа Болоньи, где командовали Богданов, Луначарский и Горький и откуда был вышиблен Ленин, – так и вторично в Париже, школа Лонжюмо – без Луначарского, вопреки Луначарскому.
Все это было нам хорошо известно.
Не питая никакого политического доверия к Луначарскому, тогдашняя молодежь просто любила его послушать.
С авторитетом Троцкого речь Луначарского ни в какое сравнение не могла идти ни в политическом, ни тем более – в литературном плане. Троцкий – оратор более талантливый, чем краснобай Луначарский. Троцкий – оратор стиля особого, где сначала делался вывод, а потом он доказывался.
Луначарский же принадлежал к классической школе – накопление аргументов и – логический вывод.
В этом накоплении аргументов Луначарский пользовался весьма широким привлечением фактов, имен и идей, – подчас даже возникало недоумение – как увязывает Луначарский свой только что рассказанный факт, случай с темой его речи, доклада, от которых он отступил довольно далеко.
Было особенным удовольствием следить за путаными извивами мысли наркома, предвидеть их, угадывать или не угадывать – и с восторгом или осуждением принимать какой-то логический сюрприз, логический парадокс.
Но Луначарский обычно благополучно выбирался из всех сетей, из всех неводов, которые сам себе расставлял, и срывал гром аплодисментов.
Иначе говорил Троцкий. У Троцкого не было лишней фразы, не служащей главной мысли, которая уже высказана. Тебе предстояло лишь подсчитывать бесконечные аргументы – одетые, конечно, всегда в оригинальную, блестящую даже одежду.
Студенческие скептики даже говорили, что из-за этого постоянного блеска слушатель, зритель отвлекался от глубины суждений Троцкого, которые были бы яснее при более простом, более шаблонном изложении дела.
Диспуты Луначарский – Введенский были построены тогда по весьма примитивной схеме. Докладчик – Луначарский, один час. Содокладчик – Введенский, сорок пять минут. Прения – по десять минут всем записавшимся. В случаях интереса выступлений время добавлялось при немедленном голосовании в зале.
После прений – заключительное слово содокладчика – двадцать минут, а заключительное слово докладчика – тридцать минут.
Регламент таких диспутов был построен самым, конечно, выгоднейшим образом для первого докладчика. Но это никого не обижало. На Введенского надеялись, и он всякий раз оправдывал все надежды.
Луначарский начал свой доклад – полемика эта издана, – привлекая большое количество самых современных мнений, а также и самых древних, от Эпикура до Вольтера. Доклад звучал в высшей степени убедительно.
Оставалось только послушать – какие стрелы, какие камни бросит из своей пращи Давид – Введенский в правительственного Голиафа – Луначарского.
Введенский встал, поправил на груди крест и резкими шагами вышел прямо к трибуне, где еще собирал свои листки Луначарский. В руках Введенского не было ни одной бумажки.
Введенский встал. В возникшей тишине отчетливо и громко выговорил: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Перекрестился и сделал шаг вперед, начал говорить, быстро овладевая вниманием зала.
Утверждение Луначарского было самым смелым образом подвергнуто открытой иронической критике. Камня на камне не осталось от положений Луначарского. В том диспуте «Бог ли Христос?» Луначарский слишком много напирал на противоречия в Евангелии, опровергая историчность Христа.
Именно в этом видел Введенский подтверждение историчности Апостолов – не стенографичность. Это свидетели. Возьмем любой протокол суда – шесть свидетелей казни описывают объект и только по-иному.
В историчности Христа Введенский не хотел сомневаться, не только потому, что в этом не сомневается Ренан.
Словом, каждое положение, которое мы с такой надеждой принимали, было высмеяно открыто в самой блестящей форме.
Введенский цитировал на память целые страницы из трудов философов, отцов церкви, современных политических деятелей на десяти языках, современных и древних, что, разумеется, производило сильное впечатление. Тут же делался перевод (все без всяких бумажек) и следовала критика уже на русском языке.
Луначарский был явно побежден.
Прения были довольно серыми. Выступали какие-то митрополиты и просто любители, чьи речи я не запомнил.
Я ждал второго выступления Введенского.
Второе выступление Введенского было посвящено разбору аргументации оппонентов в прениях, всякий раз с тем же уничижительным блеском.
«Избави нас Бог от таких друзей, – сказал по поводу какого-то сомнительного комплимента Введенский, – а с врагами мы и сами справимся».
Понимая, что после заключительного слова будет выступать Луначарский, Введенский не преминул пустить наиболее эффектную стрелу в качестве предварительного удара, заранее предвидя, что последует и возражение. Эта стрела была вот какая.
– Иногда думают – да и вы сами тоже, наверное, что мы с Анатолием Васильевичем враги, ибо мы так яростно сражаемся здесь. На самом деле мы хорошо относимся друг к другу. Я уважаю Анатолия Васильевича, он – меня. Мы просто расходимся с ним по ряду вопросов. Так вот, Анатолий Васильевич считает, что человек произошел от обезьяны. Я же держусь другого мнения. Ну что ж, каждому его родственники лучше известны.
Буря аплодисментов приветствовала эти слова. Зал встал и аплодировал целых пятнадцать минут. И мы ждали, как же ответит Луначарский на такой удачный удар противника. Обойти этот вопрос было нельзя – по законам диалектических турниров того времени. Промолчать – значит признать поражение.
Но Луначарский не промолчал. Все заключительное слово он посвятил разбору аргументов содокладчика, и казалось, что он уже от ответа уходит. Но Луначарский не ушел, и мы удовлетворенно вздохнули.
– Вот архиепископ Введенский упрекнул меня за такое родство с обезьяной. Да, я считаю, что человек произошел от обезьяны. Но в том-то его гордость, что на протяжении сотен тысяч поколений он поднялся от пещеры неандертальца, от дубинки питекантропа до тонкой шпаги диалектики участника нашего сегодняшнего турнира, что все это человек сделал без всякой помощи Бога, а сам.
Таким образом, удар шпаги Введенского был отбит, и мы успокоились. Побежали – я в общежитие, а Лазарь – к родным на Арбат.
Если в Москве в сражениях с Введенским Луначарскому приходилось трудновато – а это было весьма заметно, то уж в Вологде выступления Введенского напоминали избиение младенцев.
Тогда власти разрешали устраивать такие диспуты в целях общего просвещения. Отец мой активно участвовал в этих диспутах со стороны религии, хотя был уже вовсе слепым.
Введенский пользовался широчайшей популярностью, приезжал на эти диспуты в Вологду, вербуя себе сторонников в свое радикальное крыло русской церковной смуты.
Диспуты в Вологде велись по московским правилам. Докладчиком с заключительным словом был кто-то из местных – лектор совпартшколы Кондратьев или любитель-диспутант, скептик, вроде ссыльного анархиста Герца.
Обновленческое движение завоевало себе прочные позиции в Вологде – власти отдали им собор, из которого в революцию был выброшен отец. Служить как священник отец уже не мог из-за слепоты – провел только какую-то службу, где наградили его митрой. Но как консультант, как автор воспоминаний – в Вологде был и журнал «Церковная заря», номера три или четыре вышли, где были напечатаны воспоминания отца о кое-каких вологодских иерархах.
Но дело, конечно, не в этом. То, что отец оказался нужен, чрезвычайно его оживило. Я водил его на все диспуты как поводырь.
К сожалению, глаукома не хотела ждать, боли все увеличивались, а отец все не хотел перерезать нерв, все ждал, что вот-вот наука одержит решающие, возвращающие зрение победы. Операции Филатова над катарактой усиливали его надежды.
В конце концов он так и умер. Да и сейчас нет средств от глаукомы. Глаукому оперируют, но в более раннем периоде болезни, чем тот, который уже был у отца, когда он обратился к глазникам.
Наука не подвела отца. Его ждало буквально вот-вот после его смерти в 1934 году наступление радиомира, мира радиоприемников – огромного количества информации, которое получил бы отец, будь он жив.
В те годы были повсеместны лишь детекторные приемники, щелкавшие в ухе, нащупывавшие камешком радиоволны.
То, что можно было втыкать в розетку в электросеть, в России еще не было известно.
До радиоприемников отец не дожил пустяков – одного или двух лет.
Обновленческое движение имело хорошие корни в Вологде и обещало победы, но Тихон, сидевший в тюрьме, оказался хитрее. Он признал советскую власть, раскаялся и покаялся публичным заявлением в газеты. С этого часа обновленчество пошло на убыль. Обновленчество было добито патриархом Сергием уже во время войны.
Александр Введенский и был тем церковным реформатором – их очень много в истории, и не только России, – чьи идеи одержали победу, отстранив и уничтожив самого новатора.
Разве Петру с его западной политикой надо было убивать Софью? Софья была гораздо западнее Петра, гораздо более европейской. Не сражение католицизма и протестантства за завоевание русской души тут надо видеть, а нечто более грубое, более свойственное человеческой природе.
Разве Петру нужно было казнить стрельцов таким диким способом, да еще лично, – ведь во времена стрелецких бунтов казнено две тысячи человек, втрое больше, чем погибло в крупнейшем сражении века – Полтавской битве…
Разве надо было Николаю I вешать Рылеева, чтобы выполнить рылеевские идеи – индустриализацию России, внешнюю политику, железные дороги, освобождение крестьян. Все это сделал Николай, казнив декабристов.
То, что в русской церковной истории называется наследством патриарха Сергия, – это и есть идеи Введенского, принятые на вооружение при отстранении их автора и главного идеолога.
Введенский умер в 1946 году, так и не помирившись с Сергием. Борьба идей весьма отличается от борьбы людей.
На эту тему следовало бы написать не роман (рассказы, наверное, есть), а хорошее историческое исследование.
Самым худшим человеческим грехом отец считал антисемитизм, вообще весь этот темный комплекс человеческих страстей, не управляемых разумом.
Обдумывая, наверное, разные варианты, желающий дать наглядные результаты, как опасное зло можно задушить в зародыше, отец решил проблему этого духовного воспитания в обычной своей догматической и эксцентрической методе.
Старший мой брат родился в Вологде же, еще до отъезда в Америку, а две сестры и брат Сергей – за океаном, на Алеутских островах. Там он воспитывался отцом и на глазах отца по собственной его методике.
Я родился в 1907 году, через два года после возвращения отца в Вологду. Вологда – город, знававший еврейские погромы.
Когда я пошел в школу, отец сделал самое простое, чтобы получить из личности своего сына самый надежный результат.
В школе мне было разрешено приглашать к себе домой только товарищей-евреев. Так вышло с самого детства, что у нас дома постоянно – Желтовский, Букштейн, Кабаков, а также Виноградов, Алексеев – те лица, родители которых вели себя так же, как отец.
Так была успешно решена одна из важнейших педагогических проблем, беспокоивших отца.
Разумеется, в наш дом мне разрешали принимать кого угодно. То же относилось и к моим братьям и сестрам. Всех, кроме антисемитов.
Отцовская методика давала вполне надежный результат. Принцип срабатывал сам собой, как кибернетический автомат, закладывавший в юный мозг доброе и вечное.
Я думаю, что с отцами моих товарищей отец говорил и сам. Отец считал сионизм естественной еврейской религией и поддерживал еврейство не в горьковском, а в сионистском смысле. С удовлетворением, наверное, отец видел, как хорошо срабатывает его педагогический прием. Но отец не ограничился таким приемом в этой проблеме. Еще до войны, еще до школы, когда мне было лет пять, отец брал меня на свои прогулки – тут мы просто гуляли, но всегда в этих маршрутах была какая-нибудь важная тайная цель.
В одну из осенних прогулок отец привел меня к зданию синагоги и коротко объяснил, что это дом, где молятся люди другой веры, что синагога – это та же церковь, что Бог – один.
Встревоженный сторож – синагога была заперта – хотел побежать за раввином. Намерение отца было войти в храм, увидеть службу. Но время было не молитвенное.
В 1917 году сионисты по выборам в Учредительное собрание шли отдельным списком, и отец это одобрил. Сам он голосовал за Питирима Сорокина, правого эсера, – своего земляка…
* * *
Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты.
Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей.
У каждого дворянина находился родственник из свободомыслящих, а то и просто революционеров, и справки эти спасали семью, давали ей какие-то права.
У духовенства не было таких справок.
Особенно тяжелым был удар по узкой прослойке ученых либеральных священников от Булгакова и Флоренского. Если Булгаков, Флоренский, Бердяев, Сорокин с трудом, но еще могли найти для себя защиту или выход в Москве, в столице, то уж для провинциальных свободомыслящих не было пощады. Их била – уничтожала, оскопляла – и «черная сотня», мстя за борьбу, и власть – по принципиальному догматическому положению.
Этот тяжелый удар перенес и отец. Вдобавок у него убили любимого сына, и он сам ослеп. Но мама, повторяю, не писала пьесы о мертвом Боге, а целых четырнадцать лет в одиночестве сражалась за жизнь.
Потом умерла.
Отцу мстили все – и за всё. За грамотность, за интеллигентность. Все исторические страсти русского народа хлестали через порог нашего дома. Впрочем, из дома нас выкинули, выбросили с минимумом вещей. В нашу квартиру вселили городского прокурора.
И пусть мне не «поют» о народе. Не «поют» о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата.
Интеллигенция ни перед кем не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией.
Новые силы, новые краски вошли в мою жизнь с приходом в наш класс моего сверстника – Алешки Веселовского. Алешка был маленький литературоведческий вундеркинд, имевший научные публикации уже в десятилетнем возрасте. Этот Моцарт литературоведческий болел туберкулезом.
Алешка был сыном племянника Александра Николаевича Веселовского, крупного литературоведа Алексея Николаевича[26]. Сам Алексей Алексеевич, отец Алексея также имел ряд напечатанных трудов и после смерти отца в 1918 году бежал всей семьей в город хлебный, в Вологду, спасаясь от голода. На Север бежали немногие, и бегство профессора Веселовского не было связано с «Чайковскими событиями» в Архангельске[27]. Алексей Алексеевич просто искал хлеба, заработка и подходящих условий для больного туберкулезом маленького сына. Такие условия Веселовский нашел в Вологде и прочно там обосновался. Он преподавал историю, литературу в Вологодском рабфаке, новом привилегированном заведении, где оплата «шкрабов» была выше, чем в какой-нибудь жалкой школе 2-й ступени, которая не давала ни хороших карточек, ни места для учеников.
Сам же рабфак был размещен в Вологодской духовной семинарии.
Алешка Веселовский был родом из знаменитой литературоведческой семьи, где поколение за поколением укрепляло литературоведческие высоты, завоевывало новые рубежи, семьи, где подобно музыкальному гену в гении Бахов можно было говорить вполне и о литературоведческом гене.
К сожалению, этот ген не был проверен – дальнейшие поколения русских литературоведов были остановлены смертью Алешки в Вологде от туберкулеза – в 1921 году.
Вот в его-то семье – мать и отец оба историки литературы – я и встретил впервые в жизни настоящую библиотеку – бесконечные стеллажи, ящики, связки книг, набитых под потолок, – царство книг, к которому я мог прикоснуться.
В семье у нас не следили за опозданиями детей, и я широко пользовался этим разрешением.
Впервые тогда в мою жизнь вошел эпос – французский, мы читали на голоса «Песнь о Роланде», с Алексеем же вместе мы выучили наизусть всего Ростана в переводе Щепкиной-Куперник и разыгрывали целые сцены то из «Орленка», то из «Сирано де Бержерака», то из «Принцессы Грезы», то из «Шантеклера».
Эти вечера со скромным чаепитием, изредка с сахарином, часто кончались спиритическим блюдечком, до которого и отец, и мать Алешки были большие охотники.
В преферанс у Веселовских не играли, но блюдечко вертели весьма усиленно. Иногда и Алешка, и я, и еще кто-то из товарищей Алексея принимали в этом участие. Не помню, каких именно духов вызывали взрослые, какие именно вопросы задавали, но в наших детских спиритических вечерах мы вызывали по книжкам Роланда, Наполеона. Путных ответов мы не получали – возможно, оттого, что у меня были какие-то «флюиды» в пальцах, которые не дали явиться духу.
Эти спиритические попытки общаться с загробным миром всегда кончались – именно по предложению Алешки – немедленным доказательством устойчивости: посещением ночью кладбища. Кладбище Духова монастыря было под боком, и вот мы, после душной тесноты спиритического сеанса, выбирались на морозный воздух к Северной звезде.
Тут же Алешка требовал – посетить кладбище, прикоснуться к могиле и выйти на дорогу, где ждут товарищи испытуемого.
Я эти ночные проверки переносил легко.
Именно с Алешкой я был и в театре – на «Разбойниках», на «Эрнани». Театр был нетопленый, и мы на галерке, застывая в каких-то кацавейках родительских, боялись пропустить хоть слово из дымящихся белым паром актерских уст Карла Моора.
Сережа Воропанов был третьим нашим другом в этих литературно-спиритических экскурсиях.
Учились дружно мы всего года два учебных. Но уже на последнем году было известно, что Алеша болен и в школе учиться не будет. Я пришел к нему домой. Алешка хотя двигался хорошо – не лежал, а глаза его блестели, щеки были восковыми. Я рассказал школьные новости. Помахал ему рукой с порога.
А потом я узнал, что Алешка умер. Мать долго лежала – не туберкулез, а какое-то нервное потрясение свалило ее с ног. Но у Веселовских я больше не бывал.
Через год после смерти Алешки я встретил его отца, профессора истории Алексея Алексеевича Веселовского, на улице. Отец был вроде бодрее, чем при нашей последней встрече. Оба они – и профессор, и его жена – были страстные курильщики, курильщиками и остались. Алексей Алексеевич любил махорочные трубки. Закуривая ее, закашлялся.
– Ну, как вы живете, Алексей Алексеевич?
– Да так же, все вертим блюдечки. Приходите. Мы ведь с Алексеем говорим каждый день. И вы поговорите.
Но я не пришел к Веселовским.
* * *
В каких отношениях был мой отец с Богом? Этот вопрос занимал меня и в юности. Уж если он выбрал себе такую претенциозную, такую неблагодарную профессию, то должно же быть наитие, «транс», в который впадал, например, Александр Введенский – из близко виденных мной церковных ораторов. Но Введенский был человек не духовного звания; сын директора Витебской гимназии, Введенский принял священнический сан чуть ли не во время войны – первой мировой. А отец был потомственным профессионалом.
Я часто наблюдал, как молится отец, особенно в то время, когда после очередного «уплотнения» мой сундук передвигали из проходной в комнату отца с матерью, а сестры выезжали в проходную на мое место.
Отец молился всегда очень мало, кратко – минуту, не больше, что-то шептал привычное, пальцы обеих рук не прекращали свой вечный, бешеный бег, ладони вращались, кружились в обычном своем вращении, и было видно, что светские мысли не оставляли его мозг. Это – молитва на ночь.
Никаких утренних молитв, да еще громких, дома не видел я никогда. И почти не слыхал, ни раньше, то есть во время спокойной жизни, ни позже.
Возможно, когда-нибудь он и молился. Возможно, что он считал, что его служба в церкви – достаточное свидетельство его смирения, усердия. Возможно.
Дома, во всяком случае, он сообщал Богу в двух словах собственные проблемы, а перед сном и вовсе не мог оторваться от мирских дневных мыслей.
Молитва – теоретическое занятие. Психологическое настроение, не спокойствие – вроде позы йога. Йога в отце не было…
Отец мой жил жизнью культурного русского интеллигента. Летом вся семья жила в деревне, в шести верстах от города, на реке мелководной, как все тамошние реки.
У отца была лодка, и нам разрешалось брать весла, перегонять лодку на тот берег, возвращаться разрешалось, кроме двух дней в неделю – субботы и воскресенья. Если у отца была священническая служба, то на субботу.
Отец приходил из города пешком вечером каждый день – сама дача подбиралась ради этих его ежедневных прогулок. И я часто выходил на холмы, откуда было видно издали, как идет отец по ржаному полю, как качается в колосьях его серая, легкая ряса из шелка, как сноп золотой ржи.
Утром отец уходил в город – мы еще спали. Иногда в какие-то дни нам не разрешалось пользоваться лодкой – у отца была рыбалка.
Эта рыбалка – отец владел неводом да еще и другими сетями – была, по его мысли, первым приучением к природе, ее законам. Вся семья очень охотно принимала участие в этих рыбалках. Вся, кроме меня.
Я как-то не мог вызвать в себе тот дикий энтузиазм рыболовства неводом. Отец отрицал удочку и никогда удочкой не ловил сам. Но неводу он отдавался весь.
А однажды мне довелось стоять близко от отца, когда вытаскивали невод, и я был просто поражен неожиданной его злостью, азартом охотника.
В неводе была очень крупная красавица щука – фунтов на десять, а то и больше. Щука упрыгнула в песок прямо около ног моих, и я загляделся на красоту рыбы. Резкий окрик отца вернул меня на землю и воду. Отец, видя, что я упустил рыбу, бросился сам, бросился ничком, удержал рыбу на песке и почти мгновенно выхватил из кармана перочинный нож и воткнул в хребет рыбы. Щука бросилась, плеснула, но сразу заснула.
Презрительный взгляд отца был наградой моей неловкости, моей чуждости этих охотничьих страстей.
Потом я мало бывал на этих тонях, а на ночных поездках с отцом – никогда…
Меня перевели на обслугу коз, которых я усердно доил, ходил за ними, принимал козьи роды – нашел свое место в отцовском хозяйстве. Козы ведь умные, но привередливые. Была у меня одна из привередливых – коза по кличке Тонька. Коза заболела и умерла от рвоты неукротимой. Я помогал ей по указанию отца – ставил клизму, промывал желудок, но Тонька умерла у меня на руках. И я расплакался, забился почти в истерическом припадке, что вызвало крайнее неудовольствие отца – я заслужил ряд бранных кличек.
Выяснилось, что резать козлят я тоже не могу – надо «нанимать» человека.
Все это было уже в гражданскую, во время голода, когда отец уже ослеп, а брат был убит; вопрос – кому колоть и резать – получил неожиданную остроту.
Я, конечно, помню этих козлят с головы до ног и сейчас могу вывести их зрительной памятью отчетливо и ясно.
А с Мардохеем был вот какой случай. Обычно на длинной веревке коз привязывали за рога, хотя у коз были ошейники. Но я поленился и привязал веревку прямо к ошейнику. Мардохея привязывали в саду за забором и сараем. Веревка была достаточно длинная, и козел вскочил на забор, спрыгнул оттуда по эту сторону – удавленный, но еще живой.
Слепой отец вышел на крыльцо, глядя на мои беспомощные попытки сделать искусственное дыхание. Стали мы делать это вдвоем – не получилось ничего, тело Мардохея чуть похолодело.
– Надо зарезать его быстро! Вот тычь сюда! – отец нащупал сонную артерию козла. – Режь, режь! Надо кровь ему спустить, тогда можно будет съесть.
Ощупью отцу удалось прирезать козла – из перерезанной артерии синеватая кровь почти не текла.
– Повесь его на забор вверх ногами и сними шкуру, пока еще теплая. – Я снял шкуру. – Голову отруби! – Я отрубил голову.
Вот это охотничье искусство, с которым действовал отец, меня поразило.
Это и есть одна из причин, почему я потерял веру в Бога.
В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей.
Церковными обрядами я интересовался мало.
Вера в Бога никогда не была у меня страстной, твердой, и я легко потерял ее – как Ганди свой кастовый шнур, когда шнур истлел сам собой.
Драмы рыб, коз, свиней захватывали меня гораздо больше, чем церковные догматы, да и не только догматы.
– Самое главное – это успех в жизни, успех.
На эту тему отец удостоил меня беседой – к сожалению, поздно; в четырнадцать лет я уже был вооружен книжной мудростью, с какой никакой здравый смысл отца справиться не мог.
Я уже поспорил с Мережковским, почитывал книжки.
Отец старался внушать это не всегда прямо, но и примерами.
– Ты должен завоевать успех. Сначала профессия – твердая, врачебная, например, если ты не хочешь по духовной части, а только потом политика. Совершенно не важно, какие ты принципы исповедуешь, – все равно. Лучше всего – это научные занятия, профессура, кафедра.
Аргументы насчет божественной сущности человека отец не принимал главными.
Его главным героем был Питирим Сорокин – зырянин, земляк отца по родине, по Сыктывкару.
Стихи отец не то что презирал – некрасовский уровень считал наивысшим. Некрасов – кумир русской провинции, и в этом вкусе отец не отличался от вкусов русской интеллигенции того времени.
Я кончил школу пятнадцати лет, первым учеником. И хоть давно было известно, что в высшее учебное заведение можно попасть только по командировке, а командировку не дадут сыну священника, отец продолжал на что-то надеяться.
Наша классная руководительница Екатерина Михайловна Куклина подготовила мне аттестацию высшего качества: «Юноша с ярко выраженной индивидуальностью», и поскольку я интересовался только литературой и историей, – «имеет склонность к гуманитарным наукам».
Я показал характеристику отцу. К моему величайшему удивлению, она привела его в бешенство, да что такое бешенство! – вызвала длительный истерический взрыв.
Отец усмотрел в моем школьном свидетельстве ту же руку его каких-то тайных врагов. «Теперь дураку дают нарочно такую характеристику, чтобы не поступал на медицинский. Разве я их не понимаю!»
Отец разорвал бумагу: «Неси назад. Пусть тут будет ясно сказано – к естественным наукам. Меня не обманешь!»
Вся радость от выпуска, от окончания школы улетучилась. Но – слепой отец бился в кресле в истерическом приступе, белая пена выступала на губах. Я вернулся в школу, к Куклиной.
– Вы будете гордостью России, Шаламов. Высшее гуманитарное образование раскроет ваши большие способности.
– Я поступаю на медицинский, – попросил я, – и характеристика поможет.
И она, и я, и заведующий школой Катранов хорошо понимали, что ничего не поможет.
Не споря со мной, переписали мою характеристику, и я принес улучшенный вариант отцу.
Тут же выяснилось, что никаких командировок в вуз детям духовенства никакое роно давать не будет.
Выяснилось той же осенью, что все мои школьные товарищи – абсолютно все: из детей дворян, купцов, торговцев – все поступили в Ленинграде – туда, куда хотели, и на каникулы приехали в студенческих фуражках. У всех оказались какие-то связи, какие-то знакомства.
Отец обвинял и меня, и мать – всех, кого он мог услышать и почувствовать в комнате, он ослеп уже года два назад вовсе, – упрекал, что я не хочу учиться, а мать меня защищает, лентяя. Отец решил добиться приема у заведующего роно – того учреждения, которое занималось выдачей таких документов.
Я записался на прием к тогдашнему заведующему роно товарищу Ежкину. В жизни я не забуду этот визит.
Комната роно была на втором этаже присутственных мест.
Ежкин принял нас стоя, сам не садясь и не сажая нас. Отец держался за мое плечо, чтоб не ошибиться – в каком направлении ему говорить, и изложил просьбу.
– Вот мой сын кончил среднюю школу. Ему не дают поступить в высшее учебное заведение, лгут в школе – из-за какой-то мести старой.
Товарищ Ежкин был возмущен до глубины души такой наглой просьбой: «Поп в кабинете!» Голос Ежкина звенел:
– Нет, ваш сын, гражданин Шаламов, не получит высшего образования. Поняли? Никто его в школе не обманывает. Поняли?
Отец молчал.
– Ну, а ты, – обратился заведующий роно ко мне. – Ты-то понял? Отцу твоему в гроб пора, а он еще обивает пороги, ходит, просит. Ты-то понял? Вот именно потому, что у тебя хорошие способности, – ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении – в вузе советском.
И товарищ Ежкин сложил фигу и поднес ее к моим глазам.
– Это я ему фигу показываю, – разъяснил заведующий роно слепому, – чтоб вы тоже знали.
– Пойдем, папа, – сказал я и вывел отца в коридор. Всю дорогу отец молчал и вообще больше со мной не говорил на эту тему, не давал никаких советов насчет моего высшего образования.
В 1926 году, когда я поступил в университет, отец молился на коленях всю ночь. Но, как всегда, напрасно.
С товарищем Ежкиным мне пришлось познакомиться раньше, той же зимой 1922—1923 года, но в обстоятельствах, которые начисто исключают пристрастие Ежкина или его классово направленную злопамятность, ибо при этой встрече я был загримирован, а товарищ Ежкин находился в состоянии, когда человек не способен отличить добро от зла. Даже классовое добро от классового зла. Я не хочу сказать – Ежкин был пьян. Отнюдь, совершенно отнюдь, как говаривал Максим Горький. Товарищ Ежкин скорее всего был трезвенником, даже фанатиком трезвости. А может быть, и нет, все это не суть важно.
Дело тут вот в чем. Наш городской театр ставил спектакль силами любителей. Руководил постановкой один из режиссеров городского театра Бордин. Шла «Каширская старина» Аверкиева. Это хорошая, сценическая пьеса, имевшая большой успех у зрителей десятых годов и естественным образом шагнувшая в двадцатые. Пьеса эта в четырех актах, причем третий акт кончается бурной сценой объяснения, во время которой герой ранит героиню и плачет над ее телом. Вот этого героя играл губвоенком Мазо, при обязательном условии – не отстегивать кавалерийских шпор. Марицу же, его невесту, играла вологодская любительница Нина Николаевна Кашинова, будущая заслуженная артистка РСФСР из театра Моссовета.
Губвоенком Мазо был знаком с этой пьесой и раньше и играл на репетициях не без блеска, если бы не кавалерийские шпоры, но к началу второго акта выяснилось, что Мазо где-то сильно заложил. Спектакль в третьем акте кончился тем, что губвоенкома едва оторвали от артистки Кашиновой. Да еще после занавеса на аплодисменты механик привычным движением раскрыл занавес снова, обнажив так неудачно одну из тайн вологодских кулис.
Занавес задернули, и заведующий Главполитпросветом Вологды товарищ Ежкин отправился в качестве цензора объясняться к губвоенкому Мазо.
Мазо под руку с Кашиновой по ошибке попал в общую артистическую уборную, куда собрались и мы, статисты городского театра.
Мазо распорядился принести для всех артистов из армейских запасов пива – быстро приволокли целый ящик пива неизвестного происхождения со знаком вологодской марки. В это время явился товарищ Ежкин и, подступив к Мазо, стал внушать губвоенкому все неприличие его поведения.
Мазо речь Ежкина не понравилась, и он вытащил наган.
– Ты трех минут не проживешь, гад. Ну, руки вверх! Ежкин поднял руки.
– Считаю до трех – и ты на том свете!
При счете «два» любительница Кашинова обняла губвоенкома за шею и повалилась с ним на пол. Выстрел Мазо пришелся в потолок.
Товарищ Ежкин юркнул в дверь и больше, мне кажется, в Вологодском театре не бывал.
Губвоенком же вдруг захрапел и уснул. В четвертом акте роль главного героя доиграл сам режиссер Бордин. У него был большой опыт работы на провинциальной сцене, а там такие случаи бывали нередко.
* * *
Я много раз думал – почему в Вологде, таком традиционно свободолюбивом городе не было ни одного восстания, ни одного мятежа против новой власти.
Ведь нет городов, где бы не поднимался мятеж. Вологда – исключение. Это имеет свое объяснение.
Объяснение это – в жестоком терроре, осадном положении, в котором город находился, в видах предварительной цензуры, что ли.
Человеком, возглавившим и организовавшим этот террор, был Кедров, командующий Северным фронтом, председатель известной «Ревизии».
Слишком дорогой ценой, а проще сказать, – головой пришлось бы заплатить любому гимназисту. Потерпев неудачу в Архангельске, Кедров со своим Особым отделом обосновался именно в Вологде, в штабе Шестой армии, возглавляемой царским генералом Самойло.
Странный человек был Кедров – Шигалев[28] нашей современности. Шигалев – в таком невероятном сочетании явившийся на вологодскую, русскую, мировую сцену.
Кедров был не только Шигалевым. Тут было нечто пострашнее. Юрист и сын юриста – московского нотариуса, отдавшего все личное состояние на революцию еще в начале века.
Врач, учившийся в Брюсселе, где учат не только лечебным знаниям, но и гуманизму. Музыкант, окончивший консерваторию по классу рояля, сам вдохновенный пианист, развлекавший Ленина глубочайшим исполнением «Аппассионаты» еще на швейцарских вечеринках.
Кость от кости, плоть от плоти московской интеллигенции.
Именно Кедров заставил меня подумать, что все это не облагораживает.
Знаменитый военный руководитель, командующий Северным фронтом, а когда его сняли, через месяц после командования, он уже успел расстрелять немало людей.
Кедров был снят через полтора месяца после назначения – за перегибы, по представлению Ветошкина[29], боявшегося, что Кедров завтра расстреляет и его, председателя Вологодского губисполкома, за провал мобилизации. Мобилизация на Северном фронте – сама по себе ничтожная – тысячу человек надо было мобилизовать, но и этой цифры не удалось добиться.
Но историки гражданской войны считают, что борьба Кедрова в гражданской войне с контрреволюцией может быть приравнена к самой большой битве в истории, и роль Кедрова не должна быть забыта.
Не знаю, так ли это?
Вряд ли масштабы подобны битве за Берлин.
Триста тысяч человек убиты – какое тут может быть сравнение с кедровскими возможностями.
Словом, командующий Северным фронтом был снят и заменен другим.
Кедров был назначен после Севера командующим разгрузкой картофеля в Московском узле – пока, разумеется, решается его дело.
На следствии по делу о перегибах, о расстреле заложников, которое велось в Москве, Кедров предъявил ленинскую телеграмму, – она широко комментировалась, – телеграмму, которая кончалась словами: «Прошу вас не проявлять слабости – Ленин».[30]
Ленин сказал на следствии, что он не думал, что под слабостью следует понимать расстрел заложников.
Дело это кончилось полной победой Кедрова – он вернулся на Север в роли начальника Особого отдела, и все, что хотел, задумал, – выполнил.
Именно Кедрову принадлежит идея регулярных обысков, облав, проверок.
Трудно сказать, приносили ли его усилия толк или нет. Вся информация такого рода основана на слухах, на доносах, на «информации».
У Дзержинского Кедров возглавлял весьма специфический отдел: по борьбе с предательством в партийных и военных рядах. Поле деятельности было и достаточно глубоко: Кедров возглавил целый ряд следствий по этой части. Первая его нагрузка – еще до Севера – расследование мятежа левых эсеров – в своем специфическом плане – предательство в Красной Армии. След этой работы остался, и Дзержинский предложил Кедрову продолжить ту же работу.
Кедров возглавлял комиссию по проверке ряда фронтов, без конца находил и уничтожал врагов, – словом, занят был по горло.
На тех же ролях Кедров остался и при Менжинском, и при Ягоде, и при Ежове.
Работая на Кавказе, Кедров собрал досье на Берия и отправил доклад и материалы Дзержинскому, но в силу каких-то обстоятельств Дзержинский не успел познакомиться с документами Кедрова. Дзержинский умер в 1926 году, а в 1939 году к руководству НКВД пришел Берия, тот самый Берия, на которого у Кедрова собиралось когда-то досье. Кедров чувствовал достаточно крепкую поддержку Сталина и решил действовать открыто.
Сын Кедрова, Игорь, работал вместе с отцом в Чека. Договорились так, что Игорь вместе со своим товарищем подадут записку прямо по начальству.
Если что-нибудь случится, Кедров известит сам Сталина. Такие ходы у него были.
На следующий день Игорь и его товарищ были арестованы и расстреляны.
Кедров тут же вручил Сталину свою докладную, заготовленную заранее. В тот же день Кедров был арестован и посажен в одиночку, где его допрашивал сам Берия. Во время допроса Берия сломал Кедрову железной палкой позвоночник, добиваясь признания во вредительстве.
У Кедрова и здесь нашлась возможность известить Сталина, и Кедров написал Сталину письмо, рассказав о своем сломанном позвоночнике и требуя ареста Берия.
В ответ на это вторичное письмо к Сталину Берия застрелил Кедрова в тюрьме самолично.
Письма Кедрова Сталин показал Берия. Оба эти письма были найдены в сейфе Сталина, после его смерти. Именно об этих-то письмах и говорил Хрущев в докладе на XX съезде. Таков был конец Кедрова.
В 1918 году в Вологде аресты шли день и ночь.
О ночных облавах, сгубивших отца, я уже рассказывал. Но бдительность Кедрова не ограничивалась ночным временем. Город жил в облавах, в ежедневных арестах.
Рыночная площадь была переименована в площадь «Борьбы со спекуляцией». Там шла борьба со спекуляцией. Но не только она.
Я – десятилетний мальчик – торговал пирожками и заметил, что особенно много скоплялось людей вокруг самодельной рулетки – табуретки с прибитой фанерной доской, разделенной на 10 секторов, совершенно равных.
Звонкий голос безрукого хозяина табуретки: «Ставьте ваши ставки, граждане. Плачу за пять – двадцать пять, за двадцать пять – сто двадцать пять, – ответ до двух миллионов». Хозяин портативного Монтекарло был всегда настороже, чтобы подхватить табуретку и сигать через забор при тревоге. Действительно, не проходил и день, как свисток звенел, раздавался крик: «Облава!», и всех загоняли в подворотню ярмарочного дома и процеживали по человеку. Вскоре я с удивлением заметил, что рулеточника, во всяком случае, не ищут – он возвращался после каждой облавы на то же место. Возможно, что он давал взятки милиции и чоновцам, проводившим облавы, – ведь ответ был до двух миллионов. Но возможно и другое. Рулетка была постоянной приманкой, развлечением приезжих, которых-то и ловила кедровская ревизия – бывших офицеров и прочее.
С помощью табуретки Монтекарло Кедров пытался нащупать и прервать связи с дипломатическим корпусом, который жил тогда в Вологде.
Возвратить дипкорпус в Москву Кедрову не удалось. Корпус уехал в Архангельск. Так что рыжий безрукий рулеточник мог иметь и особое поручение, и особое задание.
Меня, как местного, да еще малыша, тоже отпускали с облав, и я пристально наблюдал, как охорашивался рулеточник, выжидая, пока соберутся толпы людей, чтобы снова кричать насчет пяти и двадцати пяти.
Там же была и другая игра – угадывать карту или наперсток, – где надо было заметить, под какой крышкой деньги. Но эти игры собирали меньше людей.
Наш учитель химии Соколов внезапно исчез, только потом я узнал, что Соколов расстрелян.
Этот недочет в моем среднем образовании едва не имел трагических последствий, о которых я рассказал в своем рассказе «Экзамен» – где испытание при поступлении в фельдшерскую школу в лагере – вопрос жизни и смерти для меня – выявило, что я не знаю, что такое химия, что такое Н20.
В этом пробеле именно Кедров повинен.
Конечно, я видел знаменитый вагон Кедрова, стоявший на запасном пути у вокзала, где Кедров творил суд и расправу.
Я не видел лично расстрелов, сам в кедровских подвалах не сидел. Но весь город дышал тяжело. Его горло было сдавлено.
Кедров был чекистом без ордена. Только значки Почетного чекиста – к 5-летию Чека и к десятилетию, которые Кедров носил на своей гимнастерке. Кедров отнюдь не был врагом орденов и чинов. Напротив, выйдя из гражданской войны без единого ордена, Кедров обвинял врагов, которые мстят ему, контрразведчику, таким способом.
В 1927 году – к десятилетию советской власти – Кедров не был даже представлен к награждению. Дзержинский умер в 1926 году, и некому было вступиться за Кедрова. Кедров был возмущен. Еще бы! Столько убивал, и вдруг! Кедров решил добиваться справедливости. Обратился к Сталину, и Сталин внял его мольбам. В 1928 году он был награжден орденом Красного Знамени за работу в период гражданской войны. Этот единственный орден Кедров и носил. Кедров получил орден при Ягоде.
Когда в Архангельске высадился белый десант и было образовано правительство Чайковского, Ленин обвинил Кедрова в том, что тот «проворонил Архангельск», – дал ему строгий выговор и подстегнул телеграммой. Кедров в Вологде превзошел сам себя. Его поезд подошел к Плесецкой, уже занятой белыми, и из Плесецкой Кедров дал телеграмму в Архангельск, чтобы оттуда прибыли инженеры для разборки завала путей. Инженеры прибыли, и Кедров тут же, у вагона, их расстрелял, обвиняя в измене. Этот поступок описан в книге одного из биографов Кедрова.[31]
* * *
1918 год был крахом всей нашей семьи. Прежде всего – это был крах материальный. Все пенсии за выслугу лет, за службу в Северной Америке были отменены и никогда более не воскресли.
Немедленно выяснилось, что четыре раза в день надо есть, не только людям, но и собакам, и курам.
Отец, большой семьянин, был поражен в самое сердце и никогда не оправился от этого удара.
Семья осталась нищей внезапно. Самый обыкновенный голод – восьмушка хлеба, жмых, колоб стали едой нашей семьи.
Мама и позже плакала, что из меня, из такого крепыша в детстве, вышел астеник, но мама, стихийная ламаркистка, – ошибается. Это у меня гены только астенические. А мама ведь плакала, целовала мне руки – просила прощения, что вырастила меня таким физически некрепким. Но моему астеническому телосложению главные испытания были еще впереди – в золотых колымских забоях…
Мама пекла какие-то пирожки, что-то меняла на хлеб, я эти пирожки продавал на базаре.
Мама моя превратилась в скелет с хлопающей по животу морщинистой кожей, но не унывала – варила и пекла, пекла и варила гнилую картошку.
Одно из самых омерзительных моих воспоминаний – это посещение нашей квартиры крестьянами из ближних да и из дальних деревень. Новые хозяева мира хлюпали грязными валенками, толкались, шумели в наших комнатах, уносили наши зеркала. Вся мебель исчезла после визитов.
Вот тут и сказалась отцовская любовь к хорошим вещам – шкаф красного дерева, шкафы карельской березы, воротники, шапки, бобровые шубы.
У мамы не было никаких бобровых шуб, и своей одеждой в трудный час она помочь не могла.
Навсегда из моей жизни исчезла мебель нашей квартиры именно в 1918 году. Вот тогда я хорошо запомнил, что такое крестьянство – вся его стяжательская душа была обнажена до дна, без всякого стеснения и маскировки.
В это же время я продавал жареные пирожки какие-то.
Тут дело в том (это было время бумажных миллионов), что для выкупа карточек – а по ним не давали ничего – нужна была валюта советская, вот эти самые миллионы.
До червонцев было еще далеко – года два.
От церковных властей именно в тот момент после революции отец помощи и не мог получить, ибо черносотенное начальство – сам архиерей Трапицын – позаботилось, чтобы убрали отца из собора.
Вот тогда отец поступил на фабрику «Сокол», но потом заболел воспалением легких, а когда поправился, уже не было ни фабрики «Сокол», ни баронессы Дес-Фонтейнес.
У отца не было абсолютно никакого стремления ставить какие-то палки в колеса новой власти.
Трудно сказать, считал ли он институт семьи выше института государства. В революцию эти коллизии были беспредметны.
Наоборот, уже слепым, он самым внимательным образом следил за моими выступлениями в школе – и когда мне от школы была поручена речь на выпускном вечере, заставил меня переписать черновик – и все острые места, а их у меня было немало, – заменить на пейзажные сравнения насчет пароходных колес. Отец испортил мою речь. Я должен был поклясться, что не произнесу ничего лишнего. Эта речь запала у меня в памяти как свидетельство духовной капитуляции, моего слабодушия.
Хотя это и было сочинено по законам гомилетики – речь разочаровала всех, и в том числе, и в первую очередь, меня самого.
Тут дело, наверное, было в том, что отец все еще верил, что мне при моих способностях открыты все дороги, – отец ошибался.
Я тоже лежал и спал в той же комнате, где кашлял и тяжело дышал отец с воспалением легких. Тогда ведь не было пенициллина и сульфадимезина. Отец встречал пневмонию один на один. Помощь врачей была в компрессах, в прослушиваниях, выстукиваниях. Выслушивание и простукивание – это ведь не лечение.
Каждую ночь во время этой болезни отца поднимали с кровати для обыска. Кедровские обыски были каждую ночь более года, – по тогдашней квартальной профилактике.
Обыск был еженощный и очень тщательный, иногда – дважды в ночь. Не знаю, какие мотивы повторных обысков, кроме устрашения.
Отец поправился, но это не было нужно – ни ему, ни семье, ни судьбе.
Общением с революцией были не только обыски, но страшные фигуры подлинных грабителей, – выволакивавших вещи при униженной улыбке матери.
Эти самореквизиции запомнились мне самому навечно.
Семья наша не попадала в реквизицию – кроме шуб, у нас не было ничего. Но под обысками квартира была не один год. Все ценности вытаскивались цепкими руками. За месяц исчезла крупа – все исчезло.
Второй, тоже впечатляющей картиной тех же лет было вселение, уплотнение.
Тут разговаривать не приходилось – матери оставалось молить Бога, чтобы квартиранты попадались поприличнее. И действительно, у нас жил сначала какой-то Сергей Иванович, а потом семья военного инженера Красильникова. Их было трое. Мать-старушка, сам инженер и его жена, лет двадцати пяти. Но нам случайно повезло тем, что комната попала в руки приезжих.
Гораздо хуже было уплотнение. Во флигеле, где жил дьякон, в одну из квартир был вселен Рожков, кузнец ВРМ[32] – ударник производства, как теперь говорят, – и член партии. Ордера на квартиры давались только членам партии – лучше, если до февраля 1917 года.
Во всяком случае, первые вселения, первые ордера давались только членам партии.
В одну из комнат был вселен Рожков с женой и годовалым ребенком, гигант-алкоголик.
Каждый день Рожков возвращался с работы, выпивал самогон – водка ведь была запрещена в России целых десять лет, с 1914 по 1924 год, – выгонял к утру жену простоволосую, и спектакль начинался. Оскорбления матерной руганью в лицо этой женщины. Пудовый кулак Рожкова хлестал по лицу, по ребрам, по спине. Кончалось это тем, что кузнец сбивал жену с ног и топтал. Женщина только стонала.
Никто из зрителей никогда в таких случаях не вступается. Не вступались и в Вологде. Я стоял у дома, глядя на всю эту сцену из щели дверей. Сердце мое билось. За спиной я услышал дыхание матери.
Рожков погнал жену куда-то на улицу, догнал и поддал ей жару.
– Вот таким, – сказала мама моя, – я не хотела бы, чтобы ты вырос.
– Я таким и не вырос, мама!
<1968—1971>
Примечания
1
Уточнить состав и возраст членов семьи позволяют сохранившиеся данные из клировой ведомости Софийского собора за 1907 год: «В семействе у него (священника Тихона Николаевича Шаламова. – И. С): жена Надежда Александровна – 37 лет, дети: Валерий-13, Галя-11, Сергей-9, Наталия-7, Варлаам-6 месяцев». Гос. архив Вологодской обл., ф. 496, оп. 1, д. 18474, л. 609/об.
(обратно)2
С художником Василием Николаевичем Сигорским (1902—1976) В. Т. Шаламов был знаком еще по вологодской юности. Жена Сигорского Лидия Васильевна (ум. 1986) – та самая Лида Перова, исполнительница роли княгини Трубецкой, о которой пойдет речь далее.
(обратно)3
Заметка опубликована в «Вологодском листке» от 31 марта 1915 г.
(обратно)4
Василий Тимофеевич Локоть (псевдоним А. Зорич) был репрессирован в 1937 г. В 30-е гг. А. Зорич активно сотрудничал в газетах, выпускал книги.
(обратно)5
Т. Н. Шаламов, как явствует из архивных данных, умер 3 марта 1933 г. от воспаления легких.
(обратно)6
Как свидетельствуют официальные церковные документы, Т. Н. Шаламов вернулся с Кадьяка в Вологду в 1904 г. и первое время служил священником в Вознесенской церкви. В 1906 г. переведен на должность штатного священника в Вологодский кафедральный собор «в видах пользы службы».
(обратно)7
Родной брат Т. Н. Шаламова Прокопий Николаевич, тоже священник, безвыездно служил в Вотчинском приходе Усть-Сысольского уезда. В 1930 г. расстрелян по ложному обвинению. (Примеч. В. Есипова.)
(обратно)8
Убийство черносотенцами профессора Московского сельскохозяйственного института, идеолога партии кадетов по аграрному вопросу М.Я. Герценштейна (1859—1906) вызвало волну возмущения в России. Панихида по убитому была отслужена в Вологде, в Спасо-Всеградском соборе, 27 июля 1906 г. Речь, произнесенная служившим панихиду о. Тихоном (Шаламовым), получила большой общественный резонанс – ее изложение было помещено в вологодской газете «Северная земля» (№ 173, 1906). «Он умер за великое дело служения меньшей братии Христа» (т. е. крестьянам),– подчеркивал о. Тихон, добавляя, что «уклонение церкви от оценки политических явлений не привело к добру».
(обратно)9
Имеются в виду события, происшедшие в Вологде 1 мая 1906 г., в ходе которых были разгромлены Пушкинский народный дом и типография газеты «Северная земля». Погрому, проходившему под пьяные крики «бей жидов и студентов», явно попустительствовали власти. Суд, состоявшийся в 1908 г., закончился помилованием всех привлеченных по делу, т. к. было признано, что они «действовали из чувства глубокого патриотизма». Обо всем этом В. Т. Шаламову, вероятно, рассказывал отец. Сам Варлам Шаламов мог наблюдать руины сожженного Народного дома, которые стояли в Вологде до 1918 г. (теперь на этом месте здание Театра для детей и молодежи). (Примеч. В. Есипова.)
(обратно)10
Воробьева – девичья фамилия матери В. Т. Шаламова.
(обратно)11
Американская система воспитания, основанная на идеях детского взаимодействия и самостоятельности. В 20-е годы практиковалась в СССР. Впоследствии отвергнута, как «буржуазная».
(обратно)12
В период между двумя лагерными сроками, в 1932—1937 гг. В. Т. Шаламов сотрудничал в редакциях профсоюзных журналов «За ударничество», «За овладение техникой», «За промышленные кадры».
(обратно)13
Американская благотворительная организация, созданная для оказания помощи странам, пострадавшим в первой мировой войне. В 1921 г., в связи с голодом в Поволжье, ее деятельность была разрешена в РСФСР.
(обратно)14
Имеется в виду инцидент с картинами М.А. Врубеля на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. Подробнее см.: Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 23. М., 1953.
(обратно)15
Осип Комиссаров – крестьянин, помешавший покушению Д. В. Каракозова на царя Александра II в 1866 г.
(обратно)16
Дед Шаламова – Николай Иоаннович (1829—1910), священник Вотчинской Богородицкой церкви Усть-Сысольского уезда, пережил свою жену, страдавшую нервным расстройством после гибели ребенка (его на глазах матери убило молнией). Вологодские епархиальные ведомости (1911, № 1) отозвались на кончину Н. И. Шаламова некрологом: «Венок на могилу доброго пастыря», совершившего «подвиг служения в зырянском крае».
(обратно)17
Виноградов А. М. – видный представитель вологодской интеллигенции. Помимо адвокатской практики он занимался краеведением, был секретарем общества изучения Северного края (членом этого общества был и Т. Н. Шаламов). В 1917 г. баллотировался в городскую Думу от партии Народной свободы (кадетов). (Примеч. В. Есипова.)
(обратно)18
Тетерка М. В. – участник покушения на Александра II, осужден вместе с А. Д. Михайловым по «Делу двадцати», одному из самых важных процессов по делам народовольцев.
Ошанина М.Н. (1853—1898) – выдающаяся деятельница революционного народничества, член Исполнительного комитета «Народной воли».
Климова Наталья Сергеевна (1885—1918) участница подготовки взрыва на Аптекарском острове, см. рассказ В. Шаламова «Золотая медаль» СС, 1998 с 200—226.
Клеточников Николай Васильевич (1847—1883) служил в III отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии по заданию «Народной воли».
(обратно)19
Сорокин Питирим Александрович – русско-американский социолог. Лидер правого крыла партии эсеров. После Февральской революции 1917 г. – секретарь А.Ф.Керенского, с 1922 г. – в эмиграции. В 1930—1964 гг. – профессор Гарвардского университета.
(обратно)20
Поводом для написания статьи В. И. Ленину послужила публикация в «Правде» 20 ноября 1918 г. письма П. А. Сорокина с отказом от политической деятельности. См.: Сорокин П. А. Дальняя дорога (автобиография). М., 1992.
(обратно)21
Панкратов Василий Семенович (1864—1925) – деятель «Народной воли», шлиссельбуржец, комиссар Временного правительства по охране Николая П. Воспоминания В. Панкратова «В Тобольске» опубликованы в журнале «Былое», 1924, № 26.
(обратно)22
Заметка под названием «Поп у книги» обнаружена Л. С. Пановым в газете «Красный Север» от 2 июля 1919 г.
(обратно)23
Поспелов П.Н. (1898—1979) – в те годы редактор «Правды».
(обратно)24
Второй «обновленческий» собор (названный обновленцами Третьим Поместным Собором, так как они считали свои соборы преемственными собору 1917—1918 гг.) состоялся в Москве 28 сентября – 10 октября 1925 г. В нем участвовали 106 епископов, более 100 клириков и столько же мирян. В предыдущем обновленческом соборе в 1923 г. участвовало 476 делегатов, из них 72 епископа. Чтобы показать соотношение так называемой патриаршей и «обновленческой» церквей в период «церковной смуты», достаточно сказать, что в 1923 г. к первой принадлежало (по приблизительным данным) 13 тысяч приходов, а ко второй – 25 тысяч; в 1930 г. – соответственно – 22 тысячи и 4 тысячи.
(обратно)25
РАНИОН – Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук в Москве (1923—1930).
(обратно)26
Веселовские Александр Николаевич (1838—1906) и Алексей Николаевич (1843—1918) были родными братьями. Отца Алеши Веселовского звали Александром Александровичем, он был сыном старшего из братьев. Деятельность А. А. Веселовского в Вологде (с 1920 г. до смерти в 1936 г.) оставила глубокий след в культурной жизни города, в частности, он издал в 1923 г. книгу «Вологжане-краеведы», сохранившую ценность доныне. Соавтором этой книги был его сын. См. скорбное предисловие к этой книге: «К моменту выхода настоящего труда один из авторов, Алексей Веселовский – юноша семнадцати лет скончался от чахотки, и судьбе угодно, чтобы оставшийся в живых отец один уже увидел напечатанным настоящий труд. Мир праху юного труженика. Посвящаю его светлой памяти эту работу». (Примеч. В. Есипова.)
(обратно)27
Имеются в виду события 1918 г., когда в Архангельске действовало эсеровское правительство H В. Чайковского.
(обратно)28
Шигалев —герой романа Ф.М.Достоевского «Бесы», проповедовал идеи вульгарного казарменного коммунизма, где «все рабы и в рабстве своем равны» (для достижения этой цели предлагалось «срезать радикально сто миллионов голов»).
(обратно)29
Ветошкин М. К. (1884—1958) – большевик, в 1918—1921 гг. председатель Вологодского губисполкома. Проводил политику, учитывающую местные условия. Принципиально выступая против «левой» линии М. С. Кедрова, добился его смещения.
(обратно)30
Текст телеграммы В. И. Ленина Кедрову:
«Т. Кедров! Вы мало сообщаете фактического. Присылайте с каждой оказией отчеты.
Сколько сделано фортификационных работ?
По какой линии?
Достаточно ли обезопасили Вологду от белогвардейской опасности?
Непростительно будет, если в этом деле проявите слабость или нерадение» (Ленин В. И. ПСС, т. 50, с. 172).
(обратно)31
См. книгу М. Сбойчакова и др. «Михаил Сергеевич Кедров» (Воениздат, 1969, с. 50).
(обратно)32
Вологодские ремонтные мастерские.
(обратно)


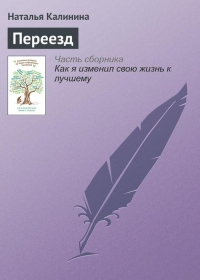


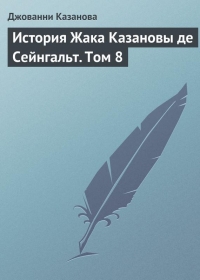
Комментарии к книге «Четвертая Вологда», Варлам Тихонович Шаламов
Всего 0 комментариев