Вокруг трона Екатерины Великой
Сергей Салтыков
1
арета тяжело переваливалась с ухаба на ухаб самой середины Невской першпективы. Весна ещё не вступила как следует в свои права, хотя на деревьях, в три ряда опоясавших першпективу, уже поднялся зелёный туман, окружавший чёрные безлистные ещё стволы. Крохотные листочки не набрали ещё силу и лишь туманцем стояли над голыми стволами.
Впереди золочёной кареты с императорским гербом ехали конные гвардейцы в высоких киверах с развевающимися перьями. Мундиры ярко блестели в свете хмурого пасмурного утра, лошади едва переставляли копыта, сообразуясь с движением тяжёлой кареты, а позади скакал уже целый отряд рейтар[1], красуясь перед обывателями и разношёрстным людом молодецким видом и важностью.
В карете было полутемно; крохотные окошечки, застеклённые модным и дорогим венецианским стеклом, едва давали свет, но и без этого неверного освещения резко выделялось лицо князя Репнина, сидевшего справа от великой княгини, смутно белело, как всегда, хмурое лицо Марьи Семёновны Чоглоковой, гофмейстерины княгини, да дремал и клонил к золочёному воротнику голову её гофмаршал Чоглоков.
Мостовая была сплошь покрыта налётом красноватой глины, смешанной с конским навозом, и вознице, толстому, в широчайшей борчатке[2], не удавалось объезжать рытвины и ямины, прорытые в мостовой весенними дождями и разбуханные колёсами и сапогами прохожих.
Екатерина Алексеевна, великая княгиня, замужняя дама лет двадцати восьми, переваливалась в такт движению кареты и крепко держалась за ремённую петлю, прибитую сбоку сиденья.
Переезды, частые и беспокойные, были для неё настоящим мучением. Хоть и выписала из-за границы Елизавета, государыня-императрица, новомодные берлинские кареты, которые так и назывались «берлинами», и кузов в них был, словно люлька, подвешен на ремнях, но даже это не спасало от толчков и резких рывков — мостовые всё ещё были неукреплёнными, глинистая земля расползалась студёным озером, копыта лошадей по самые бабки уходили в эту стылую хмарь, и потому карета двигалась медленно, рывками и толчками, несмотря на то, что правили четвёркой лошадей, запряжённых в неё, обычно самые умелые из кучеров, а на передней, коренной лошади направлял её движение ловкий и маленький форейтор[3].
С одной стороны мостовой разлилось по торговым рядам серое людское море. Пасмурен был денёк, да вылезало уже из-за тяжёлой отёчности неба неяркое петербургское солнышко, и торговцы были наготове, вразнобой выкрикивая названия своих немудрёных товаров. Более солидные купцы скрывались под навесами, освещая свои разложенные товары керосиновыми лампами, а то и просто восковыми свечами, смотря по достатку.
Дождя не было. Он моросил всю ночь, а теперь, к утру, иссяк и остался в воздухе лишь сыроватой туманной дымкой. Но неяркое хмурое солнце уже разгоняло последние остатки её, и торговля шла бойко и весело.
Кучей тряпья сидели возле вёдер, укутанных лохмотьями, старые торговки, хриплыми голосами предлагая горячие пироги с требухой; сновали по узким проходам между людьми бойкие парни — калачники, держа на плечах чистые палки с нанизанной на них печёной мелочью и подовыми калачами, только-только вынутыми из печи; разносчики всяких пустяков вроде булавок, ниток и мотков шерсти раздвигали своими лотками толпу, выставляя свой французский товар, сделанный где-нибудь в предместье Петербурга, и расхваливая достоинства ниток, спряденных из гнилой шерсти.
Двигалась и текла людская река, обтекая и разносчиков, и торговцев требухой, и рыбных зазывал, сердито торгуясь с продавцами и ахая по поводу несуразных цен.
Среди осевших глинистых берегов хмуро катила свои чёрные воды Нева, поплёскивая в широкие борта судов и лодок, втыкаясь в навозные забереги и обдавая их мелкими брызгами. Всё так же вонзалась в сердитое небо высоченная колокольня Петропавловского собора, весело желтел кораблик на шпиле Адмиралтейства, золотились купола многочисленных соборов и церквей, кое-где раздавался в воздухе колокольный звон медных ударов, а у торговых рядов стоял неумолчный гул, сливаясь в ровный и плотный звуковой ряд, висевший над толпой с самого раннего утра...
Петербург всё ещё был неказистым северным городишком, хоть и носил звучное название Северной Пальмиры и столицы России. Усыпанный низенькими бревенчатыми домишками, он лишь кое-где перемежался высокими просторными дворцами знати, огороженными железными коваными решётками и тяжёлыми дубовыми воротами, изукрашенными резьбой.
Дворцы разделяли громадные пустоши неосвоенной земли, к которым вплотную подступали избушки бедноты, кое-как слепленные из кусков дерева, крытые камышовыми крышами или соломенными пластами, на которых вырастали порой тоненькие крохотные берёзки.
Неуютная, необжитая земля, не родившая ничего, всё ещё была словно бы временным пристанищем знати и самой оголтелой городской нищеты. К дворцам по санному пути всё ещё шли и шли обозы из старой столицы. Москва снабжала своих хозяев, поселившихся на этой болотистой, мягко пружинящей под ногой землю, битой птицей и яйцами в глубоких укладках, рыбой и солью, мехом и деньгами — всё было втридорога на этой пустой и никчёмной земле, которую сделал своим парадизом, то бишь земным раем, государь русской земли — Пётр Первый.
Зато первыми приходили сюда иностранные суда, привозили диковины из Англии и Голландии, зато деревянные парусные корабли великого царя возили шерсть и кожи в ту же Англию, железо и дерево — в германские мелкие княжества, едва могущие расплатиться за товары. И постоянно торчали у низких пристаней торговые корабли, а петербургский люд уже устал удивляться нарядам голландских шкиперов и узким бескозыркам английских моряков. Теперь в толпе, шнырявшей у торговых рядов, то и дело мелькали заморские кургузые куртки или крохотные шапочки с петушиными перьями.
Ничему теперь уже не удивлялись петербуржцы, они привыкли к иноземцам и старались содрать с них побольше, выхваливая свой товар.
Екатерина со скукой глядела в окошко, держась за ремённую петлю, не спасавшую от толчков и рывков.
Скопище лачужек, лотков и прилавков, загромождённое кучами мусора и навоза, едва расчищенными лишь по самой середине прохода, не представляло весёлого зрелища. Но тепловатых! запах свежеиспечённого хлеба, которым был так богат торговый ряд, заставлял трепетать ноздри, проникал даже в закрытую карету, и Екатерина вдруг почувствовала, что была бы не прочь съесть хоть кусочек этого пахнущего свежим хлеба. С самого утра маковой росинки не было во рту: Чоглокова так торопила с выездом, что у Екатерины только и хватило времени на то, чтобы выпить чашку кофе.
Императрица ещё накануне уехала в Царское Село и наказала гофмейстерине, чтобы поторопила с выездом и великого князя Петра, и великую княгиню.
Обозы с мебелью, провизией и нарядами были отправлены ещё раньше, дворец в Царском был протоплен и приготовлен для Елизаветы. Великий князь выехал самым ранним утром, а теперь и Екатерина тащилась в этой новомодной «берлине», где невозможно было даже поставить ноги удобным образом — четыре сиденья и очень узкий проход между ними. И потому приходилось выбирать местечко между ногами Чоглокова, сидевшего напротив, спиной к движению, и грузными ботфортами князя Репнина, поместившегося рядом.
— Князь, — весело, пренебрегая всеми неудобствами, обратилась Екатерина к Репнину, нестарому ещё фельдмаршалу, назначенному командовать эскортом сопровождения великой княгини, — как насчёт горяченьких калачей?
Князь был человеком расторопным — недаром всю жизнь провёл при дворе и знал до тонкостей все нюансы этикета.
— Ох, как бы и мне хотелось! — так же весело ответил он. — Теперь можно карету остановить да позвать калачника...
Марья Семёновна, сидевшая напротив Репнина, строго нахмурилась — её узенькие бровки сошлись на самой переносице, а губы сжались в тонкую нитку. Красивое лицо мгновенно сделалось злым и обиженным.
— Матушка-государыня не одобрит, — прошипела она сквозь зубы.
— Матушка-государыня не одобрит? — спросил князь Репнин, высоко, к самому парику подняв седые кустистые брови.
Екатерина вздохнула: все, даже самые невинные её пожелания встречали весьма резкий отпор у гофмейстерины, назначенной ей Елизаветой.
— Голод не тётка, — назидательно сказал Репнин и своей длинной золочёной тростью ткнул в окошечко между Чоглоковыми в спину возницы: — Стой, карета!
И сразу замерла вся процессия. Остановились передние конногвардейцы, застыли задние, карета перестала раскачиваться, и наступило блаженное чувство покоя и умиротворения.
Князь распахнул узенькую дверцу и пальцем поманил одного из калачников, державшего на плече чистую жёлтую палку с нанизанными на ней калачиками.
Калачник сразу же сдёрнул свой суконный картуз, подскочил к дверцам и сунул в узкий ход конец заострённой палки. Запах горячего печёного хлеба разлился по всей карете.
Екатерина рассмотрела калачника с первого же взгляда и схватилась за горячие калачи. «Всем по калачику», — подумала она и бросила четыре круглых румяных, испечённых на поду хлебца с ровной дырой посередине на подстеленный заранее платок между собой и князем Репниным.
— Почём? — сурово спросила Чоглокова, не ожидавшая такой прыти от великой княгини.
— Две копейки! — весело закричал краснощёкий кудрявый калачник, так и не сбросивший ошкуренную палку с плеча, могучего, обтянутого кумачовой чистой рубахой. Ноги его в толстых лыковых лаптях по самые онучи утонули в грязи обочины, но он словно бы и не замечал ничего.
Волей-неволей пришлось Марье Семёновне растянуть тугой шнурок замшевого мешочка с деньгами — мелочью Екатерины, Чоглокова же была и хранительницей медных и серебряных монет великой княгини.
Она долго копалась в мешочке, старательно выискивая самые стёртые и старые медяки, пока князь Репнин не вынул из кармана камзола двугривенный и не бросил его калачнику в суконный картуз.
А между тем у дверец кареты уже собралась толпа — каждому хотелось продать свой товар таким знатным покупателям.
Екатерина взглянула на толпу, шевелящуюся перед дверцами, и уловила руку с глиняной кружкой, покрытой золотисто-коричневой горкой.
— И молочка, — шепнула она князю Репнину, и он сразу понял её.
Кружка с молоком, закрытым золотисто-коричневой пенкой, оказалась в руке Екатерины. Не дожидаясь, пока Чоглокова перестанет копаться в замшевом мешочке, Репнин бросил монету и молочнице и захлопнул дверцу кареты.
— Поезжай, — ткнул он тростью в спину возницы, и кортеж немедленно тронулся в путь.
Нелегко пришлось Екатерине держать в руке кружку с молоком и кусать золотистый бок калача, но она ухитрилась не пролить ни одной капли топлёного молока и съела за один присест калач с таким аппетитом, какого давно уже не наблюдала у себя за дворцовым столом.
Чоглокова презрительно отказалась от калача, зато князь Репнин и сам Чоглоков с удовольствием умяли по свежему, горячему ещё калачику.
Марья Семёновна только глотала слюнки, зато с удовольствием представляла себе, как изложит она государыне всё это происшествие и какой выговор императрица сделает великой княгине — уж как хотелось ей хоть чем-нибудь досадить Екатерине, умудрявшейся ещё и посмеиваться над шпионкой-гофмейстериной! Каждый малейший шаг обсказывала Чоглокова императрице, добавляя от себя какую-нибудь подробность, чтобы вызвать гнев и неудовольствие Елизаветы в адрес великой княгини.
Оставшийся у обочины народ дивился неслыханной удаче молодого ясноглазого калачника: полушку[4] давали ему за калач, он спросил за все свои четыре калача две копейки, а ему кинули двугривенный. И столько же получила молочница за одну-единственную кружку молока. Вздыхали, качали головами — столько деньжищ, — но потихоньку разошлись, мечтая каждый о такой удаче. Зависти и ненависти к счастливчикам всегда было полно у русского народа, тем более петербургского, выколачивавшего свои копейки — царя на коне — с огромным трудом и усилиями.
Калачник же выбрался из грязной обочины, не глядя на свои промокшие и облепленные навозом онучи и лапти, и помчался домой, твёрдо веря, что в этот день дважды удачи не будет — и так оправдал всю дневную выручку, да ещё с лихвой. Народ провожал его завистливыми и ненавидящими глазами...
А Марья Семёновна Чоглокова мысленно перебирала в уме строки наказа ей, наставления, написанного Бестужевым и одобренного Елизаветой, и мстительно поглядывала на весело болтавшую с Репниным Екатерину — то-то достанется ей от императрицы, не будет так оживлённо болтать с этим жирным князем.
Впрочем, не только относительно великой княгини были установлены Бестужевым строгие и недвусмысленные правила поведения — это касалось равным образом и её шумливого и беспокойного мужа, Петра, голштинского принца, племянника Елизаветы, вызванного ею в Россию и определённого в наследники российского престола. Две знатные особы, назначенные в качестве руководителей и возглавлявшие дворы великого князя и великой княгини, должны были исправить некоторые непристойные привычки его императорского высочества — не выливать за столом на головы прислуги содержимое своего стакана, не говорить грубости и неприличные шутки лицам, допущенным ко двору и даже иностранцам, не гримасничать публично и кривляться всем телом...
Конечно, Пётр делал всё это, и ничто, никакие строгие увещевания и самые разнообразные наставления, высказываемые в деликатной форме, не отучили его от глупых шуток и кривляний. Он велел сделать себе театр марионеток в своей комнате, а время проводил лишь в обществе лакеев. Даже Екатерина позднее писала в своих «Записках», что Пётр составил себе полк из всей своей свиты. Придворные лакеи, егеря, садовники — все получили мушкеты и обязаны были выполнять все команды его императорского высочества, кордегардией[5] им служил коридор, а Екатерину он заставлял стоять на часах с мушкетом долгие часы.
Это было только то, что касалось Петра в инструкции Бестужева. А уж строки о великой княгине Чоглокова выучила почти наизусть: отсутствие усердия к православной вере, запрещённое ей вмешательство в государственные дела империи или дела герцогства Голштинского, номинальным правителем которого оставался Пётр, но всего более — чрезмерная фамильярность с молодыми вельможами, посещающими двор, даже с пажами и лакеями. Мстительно думала Чоглокова о том, как расстроила она эти фамильярные отношения с тремя братьями Чернышевыми. Все трое были молоды, высоки ростом, красивы и пользовались особой благосклонностью великого князя. Старшего, Андрея, она, великая княгиня, ласково называла «сынок мой», а он её — «матушкой». С ужимками и обидными намёками рассказала Чоглокова об этом императрице, и Андрея арестовали, удалили от двора, а потом выслали в Сибирь. А всего-то и было, что Екатерина в приоткрытой двери выслушала какие-то слова Чернышева, и в тот же момент шпион Елизаветы Девьер увидел это и нашёл предлог устранить Чернышева, сказав, что великий князь просит великую княгиню к себе.
Правда, ещё камердинер Екатерины Тимофей Евреинов предупредил великую княгиню, что она подвергается большой опасности, выслушивая Чернышевых, но и Тимофей был удалён от двора и сослан в отдалённые области. Да и все сколько-нибудь близкие Екатерине люди стали исчезать с предельной последовательностью...
Помнила Чоглокова и ещё один, самый главный пункт инструкции Бестужева — всячески побуждать великую княгиню, «чтобы она со всеудобовымышленным добрым и приветливым поступком, его нраву угождением, уступлением, любовию, приятностию и горячестию обходилась и генерально всё то употребила, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлещи, каким бы образом с ним в постоянном добром согласии жить».
Однако уже прошло добрых восемь лет, а наследника от принца и принцессы всё не было.
И Чоглокова больше всего боялась за своё пребывание при дворе, потому что инструкция Бестужева так и не была выполнена. Наследник всё не появлялся, и всю вину за это Чоглокова старалась свалить на великую княгиню...
Всю дорогу до Царского Села Марья Семёновна составляла в уме обвинительную речь, скорее, донос на Екатерину, так своенравно остановившую выезд императорской кареты.
Сима но себе Марья Семёновна не была злой или враждебной, но она старалась тщательно выполнять царские наказы и, не зная, в чём дело, почему у императорских высочеств нет детей, обвиняла во всём великую княгиню. Марья Семёновна была моложе Екатерины, красива, влюблена в своего мужа и при своём двадцатичетырёхлетнем возрасте уже родила четверых детей. Может быть, Елизавета и посчитала, что такой пример добродетельной и многодетной матери будет назиданием Екатерине. И постепенно Чоглокова добилась, что вокруг великой княгини образовалась пустота — все сколько-нибудь близкие люди были удалены от двора. Екатерина проводила своё время только в чтении...
К несчастью для Марьи Семёновны, вместе с ней в приёмную императрицы вошёл и князь Репнин. Он вёл эскорт великой княгини и тоже должен был отчитаться за путешествие.
Едва лишь Чоглокова заикнулась, что великая княгиня непредвиденно остановила карету, как князь лукаво объявил Елизавете:
— А ну как это прихоть...
И Елизавета поняла. Она сидела за своим чайным столиком, одна ножка у которого во время переезда была сломана и наскоро подвязана, пила чай из драгоценнейшей чашки и смотрела хмуро, неласково.
Но князь Репнин недаром много лет провёл при дворе, и потому первыми его словами были такие:
— Господи, сколько вижу мою благодетельницу, столько поражаюсь: личико как яичко, ни одной морщинки, ручки белые да гладкие. Позволь, государыня, хоть краешек твоего, красавицы и молодицы, платья поцеловать...
Елизавета всегда гордилась своей красотой, и любое упоминание об этом было ей приятно. И потому постепенно на её губах появилась слабая ещё, но уже благосклонная улыбка.
А уж выслушав такие слова, как «прихоть», она вся так и встрепенулась: а ну как действительно эта прихоть — признак беременности великой княгини?
Но Чоглокова разочаровала её:
— Третий день, как перестала мазаться...
Князь Репнин немного покраснел: он не слишком-то вникал в женскую природу и всегда смущался, если ему приходилось выслушивать интимные подробности женского состояния.
Бестужев, сидевший против Елизаветы, искоса взглянул на князя, потом на свою шпионку и доносчицу, действующую строго по его инструкции, и ничего не сказал.
— Уж сколько лет, — сердито произнесла императрица, — а она всё пустая...
И опять князь Репнин вставил своё слово:
— Может, не от великой княгини зависит...
Бестужев молча повёл глазами в сторону князя — эта мысль ещё не приходила в его голову.
Елизавета мановением руки отпустила эскорт Екатерины. Князь Репнин вышел первым, вслед порхнула и Чоглокова.
— Ну, что скажешь? — спросила Елизавета у Бестужева.
— Дозволь, матушка-государыня, молвить слово запретное, — не растерялся Бестужев.
Она молча кивнула головой.
— Сколько родовитых молодых людей вьются вокруг великой княгини, — раздумчиво начал Бестужев. — Повели — и родится внук от самой родовитой фамилии...
Елизавета дико взглянула на Бестужева.
— Чтоб престол замарала... — заикнулась было она, но сразу замолчала: встали перед ней все проделки её племянника, а, кроме того, ещё и отсутствие детей...
— Ладно, спасибо за совет, мудрая твоя голова, — тихо промолвила Елизавета и, едва Бестужев ушёл, велела кликнуть всё ту же Марью Семёновну Чоглокову.
Прямо и строго высказала она всё доносчице и шпионке и спросила:
— Кто может быть?
Чоглокова смущённо переминалась с ноги на ногу.
— Двоих отличает, — наконец выговорила она. — Лев Нарышкин да Сергей Салтыков...
Елизавета призадумалась. Слов нет, оба родовиты, да и детей уже куча.
Лев Нарышкин ведёт свой род ещё от времён второй жены Алексея Михайловича, отца Петра Первого, деда самой Елизаветы. Тут корень крепкий, самый боярский. Правда, внешностью не вышел — рот до ушей, тонкий да длинный, оттого и всегда смеяться хочется, глядя на него. А он ещё и ужимками своими смешит всех, так и этак быть ему шутом при дворе.
Сергей Салтыков красив, умён, два года назад женился, и жена уже принесла ему сына, а теперь снова ходит беременная. И род у него, пожалуй, познатнее нарышкинского: Прасковья Салтыкова из этого рода была женой слабоумного и скорбного Ивана-царя, начинавшего царствовать вместе с Петром Первым. И хоть маломощен был царь Иван, да пышная и гладкая Прасковья ухитрилась родить ему трёх дочерей.
— Ладно, скажи слово великой княгине, пусть из этих двух и выберет. Да гляди, никому ни словечка, не то...
Чоглокова бросилась в ноги императрице:
— Да когда ж я...
— Иди, иди, — бросила Елизавета, — да гляди, чтоб всё чисто и скрытно было. Не исполнишь службу — высеку, — грозно пообещала она.
2
Князь Репнин в последний раз исполнял свои обязанности гофмаршала великокняжеского двора. Из Вены вернулся муж Чоглоковой, и князя отставили от должности, поручив её Чоглокову и имея надежду на то, что муж и жена вернее будут следить за великим князем и великой княгиней.
Екатерина очень горевала, когда узнала об этой отставке. Пожалуй, князь Репнин, любезнейший русский вельможа и умнейшая голова, по отзывам своих современников, единственный защищал Екатерину в глазах Елизаветы и своим вежливым обхождением и справедливостью вызывал у неё горячее уважение.
Но она давно уже поняла, что стоит ей только выказать какое-то расположение к человеку, как его тут же удаляют от двора, чтобы, не дай бог, не проявились лукавство и притворство великой княгини, о которой Елизавета уже давно сложила мнение, что та умна и, пожалуй, может составить заговор против неё, императрицы. Потому и относилась она к великой княгине так подозрительно и внимательно следила за тем, чтобы вокруг неё не образовался кружок доверенных лиц.
Царское Село было местом хорошего отдыха для Екатерины. Зимний дворец в Петербурге всё ещё был недостроен, всюду гуляли сквозняки, в широченные окна дуло, двери не закрывались как следует, печи дымили. Нигде не найти было уюта и тепла. Великолепные торжественные залы и анфилады изумительных комнат были лишь для парада, а даже императорская семья ютилась в узких и длинных комнатах, где не было никакой роскошной мебели, и придворным фрейлинам приходилось сидеть в приёмных императорских высочеств по семнадцать человек в одной комнатушке.
Да и большая часть комнат были проходными, уединения было не достигнуть, и потому Екатерина начинала ждать весны, едва только появлялось весеннее солнце и можно было перебираться в летние дворцы Петергофа или Царского Села, Ораниенбаума или какого-нибудь другого загородного местечка. Впрочем, и эти летние дворцы тоже были деревянными, строились наспех, наскоро, никто не думал о комфорте и уюте. Отделывались дорогой камкой[6] и красивыми гобеленами лишь парадные залы, чтобы можно было показать всей Европе роскошь и блеск русского двора.
Потому Екатерина стала оставлять в своих загородных дворцах часть мебели: не перевозить же её каждый раз, как это делала Елизавета. Необжитые и необставленные дворцы ежегодно весной приводились в порядок заново. Вновь привозилась вся мебель; как всегда, при перевозках часть её, драгоценная и богато изукрашенная, ломалась, терялась, и нередко случалось, что даже сама императрица сидела за столом о трёх ножках, а стулья были подвязаны бечёвками, чтобы не падали...
Но здесь, в Царском, был отличный лес, великолепная конюшня, сотни егерей, и Екатерина порой с самого раннего утра уезжала на охоту совсем одна, сопровождаемая только слугой-охотником.
Она очень любила верховую езду. Подчинялась приказаниям Елизаветы — садиться лишь в английское дамское седло, но потихоньку велела его исправить, чтобы можно было ездить и по-мужски, раскинув ноги на обе стороны коня. Садилась вроде бы в дамское седло, но едва отъезжала подальше, как откидывала вторую половину седла и лихо скакала, управляясь с конём властно и ласково. Лошади её любили — она никогда не стегала их плёткой, похлопывала по холкам с нежностью, прикармливала кусочками хлеба и сахара, и кони становились послушными и кроткими и легко несли на себе маленькую наездницу.
Густые и тёмные еловые леса и белоствольные берёзовые рощицы вокруг Царского перемежались глубокими луговинами с пёстрым весёлым разнотравьем, голубели под ясным небом искусственные прямоугольные пруды, в концах которых всё ещё шелестели пожелтевшими верхушками камыши и плавала редкая ряска, свежей лакированной зеленью сверкали регулярные сады, разбитые позади дворцов, а дороги уже пылились и сыпали тонкой, ещё не летней пылью.
Екатерина скакала по дороге, оставляя за собой шлейф туманной пыли. Трепетало павлинье перо на её маленькой шапочке, приколотой к копне роскошных каштановых волос, ветер раздувал длинную вуаль за спиной, а её пышная амазонка покрывала весь круп коня, легко перескакивающего через неглубокие овражки с крохотными ручейками, неслышно ползущими по дну. Солнце и весёлый весенний ветер били Екатерине прямо в лицо, заставляли жмуриться от тонких лучиков, попадающих в глаза, и она радостно морщилась, крепкой маленькой рукой сдерживая поводья и упираясь в стремена ногами в специальных козловых ботфортах.
Слуга скакал за ней неспешно и быстрыми глазами обшаривал всю расстилающуюся перед ним поверхность земли, отыскивая комочек серой шерсти, удирающий от охотников. Уже не раз и не два вскидывал он на плечо тяжёлый мушкет и переводил взгляд на Екатерину. Ждал, заметит ли великая княгиня тот проворный комочек шерсти, прыгуна зайца, или ему надобно будет стрелять без её приказа.
Екатерина замечала, быстро кивала головой, и конь вздрагивал от неожиданного выстрела, словно его ударяли плёткой по самому больному месту.
Подскакав к тому месту, где уже валялся в окровавленной шерсти подстреленный заяц, Екатерина молча наблюдала, как егерь спешивается, разворачивает тушку добычи и приторачивает её к седлу.
И снова скакала, и снова радовалась и ветру, бьющему в лицо, и ласковым весенним лучикам солнца, норовившим ослепить глаза.
Эти утренние прогулки только с одним слугой доставляли ей невыразимое наслаждение — после душных задымлённых залов Зимнего и сырости деревянных дворцов Царского сердце так и рвалось в простор русских полей и лесов. Никому и в голову не приходило вставать раным-рано, скакать по лесам и полям, любоваться весёлым разнотравьем, мрачными стволами вековых елей, высокими тонкими ножками берёз и их сомкнутой кроной, попадать то в полосу мрачной темноты, то в светлую солнечную прогалину...
Разгорячённая скачкой, она уже подъехала к высокому крыльцу, сидя в английском седле по-женски — ноги на одну сторону, что было крайне неудобно, — как увидела поджидавшую её гофмейстерину, а уж если прямо сказать — надзирательницу Марью Семёновну Чоглокову, приставленную к её двору самой императрицей.
Чоглокова внимательно наблюдала, как спешилась Екатерина, как ловко вспрыгнула на первые ступеньки крыльца. Нет, всё в порядке, великая княгиня не скачет по-мужски, её английское седло устроено по-дамски, и не о чем будет доложить императрице.
— Ваше высочество, — обратилась она к Екатерине, всё ещё пылавшей лицом от скачки и солнца, — я желала бы переговорить с вами...
— Марья Семёновна, — весело улыбнулась Екатерина, — не позволите ли вы мне проглотить хотя бы кусок хлеба? Ведь ваш разговор будет долгим и интересным, а я умираю от голода...
Чоглокова неодобрительно пожала плечами. Сама она уже успела плотно позавтракать, и ей непонятны были слова о голоде.
Но весь быстрый завтрак она провела рядом с великой княгиней, горя нетерпением говорить с ней.
После завтрака обе они, Марья Семёновна и Екатерина, вышли к пруду, в котором уже плавали белые и чёрные лебеди, и великая княгиня стала бросать им кусочки хлеба.
Ей скучно было начинать разговор с Чоглоковой: ничего хорошего не могло получиться из этого разговора — опять будут, наверное, какие-то назидания, упрёки, исходившие от лица самой Елизаветы, но передаваемые ей, Екатерине, гофмейстериной. И поскольку Марья Семёновна никогда не смягчала выражений Елизаветы и Екатерина узнавала в точных оборотах речи Чоглоковой слова императрицы, она приготовилась выслушать очередную порцию попрёков и назиданий.
Но Марья Семёновна на этот раз приняла вид таинственный и важный. Сначала она заговорила о том, что вся империя ждёт наследника от Петра и Екатерины. Но это Екатерина выслушивала уже неоднократно, и ничего нового в этом разговоре не было. Она лишь поморщилась и со скучающим видом продолжала бросать кусочки хлеба лебедям, которые с шумом собрались у берега и ныряли за хлебом, уходившим в глубину пруда.
— Я говорю с вами от имени матушки-государыни, — напомнила Марья Семёновна.
Екатерина только кивнула головой.
Это и всегда было так — ничего не придумывала Чоглокова от себя, всегда говорила лишь слова императрицы, которой всё недосуг было побеседовать со своей невесткой: балы, куртаги[7], поездки на богомолье, переодевания по семь раз на дню отнимали у неё всё время.
— Вы добродетельны, — вдруг сказала Марья Семёновна Екатерине, — и свято храните честь имени вашего супруга...
Екатерина в удивлении подняла на неё глаза. С чего вдруг вздумалось Марье Семёновне говорить ей комплименты?
— Да-да, — подтвердила Марья Семёновна, — и матушка-государыня уважает в вас это прекрасное правило...
Екатерина навострила уши. Что всё это значило, почему вдруг императрице захотелось похвалить её? Ведь та только и делала, что бранила Екатерину, а она опускала голову и шептала:
— Виновата, матушка...
Неважно, по какому поводу были эти разносы — то ли за слишком откровенный вырез платья, то ли за фамильярность со слугами и придворными...
— Да, матушка-императрица довольна вами и вашей добродетелью, — продолжила Марья Семёновна, опуская глаза. — Но...
И Екатерина поняла, что теперь-то и последует самая главная часть рассуждений Елизаветы.
— Не всегда добродетель совпадает с интересами империи, — с трудом выговорила гофмейстерина.
Ей и в самом деле было трудно это произносить, она столько раз наставляла Екатерину, что нельзя флиртовать ни с кем, и свято оберегала её честь и достоинство.
— Иногда бывают случаи, что приходится в угоду государственным интересам жертвовать своей добродетелью... — докончила Чоглокова.
Екатерина слушала в великом изумлении. Она даже перестала кормить лебедей, и они потихоньку уплывали в разные концы пруда, не надеясь больше на подачки молодой женщины в ярком сиреневом платье, стоящей на берегу.
— Да, — снова начала в смущении Марья Семёновна, — престолонаследие должно быть обеспечено, а поскольку у вас нет детей уже почти девять лет, то кто-то из вас — извините, что я так говорю, это не мои слова, а государыни, — не обладает способностью к деторождению...
Екатерина хотела было перебить Марью Семёновну, но та жестом руки заставила её замолчать.
— Никто ни в чём никого не обвиняет, — продолжила она, — но даже немочка-певичка, которую каждый раз приглашали к столу великого князя, не забеременела...
Екатерина слушала со всё возрастающим интересом. Куда повернётся разговор, она уже давно поняла, но не знала ещё или не догадывалась, кого же предложат ей в нарушители её девственности...
— Потому и приказала императрица, — вновь неуклюже начала Марья Семёновна, — выбрать вам в наперсники кого-то из родовитых людей...
Екатерина по-прежнему в изумлении смотрела на Марью Семёновну, не желая помогать ей в таком тягостном для гофмейстерины разговоре и не показывая ни малейшим движением, что догадывается о повороте в нём.
— Я обратила внимание матушки-императрицы, — всё более смущаясь и запинаясь, говорила Чоглокова, — что самыми родовитыми и самыми красивыми молодыми людьми среди вашего двора являются двое ваших приближённых особ — Лев Нарышкин и Сергей Салтыков. Знаю, что склонность нельзя приручить, она либо даётся, либо нет. И матушка-государыня поручила мне подсказать вам: склонностью к кому-либо из них может быть обеспечена и безопасность государства, и продолжение династии...
Екатерине очень хотелось язвительно подколоть Марью Семёновну, резко обрывавшую все её сколько-нибудь любезные разговоры и пикировки, а теперь вдруг ставшую сводницей, обыкновенной простой сводницей, хоть и по поручению императрицы.
— Кого же вы предпочтёте, — вдруг прямо обратилась к Екатерине Марья Семёновна, — Льва Нарышкина?
— О нет, только не его, — передёрнула плечами Екатерина и невольно осадила себя в душе — так она выдала свою симпатию к Сергею Салтыкову.
— Ну, значит, пусть это будет Сергей Салтыков, — поднялась со скамейки Марья Семёновна, — и поверьте, я закрою глаза на все ваши свидания и буду содействовать вам...
Она важно удалилась, а Екатерина осталась сидеть у пруда и долго раздумывала об этом разговоре.
О Сергее Салтыкове она не смела даже и мечтать. Он был прекрасен, как день, и невольно напоминал ей собой того здорового и красивого калачника, что просунул палку с калачами в полутёмное нутро кареты. Те же светло-русые кудри, разметавшиеся по тугим и крепким плечам, обтянутым у калачника простой кумачовой косовороткой, а у Сергея скрытым под раззолоченным камзолом и расшитым золотом кафтаном, те же сильные и длинные ноги, у калачника стоявшие в стылой и грязной луже на обочине дороги, а у Сергея затянутые в шёлковые белые чулки, обвязанные бантами и всунутые в лаковые башмаки с квадратными носами, украшенные алмазными пряжками, те же сильные и нежные руки — у калачника выступающие прямо из широких рукавов рубахи, а у Сергея спрятанные под кружевными манжетами.
Красивое тело, великолепное лицо — о таком можно только мечтать. Разве может сравниться с ним какой-то Захар или Андрей Чернышев, имеющие обыкновенную внешность и два-три пошлых комплимента в запасе?
Сергей был образован, его любезности отличались тонкостью и изяществом, хотя Екатерина многое знала о его родословной. Мать Сергея отличалась такой распущенностью нравов, что о её поведении ходили легенды: вместе со служанкой она, урождённая княгиня Гагарина, являлась в солдатские казармы, вместе с солдатами напивалась и отдавалась в ночь четырём-пяти крепким мужчинам. Но зато все триста гренадер[8] полка были в её полной власти, и эти-то гренадеры и возвели Елизавету на престол...
Нежная белая кожа лица Сергея зачаровывала Екатерину, едва она искоса бросала взгляд на него, ей нравился европейский удлинённый овал лица, пушистая волна светло-русых волос, кольцами спускавшихся на плечи.
Да, Салтыков был красив, как ясный весенний день.
Но два года назад, всего лишь два года назад он женился по любви на дочери Матрёны Балк, красавице и умнице, и Екатерина не могла себе представить, чтобы он ей изменил...
Никогда Екатерина не посмела бы и взглянуть на него, не будь этого странного разговора с передатчицей мыслей императрицы — Марьей Семёновной. Не великая княгиня выбрала Сергея, его выбрали ей в любовники — какая странная ситуация, и Екатерина только покачивала головой. Зато теперь все её мысли были лишь о Сергее.
Он был одновременно крепок и изящен — редкое сочетание, воплощение силы, смелости и красоты.
Сама она, будучи уже столько лет великой княгиней, умела нравиться, но всё ещё несколько стеснялась своей внешности.
Всегда помнила она знаменитые, врезавшиеся ей в память слова своей первой воспитательницы, мадемуазель Кардель, истой француженки, не учившейся нигде и знавшей о жизни и женщине всё. Она обучала маленькую Софию Фредерику Августу изящным французским манерам, не имея никакого понятия о красоте французского слога, французскому языку, языку предместий Парижа и Лиона, настолько отличавшемуся от изысканного версальского выговора, насколько отличается простая треска от красного лосося, но при всём этом не лишена была природного изящества и остроумия и одёргивала свою воспитанницу такими колкими ироническими замечаниями, что они навсегда откладывались в памяти той, в отличие от пощёчин и шлепков матери, проносившихся без следа.
И потому Екатерина с детства запомнила слова мадемуазель Кардель:
— Опустите ваш подбородок, иначе рискуете проткнуть им первого встречного.
Конечно, это было слишком сильным преувеличением, но именно благодаря этой иронии Екатерина научилась скрывать этот свой недостаток настолько, что к двадцати четырём годам у неё образовалась складка под острым и длинным подбородком — второй подбородок, который несколько сглаживал длину её лица.
Пока что она довольствовалась малым: немного некрасивый, но говорливый Андрей Чернышев, не боявшийся отпускать великой княгине пошлые и скабрёзные комплименты, его брат, тоже не отличавшийся особой красотой, но грубоватый и напористый по натуре, — оба они осаждали великую княгиню, не замечая её подбородка, вглядываясь только в её всегда сияющие, весёлые серо-голубые глаза и великолепную копну каштановых, всегда пышно причёсанные волос.
Она поддавалась их любезностям с радостной надеждой на любовь и верность, упивалась их грубоватыми и вульгарными, иной раз вовсе неприличными комплиментами — она жаждала любви, нежности, страсти.
В её семье этого не было...
Втайне взглядывала она иногда на Сергея Салтыкова, камергера двора малого, именно её мужа, Петра Фёдоровича, и со злостью думала, отчего так непохож он на этого прекрасного, изящного камергера.
Ей так хотелось любви, нежности, заботы! С жаром бросалась она к очередной камеристке, назначенной императрицей, в надежде обрести подругу, с которой можно было бы порассуждать на эти извечные женские темы, но встречала лишь предательство, шпионство, каждое её слово доносилось Елизавете, и она узнавала свои фразы в едких намёках императрицы, в её упрёках и язвительных замечаниях.
И хорошо понимала, откуда идёт эта желчная ядовитость, это пренебрежительное отношение к ней, царской невестке, — она всё ещё не выполнила свой долг по отношению к царскому двору, по отношению к династии, у неё всё ещё не было ребёнка, наследника титула, короны. А прошло уже немало лет, как она была обвенчана с Петром Фёдоровичем...
Екатерина долго сидела на скамейке у прямоугольного пруда, заголубевшего под весенним ясным небом, и думала о превратностях своей судьбы.
Что ж, она вовсе не против, чтобы её любовником стал Сергей Салтыков. Но как же его жена, дочь той самой знаменитой Матрёны Балк, которая устраивала свидания Екатерины Первой с небезызвестным камергером Вильямом Монсом и который своей головой поплатился за связь с императрицей? Узнав об этой связи, Пётр Первый рассвирепел, и только вмешательство самых важных вельмож удержало его от заключения Екатерины Первой в монастырь. Но Монсу не удалось увернуться от наказания — Пётр отрубил ему голову, а Матрёну Балк, сводницу и доверенную фрейлину Екатерины, загнал в Сибирь.
Преемники Петра возвратили Матрёну из Сибири, и теперь её дочери блистали при дворе самой Елизаветы. Одна из них, такая же, как мать, красавица и искусная интриганка, и была женой Сергея Салтыкова, женившегося на ней по самой пламенной и безумной любви.
Разве сможет он отказаться от своей жены, решиться влюбиться в неказистую великую княгиню?
Но Екатерина утешала себя тем, что тут замешаны династические интересы, и Сергею вовсе не обязательно влюбляться в неё, лишь бы он хорошо выполнил своё дело.
Тем не менее она уже горевала, сожалея, что не сможет отдаться ему, не выяснив, пылает ли он такой же страстью к ней, как и она уже начинала пылать.
А ведь ей только намекнули, что эта связь была бы желательна для императорского двора. И почему нельзя остаться холодной и равнодушной, лишь забеременеть от Сергея, и всё, сдержав свои чувства в кулаке? Нет, без любви, без пламени не представляла она себе близости с ним...
Она всё сидела и размышляла, представляя себе, как всё произойдёт, ярко и красочно придумывала первое свидание, и понимала, что уже по самые уши увязла в своих мечтаниях, что любовь её уже зародилась и что без этого жизнь будет пустой и неинтересной. Она уже полюбила Сергея Салтыкова, хотя и не виделась ещё с ним после разговора с Марьей Семёновной...
В тот же день Сергей Салтыков был вызван к князю-канцлеру Бестужеву, и ему подробно объяснили его задачу...
3
Глазами Марьи Семёновны Чоглоковой внимательно наблюдала императрица Елизавета за развитием созданного по её приказу романа.
Ежевечерне, перед куртагом или балом, Марья Семёновна представала пред светлые очи государыни и, краснея от смущения, опуская глаза долу, докладывала подробнейшим образом.
Одно интересовало теперь Елизавету: скоро ли забеременеет великая княгиня, чтобы обеспечить престолонаследие династии Романовых.
Но роман развивался вяло и принуждённо: при всей своей ловкости и развязности Сергей Салтыков не сумел ещё преодолеть смущение и неловкость Екатерины.
Однажды блестящая раззолоченная кавалькада отправилась в лес на прогулку. Скоро вся толпа рассыпалась на группки, потом на пары, и теперь уже мелькали среди тёмных стволов деревьев мундиры гвардейских генералов и сановников и красивые парчовые амазонки великосветских дам. Лица разрумянились, вуали развевались за спиной, лошади легко несли галантных кавалеров и романтически настроенных женщин, и все изощрялись в комплиментах и нарядной броскости флирта, способного заменить дружескую лёгкую беседу, отвлечь от забот и дел.
Даже старички ещё петровских времён, неуклюже сидящие в сёдлах, возвышаясь высокими париками на голых черепах, старались не отстать от молодёжи и то и дело сыпали старомодные любезности то одной, то другой юной фрейлине — им уже неважно было, кто рядом, важно было произнести комплимент забытой тридцатилетней давности и снова почувствовать себя в том времени, когда старый и сморщенный сановник был молодым и грубоватым...
Екатерина и не заметила, как её конь оказался возле высокой каурой лошади Сергея Салтыкова, и пара эта неслась навстречу всё новым и новым светлым прогалинам и хмурой тени под кронами деревьев. Сбегали на их разгорячённые скачкой лица ажурные линии листвы и солнечные лучи, оба не замечали времени — так сладостно было скакать по разнотравью леса, вдыхать крепкий смолистый аромат соснового бора и терпкое благоухание свежей влажной травы.
Скоро от толпы, сопровождавшей их по опушке, не осталось и видимого пятна, даже не мелькали среди стволов раззолоченные мундиры и изящные амазонки — они остались одни в самой глубине леса.
Сергей придержал поводья своей лошади и схватился рукой за узду коня Екатерины.
— Наконец-то мы одни, — негромко сказал он.
Она удивлённо подняла на него глаза. Что он хочет сказать этим «наконец-то»?..
— Разве вы думали о таком уединении? — недоумённо произнесла она.
— Мечтал, — резко отозвался он, — но вы всё время на людях, вас невозможно найти даже взглядом.
И Екатерина взглянула прямо в его глаза. Их серая глубина заставляла утопать в ней, она засмотрелась, не в силах оторваться от его взгляда — требовательного, прямого и бесстрашного.
Никогда ещё не видела она таких глаз. Чернышевы смотрели на неё преданными глазами собак, приезжавший изредка к обедам Кирилл Разумовский едва смел поднять на неё взгляд...
— Вы так хороши, так прекрасны, что у меня нет и слов таких, чтобы выразить своё восхищение, — несколько отстранённым, но полным почти непритворного жара голосом начал Сергей.
— Зачем вы так говорите, — отмахнулась Екатерина, — ваша жена такая красавица, и вы всего-то два года назад женились на ней, как говорят, по безумной любви...
— Ах, — немножко театрально поник он головой, — я видел в ней золотой самородок, только золото блестело перед моими глазами, когда я был влюблён. А теперь... что ж, теперь это просто кусок свинца...
Екатерина была изумлена.
— Разве любовь проходит так быстро? — удивлённо спросила она.
— И даже слишком быстро. Любовь — это безумие, которое затуманивает наш ум, ослепляет наши глаза, и мы не видим того, что есть за сверкающей оболочкой...
— И вы решили, что теперь стоит обратиться к другим ценностям? — лукаво прищурилась Екатерина.
— Нет, но мне кажется, что иногда стоит внимательно присмотреться к тому, что видишь за роскошным фасадом...
— И что же вы видите? — опять лукаво улыбнулась она.
— Вы не только хороши, прелестны, в вас есть такой внутренний огонь, которым вы можете согреть сердце всякого, а уж ваш ум наверняка оценил не я один...
Этот разговор всё больше и больше будоражил сердце Екатерины, и лицо её запылало от внутреннего жара. И этот румянец на её смугловатом от загара лице, и эта изящная фигура на прекрасном коне, и эта крохотная шапочка с павлиньим пером, заколотая на роскошных её волосах длинными костяными гребнями и заколками, — всё это доставляло Сергею невыразимое и теперь уже непритворное наслаждение.
— Как вы прекрасны, — повторил он, и такое покорное, собачье выражение появилось в его глазах, что Екатерина поняла — он и в самом деле говорит правду.
А Сергей продолжал:
— Как я хотел бы быть вашей лайковой перчаткой, чтобы касаться вашей руки, или быть вашим жемчужным ожерельем, так крепко впившимся в вашу прелестную шейку, или даже вашей прелестной шапочкой, которая так вам идёт...
Он не договорил.
— Почему вы знаете, что сердце моё не занято? — прямо, без обиняков спросила Екатерина.
— Этого не допустит Бог, он видит, какой страстью я пылаю, и не захочет лишить меня любви и жизни.
— Это что, объяснение в любви? — опять прямо спросила она.
— Разве вы ещё не знаете, как я к вам отношусь? — удивлённо произнёс Салтыков, пожирая глазами всю её изящную фигуру, возвышающуюся на высоком коне.
— Откуда же мне знать? — пожала плечами Екатерина. — Разве вы когда-нибудь говорили мне об этом? И разве ваши комплименты не были адресованы многим молодым фрейлинам?
— Только через них пытался я донести до вашего сердца весь пыл моей души. И вы не поняли её призывов, не оставили своих сомнений в правдивости моих чувств...
Этот любовный флирт, эта игра взбудоражила всё существо Екатерины — ей нравилось это заигрывание, его красивые слова, хотя в душе она всё время чувствовала, что он говорит это не вполне искренне и что, наверное, и с ним также говорила Чоглокова или, того хуже, Бестужев, чтобы столкнуть, сблизить их...
И всё-таки, чувствуя некоторую фальшь в словах Сергея, она поддалась очарованию его фраз, галантности, с какой он сыпал и сыпал комплиментами, и ей уже нужно было, чтобы он без конца твердил о своей любви.
Но она осторожно оглянулась по сторонам — не видит ли кто-нибудь эту сцену, не наблюдают ли за ними внимательные глаза бесчисленных соглядатаев. Нет, как будто не было видно за деревьями ни одной раззолоченной тряпки, не слышно ни одного шороха от стука копыт по перегнившей старой листве. И всё-таки она решила прекратить этот разговор: её чересчур строгая тюрьма научила её не доверять лишним словам и лишним минутам в обществе такого известного повесы, как Сергей Салтыков.
— Пустите мою лошадь, — вместо ответа потребовала она. — Кто-нибудь увидит нас, и пойдут нехорошие слухи.
Он продолжал крепко держать повод её коня.
— Скажите лишь одно слово, чтобы я знал, что и вы ко мне неравнодушны, — почти приказал он. — Тогда я отпущу вас...
Снова оглянувшись, она тихонько ответила:
— Пусть будет так, только пустите меня.
— Нет, повторите это так, чтобы я понял, что это сказано без насилия и добровольно.
— Хорошо, да, да, — покраснев и желая вырваться из этого очаровательного плена, произнесла она.
— Теперь я спокоен, теперь моя душа будет постоянно стремиться к вашей, пока не соединит нас несказанное счастье...
Он отпустил повод её коня, и она отъехала подальше, чтобы с безопасного расстояния крикнуть ему:
— Нет, нет!
— Да, да! — смеясь, ответил он. — Слово дано!
Она ещё отрицательно качала головой, направляя коня к поляне, где расположились все молодые и старые придворные на широких больших коврах, приготовленных для завтрака в лесу.
Едва она подскакала, как сразу навстречу ей кинулись слуги, приняли её со стремян и быстро увели коня, чтобы разнуздать его, напоить и дать немножко попастись на свежей травке.
Сергей подъехал не скоро, и, пожалуй, никто не заметил, что они были в лесу вдвоём, — так приходилось великой княгине опасаться за свою репутацию...
У парадного дворца Екатерина почти вплотную столкнулась с Елизаветой, садившейся в экипаж для прогулки по полям.
Императрица подозрительно оглядела невестку — сидит в седле вроде как по-дамски, амазонка скромная, но лицо, боже, что за лицо!
Она легко, пальчиком, поманила Екатерину, и та, едва сойдя с коня, подскочила к карете.
— Ну, матушка, — нараспев сказала Елизавета, — чисто арапка, когда и успела так зачернеть?
И тут же обратилась к Чоглоковой, встречавшей великую княгиню:
— А ты куда, Марья Семёновна, смотришь? Не видишь, как подурнела и почернела лицом великая княгиня? Сей же миг — три дня из дому не выходить и мазать лицо — яичный белок, лимон да французская водка, знаешь сама рецепт. И чтоб к балу великая княгиня опять была бела и чиста лицом...
Она с удовлетворением ещё раз оглядела Екатерину: всё-таки очень нравилось императрице, что никто не мог быть белее её лицом, всё ещё считала себя стареющая государыня образцом красоты, хоть и сердилась на свой несколько широковатый и рыхлый нос. Но придворные льстецы не заостряли внимание на носе, а твердили лишь о нежной, почти прозрачной коже да восхваляли густые рыжеватые волосы, золотым каскадом падавшие на спину и плечи Елизаветы...
Марья Семёновна недовольно оглянулась на великую княгиню. Та далее не успела сказать своё привычное «виновата, матушка», как Елизавета уже махнула рукой в кружевной перчатке, и карета тут же отъехала.
Екатерина досадливо пожала плечами: очень жаль, что по приказанию императрицы ей придётся просидеть три дня дома, в четырёх стенах, не скакать по полям и лесам, не наслаждаться свежим ветерком и тончайшим ароматом лесного и полевого разнотравья.
Но делать нечего, пришлось отдать своё лицо в распоряжение гофмейстерины, которая тут же приготовила снадобье и принялась натирать им щёки, нос и подбородок великой княгини.
Снадобье действительно подействовало, и уже к вечеру Екатерина заметила, как посветлела кожа на лице. Но приказ не выходить из дому она строго соблюдала...
На другой день гофмейстерина смущённо, переминаясь с ноги на ногу, отпросилась из дворца, якобы навестить семью, и осторожно сказала, что никого, кроме дежурной камер-фрау, в приёмной не останется.
Екатерина навострила уши — она не знала, чему приписать это отпрашивание и полное одиночество, в котором оставляли её, великую княгиню, на несколько часов.
Но всё выяснилось довольно скоро. Едва Марья Семёновна удалилась, как за портьеру дверей осторожно скользнул Сергей Салтыков.
Значит, Марья Семёновна сообщила ему, что несколько часов будут в его полном распоряжении, а великой княгине приказано сидеть дома, а то и лежать в постели.
И снова между ними начался длинный, почти бессмысленный разговор, всё об одном и том же: Салтыков твердил о своей любви, нежно прикасался губами к её руке, поднимаясь всё выше и выше, пока не дошёл до шеи, и тут уже принялся страстно целовать Екатерину.
Ответное горячее чувство зажглось и в Екатерине — никто ещё до сих пор не ласкал её так нежно и страстно, никто не шептал ей таких прекрасных слов...
Она и не заметила, как оба очутились в широчайшей постели под атласным одеялом. И тут их тела начали знакомиться друг с другом, руки познавали находящегося рядом.
Страстные поцелуи, горячие объятия сделали то, чего так долго добивался Сергей.
И вдруг он замер в недоумении и крайнем изумлении.
— Да ты что, девственница? — удивлённо спросил он.
Екатерина залилась краской стыда и смущения: восемнадцатый век не был веком девичьей чести, особенно при дворе, здесь стыдились, если девушка долго оставалась невинной...
Сергей Салтыков был первым, кто стал её мужчиной, кто нарушил её девственность. Но потом, лёжа с ней на подушках, он долго и обстоятельно расспрашивал её, как могло случиться, что после девяти лет замужества она всё ещё сохраняла невинность.
Что она могла рассказать ему? Разве о том, что Пётр аккуратно являлся в супружескую постель по вечерам, но и помину не было о близости — сначала это был театр марионеток, который он допоздна устраивал на супружеском ложе, потом он жалобно и слёзно говорил ей о том, как любил и до сих пор любит одну лишь фрейлину Лопухину.
История и в самом деле была грустная. Лопухина пострадала из-за матери — та была первой красавицей при дворе Анны Иоанновны и, угождая своей государыне, как могла унижала бедную Елизавету. И никогда не могла простить ей Елизавета выходку, которая надолго повергла её в уныние и слёзы.
Елизавета послала купить себе изящной материи на выходное бальное платье — это была жёлтая парча, затканная серебряными цветами, и эти краски были особенно к лицу цесаревне.
Как уж узнала Лопухина, что Елизавета раздобыла такую материю, неизвестно, только она выкупила всю такую же материю у английского купца, не скупясь на траты, и обила ею свою гостиную, где должен был состояться приём, на который была приглашена и Елизавета. Диваны, кресла, стулья — всё было отделано жёлтой парчой с вытканными серебристыми цветами.
Всё общество уже собралось, когда вошла Елизавета в своём жёлтом парчовом платье с серебристыми цветами.
Громкий хохот встретил её — она в смущении оглянулась и увидела всю гостиную. Стулья, кресла, диваны, стены — всё было обито такой же материей, из какой было сшито её платье.
Слёзы возмущения и обиды закипели на глазах Елизаветы. Она опрометью кинулась вон, и громовой хохот всех придворных долго преследовал её.
Когда она села на российский трон, первое, что сделала, — придралась к какому-то пустяку, приказала вырезать язык у Лопухиной, высечь её кнутом и отправить в ссылку в Сибирь. Дочерей её, красавиц-фрейлин, она велела отставить от двора и тоже разослала по деревням с приказом не выезжать дальше границ поместий.
Пётр был влюблён в одну из девиц Лопухиных, даже надоедал Елизавете желанием жениться лишь на Лопухиной, и все воспоминания той страшной поры ещё были живы в его голове. Он без конца расписывал жене красоту и тонкость деликатного обращения Лопухиной, разливаясь перед Екатериной в жалости и отчаянии.
Потом, правда, пришёл черёд и других — горбатая герцогиня Курляндская надолго завладела его вниманием, затем одна, вторая фрейлина.
Но всё это были только платонические воздыхания — ни к одной из них он не смел и прикоснуться...
Разве могла Екатерина рассказывать Сергею об этом, разве могла говорить о своём унижении? И она промолчала, отговорившись лишь кое-какими мелочами. Муж отверг её — разве могла она поведать любовнику об этом унижении?
Несколько раз ещё оставляла их наедине Марья Семёновна Чоглокова, твёрдо выполняя наказы императрицы и Бестужева.
И Екатерина забеременела. Но не прошло и месяца, как у неё случился выкидыш. Как будто сама судьба не хотела, чтобы первенец её был от Салтыкова, — выкидыши преследовали её, словно сам организм Екатерины отторгал семя Сергея Салтыкова...
А сама она страстно влюбилась в Сергея — он был её первым мужчиной, нежным и страстным любовником, он заставлял трепетать всё её тело, наполняя его упоительной негой, и она уже не мыслила себе и дня, чтобы не увидеть его. А едва видела, как трепет желания и любви пробегал по всему её телу, уже привыкшему к его ласкам, и она смущалась и краснела, как неопытная девчонка, чувствуя, как падает сердце.
Он разбудил её чувственность, и она, так долго бывшая без мужской ласки и нежности, теперь уже не представляла себе жизни без Сергея.
А Салтыков сердился сам на себя: ему хотелось поскорее выполнить задачу, поставленную ему перед императрицей Бестужевым, и бесконечные выкидыши Екатерины всерьёз беспокоили его.
Кроме того, он уже понимал, что рано или поздно Пётр станет императором, и тогда не спасёт его, Сергея, ничто — Пётр не будет церемониться с любовником своей жены.
И потихоньку от всех, разведывая, где только возможно, старался узнать Сергей, в чём дело, почему Пётр не дотрагивается до своей жены, хоть и аккуратно является на супружеское ложе каждый вечер.
Салтыков побывал даже у немочки-певички, опытной и пышной дамы, которую приводили к Петру к каждому ужину. Он доверительно поговорил с ней, пользуясь своим неотразимым обаянием, и выведал всё, что ему нужно было узнать.
Но как довести до ушей императрицы ту сногсшибательную новость, которую он узнал, кто поможет ему войти в доверие Елизаветы и Бестужева, чтобы предложить свои услуги в этой запутанной тайне?
Лишь одного не понимал Сергей: много было при дворе докторов и лекарей, все они регулярно осматривали Петра, но ни один из них не поинтересовался интимными подробностями его жизни, никто не постарался узнать, почему и через девять лет супружеской жизни у Петра не было детей.
4
Весь двор присутствовал на этом огромном балу, который давала императрица Елизавета для своих приближённых.
Блистали расшитые шелками и облитые золотом камзолы высших сановников, сияли бриллианты на обнажённых шеях великосветских красавиц, тысячи свечей в огромных люстрах, спускавшихся до половины двухсветной залы, отражались в навощённых паркетах и заставляли жмуриться от этих отблесков.
Екатерина пришла на бал в непривычном наряде. Она решила затмить всех красавиц не броской красотой драгоценных камней, а скромностью и необычностью своего наряда — простое белое платье оттенялось только пунцовыми розами у корсажа и на поясе и такой же пунцовой розой в ненапудренных волосах, каскадом и изящными локонами спускавшимися до половины спины.
И действительно, этот необычный наряд великой княгини вызвал всеобщее изумление и восторг — лишь теперь придворные дамы поняли, что красоту можно оттенить не только бриллиантами и изумрудами, сверкавшими в ушах, на оголённых шеях и на руках, но и естественностью самой внешности, подчеркнув её простотой наряда и изящностью вкуса.
Потому за спиной Екатерины переливался шёпот изумления и восторга. Она и сама чувствовала этот шепоток, спиной ощущала удивлённые и завистливые взгляды.
Но ей нужно было только одно — чтобы Сергей Салтыков обратил внимание на её наряд, чтобы и он поднял на неё восхищенные и изумлённые глаза.
А Сергей был далеко. Он небрежно рассыпал комплименты дамам, а потом о чём-то долго и неслышно толковал со своей свояченицей, Нарышкиной, гордо выпячивающей свой уже довольно большой живот. Нарышкина гордилась тем, что беременна, выставляла напоказ своё положение — она знала, как милостиво относится императрица к женщинам в таком положении, и старалась попасться ей на глаза. Елизавета медленно обходила своих придворных, и по тому, как она обращалась к фрейлинам или сановникам, сразу было видно, кто в милости, а кому не брошено даже взгляда. К тому, кто удостаивался подаренного благосклонного взора или двух-трёх ласковых слов, сразу устремлялась толпа, чтобы хоть погреться в лучах императорской милости, если уж не суждено быть замеченным самой государыней...
Елизавета явилась на бал во всём блеске своей стареющей красоты. Жемчужно-сиреневое широчайшее платье — парадная роба — было украшено таким количеством драгоценных камней, что заставляло и саму императрицу изнывать под такой тяжестью, но её набелённое и нарумяненное лицо с мушками, самым модным образом прилепленными возле губ и глаз, было благостно и спокойно. Медленно двигалась она вдоль рядов своих придворных, изредка останавливаясь возле самых заметных красавиц, и зорко наблюдала, не превосходит ли кто-нибудь её, императрицу, блеском наряда и свежестью лица.
На этот раз взгляд Елизаветы просветлел — она чувствовала себя царицей этой залы: никому не пришло в голову сравниться нарядом с ней. Императрица лишь скользнула взглядом по простому и изящному наряду великой княгини и усмехнулась про себя: «Ровно и не тратит громадные деньги на драгоценности и парадные робы — вишь, как экономно распорядилась она своей внешностью...»
И не могла понять и правильно определить настроение всей этой разряженной толпы, когда великая княгиня, словно белая лебедь, выступала в танце с одним из блестящих старичков-сановников.
Сергей Салтыков всё о чём-то шептался с Нарышкиной, когда к фрейлине степенно и важно подплыла императрица.
— Тебе следовало бы передать часть своей добродетели великой княгине, — с удовольствием поглядывая на выпирающий живот Нарышкиной, сказала Елизавета. — Она всё ещё пустая, а ты уж опять...
Она не договорила.
Но Нарышкина прекрасно поняла Елизавету и немного севшим от волнения голосом ответила ей:
— Может быть, это не так уж и трудно сделать...
Елизавета нахмурилась: забота о престолонаследии всё время волновала её как самая важная и неотложная.
— Как это? — резко спросила она.
Нарышкина присела в глубоком реверансе перед императрицей.
— О, государыня, — ласково и нежно прошептала она, — если бы вы только разрешили мне и Салтыкову позаботиться об этом, нам бы удалось сделать это.
И опять Елизавета нахмурилась. Вряд ли Нарышкина могла знать о её и Бестужева разговоре, но подумалось императрице именно об этом.
— При чём тут Салтыков? — резко спросила она.
— Не гневайтесь, матушка-государыня, — опять запела Нарышкина, — но Сергей разведал, как можно обратить великого князя к жене, доставить ей удовольствие и обрюхатить её...
Елизавета вся обратилась в слух.
— И что же это?
Нарышкина придвинулась поближе к Елизавете и тихонько поведала ей о том, что удалось разузнать Сергею Салтыкову в результате его розысков.
— Великий князь не болен, и он сможет иметь детей, — шептала Нарышкина, — просто семенной канальчик его детородного органа закрыт плёнкой, сросшейся с крайней плотью...
Елизавета едва не отшатнулась от Нарышкиной, осмеливающейся говорить о великом князе с такой дерзостью. Но любопытство оказалось выше соображений этикета.
— И что же? — сухо вымолвила она. — Договаривай уж, раз взялась за такое интимное дело...
— Небольшая операция, восточные народы устраняют этот недостаток простым обрезанием в детстве...
Всё это Нарышкина шептала Елизавете, боясь вспышки гнева, боясь монаршей немилости, императорской резкости и неудовольствия.
— Вот как, — протянула Елизавета, — а что же доктора мои, врачи? Отчего они не сказали мне давным-давно об этом?
— Простите мою крайнюю дерзость, ваше величество, — опять склонилась в глубоком поклоне Нарышкина, — но полагаю, что великий князь и сам стесняется своего несчастья и боится поделиться с самым искусным врачом...
Елизавета долго раздумывала над весьма смелыми речами Нарышкиной. Бросить в лицо этой пронырливой фрейлине свою немилость и выказать крайнее неудовольствие, а то и сослать в её деревни или обратиться к её же помощи?
— И что же ты могла бы предложить? — наконец решилась Елизавета.
— Государыня, позвольте мне и Салтыкову уговорить великого князя согласиться на эту небольшую операцию, и тогда он сможет иметь общение с великой княгиней. Простите великодушно, если я сболтнула что-то лишнее, виновата я перед вами, матушка.
И снова согнулась Нарышкина в глубоком поклоне.
— Сергей Салтыков пользуется доверием великого князя, — осторожно заметила она, — и может, ему удастся склонить его высочество к этой операции...
— А это безопасно? — спросила Елизавета.
Она уже входила во вкус обсуждения этого предприятия.
— О, конечно, сам Бургав подтвердит вам это, — оживилась Нарышкина.
— С Бургавом я переговорю, — мрачно заявила Елизавета, — а вот как отнесётся великий князь к этой затее?
— О, великая государыня, я уверена, Сергею Салтыкову удастся уговорить великого князя... — промолвила Нарышкина.
— Ладно, — хмуро согласилась императрица, — Салтыков может оказать трону услугу, пусть только получше возьмётся за это дело...
И Елизавета отошла от верной фрейлины, показав всем присутствующим милость к Нарышкиной и тепло улыбнувшись ей на прощание.
К Нарышкиной тут же подлетел Сергей Салтыков. Они всё ещё шептались, когда Екатерина незаметно приблизилась к ним. Они по всем этикетным законам раскланялись с ней, но видно было, что их не оставляет одна и та же мысль, и потому лицо Сергея было сухим и холодным, и Екатерине ничего не оставалось сделать, как удалиться от них, обидевшись на это невнимание и холодность. Сергей даже не отпустил ей комплимента по поводу её наряда, так взволновавшего всё великосветское общество...
Не пришёл Сергей и в назначенный час, заставив великую княгиню немало переволноваться. Сначала она думала, что случилось нечто из ряда вон выходящее и Сергей не смог явиться к ней, потом плакала, что любимый оставляет её в одиночестве, затем замкнулась в себе, приказав не нервничать и оставить всё как есть. Но эти короткие часы свиданий уже так связывали её, заставляя терзаться ожиданием и любовью, что в голове не было больше иных мыслей, как о нём, о его нежных ищущих руках, о его прекрасном лице, улыбка на котором волновала её больше, чем всё остальное на свете. Она плакала горькими слезами: в последнее время Сергей стал невнимателен, мог не прийти к ней в спальню, когда она уже устраивала всё так, что никто не мог бы помешать им, отговорившись какой-нибудь пустой причиной...
— Разлюбил, — горько шептала она себе.
Давала себе слово холодно обойтись с ним при первой же встрече на балу или парадном обеде и не выдерживала: едва встречала его ясный взор, как губы сами собой растягивались в улыбку, и с этим ничего не могла она поделать. Она любила всем сердцем, горячо и самозабвенно, и понимала, как могут влюблённые женщины забывать обо всём на свете ради своих любимых.
А Сергей, искушённый в дворцовых интригах, был занят теперь одной мыслью — как бы поделикатнее и осторожнее выполнить ту услугу, на которую так легко согласилась Елизавета, дав понять, что эта услуга будет щедро оплачена.
Он искал повода поговорить с великим князем, пустить в ход всё своё красноречие и всё никак не мог найти...
Случай помог Сергею выполнить обещание, данное императрице.
Пётр сам подошёл к своему камергеру и, лукаво улыбаясь, полюбопытствовал:
— Секрет не секрет, но о чём это вы так шептались с матушкой-государыней и при чём тут фрейлина Нарышкина? Умираю от любопытства.
Сергей понял, что сама судьба идёт ему навстречу.
— Пустое, — весело отмахнулся он, — вас и не должно интересовать содержание этого разговора, вы, великий князь, выше всех этих скабрёзных историй...
И этим он только ещё больше разжёг любопытство великого князя.
— Скабрёзная история? — удивился он. — Что это за история, нельзя ли мне быть посвящённым в неё?
— Ах, великий князь, ваше высочество, — опять словно бы отмахнулся Салтыков, — речь идёт не о наших делах, не о наших историях. Всего-то навсего о странных и полезных обычаях у восточных народов...
— Нет, камергер, ты уж, пожалуйста, расскажи, — начал настаивать великий князь, — и я хочу знать, что такого скабрёзного в этой вашей истории...
— Ну зачем вам об этом знать, — продолжал отнекиваться Сергей Салтыков, ещё больше разжигая любопытство Петра, — такая скромная история, хоть и с оттенком скабрёзности...
Пётр взял за рукав Салтыкова, подвёл его к уединённой скамейке в саду, где они разговаривали, и заставил сесть рядом с собой.
— Расскажи! — чуть ли не взмолился он.
— Да дело в том, — как будто бы нехотя согласился Сергей Салтыков, — что в Персии был один молодой шах, который не подвергся старинному обычаю, возникшему ещё в древности у мусульманских народов. Он был очень просвещённым и упрямым ребёнком, и ему удалось избежать обрезания...
Пётр навострил уши. Подробно расспросил он Сергея об этом обычае, о том, что это за операция, которой подвергаются все восточные мальчики с самого детства.
— Шах был очень просвещённый, — повторил Сергей, — но наследников у него не было, — продолжал он как ни в чём не бывало. — И шах призвал своих лекарей, чтобы они сказали ему, в чём дело. Тут-то ему и выложили главную причину отсутствия наследника. Не сделали ему обрезание в детстве, вот Аллах и наказал его отсутствием наследников... Задумался шах и понял, как был не прав...
— И что же, как было дело дальше? — настойчиво расспрашивал Пётр.
— Да очень просто, ваше высочество, — легко отмахнулся Сергей, — то, чего ему не сделали в детстве, содеяли во взрослом возрасте...
— И что же? — упорно выпытывал Пётр.
— Да очень просто, — опять легко повторил Сергей. — Отрезали кусочек лишней плоти, совсем крохотный, почти без боли и тем более без крови, без труда и сложностей, и, когда шах стал способен к общению с женщинами, у него появилось сразу около трёхсот наследников — в гаремах восточных правителей тысячи наложниц и ещё двести-триста законных жён...
Пётр задумался. Он так стеснялся своей неспособности произвести детей, что история персидского шаха произвела на него огромное впечатление.
— Бывает, — продолжал как ни в чём не бывало Сергей, пристально глядя на смущение и растерянность великого князя, — что и в наших местах случается такое — ну, просто немного срастётся крайняя плоть и мешает производить детей: семенной-то канальчик закрыт и не действует...
Пётр не почуял подвоха — он уже начал мечтать о том, чтобы и ему сделали эту маленькую операцию.
— А наши лекари умеют такое — срезать эту крайнюю плоть? — напряжённо думая об одном и том же, спросил Пётр. — Вдруг это могут делать только восточные мудрецы?
— Да ничего нет проще, наши доктора давным-давно знакомы с этой операцией и делают её в две-три минуты...
Салтыков следил за великим князем — видно было, как сомнение и надежда поочерёдно отражались на его лице. Пётр не умел скрывать своих чувств, и каждая его мысль легко читалась на его некрасивом бесхитростном лице.
— Послушай, — всё ещё колеблясь, начал великий князь, — а это гарантирует удачный исход?
Сергей понял, что он уже подвёл Петра к самому главному, ещё немного — и великий князь сам признается ему в своём несчастье.
— Ах, ваше высочество, — простодушно, как и сам великий князь, заговорил он, — да операция-то минутная, а удача сама идёт вслед за нею. И как же меняются люди, особенно мужчины, после такой несложной операции: во-первых, обеспечивают престолонаследие, появляется наследник трона, а уж какое удовольствие испытывает мужчина, когда семя его изливается...
— Я никогда этого не испытывал, — пробормотал Пётр.
Сергей проницательно взглянул на великого князя. Он не подталкивал его к признанию, болтал как будто невзначай и ненароком, рассказывая о своём разговоре с Елизаветой и Нарышкиной.
— Ваше высочество, — наконец тревожно, словно бы только что поняв слова Петра, произнёс Сергей, — разве вы...
Он остановился.
— Тебе, Сергей, как другу, как самому близкому мне человеку, — задыхаясь, вымолвил Пётр, — могу сказать лишь одно: верно, и я страдаю той же болезнью, что поразила персидского шаха...
Сергей с деланным изумлением чуть ли не отшатнулся от великого князя.
— Не могу представить, — глухо забормотал он, — что вы так несчастны...
— Да, да, я никогда не испытывал ничего подобного, о чём рассказывают все пройдохи и ловеласы, — печально продолжил Пётр. — Наверное, и я подвержен такой болезни...
И тут Сергея осенило.
— Да разве это болезнь! — с жаром воскликнул он. — Два-три взмаха крохотным ножичком — и не будет никаких сомнений, что несчастье пройдёт сразу же...
Пётр с сомнением вглядывался в лицо камергера. Он и не подозревал, как тщательно всё продумал Салтыков, как старательно готовил он в уме лёгкие и простые фразы, как сумел заразить Петра любопытством, как тот сам шёл в ловушку, расставленную ему ловким камергером.
Сергей понял, что он должен уйти и оставить Петра наедине с его мыслями, надеждами, сомнениями — хитрый камергер знал, как воздействовать на человека, которому он уже подал идею, а тот уже сам должен развить в себе сомнения, надежды, страхи и ожидания.
— Простите, ваше высочество, — поднялся он со скамейки, — если я невольно побеспокоил вас этим пустым разговором. И дела меня ждут: надобно распорядиться на завтрашний вечер — предполагается хорошая пирушка...
Пётр рассеянно кивнул головой.
Он долго ещё сидел на скамейке, и мысли, как тяжёлые мельничные жернова, нескончаемо крутились в его голове. Салтыков посеял в нём надежду, и семена этого разговора, этой интимной беседы уже прорастали в душе простодушного великого князя.
Однако Пётр не привык к тяжёлой умственной работе, мысли его совсем запутались, и он долго прислушивался к тому, что творилось в его голове, — завертелись мысли и мыслишки, страхи и сомнения...
Весь день он был во власти этих мыслей. Надежда на то, что он завоюет расположение своей тётки, если даст наследника стране, радужные перспективы царствования с имеющимся наследником — всё это вспыхивало и прорастало в его мозгу. Он не был способен больше думать ни о чём, кроме как об этом разговоре, и опять и опять возвращался к надеждам, ужасу перед операцией и полной невозможности ещё хоть кому-нибудь доверить свои страхи и сомнения. Теперь он уже смотрел на Сергея Салтыкова как на спасителя, избавителя, жаждал ещё одного, самого интимного разговора с ним, но Сергей, как нарочно, ускользал от такого разговора, словно бы специально прятался от великого князя.
Едва Пётр посылал за ним, как оказывалось, что Салтыков в приёмной императрицы, или ускакал на охоту, или ушёл по каким-то одному ему ведомым делам...
Так и не дождавшись и сильно разозлившись на своего камергера, Пётр вышел к ужину у императрицы очень расстроенный и переполненный своими чувствами.
Всё в этот вечер он делал невпопад — так занимали его собственные мысли. Даже Елизавета заметила это и сердито косилась на своего племянника. Пётр же не заметил даже этих гневных взглядов.
5
Этот ужин Сергей Салтыков устраивал так, чтобы всё соответствовало его задаче. Каждому из приглашённых — а это были люди, которых всего охотнее желал видеть великий князь, — он объяснял, что нужно говорить и делать. Впрочем, Пётр и сам был обуреваем одной мыслью и ни о чём другом не мог и думать. Ему так хотелось найти в словах любого из приглашённых подтверждение своим желаниям, что он то и дело подходил то ко Льву Нарышкину, то ещё к какому-нибудь из гостей Сергея, чтобы потолковать об этом интимнейшем деле. Пётр не стеснялся, он жадно выспрашивал о подробностях, и кое-кто из гостей Салтыкова так же прямо отвечал на вопросы великого князя: дескать, и сам испытал такую операцию, и сам понял разницу...
В великом смятении Пётр переводил глаза с одного на другого — он боялся малейшей боли, он мучился от одной лишь мысли, что операция может доставить ему страдания, и тыкался в поисках надежды, что это ненадолго, что боли может и не быть.
Особенно долго великий князь держал за перламутровую пуговицу Сергея Салтыкова — мучительно искал вопросов и мучительно переживал предстоящее.
Но весёлые лица Сергея и Льва Нарышкина, льстивые взгляды приближённых всё более и более убеждали его, что всё может пройти хорошо...
Скоро он уже стоял в кругу друзей Салтыкова, и все они обращались к Петру с одной только просьбой — согласиться на эту минутную операцию, которая не доставит ему, великому князю, никаких страданий.
Наконец Пётр слегка кивнул головой: да, он согласен, да, он превозмог себя, да, он стоически перетерпит эти несколько минут боли...
Сергей лишь махнул рукой, и тут же из соседней комнаты явился придворный доктор Бургав. С ним был ещё один человек, взглянув на которого Пётр задрожал от робости. В руках у хирурга был маленький саквояж, и лицо его не предвещало ничего хорошего.
Однако к операции всё было готово — поставлены ширмы, самые доверенные лица встали с обеих сторон Петра, ему пришлось лечь, и Сергей протянул великому князю руку, в которую тот вцепился, как в якорь спасения.
Салтыков начал рассказывать великому князю смешной анекдот, а хирург тем временем делал своё дело. Пётр едва ли вслушивался в то, что говорил Сергей, он больше чутко ощущал то, что творили с ним врачи. Но ласковый и смешливый голос Сергея словно бы завораживал великого князя, и он пытался вникнуть и в суть анекдота.
Секунда боли, резкий вскрик великого князя — и всё было кончено.
Серьёзный и важный Бургав вырос перед глазами Петра и степенно доложил:
— Ваше высочество, операция прошла удачно, успешно, всё кончилось...
И Пётр встал с кушетки в великом смущении: он ещё не успел осознать всё, что с ним сделали...
Ужин весело продолжился, все поздравляли великого князя с величайшим терпением и снисходительным отношением к боли, славили его выносливость и кротость. И сам Пётр преисполнился к себе великим уважением.
Теперь следовало выждать несколько дней, чтобы ранка зажила и великий князь смог иметь общение с женой...
Все эти несколько дней Сергей провёл в хлопотах и заботах. Он явился к своей матери и сказал ей, в чём имеет нужду — надо было обставить дело так, чтобы у великого князя не явилось и тени сомнения, чтобы великая княгиня оказалась перед ним чиста и девственна. Иначе подозрения Петра будут на плечах Салтыкова, и кто знает, что может быть впоследствии, когда великий князь превратится в монарха, потому как и теперь уже Елизавета страдает разными немощами.
Мать Салтыкова лишь рассмеялась:
— Нет ничего проще...
И Сергей сообщил все её наставления великой княгине при очередном свидании с ней.
Но тут ему передали слова самой императрицы. Не щадя репутации великой княгини, Елизавета бросила мимоходом несколько слов в присутствии приближённых: дескать, уж она-то знает, что происходило до этих пор, недаром сама она разрешила Чоглоковой не запрещать общение Екатерины с Салтыковым.
Страшную угрозу почуял Сергей в этих словах — немилость, опала, ссылка, а то и каторга. Надо было всё сделать так, чтобы Елизавета получила доказательства разрушения девственности только Петром...
Не случайно и сама Елизавета обмолвилась, что желала бы получить такие доказательства...
И Екатерина почувствовала эту угрозу, но Сергей позаботился о том, чтобы всё произошло так, как говорила его мать, а уж она-то знала толк в том, как выдать рожавшую за девушку...
Уже несколько лет Пётр не являлся в спальню Екатерины, ссылаясь на то, что ему тесно в супружеской постели. Но тут и ему пришлось приложить все старания, чтобы зачать так долго ожидаемое наследное дитя.
Он уже выздоровел после маленькой операции и впервые смог вступить в общение с Екатериной. Она сделала всё, чтобы он искренне поверил, что жена его всё ещё девственница...
Девять лет прошло со времени их юридического брака, и в первый раз вступил Пётр в свои права мужа фактически.
В запечатанной шкатулке Пётр послал императрице доказательство того, что жена его вступила с ним в настоящий брак, будучи невинной, и хоть и не поверила в душе императрица своей хитрой невестке, но тому, что брак их осуществился реально, она была рада.
Как бы там ни было, ещё несколько раз вступал Пётр в общение с великой княгиней, и через месяц обнаружилось, что она забеременела. Как будто сама судьба подстроила так, что теперь у Екатерины не было выкидыша, что теперь она, всячески оберегаемая самой императрицей, выносила это дитя.
Вскоре после совершившегося акта фактического вступления в брак Елизавета вызвала к себе камергера великого князя — Сергея Салтыкова.
Стоя на коленях, Сергей осыпал поцелуями пухлую руку стареющей императрицы и страстно поцеловал огромный бриллиант, оправленный в золото, которым Елизавета, не говоря прямо за что, наградила его.
Даже сам Сергей Салтыков не заметил того благосклонного взгляда, которым подарила его императрица. Как будто впервые заметила Елизавета, как хорош этот камергер великого князя, как будто впервые увидела его во всём блеске молодости и красоты.
Но этот взгляд отлично приметил Пётр Иванович Шувалов, начальник Тайной канцелярии Елизаветы, гроза всех смутьянов и заговорщиков. Его брат, юркий и смышлёный Иван Иванович Шувалов, только-только входил в фавор к Елизавете, и Пётр Иванович всеми силами старался упрочить это положение.
Сергей Салтыков чувствовал себя на вершине блеска и славы, мнил себя едва ли не спасителем отечества, и потому все перемигивания и гримасы Петра Ивановича, страдавшего сильной невралгией, от которой лицо его перекашивалось и передёргивалось, прошли мимо сознания камергера.
Но словечко-второе, мимоходом брошенное на балу у Елизаветы, посеяло тень подозрения, а потом под влиянием шепотков Петра Ивановича и Ивана Ивановича превратилось в грозную тень сомнения.
— Уловка, — хитро улыбаясь, сказал императрице Пётр Иванович, — зело ловок Салтыков.
И Елизавета вспомнила вдруг, что её страстное пожатие руки Сергея в миг награды не вызвало у того восторга, на который рассчитывала императрица.
Злобные толки при дворе, распущенные Шуваловыми, произвели на императрицу большое впечатление.
Но Шуваловы не ограничились этим, они нашли подход и к великому князю и не остановились ни перед чем, возбудив и в нём сильное подозрение, что Екатерина просто-напросто провела его хитрыми уловками. Но Елизавета долго размышляла над злобными толками: она не привыкла предпринимать какие бы то ни было резкие шаги.
«В конце концов, — думала она, — дело сделано, великая княгиня беременна, и от кого бы ни родился её сын, он всё равно станет наследником престола. Пусть даже и от Салтыкова. Главное сделано — у меня будет внук, который обеспечит наследственность династии».
И всё же, чтобы пресечь эти злобные толки, чтобы затихли разговоры, она, опять-таки не без влияния Шуваловых, отправила Сергея Салтыкова сотрудником посольства в Швецию.
В один миг почувствовал себя Сергей Салтыков обездоленным, подвергшимся монаршей опале, и долго плакался в спальне Екатерины перед отъездом — вот что значит оказать услугу престолу, вот что значит спасти отечество, и вот награда.
Екатерина обещала не забывать семью Салтыковых, и хоть и тяжело ей было расставаться с любимым человеком, но и она чувствовала, что такой конец её романа будет самым выигрышным для неё.
Теперь она была обласкана самой императрицей, теперь и муж её стал оказывать ей знаки внимания, теперь она носила династическое дитя...
Сергей уехал очень быстро, и все свои положенные сроки Екатерина с удовольствием и гордостью показывалась при дворе, гордо выпячивая живот.
Такой нежной опеки не испытывала Екатерина во всё время своего замужества: по пять раз на дню посылала императрица узнать о её здоровье, самые дорогие и роскошные ткани отправляли ей на широкие и удобные платья, самые красивые и дорогие уборы из драгоценных камней покоились теперь на её шее и руках, а уж о капризах и прихотях беременной Екатерины знал весь двор и старался услужить ей. Едва заикнулась она, что мрачное и суровое, вечно недовольное лицо Марьи Семёновны Чоглоковой портит ей настроение на весь день, как Марья Семёновна была тут же отставлена — вместо неё императрица назначила гофмейстериной к невестке весёлую, живую, знающую все дворцовые сплетни и интриги, разбитную Владиславову. От неё да ещё от лакея Шкурина, ставшего после одного казуса преданным Екатерине человеком, научилась великая княгиня тем многочисленным прибауткам, поговоркам и пословицам, которыми так любила уснащать свою речь...
Словом, во всё время своей беременности Екатерина пользовалась самым неограниченным влиянием при дворе Елизаветы. Она решила, что теперь станет другом и советницей императрицы, что её влияние во всех вопросах политики усилится.
Увы, она слишком ошибалась. Елизавете нужен был преемник, и едва Екатерина разрешилась от бремени, как все её забыли: она сделала своё дело, дала России наследника и теперь уже стала не нужна, так же, как и Сергей Салтыков, усланный в Швецию.
Но Сергей хоть имел возможность излить свою досаду и обиду в горьких словах, в непомерном хвастовстве. Он всюду на дружеских вечеринках и даже на светских приёмах с гордостью рассказывал о своём романе с Екатериной, хвалился, что великая княгиня сама вешалась ему на шею, а он манкировал ею, не являлся на свидания, которые назначал сам. И дитя, которое произвела на свет великая княгиня, — это его сын, который станет наследником престола России. Слухи и сплетни растеклись среди тех русских, что служили в Швеции, и послу Никите Ивановичу Панину пришлось взять на себя тяжёлую обязанность заткнуть рот неудачливому любовнику.
— Милостивый государь, — сказал ему Никита Иванович, — очень надеюсь, что государыне не придётся урезать вам язык...
Сергей испугался до того, что скулы его побелели, а голос задрожал и сел до низкого сипа:
— Чем же заслужил я?..
— Наши стены слишком тонки, и каждое слово из посольства очень хорошо слышат в Петербурге, — тонко сообщил ему Панин. — Будьте осторожнее, иначе вместо Швеции угодите ещё куда-нибудь подалее...
И Сергей Салтыков замолчал. Он больше нигде не упоминал о своей связи с великой княгиней и обо всей истории с рождением наследника.
Вот как сама Екатерина поведала о том, как прошли её роды, как она оказалась заброшенной и одинокой:
«Во вторник вечером я легла и проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, которая послала за акушеркой, утверждавшей, что я скоро разрешусь. Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, и графа Александра Шувалова, недавно назначенного гофмаршалом двора великой княгини. Этот послал к императрице, не замедлившей прийти около двух часов ночи.
Я очень страдала, наконец около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном...
Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребёнку имя Павла, после чего императрица велела акушерке взять ребёнка и следовать за ней.
Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет. Сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись, а направо и налево от этой постели две двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая — в комнату Владиславовой.
Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошёл к себе, а также и Шуваловы, муж и жена, и я никого не видела ровно до трёх часов.
Я много потела. Я просила Владиславову сменить мне бельё, уложить меня в кровать. Она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила. Я просила пить, но получила тот же ответ.
Наконец после трёх часов пришла графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я всё ещё лежу на том месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня.
Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно оттого, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжёлых и мучительных усилий, между плохо затворявшимися дверями, причём никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, а я сама не в силах была на неё перетащиться...
Это забвение или пренебрежение по меньшей мере не были лестны для меня. Я в это время умирала от усталости и жажды. Когда наконец меня положили на мою постель, я ни души больше не видала во весь день и даже не посылали осведомиться обо мне.
Его императорское высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребёнком.
В городе и империи радость по случаю этого события была велика, а я почувствовала сильную ревматическую боль и схватила сильнейшую лихорадку. Несмотря на это, и весь следующий день я никого не видела и никто не справлялся о моём здоровье. Великий князь зашёл на минутку и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться.
Я то и дело плакала и стонала в своей постели... На третий день пришли спросить от императрицы, не осталась ли у меня в комнате мантилья Елизаветы из голубого атласа. Её нашли в углу моей уборной...»
Великая княгиня сделала своё дело, и теперь императрица занималась лишь своим внуком: его закутали в атласные одеяла, укрыли сверху черно-бурым лисьим мехом и поставили колыбель у жарко натопленной печки.
Впрочем, через две недели императрица вспомнила и о великой княгине — Екатерине принесли от её имени сто тысяч рублей.
Но Пётр вспыхнул от гнева: как, его жене подарили сто тысяч, а ему ни копейки?
Елизавете ничего не оставалось делать, как пожаловать ему тоже сто тысяч за труды.
Но казна была пуста, и к Екатерине явились люди от императрицы с просьбой отдать подаренные ей деньги Петру...
Так отблагодарила Елизавета свою невестку, но дело престолонаследия упростилось.
Екатерина тосковала по большому и сильному телу Сергея Салтыкова и с трудом выносила объятия законного мужа. Однако через полгода после родов она снова забеременела и на этот раз родила девочку — принцессу Анну, умершую в младенческом возрасте.
Великая княгиня пыталась установить с Сергеем Салтыковым письменную связь — она любила этого человека, и письма её дышали непритворной нежностью и лаской.
Знала, что отправлять по почте такие письма опасно, и посылала их с верными людьми.
Ни на одно из этих писем напуганный Салтыков не ответил, и Екатерина вскоре поняла, что её возлюбленный не просто охладел к ней, а забыл все те нежные и сладостные ночи, которые проводил с ней.
И опять забвение, опять слёзы, но гордость распрямляла её дух, она старалась утешиться хоть каким-нибудь образом.
Найти утешение в детях ей не удалось — только через шесть недель после родов она увидела своего сына, да и то мельком. Елизавета завладела обоими детьми Екатерины и редко давала матери возможность посмотреть на них.
Нежную привязанность, хоть какое-то подобие любви искало её сердце среди холодной любезности императорского двора.
Станислав Август Понятовский
1
эр Диккенс слёзно умолял своё правительство отозвать его от русского императорского двора. Он исполнял свою должность посла Англии довольно давно, несколько лет прошло в бесплодных переговорах. Англии необходим был союзник, с которым она могла бы решиться на разрыв с извечным врагом — Францией — и заручиться поддержкой русских солдат, которыми так легко разбрасывалась Елизавета для опоры своим союзникам.
Но длительные усилия сэра Диккенса ни к чему не привели. С императрицей невозможно было говорить о серьёзных планах, а канцлер Бестужев тянул в сторону Австрии, был верен австриякам и об английских интересах и не помышлял.
И сколько бы ни заводил сэр Диккенс разговоров о союзе, о поддержке русской армией английских интересов, он натыкался на глухую стену. Елизавета его не слушала, увлечённая балами, маскарадами и комедиями, а Бестужев отворачивался от английского посла, придумывая всяческие отговорки.
Диккенсу это надоело — сидение в Петербурге среди шумных и многолюдных празднеств было бесплодно. Он просил сменить его другим послом — молодым, крепким, устойчивым к стремительному и бесцельному времяпрепровождению, могущим сопровождать императрицу в её скоропалительных поездках на богомолье и высказывать очаровательные тосты на куртагах и парадных обедах, не приводящие ни к чему...
В туманном Альбионе задумались. Кто может исполнять роль посла и добиться от России определённых обещаний — помощи армии и флота в будущей войне с Францией, которая становилась всё более очевидной?
Нужен был молодой, искушённый в светской жизни посол, блестящий светский лев, умеющий вставить своё слово между картинами менуэта и антрактами посреди комедии...
Чарльз Генбюри Вильямс отвечал всем этим требованиям. Развратный и легкомысленный по натуре, прошедший хорошую школу наслаждения и удовольствий, он мог добиться и тех обещаний, которые жаждала получить от России Англия.
Сэр Вильямс в течение нескольких лет занимал пост резидента английского правительства при саксонском дворе и играл довольно значительную роль в установлении политических связей своего правительства с мелкими германскими государствами. Здесь-то, при саксонском дворе, и познакомился он с выскочкой, парвеню[9], мечтавшим о высоком и могущественном влиянии, не данном ему от рождения. Это был невысокий белокурый молодой человек лет двадцати шести, племянник могущественных фамилий Польши — Чарторыйских — Станислав Август Понятовский.
Как ни странно, но как раз тёмное происхождение и страстное стремление выбиться в самые первые люди на земле сохранили ему чистоту жизненной позиции.
«Сперва строгое воспитание, — писал он впоследствии, — отдалило меня от всяких беспутных отношений. Затем честолюбивое желание проникнуть и удержаться в так называемом высшем обществе, в особенности в Париже, охраняло меня в моих путешествиях, и целая сеть странных мелких обстоятельств в моих попытках вступить в любовные связи в других странах и на моей родине и даже в России как будто нарочно сохранила меня цельным для той, которая с этой поры властвовала над моей судьбой...»
Конечно, писано это было через много лет после первого знакомства с Екатериной и писано даже для её придирчивого глаза, но в основном верно было то, что взор Понятовского, имеющего в душе червоточину честолюбия, всегда поднимался выше собственной судьбы и никогда не останавливался на тех, что способны были ещё более унизить его и без того тёмное происхождение. Во всяком случае, он сумел понравиться сэру Чарльзу Вильямсу, втереться к нему в доверие, и английский посол взял его в свою свиту при отъезде в Россию.
Правда, много при этом похлопотали и могущественные Чарторыйские. Они надеялись, что истрёпанный ветрами междоусобиц корабль их родины получит поддержку в Северной столице, и дали определённые инструкции своему ставленнику при английском посольстве.
В те времена ко всякому посольству в России примазывалось столько тёмных личностей, столько искателей лёгкой наживы и блеска в высшем обществе, что никто и не подумал обратить внимание на тёмную лошадку в свите сэра Чарльза Вильямса. Даже сэр Вильямс поначалу не ставил Понятовского ни во что. Вскоре ему пришлось убедиться, что сам он со всей своей светской ловкостью и пронырством, развратом и цинизмом не смог бы достигнуть и сотой доли тех преимуществ, которыми вдруг возобладал Понятовский, никчёмная личность при посольстве.
Зато Екатерина обратила внимание на Понятовского по подсказке своего советника, шута и развлекателя, камергера Льва Нарышкина. На первом же куртаге, где появился Понятовский, заслоняемый фигурой светского льва сэра Вильямса, Нарышкин глазами показал Екатерине на белокурого невысокого поляка, умеющего держаться просто и естественно, не роняя при этом собственного достоинства.
— Далеко пойдёт этот молодой повеса, — шепнул Лев Екатерине.
Она с удивлением взглянула на своего товарища по развлечениям.
— Умеет говорить, чувствителен, чист душой и сердцем, — скороговоркой шептал Нарышкин великой княгине, — и это в наши дни, когда он вращался и в высшем свете в Париже, но при всём своём лоске сохранил романтическое направление ума...
— Да когда ж ты успел узнать этого поляка? — и вовсе изумилась Екатерина.
— Бывает достаточно одной мальчишеской вечеринки, чтобы узнать, — загадочно ответил Лев.
И Екатерина сощурилась. Она всегда была несколько близорука, чтобы получше рассмотреть какое-либо чудо при дворе, где даже женщины говорили о скабрёзных вещах без всякого смущения.
Она нашла, что Понятовский не так хорош, как Сергей Салтыков, о котором она вспоминала с досадой и тоской, но лоск парижского двора оставил на поляке заметные следы. А уж когда его подвели к ней и он со вздохом поцеловал её руку, прибавив несколько блестящих комплиментов, она вдруг прониклась к нему тёплым чувством. Они заговорили о французской литературе, о новинках философии, о вольтеровских мыслях, и Екатерина уловила родственную душу: Понятовский с одинаковым блеском развивал литературную тему, порицал практику Бурбонов, выказывая истинное свободолюбие, и с тоской и страстью вставлял слово о своей униженной родине. Екатерина была очарована, пригласила его бывать у неё на обедах, и скоро их разговоры становились всё более и более живыми и интересными...
Лев Нарышкин был разочарован. Он думал сохранить свою притягательность для Екатерины, подарив ей очаровательного говоруна, и вдруг понял, что глаза этого парвеню загорелись интересом, уже далёким от умных разговоров. И Екатерина преобразилась — она уже не помышляла о Сергее Салтыкове, невольно сравнивала пошлые комплименты и грубые шуточки прежнего любовника с блестящим даром Понятовского и всё более привыкала не обходиться без него нигде.
Впрочем, Лев Нарышкин прекрасно понимал, что никогда его личность, почти уродливая даже при первом взгляде, не станет для Екатерины любимой. И потому он при общении с Бестужевым высказал и ту довольно заурядную мысль, что заменить Салтыкова сможет и ещё кто-нибудь, пусть и не такого родовитого происхождения, как тот. Бестужев согласился с мнением Нарышкина и даже склонил голову в ответ на предложение направить внимание Екатерины не на светского льва, искушённого в наслаждениях сэра Вильямса, а на незаметного, тихого, как мышонок, человека, которым можно легче управлять...
Вот так, незаметно, путём сложных и тонких интриг свели Екатерину с Понятовским.
Но оказалось, что под пылкой и романтической внешностью Станислава Августа скрывалась натура холодная, расчётливая, эгоистичная и довольно трусливая. Он, несмотря на подталкивания Льва Нарышкина и благосклонные взоры Бестужева, всё никак не решался завести роман с великой княгиней. Ему всё мерещились и палки, и кошки[10], введённые в наказание Петром Великим, и зловещая Сибирь...
Екатерине самой пришлось сломить последнее сопротивление робкого поляка. Она жаждала его ласк, она стремилась к его поцелуям, и не только руки и официальным, она хотела обнять его.
И она добилась этого. Много месяцев, обуреваемая своим чувством, боролась она за белокурого поляка и победила.
Впоследствии Понятовский рассказывал в своих записках о Екатерине как идеале красоты:
«Ей было двадцать пять лет. Она недавно лишь оправилась после первых родов и находилась в том фазисе[11] красоты, который является наивысшей точкой её для женщин, вообще наделённых ею.
Брюнетка, она была ослепительной белизны. Брови у неё были чёрные и очень длинные, нос греческий, рот как бы зовущий поцелуи. Удивительной красоты руки и ноги, тонкая талия, рост скорее высокий, походка чрезвычайно лёгкая и в то же время благородная, приятный тембр голоса и смех такой же весёлый, как и характер, позволявший ей с одинаковой лёгкостью переходить от самых шаловливых игр к таблице цифр, не пугавших её ни своим содержанием, ни требуемым ими физическим трудом...»
Лукавил, ох как лукавил Станислав Понятовский, когда писал эти строки! Конечно, сквозь флёр времени, этих прошедших тридцати лет, не мог он вспоминать о женщине, сделавшей его королём, объективно и обстоятельно, но такая лесть, даже в воспоминаниях, заставляет думать, что и теперь, по прошествии времён, он не забывал благодеяний, оказанных ему Екатериной...
Конечно, великая княгиня никогда не была такой красавицей, какой описал её Понятовский, но её весёлый характер и милое лицо, вся её фигура действительно дышали таким очарованием, что Понятовский забыл про Сибирь.
Впрочем, и здесь он действовал не по своей воле. Под его любезной и очаровательной внешностью всегда стояли тонкий расчёт и сухой прагматизм, эгоистичность и холодное сердце. Он и не подумал бы о связи с Екатериной, опасаясь подводных камней на этом пути, если бы в ту пору, через много лет после постылого брака, великая княгиня уже не начала заниматься политикой, от которой она была отстранена столь долгие годы, и не превратила бы свою семейную и династическую тюрьму в искусный будуар, ставший свидетелем многих её увлечений, из которых только один был плодотворным и привёл к выполнению её династической задачи — рождению наследника.
К политике подталкивало её всё окружение. Если с самого начала своего брака она лишь изредка занималась делами голштинского наследства своего мужа, давая ему правильные советы и делая глубокомысленные выводы, то теперь она присматривалась ко всей европейской политике и отдавала себе отчёт, сколь несерьёзно относится к ней Елизавета. Всеми делами вершил Бестужев, поначалу ставший негласным тюремщиком и строгим воспитателем Екатерины. Он тянул в сторону Австрии, по старинке считая её союзником, а может быть, получая хорошие дотации от неё, и отважиться на перемену курса у него не было ни фантазии, ни склонности к авантюрам.
Сэр Вильямс уловил это сразу. Он блистал на всех куртагах и парадных обедах императрицы, затмевал собой в искусных комплиментах других иностранных министров, но решить дела вдумчиво и обстоятельно ему никак не удавалось. Елизавета уклонялась от серьёзных разговоров и не решала ничего, давая волю Бестужеву, а он был противником интересов Англии. Отговорки, проволочки, смутные надежды, никакой твёрдой почвы. Но сэр Вильямс понял, что и Бестужев меняет курс, правда, не во внешней политике, а у себя дома. Бестужев вдруг начал делать шаги к великой княгине, и Вильямс задумался, что бы это значило.
А значило это ни больше ни меньше, как раздумья Бестужева о будущем. Елизавета была на богомолье и, выйдя из церкви посреди молебна подышать свежим воздухом, вдруг свалилась в жесточайшем припадке, потеряв на несколько часов сознание.
Она выздоровела, но с той поры боязнь потерять своё место и своё влияние прочно завладели Бестужевым, и он искательно осмотрел всё политическое поле вокруг молодого двора. С Петром невозможно было наладить связи — он всё сразу же разболтал бы. Язык его не знал удержу, только Екатерина умела укротить его несколькими насмешливыми словами. Бестужев начал искать пути к Екатерине. Она стала бы императрицей в случае смерти Елизаветы, и хоть императором был бы этот болтливый и разнузданный прусский поклонник, Екатерина играла бы не меньшую роль. Её ум и изворотливость уже были оценены Бестужевым...
И сэр Вильямс тоже стал искать пути к сердцу Екатерины. Но спохватился он поздно. Принятый любезно и радостно, согретый милостивыми словами молодого двора, сэр Вильямс подметил, однако, что смотрит Екатерина так нежно не на него, а в другую сторону, в его свиту. Ему ничего не стоило установить, что именно Понятовский сделался предметом её нежных взоров.
Удивившись, но и обрадовавшись, сэр Вильямс уступил поле боя молодому поляку. Это была победа, и она была сэру Вильямсу на руку...
Впрочем, Екатерина уже давно не была той тихой и скромной девочкой, которая в ответ на все укоризны и упрёки, насмешливые слова и придирки императрицы отвечала лишь низким наклоном головы и выступающими на глазах слезами и рыдающим шёпотом говорила:
— Виновата, матушка!
Давно не слышала этих слов от неё Елизавета и всё больше и больше подозревала невестку в сговорах, заговорах, потому и ни одной ночи не провела в покое, всё кочевала из одной постели в другую, неожиданно и рьяно распоряжаясь в ту же секунду, как решала, где ночевать. Слишком явственно стояла в её глазах история её восхождения на престол, когда не потребовалось ничего, кроме нескольких пьяных солдат — охраны у правительницы Анны Леопольдовны, как правило, не было...
Боялась ли в самом деле Елизавета своей невестки, неизвестно, но что тиранила её, заставляла жить словно в тюрьме, — это факт общеизвестный. Когда же гнёт становится невыносим, сильный человек находит выход из положения. Запрещают переписываться — и узник изобретает невидимые чернила, запрещают даже встречаться взглядом — и узник осваивает науку общения другими путями. Чем горше угнетение, тем изворотливее делается человек.
Запретили великой княгине переписываться с матерью, и она сначала плакала от унизительной опеки, а потом нашла способ общаться с ней: в Петербург приехал музыкант, который выступал во дворце, и его карман стал почтовым ящиком для писем Екатерины. А позволение вступить в связь с Сергеем Салтыковым и без того дало понять Екатерине, что нельзя только выставлять напоказ свои отношения, а тайком можно делать всё, что угодно. И в этом ей немало помогали некоторые её приближённые — обладала способностью расположить их в свою пользу великая княгиня.
Так что к моменту знакомства и связи с Понятовским Екатерина уже многое умела, ловкость её накапливалась с годами унижений и запретов.
Сильно и сладко зацвели в этом году липы в тёмных аллеях ораниенбаумского парка. Густой и нежный аромат цветущих лип заполнил собой всё окружающее пространство, и даже дворец, в котором уже выставили зимние рамы и иногда открывали окна, теперь весь был пропитан этим сладостным ароматом.
Великая княгиня Екатерина сидела у открытого окна и всей душой отдавалась чистейшему и сладкому запаху лип. Странно, думалось ей, такие невидные жёлтенькие цветочки, которые порой и не разглядишь в молодой и липкой зелени распускающихся листьев и чёрной мрачной коре сучьев и веток, издают такой аромат, что не только пчёлы летят на него, но и люди идут на этот аромат. Запах цветущих лип заглушал собой даже терпкий горьковатый дымок от камина, в котором тлели огромные толстые поленья. Екатерина всё ещё приказывала топить камин в своей опочивальне — она панически боялась холода, вспоминая, как ещё четырнадцатилетней девочкой так простудилась на холодных полах Зимнего дворца, что несколько недель лежала в жару, и даже Елизавета опасалась за жизнь будущей жены своего наследника. Елизавета опасалась не зря: случайная и нелепая болезнь унесла её жениха в могилу за несколько недель до свадьбы, и императрица всё ещё вспоминала голубые глаза и белокурые локоны своего так и не ставшего ей мужем жениха, хотя другие привязанности и льстивые слова приближённых, восхвалявших её и без того прославленную красоту, уже давно должны были вытравить в ней несбывшиеся мечты о законном муже, маленьком герцоге крохотной немецкой земли, будущем наследнике, который так и не стал родным для российской принцессы...
Вдыхая сладкий и нежный запах цветущих лип, Екатерина изредка бросала взгляд на кусок серой и нечистой бумаги, лежавший на её маленьком столике для случайных деловых бумаг, и её мысли перескакивали с любования и наслаждения ароматом липы на грозную действительность.
Бумага была слишком неожиданна для Екатерины. Ещё несколько месяцев тому назад Бестужев и не подумал бы о путях-дорогах к сердцу и уму великой княгини, но события последних нескольких недель заставили его поразмыслить о будущем. Неспокойный режим дня Елизаветы, не знавшей с утра, где она станет ночевать в следующий раз, обеды и ужины в самое неурочное время, сон только под утро, и тоже беспокойный, словно бы ей угрожала смертельная опасность, — всё это заботило Бестужева. Императрица всё ещё помнила, как легко заняла она трон, как беспечность и легкомыслие правительницы Анны Леопольдовны позволили ей, молоденькой принцессе, захватить трон и дворец с помощью всего-навсего каких-нибудь трёхсот гвардейцев, которых и по сей день привечала Елизавета: крестила у них детей, приглашала на парадные обеды и давала «на чаек» большие суммы денег, хотя казна вечно была пуста — всё съедала военная кампания против Пруссии.
Екатерина лишь усмехалась. Она и не думала о захвате власти, да и сделать это для Петра вовсе ей не улыбалось. Всё более дерзким и невыносимым становился этот тщедушный и прыщавый великий князь, и всё более донимал он Екатерину злыми словами и странными поступками. Он и не думал скрывать свои сердечные привязанности, и Екатерина уголком рта усмехалась, когда думала о его последней пассии — Елизавете Воронцовой. Когда императрица приставила к Екатерине в качестве молодых фрейлин двух своих протеже, Екатерину и Елизавету, дочь и племянницу влиятельного графа Воронцова, великая княгиня сразу отличила старшую — Екатерину. Некрасива, но умна, честолюбива, дерзка на язык и не скрывает своих истинных привязанностей. Уже замужем, выдана по любви за красавца Дашкова, уже имеет сына, но молодость берёт своё, и в дворцовой кутерьме блистает она и остроумием, и находчивостью, и умением подметить смешные стороны приближённых императрицы и высмеять их зло и резко.
И совсем другая — младшая. Елизавета уже в свои восемнадцать лет была тучной, раскормленной, складки жира выпирали из-под тугих корсетов и заслоняли талию, двойной подбородок покоился на высоких воротничках тестом, а декольте давало возможность увидеть полную белую шею и округлые пышные формы высокой груди. Лицо её было всё испорчено оспой, крупные ямины от рубцов остались на всю жизнь. Как ни странно, они не портили лица Елизаветы, потому что кожа её была белой и нежной, и Екатерина вполне понимала своего мужа, увлёкшегося молоденькой фрейлиной, толстой и пышной. Увлеклась Петром и сама Елизавета, стала подражать ему и за несколько месяцев научилась и курить вонючие трубки, и пить скверное, отвратительное пойло, которым Пётр угощал своих голштинских солдат. Они были набраны с позволения императрицы в полк, которым он сам же и командовал, во всём подражая Фридриху и считая его самым великим из всех полководцев всех времён и народов.
Часто, не спрашивая Екатерину, не говоря ей даже о том, что забирает с собой Елизавету, Пётр возил её в компании своих офицеров и с восторгом наблюдал, как пьёт его пассия огненное пойло, курит вонючую трубку и щеголяет теми же словечками, которыми любил уснащать свою речь великий князь.
Вот и теперь пирует Пётр в своих покоях, окружив себя голштинскими солдатами, изредка похлопывает по широкому крупу свою любовницу и думать не думает ни о каких заговорах и переворотах — ему и без того хорошо.
А вот Бестужев думает. Бумага его о том, чтобы изменить порядок престолонаследия — добиться, чтобы Пётр, вступив на престол по смерти своей тётки, вручил такую же власть, как у него, и своей жене, Екатерине, чтобы, венчаясь на царство, он мог бы короновать и её. Словом, императрица должна подписать такой указ, чтобы власть была поделена между ним, Петром, и Екатериной...
Великая княгиня раздумывала. Очень уж рискованно соглашаться на такое опасное для неё дело. Проведает Елизавета, императрица, что и она, Екатерина, так же мыслит, может и в монастырь сослать, а то и лишить головы. Что это вздумалось Бестужеву беспокоиться о власти для Екатерины, деля шкуру ещё неубитого медведя? Екатерина уже поняла, что за всеми такими словесами стоит и личная выгода для Бестужева — уж себе-то он выговорил право распоряжаться всем и по смерти императрицы, а великим князьям, могущим вступить на трон, оставляет лишь призрак, тень власти...
Екатерина сразу поняла, к чему клонит Бестужев, но напрямик ничего ему не сказала. Пусть думает, что она в этом хаосе будущего указа ничего не поняла, не увидела, какую выгоду для себя прочит нынешний глава правительства, как обделяет Екатерину и Петра. Но уже и то, что он послал такую писульку ей, Екатерине, отдаёт его всецело в руки великой княгини. А ну как доложит она императрице, какие записки посылает ей Бестужев, а ну как разболтает о его роли? Но Бестужев прекрасно вызнал характер Екатерины, понимал, как умна и решительна великая княгиня, как умеет видеть за словами неизданного ещё декрета наготу замыслов и тайных, секретных мыслей. И потому он не опасался измены и предательства...
Екатерина раздумывала о бумаге Бестужева. Она знала, что отправит её обратно с замечаниями и подсказками, намёками и неопределёнными обещаниями, знала, как ответить на такое опасное предложение. Нет, соглашаться сразу она не будет, даже нигде не скажет своего «да», но зато укажет, как надо переделать этот будущий указ, как исправить его и какие выгоды оставить Бестужеву, а что выговорить себе. Но всё это следует преподнести в неопределённых выражениях, со множеством бесконечных «если», не давая никаких конкретных обещаний и заверений. Нет, мысли её не должны смущать Бестужева, и обещаниями его не обманешь, а уж если попадёт такая писулька на стол Елизаветы, тут риск остаться с головой не только некоронованной, но, быть может, и вообще отделённой от тела.
Впрочем, об этом она ещё подумает на досуге, а теперь она ждёт в гости приятного человека, джентльмена до мозга костей, умеющего блестящей цитате из древнего автора придать вид своей мысли, только что пришедшей ему в голову...
Пока все они были в Зимнем, в Петербурге, ей ничего не стоило принимать у себя Понятовского, скрывать его в окутанной ширмами каморке, и никто из фрейлин, даже Владиславова, не догадывался, что ночи её не одиноки, хоть муж и не посещал её уже много месяцев после рождения сына и наследника.
Здесь, в Ораниенбауме, всё было сложнее. Здесь ещё не окружила себя Екатерина многими вещами, которыми окружала в Петербурге, опочивальня её не была заставлена ширмами, хотя она и приказала привезти их из Зимнего дворца в столице. И потому волей-неволей ей пришлось открыться Владиславовой. Впрочем, Екатерина давно уже догадывалась, что Владиславова хоть и шпионка Бестужева, но ей дозволено быть кроткой, словно ягнёнок, угождать великой княгине, исполнять все её прихоти. И Владиславова исполняла...
Как завязалось всё это в один трудно распутываемый клубок! Владиславовой пришлось открыть секрет о Понятовском, хоть и догадывалась Екатерина, что давным-давно известно Бестужеву про ловкого поляка, потому как не раз и не два пытался он удалить его от молодого двора — неоднократно говорили о влиянии Понятовского на Екатерину австрийский и бельгийский резиденты и министры, возмущались поляком и требовали убрать его от двора. Но Екатерина умела привести доводы, по которым Понятовского не надо было удалять, и сколько уже раз спасала она его от отъезда на родину. И потому так смело писал Бестужев Екатерине — знал, какое средство приструнить великую княгиню держит он в руках. Даже расписки Екатерины видел он у банкира сэра Вильямса. Английский посол открыл кошелёк своего правительства для великой княгини, и она очень широко пользовалась этой неожиданной помощью — «на чаек» у неё вечно не хватало денег, да и Понятовскому они были даже нужнее, чем ей. Она всегда была щедра, а на своей новой родине уяснила, что щедрость должна подкрепляться солидными денежными вливаниями, иначе любовь человека иссякнет. Она твёрдо усвоила это правило, и расчёт её всегда оправдывался — подачки и подарки скорее привязывали к ней людей, даже быстрее, чем ласковые слова и благодеяния. Милости, не подкреплённые богатствами, даром ничего не стоили, а интерес человека всегда можно подогреть подарками и чинами...
Впервые Понятовский здесь, в Ораниенбауме, должен был прийти к ней один, без привычного окружения, без Льва Нарышкина, который умело закрывал собой фигуру субтильного поляка, без тех камер-офицеров, которые могли бы провести его к великой княгине незаметно для .всех окружающих. Екатерина волновалась при одной только мысли, что Понятовский, как прежде Салтыков, может опоздать на свидание, назначенное ему, может прийти позже или раньше, но ей и в голову не приходило обезопасить его путь. Ей казалось, что его титул — помощник английского посла — защищает его куда лучше, чем шпага или кинжал, и она не могла и подумать, что её любимцу может грозить опасность куда прозаичнее, чем козни и интриги послов других стран или доносы её собственных фрейлин. Во Владиславовой она была уверена, а другие фрейлины не смели и помышлять предать великую княгиню — она тщательно скрывала свои намерения и мысли от окружающих её людей. Это раньше душа её была нараспашку, и лишь по подсказке императрицы могла она позволить себе вступить в связь с Сергеем Салтыковым и много же потом от него натерпелась. Любила его, прощала и измены, и опоздания на свидание, и неумение держать данное слово, — всё это позже оттолкнуло её от бывшего любовника, но тем не менее она никогда не забывала, сколько минут радости и наслаждения доставил он ей, и была ему в душе благодарна за все эти минуты посреди безбрежного океана горестей и упрёков. Это теперь она уже не чувствовала себя такой одинокой, какой чувствовала в первые годы жизни в России, это теперь она привязала к себе многих людей не только подарками и щедрыми подачками, но и добрыми ласковыми словами, участием и милосердием.
Своих фрейлин она старалась расположить тем, что вникала в каждую деталь их жизни и быта, помогала, чем могла, и потому приобрела не то чтобы верных подруг, а верных служанок и всегда готовых прийти ей на помощь благодарных подданных. Знала, что на вершине Олимпа, куда вознесла её судьба, не могло быть подруг, там может быть лишь одиночество посреди толпы окружающих людей, но, снисходя к жизни своих слуг, она умела и их расположить в свою пользу.
2
На это свидание Станислав Понятовский собирался тщательнее обычного. Здесь, в Ораниенбауме, надо было бояться всего, что могло быть опасным для жизни, да и сплетни не приходилось сбрасывать со счета. И хоть все знали, что великая княгиня благоволит миловидному поляку, но сказать точно, что он проводит у неё целые ночи, пока ещё не мог никто. Так, носились неясные толки, смутные догадки, вернее всех мог бы свидетельствовать в пользу этой связи только сэр Вильямс, но ему не было смысла и выгоды предавать своего подчинённого, потому что и ему, сэру Вильямсу, были дороги те сведения, что доставлял ему поляк Понятовский. А сведений было достаточно много, и за это не жалел сэр Вильямс кошелька своих английских покровителей. И была у сэра Вильямса лишь одна цель — заключить с Россией такой договор, который позволил бы пустить на извечного врага Англии — Францию — русских солдат, отличавшихся скудным содержанием и горячей отвагой. Правда, ему всё ещё никак не удавалось заручиться верным словом русских, да ещё и на бумаге, но он всё-таки не терял надежды.
Там, в Петербурге, всё сходило с рук субтильному поляку. Там были бесконечные переходы, длинные коридоры, большое количество закутков и тёмных клетушек, где можно было переждать проходы дежурных гвардейцев, да и Владиславова всегда была начеку — Екатерина дарила ей множество дорогих подарков, Бестужев приказывал ей не мешать великой княгине, и статс-дама Екатерины весьма благоволила Понятовскому...
А вот здесь, в Ораниенбаумском дворце, всё ещё было незнакомо и неизвестно Станиславу, здесь было слишком просторно для дворцовой жизни, всё было на виду, очень много света, и благодетельной опеки Владиславовой не приходилось ждать. И потому Понятовскому нужна была смекалка и изобретательность, чтобы попасть в покои Екатерины и затем выйти из них без риска.
Он долго обдумывал свою одежду. Действительно, надо было переодеться так, чтобы ни в ком не возбудить подозрений — светлые северные ночи, когда от смутного неясного света можно было укрыться только за тяжёлыми шторами да в тёмных переходах между опочивальнями и парадными залами, слишком уж отчётливо обрисовывали каждую деталь наряда.
Одеться купцом, но купцов не пускают в покои великой княгини ночью, вельможей — выглядит странно, простолюдином — и того хуже. Пусть это будет наряд не поляка — красный кунтуш[12] он всегда носил с удовольствием, отличаясь этим броским цветом от весёлой и пышной толпы приближённых ко двору. Пусть это будет тёмный плащ, накинутый на скромное домашнее платье русского вельможи. Нет, конечно, не архалук[13], не бесчисленные банты и кружева, лакированные туфли с громадными пряжками, унизанными драгоценными камнями. Да, скромный камзол, тоже скромного тёмного цвета, даже без кафтана, чтобы укрыться плащом, и лёгкие ботфорты прусского солдата...
Понятовский ещё раз оглядел себя в дорогом венецианском зеркале — это дорогое украшение подарила ему Екатерина. Павильон, где разместились посланники английской короны, отстоял далеко от основного дворца, где располагались апартаменты великой княгини и великого князя, и потому приходилось пересекать несколько тёмных аллей, наполненных сладостным и нежным ароматом цветущих лип.
Да, он был хорош. Лицо не слишком красивое — немного кривоват нос, чуть-чуть тонковаты губы, но нежная кожа и едва видный румянец на щеках скрадывали впечатление. Он ещё раз оглядел себя, запахнулся в накидку-плащ, став бесформенным конусом, и открыл дверь в ораниенбаумский сад...
Как ни странно, никто не остановил Понятовского. Его тёмная фигура беспрепятственно пересекла широкие аллеи, прокралась вдоль цветников, залитых неясным сумрачным светом северной ночи, и тихонько подошла к заветным дверям чёрного хода во дворец. Здесь Понятовский ещё немного подождал, оглядываясь по сторонам, но никого не было видно, и он отворил дверь, ничего больше не опасаясь.
Тёмная лестница круто вилась на второй ярус дворца, и Станислав бережно ставил ноги на почти отвесные ступеньки. Этим ходом пользовались служанки и камердинеры, повара и посыльные, но теперь всё спало благодетельным сном, и Понятовский беспрепятственно проник в приёмную залу великих князей, где его уже дожидалась преданная Владиславова.
В зале сторожили гвардейцы самого великого князя, но Владиславова уже дала им несколько бутылок очень крепкого рома, и теперь головы их покоились в самых необычных местах: то на плече верного товарища по оружию, то на широком диване, а то и просто на длинном столе, свидетеле ночной пирушки.
Стараясь не стучать ботфортами, Понятовский вслед за Владиславовой пересёк большую приёмную залу и скользнул за укрытый бархатными гардинами вход в опочивальню и кабинет Екатерины.
Громадная комната скупо освещалась одной лишь свечой, поставленной на круглый столик в углу. Серая белёсость северной ночи скрывалась за тёмными плотными гардинами, и во всех углах опочивальни затаился тускло-белый сумрак, ещё более сгущавшийся возле одинокой свечи в высоком серебряном шандале. Зато она резко высвечивала и копчёную лососину, и отблескивающую перламутром осетрину, круглила заморские фрукты и сквозила через хрустальный графин с токайским, преломляясь на светлой скатерти едва видимой радугой.
Но еда и питьё не так уж интересовали Понятовского, как сама Екатерина, белая в этом сером сумраке, оттенённая широким коричневым капотом с зелёными бархатными отворотами. Её роскошные волосы уже были убраны на ночь под плоёный кружевной чепчик, но, едва увидев Станислава, она небрежно стащила с головы свой крохотный головной убор, и её шелковистые богатые волосы пенной волной скатились по спине и укрыли будто плащом.
Он очень любил её волосы, перебирал их в ладонях, вдыхал их сладостный аромат и всё ещё не уставал изумляться их пышности и величавости.
Великая княгиня неслышно подплыла к нему, и первый их поцелуй здесь, в Ораниенбауме, был целомудренным и коротким.
Потом Понятовский прильнул губами к её белой округлой руке и снова удивился её изяществу и совершенной форме. Нет, сама Екатерина лицом не была слишком уж хороша, его правильный овал портил острый, выдающийся вперёд подбородок, но и это словно бы придавало ей пикантность, вносило нечто индивидуальное в её облик.
— Ах, какие же ручки, — сладко прошептал Понятовский, целуя один за другим длинные тонкие пальчики Екатерины, — ни у одной из местных дам не встречал я такой совершенной формы, такой белизны и изящества...
— А ведь много пришлось перецеловать дамских ручек, — засмеялась Екатерина, — и все вы, дамские угодники, ввели в моду этот обычай — целование руки. А так, если бы по старым русским обычаям, вы даже и не увидели бы обладательниц ручек, вас бы и в терема не пустили, не то что танцевать на балах и отпускать комплименты на куртагах...
Слова её словно бы отрезвили Понятовского, её немного ироничный, насмешливый тон будто вылил ему на голову ушат холодной воды. Однако он не подал и виду и продолжал любоваться её руками, целуя их до самого локтя, благо рукава у капота были такие широкие, что позволяли делать это.
И Екатерина поняла, что тон её, пожалуй, вовсе не годился для этого опасного свидания.
— Вас никто не видел? — уже совсем другим голосом, нежным и мягким, спросила она.
— Если бы кто и напал на меня, при мне моя шпага, — горделиво выпрямился Понятовский.
— Императрица усилила охрану, она теперь очень боится за свою жизнь, — уже серьёзно объявила Екатерина. — С тех пор, как появилась на небе эта волосатая комета, она не перестаёт думать о своём последнем часе и страшится...
— Но ведь комета была предсказана Галлеем, и предсказано, что появится она именно в нашем, пятьдесят восьмом году, — подхватил Понятовский, и опять Екатерина уловила, что они говорят на одном и том же языке, что им не надо объяснять друг другу простейшие вещи, о которых многие дворцовые приближённые не имели понятия.
Они разговаривали на французском, и красота и изящество этого языка ещё больше сближали их, поскольку они читали одни и те же романы, одни и те же философские сочинения и нередко цитировали одни и те же изречения. Им было легко и свободно говорить друг с другом, они понимали все мысли собеседника. При дворе это была большая редкость, и Екатерина очень ценила Понятовского именно за эту начитанность и образованность, широту взглядов, которой обладала сама.
Их любовь была нежной и тонкой, была даже больше игрой, чем настоящим глубоким чувством, но Екатерина так дорожила ею, что с яростью отстаивала Понятовского, которого уж столько раз пытались отослать домой, словно нашалившего ребёнка, — его влияние на дела европейской политики не сказывалось явно, но влияние на наследницу престола, вернее, на жену наследника престола виделось уже определённо...
Ужин, такой поздний для влюблённых, не был оценён по достоинству, куриные крылышки были лишь едва пощипаны, фрукты слегка надкусаны, зато удобная широкая постель стала местом для многих нежных часов.
Неяркий сумрачный рассвет высветил опочивальню Екатерины, когда Понятовский выскользнул из её объятий и поспешно оделся.
Надо было уйти так же незаметно, как он и пришёл, и потому Екатерина сонно помахала ему рукой и не стала прощаться у двери и вызывать Владиславову, как делала это обычно в Зимнем.
Станислав сам приоткрыл дверь и, увидев дремавшую в кресле Владиславову, не захотел будить её, а неслышной лёгкой тенью скользнул в общую приёмную великих князей. И понял, что зря пожалел статс-даму...
Большинство голов голштинских солдат, назначенных в эту ночь охранять покой Петра, наследника царского трона, уже поднялись и угрюмо оглядывали пустые бутылки, грудой стоявшие на столе. Там ничего не осталось, и внимание солдат обратилось на Понятовского, странную фигуру, закутанную в тёмный плащ и с большим париком на голове.
Тотчас двое-трое солдат с дикими криками устремились к Станиславу. Он и не думал сопротивляться, зная, что крики сразу привлекут внимание самого великого князя или Екатерины. Он успокаивающе приложил палец к губам, давая понять, что он вовсе не чужой здесь человек, всем своим видом выражая миролюбивые помыслы, но его тонкая дипломатия не имела никакого успеха. Солдаты не знали Понятовского, их особенно беспокоил его тёмный плащ до пят, и скоро руки Станислава оказались скрученными за спиной, а шпага отобрана и в качестве вещественного доказательства торжественно внесена в покои Петра.
Великий князь ещё не ложился — всё в его апартаментах говорило о весёлой пирушке, которую не разогнал даже рассвет. Вся огромная зала была битком забита табачным дымом от трубок, которые курили все приглашённые и даже Елизавета Воронцова, нынешняя пассия великого князя.
Солдаты втолкнули Понятовского в залу, поставили прямо перед великим князем и буркнули ему несколько слов на грубом немецком диалекте, который хорошо понимал Пётр.
Великий князь мгновенно протрезвел, шальная улыбка сбежала с его неказистого лица, оно покрылось холодным и липким потом, и бледность отметила страх, охвативший сердце Петра.
— Ты пришёл убить меня? — закричал он в испуге.
Понятовский стоял перед великим князем, не зная, что отвечать, как растолковать, что он не убийца, не разбойник. Очевидно, только самому Понятовскому казалось, что тёмный длинный плащ скрывает его намерения. Другие сразу решили, что он виноват в чём-то, если так маскируется.
— Что вы, ваше высочество, — тихо ответил по-французски Понятовский, — у меня и в мыслях этого не было...
У Петра отлегло от сердца. Если человек так разговаривает на французском, если голос его так изящен, не может же быть, что он злоумышляет. Но страх всё ещё держался в душе великого князя, и потому он продолжал сурово допрашивать Понятовского:
— Зачем ты ворвался во дворец в такое неурочное время, зачем обвязал себя шпагой, для чего ты злоумышлял на мою царственную особу?
Пётр суетливо бегал вокруг закутанной в плащ фигуры Понятовского, злобно кричал, не давая себе труда вслушиваться в ответы обвиняемого, брызгал слюной. Его царская особа представлялась ему столь же драгоценной для русского народа, сколь и для него самого.
Понятовский стоял перед великим князем, глядел на его вытаращенные, красные от вина глаза, чувствовал его страх и молча досадовал, зачем не разбудил Владиславову, зачем отказался от услуг статс-дамы, теперь не было бы этого столь же нелепого, сколь и опасного для его жизни обвинения.
— Позвольте мне не отвечать на ваши вопросы, — почтительно поклонился он Петру.
— Что значит не отвечать? — взбеленился Пётр. — Что это значит? Только на дыбе можешь отвечать?
Он всё ещё бегал вокруг Понятовского, заглядывая ему в глаза и срывая с него длинный плащ, под которым оказался странного покроя кафтан, как будто нарочно выбранный поляком из одежды простонародья в целях маскировки. Этот костюм придал ещё больше убеждённости Петру: конечно, этот тип хотел убить его, великого князя, что же ещё за цель может быть? Правда, он мог прийти и по любовным делам — фрейлины Екатерины частенько приглашали своих кавалеров во дворец, и нередко Пётр заставал их в самых неприличных положениях, которых они, впрочем, вовсе не стеснялись...
Однако версия о покушении на свою драгоценную особу казалась ему более привлекательной, и он продолжал кричать и допрашивать Понятовского, совсем не адресуясь к его положению и происхождению.
— Ваше высочество... — неслышно подошёл к Петру собутыльник, завсегдатай пирушек и голштинских вечеринок, соотечественник Понятовского граф Браницкий.
Пётр дико оглянулся на Браницкого. Он вовсе не был расположен выслушивать кого бы то ни было, и ему нравилась роль допросчика и палача. Но граф был всегда так услужлив, так мягок и так почтителен к Елизавете Воронцовой, что лицо Петра смягчилось: что хочет сказать этот полячок?
— Ваше высочество, вы не узнали, да и трудно узнать, — прошептал ему почти на ухо Браницкий, — это дипломат, он из английского посольства, состоит при сэре Вильямсе и уж, конечно, здесь в связи с какой-нибудь любовной интрижкой. Между прочим, он поляк, зовут его Понятовский, и ваша супруга знает его довольно хорошо...
Всё это Браницкий прошептал Петру, и великий князь несколько успокоился. Конечно, этот красивый белокурый поляк с нацепленным и сбившимся от сутолоки париком замешан в какой-нибудь любовной истории, и Пётр облизнул тонкие, сухие и бледные губы, надеясь услышать что-нибудь от самого Понятовского.
— Так скажите же имя вашей дамы, — уже милостиво протянул он. — Не беспокойтесь, оно останется в тайне, можете на меня положиться.
Понятовский внутренне усмехнулся. Он-то хорошо знал длинный болтливый язык великого князя — ни одна тайна, даже государственная, не могла удержаться в его голове даже и пять минут.
— Прошу вас, ваше высочество, — пробормотал он, — позвольте мне оставить имя моей госпожи в секрете, позвольте просить вас отпустить меня...
Он бросил искоса взгляд на Браницкого, полный благодарности и обещания не забыть выручки соотечественника.
— Ваше высочество, уж если оставаться истинным кавалером, то не стоит доискиваться имени дамы, — усмехаясь, продолжил свою защиту Браницкий. — Да и что вам даст это имя? Главное, господин сам признался, что влекла его одна любовь...
Пётр и вовсе размяк, но острое любопытство всё ещё заставляло его допытываться, кто же предмет страсти этого посольского человека.
И он продолжал свои вопросы, подходя к Понятовскому то с одной, то с другой стороны...
Солнце, неяркое, но по-весеннему тёплое, уже давно поднялось над горизонтом, когда наконец Пётр отпустил Понятовского. Однако он взял с него обещание, что тот обязательно скажет имя своей возлюбленной, и Понятовскому пришлось дать такое обещание.
Екатерина узнала обо всей этой истории только вечером, когда на парадном куртаге увидела поляка в числе приглашённых. Он глазами сказал ей о неприятностях, и она сразу поняла, что случилось кое-что. Но она долго не могла улучить время, чтобы подойти и узнать, что же произошло.
Фрейлина Нарышкина тихонько пробралась к Екатерине.
— Сегодня ночью, — скромным, но торжествующим шёпотом объявила она великой княгине, — пытались злоумышлять на жизнь великого князя...
Екатерина обратила на Нарышкину изумлённые глаза. Кому это понадобилось совершать покушение на Петра, незлобивого, взбалмошного, но, на её взгляд, такого безобидного великого князя? Однако она тут же сообразила, что из мухи раздули слона, как всегда при дворе, и догадалась, что в этом деле замешан её возлюбленный. Значит, он попался в руки великого князя, не выдал её, не сказал ни слова, что был в её покоях, и Пётр решил, что переодетый помощник английского посла был направлен убить великого князя. Она очень быстро просчитала все возможные варианты и поняла, что должна пойти на унижение, чтобы спасти и Понятовского, и свою репутацию. Пётр поведал всем, кому только мог, о случае с Понятовским, но до Бестужева и императрицы это ещё не дошло, поскольку, улёгшись в постель лишь утром, никому из них он не мог сказать.
И Екатерина решилась на унижение и досаду. Она терпеть не могла рябую Елизавету, хотя сестру её, Екатерину Дашкову, во многом отличала. Та, не в пример сестре, была умна, честолюбива, хоть тоже не блистала красотой. Самой великой княгине всегда было неприятно видеть её испорченные, чёрные зубы — молодая ещё, эта восемнадцатилетняя княгиня уже славилась уродливостью старухи...
Оглянувшись вокруг, Екатерина поняла, что в этой разряженной толпе придворных она не видит пассию Петра — Елизавету, и послала Нарышкину разыскать свою собственную фрейлину.
— Хочу устроить ей головомойку, — шепнула она Нарышкиной.
И та ринулась выполнять поручение Екатерины, втайне радуясь, что может хоть чем-то насолить рябой дурнушке, так прочно завладевшей сердцем и душой наследника престола.
Но Елизавету отыскали не сразу — она всё ещё нежилась в своей постели в комнате для фрейлин. Правда, в Ораниенбауме у неё не было своих апартаментов — Пётр ещё не успел приказать приготовить их, хотя в Зимнем дворце у Елизаветы были свои комнаты рядом с покоями Петра.
— Спит ещё, — тихонько шепнула Нарышкина, вернувшись из комнаты, где спала Елизавета. — Позволяется ей, — мстительно добавила она.
И опять угадала Екатерина: все фрейлины настроены против рябой Лизки, все платят ей завистью и ненавистью, но каждая была бы готова оказаться на её месте. И невольно пожалела великая княгиня рябую Лизку: в каком же кольце ненависти и зависти живёт эта дурнушка, имевшая несчастье понравиться великому князю...
— Что ж, — вздохнула Екатерина, — если гора не идёт к Магомету, Магомет сам пойдёт к горе...
Едва кончилась первая перемена блюд, Екатерина решительно встала из-за стола. Хорошо ещё, что на этом куртаге не было императрицы — она поехала на богомолье, а Петру и вовсе нравилось, если его жена отсутствовала на куртаге и не мешала ему своими колкими и нелестными замечаниями.
Екатерина помчалась в комнату фрейлин.
Елизавета крепко спала, раскинувшись на скромном ложе одной из фрейлин. Разметались по белой подушке её рыжеватые волосы, оголилось крепкое полное колено, и Екатерина невольно поняла Петра: тело Елизаветы было здоровым, белым и соблазнительным...
Она села у изголовья, рассматривая свою фрейлину и готовя подходящие к случаю слова.
Немало же была изумлена Елизавета, когда открыла глаза. Она не поверила самой себе, больно уж случай был неординарный: госпожа сидела возле ложа своей служанки и ждала, когда та проснётся.
Рябая Лизка засуетилась, вскочила было, кинулась одеваться, начала извиняться за своё столь долгое спанье, но Екатерина ласково удержала её. Босая, в одной нижней юбке и ночной блузе сидела Лизка на краю постели и внимательно слушала свою госпожу, нервно перебирая края одеяла и пощипывая пёрышки под тканью.
Она ещё плохо соображала спросонья и не знала, как себя вести. В том, что Екатерина знала о её шашнях с Петром, она не сомневалась, что госпоже захочется отомстить за своё подорванное самолюбие — тоже понимала, но ласковый и доверительный тон великой княгини ввёл её в большое смущение и заставил таращить большие, навыкате, серые глаза, хлопать белёсыми ресницами и всё больше смущаться от этого внимания и милостивого тона.
— Расскажи, Лизонька, что случилось вчера на вашей поздней вечеринке, — мягко попросила Екатерина, опять втайне готовясь к нелёгкому разговору, где была затронута её гордость.
Елизавета покраснела легко, просто вспыхнула от смущения; её белая, испещрённая оспинами кожа залилась румянцем.
— Ваше высочество, ничего такого... — забормотала она, стараясь понять, чего добивается от неё великая княгиня: значит, знает, что она присутствовала на этой табачной вечеринке у великого князя, раз так спрашивает.
Впрочем, она давно уже не сомневалась, что Екатерине всё известно. Но до сих пор великая княгиня не позволяла себе вмешиваться в сердечные дела мужа и считала ниже своего достоинства расспрашивать фрейлину или как-то показывать своё отношение к ней. Она даже не изменила своего обращения с фрейлиной-выскочкой, тон её приказаний и просьб был всё тот же, что и до интрижки Елизаветы с Петром. И теперь Екатерина похвалила себя за то, что так вела себя с Елизаветой, теперь она могла откровенно говорить с ней и даже просить об услуге...
— Но ведь случилось же что-то, касающееся безопасности великого князя? — в упор спросила Екатерина.
И тут-то Елизавета стала соображать. Она не особо обратила внимание на Понятовского, да и допрос его проходил сумбурно, поодаль от неё, а голова её была затуманена винными парами, к тому же не интересовалась она такими государственными делами.
Но раз великая княгиня пришла именно к ней, значит, это как-то связано с её сердечными делами, значит, не зря болтали во фрейлинской, что по ночам похаживает к их госпоже фаворит, ухажёр; может быть, это и был тот самый переодетый господин, которого ночью допрашивал Пётр. Правда, Пётр полагал, что этот господин захаживал к какой-нибудь из фрейлин и пугал Понятовского арестом и отобранием шпаги, он хотел весело подшутить над фрейлиной, чей кавалер так неосторожно попался в его сети. Но чтобы это была великая княгиня, Елизавета не могла и помыслить. И вот теперь догадалась — не совсем уж она лишена была интуиции и смекалки...
— Арестовали какого-то господина, — пробормотала она в ответ на вопрос Екатерины, — но и сразу отпустили: понял великий князь, что тот на свидании был да свою пассию не желает выдать...
Всё это она проговорила быстро и тщательно следила за лицом Екатерины.
И вдруг услышала неожиданное:
— Я хотела тебя просить, Елизавета, чтобы ты меня не выдавала.
Рябая Лизка широко открыла глаза, уши её отказывались служить ей: не верилось фрейлине, чтобы Екатерина вот так могла сказать.
— Да, да, — скорбно продолжала между тем Екатерина, — я уже не могу скрывать, я очень люблю Понятовского, он ко мне приходит, а не к фрейлинам, и я очень боюсь мужа.
Она сделала паузу, внимательно наблюдая за лицом Елизаветы.
Рябое лицо соперницы как-то вдруг просияло. О, теперь у неё развязаны руки, теперь она может не бояться угроз со стороны великой княгини, теперь Екатерина в её руках!
— И я прошу тебя мне помочь, — доверительно и ласково говорила между тем Екатерина. — Я знаю, что ты пользуешься большим влиянием на великого князя — попроси его прекратить преследование Понятовского. Этот человек мне очень дорог, и я знаю, как дорога ты моему мужу. Так не будем чинить друг другу зла, попроси великого князя сделать снисхождение и позволить мне принимать Станислава...
Елизавета не верила своим ушам. Как, взамен всех неприятностей ей предлагают дружбу и покровительство и просят пустячок? Она робко протянула было руки к великой княгине, чтобы обнять её, успокоить и обещать всякую помощь и поддержку. Но Екатерина как будто не заметила этих протянутых рук, тем более что нос её всё время улавливал запах немытого женского тела, и ей хотелось зажать нос тончайшим платочком с ароматом французской воды.
— Да, да, конечно, — забормотала Елизавета, — я всё расскажу великому князю и буду просить его о помощи и снисхождении...
Только это и нужно было Екатерине. Она сдержанно поблагодарила Елизавету и выскочила из комнаты. Подбежав к окну, великая княгиня распахнула летние створки, и нежный и крепкий аромат цветущей липы смыл неприятные запахи фрейлинской.
3
Рябая Елизавета исполнила своё обещание. Тут же, едва приведя себя в относительный порядок, побежала она искать великого князя. Он уже успел провести за утро смотр своим верным голштинским солдатам и теперь сидел за завтраком, поглощая безмерные дозы спиртного.
Дежурный камердинер тихонько вошёл в опочивальню великого князя. Он наклонился к уху Петра и негромко проговорил ему о желании Елизаветы увидеться с ним. Пётр едва кивнул головой — давно уже Лиза не просила докладывать о её визитах, но теперь это было необычно.
Елизавета вошла, сделала глубокий реверанс, словно послушная школьница, и, приложив руки к сердцу, пропела сладким голосом:
— Прошу тебя, великий князь, выслушать о необычайном событии, случившемся сегодня утром...
Пётр навострил уши. Елизавета легко и бесхитростно сказала ему, что великая княгиня сама просила её потолковать с Петром, поведала, что тот человек, которого Пётр подозревал в злоумышлении на свою особу, всего-навсего фаворит Екатерины, что она нуждается в помощи Елизаветы и именно её выбрала в свои помощницы и подруги.
Пётр расхохотался. Нет, так просто он не оставит свою версию о злоумышлении, будет всем рассказывать, как благодаря своей личной храбрости и мужеству своих голштинских солдат избегнул злой участи. Как не хочется отдалять такую благородную и такую мужественную мысль!
Но Елизавета повернула его намерения в нужном направлении.
— Теперь великая княгиня не будет преследовать меня, теперь она не станет упрекать меня и укорять тебя, Петруша, — ласково проговорила она, взбираясь на тощие коленки своего возлюбленного.
И Пётр согласился, что лучше и вернее будет поощрить великую княгиню — тогда и ему с его новой пассией станет легче проводить вместе долгие часы...
В павильон, где находилась временная резиденция английского посла, Елизавета отправилась вечером.
Почти не говоря никаких слов, едва поздоровавшись, она просто пригласила Понятовского следовать за собой.
Мучимый опасениями, тщательно скрывая своё беспокойство, Понятовский нахлобучил свой громадный белокурый парик о трёх локонах, завернулся в тот же чёрный плащ и последовал за фавориткой Петра.
Он ожидал всего, чего угодно, от великого князя — бурного проявления ревности, подавленного чувства собственника, открытой неприязни, но того, что произошло, Станислав никак не мог предвидеть.
Великий князь встретил Понятовского так, словно это был его лучший друг, завзятый собутыльник и почти что брат.
— Ну можно ли было быть таким безумцем, чтобы скрывать от меня свои похождения?! — воскликнул Пётр, семеня на своих тощих кривых ножках к красавцу поляку. — Да разве я не понимаю чувствований, разве ж я когда-нибудь препятствовал любовным отношениям моей жены? Зачем ты сразу не сказал мне, что она тебя привечает и что давеча ты выходил от неё? Тогда мои солдаты не причинили бы тебе никакого ущерба, стараясь мне угодить и заботясь о моей особе...
— О, ваши солдаты, ваше высочество, отлично исполнили свой долг, а ваши диспозиции были так тщательно и хорошо продуманы и часовые расставлены так, что и мышь не проскользнула бы незамеченной, — рассыпался Понятовский в комплиментах по поводу военных талантов великого князя.
Большой дипломат, он знал, чем взять сердце Петра.
— О да, я всё хорошо продумал, и никто не посмеет ворваться ко мне, — самодовольно погладил свой остренький подбородок великий князь. — Но надо было с самого начала довериться мне, о, я знаю толк в тонких чувствованиях и вовсе не вижу, почему бы я мог ревновать свою жену, если ей нравится белокурый кавалер...
Понятовский сдёрнул с головы свой громадный парик и старательно раскланялся, подметая его локонами блестящий, натёртый воском паркетный наборный пол.
И снова этот жест поляка возымел своё действие.
— О, сейчас ты будешь доволен, я просто приведу сюда ещё кое-кого, чтобы успокоить вас обоих. Подожди меня здесь, и ты тоже, — кивнул Пётр Елизавете, скромно стоявшей в уголке комнаты.
Понятовский и Елизавета переглянулись.
А великий князь выскочил из своих апартаментов, пробежал через большую приёмную залу и влетел в спальню супруги.
Екатерина уже приготовилась к ночному отдыху: её роскошные волосы были упрятаны под маленький кружевной чепчик, ночная блуза и длинная ночная юбка тщательно разглажены и плотно облегали крепкое молодое тело. Атласное одеяло прикрывало по грудь её тело, а голова покоилась на высокой подушке с тончайшими рюшами по бокам.
Она ещё не спала, беспокойство отражалось на её лице — она всё ещё решала, правильно ли поступила, что не пощадила своё самолюбие и обратилась с просьбой об услуге к Елизавете, в которую был влюблён её муж, великий князь.
Но ей пришлось убедиться, что ход она сделала правильный и Елизавета выполнила своё обещание, и выполнила с блеском...
— Вставайте, вставайте, госпожа великая княгиня! — закричал Пётр с порога. — Да поскорее, кое-кто вас ждёт не дождётся...
Екатерина с хорошо разыгранным недоумением уставилась на великого князя — она не думала, что примирение и поощрение произойдут так быстро.
— Кто это может меня ждать? — с отменно инсценированным удивлением проговорила она. — И кому я понадобилась в такой поздний час? Только императрице можно было бы вытащить меня из постели...
Но Петру не терпелось доставить Понятовскому радость свидания, и он легко и весело подскочил к широчайшей кровати Екатерины.
Откинув пуховое одеяло, он схватил её за руку и попытался стащить с постели.
— Погодите, погодите, ваше высочество, — смеясь, заартачилась Екатерина, — может быть, вы позволите мне совершить хотя бы мало-мальски подходящий туалет?
Она небрежным жестом указала на свои ночные блузу и юбку, на свои босые ноги, на чепчик, скрывавший её прекрасные длинные волосы. Но Пётр не желал ничего слышать.
— Вставайте, вставайте, госпожа Руссурс! — кричал он, всё также весело и быстро скидывая на пол атласное одеяло и таща великую княгиню за руку.
Она, по-прежнему смеясь, выдернула свою руку из его руки, соскочила на пол и накинула свой любимый капот из коричневого аксамита[14] с зелёной бархатной отделкой. Сунув ноги в ночные туфли — прелестные пуховые башмачки с бантами и рюшами, она встала во весь рост перед Петром.
— Кто может ждать меня в такой час? — притворно зевая, повторила она свой вопрос.
Но Пётр, всё также не желая ничего слушать, потащил её через приёмную в свои апартаменты. Едва не свалились с ног пуховые башмачки, распахнулся аксамитовый капот, и чудом держался на голове кружевной чепчик, когда Пётр влетел в свою комнату и развернул Екатерину против Понятовского.
Она скромно потупила взор, запахнула капот и слегка поправила свой кружевной чепчик. Уже готова она была к упрёкам мужу, заговорила было о позднем часе, о незначительной причине, вырвавшей её из тёплой постели, но Пётр не дал ей сказать ни одного слова.
— Дети мои! закричал он. — Я великодушен, я понимаю, что значит любовь, я ценю искренние, настоящие чувства, и отныне я благословляю вас! Больше не скрывайтесь, не прячьте свои томления под маской притворства, просто приходите ко мне, а я уж постараюсь помогать вам во всех ваших приключениях. Не надо больше менять свою внешность, если вы любите друг друга. Видайтесь сколько угодно, тешьте свою душу нежными словами, а я только буду радоваться и помогать вам. Я вовсе не собственник, который прячет чувство собственности под личиной ревности, я великодушен и добр, и вы увидите, сколь я бескорыстен и любезен. Зачем было делать всё это в обход меня, надо было сразу же сказать мне о том, что вы неравнодушны друг к другу, и уж я сумел бы оценить полноту и жар ваших чувств...
С изумлением слушал всё это Понятовский, не менее поляка была удивлена и Екатерина, и лишь рябая Елизавета, стоя в уголке комнаты, с обожанием смотрела на своего щупленького, вертлявого кумира. Он казался ей сейчас и выше ростом, и сильнее этих двоих, и великодушнее, и умнее. Она с наслаждением впитывала его слова, заворожённая искренней интонацией и жаром, звучащим в его тираде.
Пётр всё ещё что-то кричал, почти брызгая слюной и любуясь собой, — ему представлялось, что нет никого на свете благороднее и лучше, чем он сам, и глаза Елизаветы, на которую он мельком взглядывал, говорили ему именно об этом.
Великий князь упивался собственным красноречием, собственными чувствами, своим удивительным великодушием и очень нравился сам себе в эту минуту.
Он бросился было исполнить и роль слуги, хотя сам понимал, что это уж чересчур, — позвонил в звонок и на вопрос камердинера приказал тому накрыть для позднего ужина стол прямо в его комнате.
Неловко чувствовала себя Екатерина. Ей казалось, что не стоит так напоказ выставлять свои чувства, не следует так долго разглагольствовать о них, как это делает Пётр; она понимала, как он смешон в глазах Понятовского, да и в её собственных глазах, но унять поток красноречия и великодушных слов она не могла, да и не хотела. Что ж, если это нравится великому князю и если это совпадает с её интересами, можно и не прерывать этот словесный поток и покориться тому, что делает её муж сейчас, и всё-таки острая неприязнь к Елизавете, которая в одну минуту сумела склонить великого князя на эти сумасбродства, ранила её сердце теперь. Как, ничего от Петра не может добиться она, умная и ироничная жена, великая княгиня, а какая-то девица, всего лишь её фрейлина, мгновенно перевернула всю историю и заставила её играть новыми красками! Неумная, толстая, рябая, но пышущая здоровьем и силой молодости! И Екатерина невольно позавидовала той лёгкости, с которой Елизавета могла делать с её мужем всё, что было ей угодно...
Распахнулась дверь, слуги бросились накрывать стол для позднего ужина, и всё это время Пётр не переставал говорить. Волей-неволей приходилось выслушивать это нескончаемое обилие красноречия, и Понятовский непроизвольно переглядывался с Екатериной. И она видела в его глазах то же весёлое удивление и невольное опасение, что великодушие Петра есть только нечто наигранное, могущее смениться другим чувством, столь же мимолётным, как и это. Екатерина за годы своего несчастного брака хорошо изучила Петра, понимала, что за всеми этими словами стоит лишь одно — чувство эгоизма и любования самим собой, и терпеливо сносила бурный поток слов, которыми осыпал их Пётр.
За столом разместились по-родственному: Пётр сидел рядом с Елизаветой напротив Екатерины с Понятовским. И опять за этим поздним ужином говорил почти исключительно один Пётр — он был так упоен собой, своей отвагой и добротой, что не мог говорить ни о чём другом.
— Ну, теперь, я надеюсь, мною довольны, — высказал он наконец свою главную мысль, и жена поняла, что при всём при том Пётр добивается, чтобы Екатерина была им довольна и не обращала внимания на его ухаживания за Елизаветой Воронцовой.
Теперь у Петра были развязаны руки: когда угодно мог он, не скрываясь, призывать к себе свою фаворитку, ездить с нею куда угодно и держать её в своей великокняжеской постели, не боясь, что Екатерина обо всём расскажет императрице, которой Пётр смертельно боялся...
Понятовский только поддакивал Петру и угодливо расхваливал его чувства — как талантлив великий князь, что умеет так расставить своих солдат, какой обладает способностью, чтобы сочинить диспозицию.
И снова взвился Пётр. О, этой способности научился он у своего любимого героя — Фридриха Прусского, с которым Россия имеет несчастье сражаться. А ведь Фридрих — замечательный стратег и тактик, равного ему нет в мире, и он создал свою армию на таких началах, которым должен учиться каждый настоящий монарх.
— Но потерпел же твой любимый Фридрих поражение у Мемеля от неумехи Апраксина, — колко ввернула Екатерина.
— О, это была ошибка, не надо было русским ввязываться в эту войну! — вскричал Пётр. — Если только я стану императором, немедленно эту дурацкую войну...
Он как будто захлебнулся, понял и сам, что говорит уже лишнее и что на этих словах может поймать его Екатерина при разговоре с императрицей.
Но Екатерина как будто не заметила этих слов, она завела разговор о парижских модах, о париках, уродующих мужчин и делающих привлекательными женщин, у которых не хватает собственных волос.
И все за столом принялись превозносить роскошные волосы Екатерины, которые действительно были предметом зависти и легенд при дворе. Екатерина промолчала в ответ на эти комплименты — она привыкла слышать о себе много лестных слов, но всегда знала, где побуждают человека говорить их просто желание подольститься, а где проглядывают искренность и простота.
Понятовский не произносил хвалебных слов, когда они оставались одни, ни жестами и поцелуями умел он выразить своё восхищение. Да и при людях не хотел он выдавать себя многими лестными комплиментами — слишком опаслив был этот польский выскочка, парвеню, и всегда помнил о том, что существует в России страшная Сибирь...
— Нет, — вернулся к своей излюбленной теме Пётр, — всё-таки зря Апраксин поколотил Фридриха у Гросс-Егерсдорфа, это была страшная ошибка. Разве можно нам, мужикам из медвежьей берлоги, состязаться с самой великолепной армией, какая только существует в Европе...
Екатерина пыталась было прервать этот разговор: негоже великому князю, наследнику престола, критиковать действия тётушки, императрицы, да ещё и порицать Апраксина, который бьёт и бьёт любимого Петром Фридриха. Однако она знала и то, что союзники России не поставляют армии продовольствия, что солдаты голодны, разуты и раздеты, и как только они умудряются справиться с хорошо организованной, отлично обученной, сытой и одетой армией Фридриха — остаётся загадкой. Но и она, со своей стороны, была неравнодушна к Фридриху — слишком хорошо помнила, как её мать пыталась интриговать в его пользу, за что и была выслана из России Елизаветой. И Екатерина не препятствовала Петру, когда тот в пьяном виде выдавал все секреты русской армии посланникам иностранных государств, был почти что обыкновенным шпионом — роль эта весьма ему нравилась, а кроме того, позволяла думать, что этим он хоть сколько-то помогает своему кумиру.
Знала она и то, что при всяком удобном случае обрывки разговоров за великокняжеским столом доносят и английскому послу Вильямсу, знала и источник, но большие займы у английского банкира заставляли её держать язык за зубами...
Вот и теперь Пётр уже перешёл грань, за которой начиналась просто пьяная болтовня, — он подливал и подливал себе вина, и язык его, не знающий удержу и в трезвом виде, сейчас и вовсе распустился.
Он, уже не скрываясь от жены, обнимал за талию Елизавету, она же всё ещё старалась уклониться от его объятий, страдальчески взглядывая на великую княгиню, будто бы просила прощения: дескать, не виновата, что имела несчастье понравиться Петру.
Но Екатерина словно бы не замечала этих взглядов — она всегда умела держать своих слуг и придворных на некотором расстоянии, хотя и была нехитра в обращении и ласкова, но ласкова великокняжеской милостью...
Внезапно Пётр встал на нетвёрдые уже ноги и громким голосом объявил:
— Ну, теперь, дети мои, пора и баиньки. Ты, кавалер, иди к своей княгине, а ты, Елизавета, останешься здесь...
Елизавета поддержала Петра за плечо, иначе он упал бы под стол...
Екатерина взглянула на Понятовского, и он умоляюще посмотрел в её глаза. Да, им разрешено встречаться открыто, не стесняться ночных свиданий и встреч.
И она поднялась из-за стола.
— Великий князь, — улыбаясь, произнесла она, — я весьма вам благодарна за прекрасный ужин. А завтра прошу откушать у меня. Надеюсь, вам понравится токайское, которое сегодня мне прислали из Испании.
Екатерина и Понятовский удалились скромно и благопристойно, а Елизавета едва довела Петра до постели. Он свалился в неё, позволил Елизавете раздеть себя и прижался к её пышному тёплому плечу. Через минуту он уже храпел, а Елизавета мучительно дожидалась утра, чтобы выскользнуть из его объятий и юркнуть во фрейлинскую. Правда, при мысли о том, какая ждёт её там постель в окружении многих фрейлин, ей так и хотелось закрыть глаза и отдаться безмятежному сну...
Эту ночь Екатерина и Понятовский провели вместе, не боясь разоблачения и впервые громко смеясь и разговаривая. Даже Владиславовой, прислуживавшей великой княгине, перестали они стесняться...
Елизавета Воронцова настолько близко приняла к сердцу просьбу великой княгини, что даже отправилась к Бестужеву и, посмеиваясь, рассказала обо всём, что произошло. Уверяя его, что присутствие Понятовского не было неприятным великому князю, она в то же время пригрозила канцлеру своим влиянием на Петра. Алексей Петрович уже увидел это и немало удивился тому соглашению, что было таким образом заключено между всеми четырьмя участниками тайной пирушки при молодом дворе.
С тех пор так и повелось. В комнате великой княгини накрывался роскошный стол для ужина, туда приглашались великий князь с Елизаветой, а также Понятовский. До четырёх или пяти утра все весело пировали, болтали о всяческих вещах, не забывая и высокую политику, а потом уже едва держащийся на ногах великий князь объявлял:
— Теперь, дети мои, я вас оставляю и желаю приятно провести время. А я удаляюсь...
И нетвёрдыми шагами, поддерживаемый Елизаветой, он отправлялся в свои апартаменты, предоставляя сопернику оставаться в опочивальне Екатерины сколько тому заблагорассудится...
Всё это весёлое и беспечное время длилось несколько летних месяцев, продолжалось и после переезда в Петербург, и компания проводила дни и ночи так, что остальные могли только позавидовать.
Однако слухи об этом счастливом совместном проведении времени дошли наконец и до императрицы — нельзя было скрывать долее столь необычное приключение. И доложили Елизавете конечно же её соглядатаи, приставленные к молодому двору, но уже давно перешедшие на его сторону и потому скрывавшие, сколь возможно, от императрицы слухи о перипетиях странного союза вчетвером.
Елизавета так рассердилась, что вызвала Бестужева, грозно распекла его и потребовала прекратить столь унизительную для молодого двора комедию.
Как ни противилась Екатерина, взывая к власти Бестужева, как ни боролась за свою любовь, Понятовский был вынужден уехать. Французский и саксонский дворы настояли на его скором и решительном отъезде, поняв, как действует во имя любви и политики польский агент князей Чарторыйских против законного короля Польши и против других иностранных дворов.
Понятовский ещё пытался сопротивляться, сказываясь больным и перенося сроки своего отъезда, но конец всей этой любовной интриги был заранее предрешён, потому что на сцену выступили факты, недостойные великой княгини. Слишком уж часто подвергала она себя опасности, предписывая Бестужеву, как следует ему вести себя во всей этой истории. Но боялась Екатерина только одного — как бы черновик указа, состряпанного Бестужевым, не попал в руки Елизаветы, а этот указ об изменении престолонаследия мог стать роковым для великой княгини.
Нежным и трогательным было последнее свидание влюблённых. Екатерина то и дело вытирала набегающие слёзы, а Понятовский неслышно прижимался губами к солёным каплям.
В последний раз собрались они, все четверо, в опочивальне Екатерины. Даже Пётр выразил своё сожаление по поводу того, что так грубо и требовательно наложен запрет на их весёлые вечерние пирушки. Но скандал есть скандал — шокированы не только сама Елизавета, императрица, и придворные, шепчущиеся по углам, но и все иностранные министры, состоящие при русском дворе. И потому то, что хорошо для частных лиц и никого не беспокоит их поведение или странные поступки, отражается по-иному и властно вторгается в жизнь людей высшего круга, призванных руководить страной, народом. Все эти мысли Пётр высказывал в продолжение всего вечера, последнего свидания вчетвером...
Елизавета лишь поглядывала на своего щупленького и раскрасневшегося любовника, сбивчиво объясняющего Понятовскому свою позицию, и мельком обводила глазами огорчённых Понятовского и Екатерину. Больше не придётся им посиживать вот так вчетвером, не думая ни о чём, болтая и пересмеиваясь, весело обгладывая нежные куриные косточки и проливая ананасный сок на углы губ и подбородки. И никогда ещё не видела рыжая и рябая Елизавета такой печали в глазах Екатерины и втихомолку радовалась, что её соперница так огорчена и то и дело вытирает слёзы.
И в последний раз сказал при расставании Пётр:
— Ну, дети мои, теперь вы сможете распрощаться, а мы потихоньку удалимся.
Он схватился за полный локоть Елизаветы и, поддерживаемый ею, нетвёрдо встал на ноги.
Екатерина даже не заметила, когда они ушли, — она вся была во власти горестных дум. Почему, ну почему так получается — все, кого она любит или любила когда-либо, удаляются от неё, уезжают или высылаются из страны, и снова остаётся ей одна политика, а без любви она так скучна...
Их последние объятия не были исполнены нежной страсти — их заменили горестные уверения в бесконечной любви, страстные признания в том, что сердце останется рядом с любимой и любимым, слова лились потоком, как и прощальные горькие слёзы.
Последний приём у императрицы был холоден и скучен. Императрица бесстрастно выслушала уверения Вильямса в том, что лучшего друга, чем громадная великолепная Россия, у Англии нет и быть не может, молча дала поцеловать руку низко склонившемуся Понятовскому, в душе недоумевая: и что нашла Екатерина, её невестка и племянница по Петру, в этом невзрачном, невысоком, без блеска и шарма полячишке, да так, что она, императрица, сама вынуждена была вмешаться, чтобы погасить костёр скандала в молодом дворе.
Впрочем, она переводила взгляд на своего нынешнего фаворита, Ивана Шувалова, и должна была в душе признаться, что и он тоже не блещет и сверкает, хоть и мил ей и заменил собой всех, кого она когда-либо отмечала. Её проницательный и зоркий глаз подметил и то, о чём ей постоянно говорили, но во что она никак не хотела поверить: Иван Шувалов постоянно задерживался взглядом на великой княгине, словно не прочь был совместить две свои привязанности — и к императрице, и к великой княгине, чтобы не остаться обездоленным, когда умрёт она, Елизавета. Тиски ревности схватили горло императрицы, и она вдруг резко обернулась к Ивану. Глаза её метали громы и молнии, и нынешний любовник императрицы тотчас понял, перед какой бездонной пропастью он стоит, и кинулся лобызать полную, всё ещё белую руку своей повелительницы.
— Ах, как ты прекрасна, Лизетта, — пробормотал он, — ты всю жизнь останешься в моих глазах всё той же прелестной принцессой, какой я мечтал увидеть тебя в своих страстных объятиях...
Подобный вздор он всегда молол часами, и Елизавета заслушивалась льстивыми словами, в которых она находила подтверждение тому, что красота её всё ещё совершенна, что бесчисленные притирания, мази и кремы всё ещё сохраняют ей белоснежный цвет лица, а полная шея и грудь вызывают в мужчинах страстное томление.
Потому и растаяло её сердце, и снова не поверила она шепоткам и наговорам на Ивана. Нет, разве может её невестка сравниться с нею, признанной красавицей, разве так же блестяще выглядит она в мужском костюме, как она, Елизавета? И она снисходительно кивнула Понятовскому, отпуская с прощальной аудиенции английского посла и его помощника...
Как ни старалась Екатерина удержать Понятовского в Петербурге, как ни умоляла Бестужева, как ни любезничала с великим князем, ей всё же не удалось это. Слишком уж многие интересы и многих стран были стянуты к этому белокурому поляку, сумевшему влиять на политику России в отношении Франции и Англии, а также работать в пользу своих дядей, князей Чарторыйских, в Польше. И его выдворили...
Екатерина немало плакала. Теперь ей не с кем было отвести душу в романтических разговорах о самых разных вещах. Великий князь тоже охладел к жене, раз она уже не могла доставить ему удовольствие полюбоваться собственными благими намерениями. Пётр теперь мог себе позволить быть к Екатерине безжалостным и суровым, обвинял её в том, что, отправляясь в свои поездки, она забирает с собой фрейлин, а значит, не даёт ему возможность проводить время с Елизаветой Воронцовой. Словом, горизонт Екатерины затянулся тёмными тучами, словно бы, уезжая, Понятовский забрал с собой и солнце, и безмятежность чувств, и даже мир и лад в великокняжеской семье.
И снова глядела Екатерина в облетающий листьями парк, считала жёлтые кусочки ткани деревьев, и слёзы медленно наползали на её глаза.
Страстная любовь, романтическая наполненность её жизни сменились тоской и одиночеством, тягостными обязанностями и бесконечными воспоминаниями об ушедшем нежном чувстве. Она постаралась наладить переписку — через преданных людей, через артистов и музыкантов, приглашаемых ко двору, иногда через верных дипломатов Бестужева, но письма были редки, шли долго, и остывала на страницах писем эта страсть, от которой всё ещё оставались тлеющие угли...
Они долго писали друг другу, но приходилось таиться, выкраивать время у повседневной рутины в виде балов, концертов, светских раутов, спектаклей и музыкальных вечеринок, парадных обедов и ужинов, куртагов в обществе, самом близком к императрице, приходилось также придумывать способы отправлять и получать письма, прячась и оглядываясь.
Но письма — это лишь слабый отголосок живого общения, и Екатерина только вздыхала и лила слёзы над строчками посланий, дышащими искренней и неподдельной любовью. Но сквозь эти строки улавливала она и заботы своего возлюбленного: его большие долги, его неудавшиеся интриги, — и старалась помочь своему недавнему любовнику. Как ни странно, Екатерина была щедра и великодушна, всегда помогала тем, кто её любил и был ей дорог, и даже не ощущала никаких потрясений, когда к потоку нежностей присоединялись бесконечные просьбы. Наверное, так и надо было — у Екатерины много возможностей, а у Понятовского их нет...
Но беда никогда не приходит одна, и Екатерина почувствовала после скандала с Понятовским, что ноги её зависли над пропастью и один лишь шаг отделяет её от неминуемого падения.
4
Новая придворная интрига заняла всё время и воображение Екатерины. Русская армия победоносно шла по Европе, защищая, как всегда, интересы не России, а других государств, в частности Австрии и Франции. После взятия Мемеля, после блестящей победы при Гросс-Егерсдорфе, казалось бы, армия русской императрицы была готова к полному истреблению пруссаков Фридриха, и выдающийся полководец уже почувствовал себя на грани самого полного поражения, и настолько, что подумывал о самоубийстве.
И вдруг блистательная армия повернула обратно, да с такой быстротой, что казалось, её преследует недавний побеждённый. Что случилось, отчего победоносный фельдмаршал Апраксин повернул назад, отчего не пошёл вперёд, а поспешно кинулся в бегство?
Возмущённо зароптали не только союзники — сама Елизавета, российская императрица, приняла отступление Апраксина за измену. Фельдмаршал был арестован, и не помогли его ссылки на то, что армия раздета и разута, а союзники не выполнили своих обещаний, тысячи солдат мрут не от прусских ядер и пуль, а от элементарного голода, нечем кормить солдат, нечем их одеть и обуть.
Но кому когда было дело до русского солдата, его лишь посылали воевать за чуждые России интересы, а о нём самом нимало не заботились. Всегда русский солдат был только пушечным мясом, которым Россия расплачивалась со своими союзниками.
Вот и теперь Елизавета даже не стала слушать слёзных оправданий Апраксина. Он был посажен в тюрьму, а вместе с ним арестовали и всесильного канцлера Алексея Петровича Бестужева.
Сильное волнение и настоящий страх испытала Екатерина, когда узнала, что арестован человек, который предлагал ей союз и поддержку, который написал для неё указ об изменении престолонаследия. Узнай императрица об этом указе, не миновать грозы — немедленно сослала бы она Екатерину в монастырь, обвинив в измене и заговоре. Слава Богу, вздохнула облегчённо великая княгиня, когда через верного человека получила от арестованного Бестужева записку, что он успел сжечь текст манифеста. Остального Екатерина не боялась. Несколько писем, адресованных ею Апраксину, не содержали ничего изобличающего её — там были лишь поздравления по случаю именин и незначительные новости светской жизни.
И потому Екатерина появилась при дворе оживлённой, общительной, с гордо поднятой головой и принялась смело расспрашивать тех, кто уполномочен был вести дело Апраксина—Бестужева. Это были всесильные камергер и нынешний фаворит Елизаветы Шувалов, граф Бутурлин и князь Трубецкой.
Именно к последнему и подошла Екатерина на балу, который был дан при дворе по случаю помолвки Льва Нарышкина. Весело и непринуждённо спросила она Трубецкого:
— Что означают эти милые слухи, дошедшие до меня?
Улыбка её сохраняла полнейшее спокойствие и самоуверенность, а глаза блестели от сознания опасности, предотвращённой ею же.
— Нашли ли вы больше преступлений, чем преступников, или больше преступников, чем преступлений? — продолжала Екатерина.
Князь Трубецкой в замешательстве стал что-то бормотать о том, что они только выполняют приказ императрицы, что его долг как раз и состоит в том, чтобы выполнять волю императрицы, и между этими невнятными извинениями он выболтал, что преступлений ещё не нашли, хоть и допросили преступников, скорее — предполагаемых преступников...
Екатерина, смеясь, отошла от Трубецкого. Бутурлин был ещё короче Трубецкого. Он без обиняков рассказал Екатерине, что Бестужев арестован и допрошен, но за что его арестовали, никто ещё так и не выяснил.
Она снова стала спокойной и ещё более весёлой. Недаром в её глазах всё ещё стояла записка от Бестужева, которому удалось передать её Екатерине при посредстве голштинского министра Штамме:
«Не беспокойтесь насчёт того, что знаете. Я успел всё сжечь...»
То, что было сожжено, более всего тревожило Екатерину, но раз оно сожжено, никакой опасности нет, а её письма к Апраксину — мелочь, на которую не стоит обращать и внимания, хоть и бормочет потаённо австрийский двор, что лишь письма Екатерины к нему были следствием остановки боевых действий в армии.
Она-то знала, что в её письмах, если они всё же будут обнаружены, нет ничего, что можно было бы признать даже за простую игру в политику...
Во время следствия над Бестужевым французский посол маркиз Лопиталь доносил своему королю:
«Первый министр (Бестужев) нашёл средство соблазнить великого князя и великую княгиню настолько, чтобы они убедили Апраксина не действовать так быстро, как то приказывала императрица. Эти интриги велись на глазах императрицы. Но так как её здоровье было тогда очень плохо, она только о нём и думала, между тем как весь двор поддавался желаниям великого князя и в особенности великой княгини, вовлечённой в дело ловкостью английского посла Вильямса и английскими деньгами, которые этот посол передавал ей через посредство Бернарди, своего ювелира, признавшегося во всём. Великая княгиня имела неосторожность, чтобы не сказать смелость, написать генералу Апраксину письмо, в котором освобождала его от клятвы, данной ей, удерживать армию и разрешала привести её в действие. Господин Бестужев показал однажды это письмо в оригинале г. Бюкову, уполномоченному императрицы-королевы (Марии-Терезии ), приехавшему в Петербург с целью поторопить операции русской армии. Тогда тот почёл своим долгом доложить об этом графу Воронцову, камергеру Шувалову и графу Эстергази...»
Это письмо Лопиталя, как всегда, попавшее на стол Елизаветы, не содержало в себе и зерна правды — таким образом Лопиталь хотел добиться не только падения Бестужева, но бросить тень и на Екатерину.
Но и Воронцов, мечтающий о кресле Бестужева, и Шувалов, укрепляющий своё влияние при императрице, глухо намекнули Елизавете о плане Бестужева передать бразды правления Екатерине после смерти Елизаветы, которая должна была подписать этот указ, и утверждали, что в бумагах Бестужева непременно найдётся этот документ — шпионы доносили им о всех его бумагах, и документы, касающиеся безопасности самой Елизаветы, обязательно должны быть найдены в его архиве...
Екатерина понимала, как сплачивается при императрице кружок лиц, враждебный ей. Ставший канцлером Воронцов мечтал о том, чтобы его дочь Елизавета стала женой Петра, и потому при каждом удобном и неудобном случае поносил великую княгиню. Пётр не оставался в долгу и теперь, не имея надобности в любезности Екатерины после отъезда Понятовского, тоже не уставал нашёптывать тётке, как зла и упряма его жена, как желает он избавиться от неё. Правда, он не говорил этого прямо, но намёки Елизавета понимала легко.
Шуваловы плотным кольцом окружили императрицу и всё ещё не решались примкнуть к той или другой стороне — их одинаково страшило возвышение как Петра с Воронцовыми вкупе, так и великой княгини.
Следствие по делу Бестужева вяло протекало целый год. Конечно, никаких бумаг у Бестужева не было найдено, все обвинения против него оказались неосновательными, и потому Елизавета распорядилась просто выслать его в свои деревни, где он должен был жить безвыездно.
Апраксин умер вскоре после ареста, так что обвинителям не пришлось и доказывать его вину, тем более что материалы трёх военных советов перед отступлением говорили о том, что союзники не выполнили своего обещания снабжать продовольствием русские войска, а голодная армия не могла идти в наступление.
Но каждый день Екатерина ждала, что императрица примет какое-либо решение по её поводу — слишком уж много интриговали против неё и Воронцовы, и даже сам Пётр. Каждый свой день думала она, как сложатся обстоятельства, и снова и снова решала, как поступить ей в том или другом случае.
В конце концов она написала императрице слёзное письмо: ей так плохо живётся, муж всячески обижает и угнетает её, его придирки и известная всем связь с её фрейлиной Воронцовой оскорбляют и раздражают её настолько, что она всемилостивейше просит разрешения удалиться туда, откуда она приехала, — в Германию.
Екатерина прекрасно отдавала себе отчёт, что ехать ей некуда и не к кому: отец её умер ещё в 1747 году, ей даже не разрешили оплакивать его больше недели, мать вынуждена была укрыться от войск Фридриха в Париже, а её брат сумел бежать в Гамбург, бросив своё герцогство на милость победителя — Фридриха.
Но чем менее она могла уехать в Германию, тем с большим возмущением писала об этом и умоляла императрицу сжалиться над ней и отпустить её на родину.
Это был правильный шаг. Даже Елизавета понимала, что Екатерине некуда ехать, что двое её детей могли бы удержать мать в России, но Екатерина настойчиво просила, умоляла императрицу сжалиться над ней, потому что кроме обид и притеснений со стороны мужа не видит она ничего, а к самой императрице не пробиться, и ей постоянно наговаривают на Екатерину и приписывают даже такие вещи, в которых она вовсе невинна...
Она отправила это письмо и принялась ждать ответа. Но проходили дни, недели, месяцы, а императрица не спешила отвечать на слёзное письмо своей невестки.
И вновь Екатерина придумала ход, который стал безошибочным в её сложной игре. Она вызвала к себе духовника императрицы, который одновременно был и её духовным наставником, пожелала исповедаться, уверяя, что близка к смерти как никогда, и рассказала ему, словно бы на исповеди, что ни в чём не виновна и только люди, стремящиеся её погубить, наговаривают на неё императрице.
Духовник не замедлил с объяснениями. Он явился к Елизавете и прямо объявил ей, что её невестка плоха и просит принять её, заодно он поведал императрице всё, что пожелала сообщить Екатерина.
Вечером этого же дня к Екатерине, лежавшей в постели и старательно изображающей из себя больную, пришли звать от имени Елизаветы.
Она еле оделась, не делая большого туалета, и пошла за посланцем императрицы, едва не держась за стены. Она и в самом деле страшилась этого свидания, хотя приготовилась к нему давно, знала, как себя вести, но не знала, как отнесётся к ней императрица, тщательно подготовленная противной партией...
Уже несколько позже, когда к ней стали прибегать её фрейлины под самыми разными предлогами, узнала от них Екатерина, что в тот самый день, когда она вызвала духовника и исповедалась, откровенно радовались лишь двое — Пётр и Елизавета Воронцова, и Пётр торжественно обещал Елизавете, что, как только скончается великая княгиня, он непременно женится на рябой Лизке.
Но в тот момент, когда Екатерина отправилась на ночную аудиенцию у императрицы, она ещё не знала об этом, иначе воспользовалась бы подобной оплошностью великого князя...
В галерее, через которую надо было пройти в покои императрицы, Екатерина увидела Петра. Он поспешно направлялся к императрице: не хотел, чтобы Екатерина одна встретилась с ней.
«Что ж, — философски подумала Екатерина, — возможно, это и к лучшему...»
Огромные покои императрицы были слабо освещены — горел лишь один бронзовый канделябр с тремя свечами, стоявший на туалетном столике перед огромным зеркалом среди бесчисленных тазов, баночек и склянок с притираниями, щёток и гребней.
Один только взгляд — и Екатерина сразу уловила то, что ей хотелось знать: в золотой таз на столике были брошены её письма Апраксину, но не все, всего-навсего три, самых последних, — их Екатерина узнала по бумаге, она каждый раз использовала разные её сорта.
В большой полутёмной зале все углы были скрыты сумраком, ширмы заслоняли от посторонних кого-то, кто глухо говорил, а перед ширмами стояла придвинутая большая мягкая кушетка, скрывавшая тех, кто был за ними. Тепло сверкала позолота парчовой ткани, обтянувшей ширмы, бросал блики горевший камин с огромными поленьями, прикрытый ярким бронзовым экраном, а в самой середине залы стояла императрица в простом широком платье, опираясь рукой на плечо начальника своей тайной канцелярии Александра Шувалова. Рядом перебирал худыми и кривыми ногами Пётр.
Едва войдя, Екатерина пала едва ли не ниц перед императрицей, на коленях дотянулась до её руки и принялась обливать слезами эту холёную полную белую руку, унизанную тяжёлыми перстнями.
Елизавета смущённо пыталась поднять свою невестку, но Екатерина упорно стояла на коленях, заливаясь слезами.
Императрица спросила печальным голосом, словно и в самом деле сокрушалась о судьбе своей невестки:
— Как, вы хотите, чтобы я отослала вас? Вы забываете, что у вас есть дети!
Только это и нужно было Екатерине. Она подняла голову и разразилась откровенным плачем, сумев пробормотать нужные слова:
— Мои дети в ваших руках, а лучше этого ничего для них не может быть. И я надеюсь, что вы их не покинете...
Елизавета помолчала немного, взволнованная словами и плачем Екатерины, и произнесла:
— Но как же я объясню причину вашей отсылки?
— О, ваше императорское величество, если вы найдёте нужным, объявите о причинах, по которым я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя...
Елизавета глубоко вздохнула. Этот ночной разговор взволновал её.
— А чем же вы будете жить у ваших родных? — озаботилась она.
— Тем, чем жила и прежде, до того, как вы удостоили взять меня.
Елизавета бросила пронзительный взгляд на невестку, смиренно стоящую на коленях, и проговорила:
— Но ваша мать в бегах, она была вынуждена покинуть свою родину, а отца нет...
И тут Екатерина нашла ответ, который поразил Елизавету:
— Она пострадала из-за того, что слишком любила Россию, за это её и стал преследовать прусский король...
Елизавета приказала:
— Встаньте...
Екатерина поднялась.
Пётр злобно вглядывался в происходящее. Он уже давно решил, что отсылка великой княгини поможет ему жениться на Воронцовой, и теперь ждал только конца этой аудиенции. Вероятно, как заключила Екатерина, между придворными тоже давно было решено, что она отправится в Германию, и Елизавета колебалась до этого последнего свидания с ней, не зная, на что отважиться. Она отошла от Екатерины в раздумье.
— Бог свидетель, как я горевала, когда вы были больны и едва не отдали душу Богу, и если бы я вас не любила, то не удерживала бы здесь.
Екатерина рассыпалась в любезных словах. Она говорила, что в полной мере познала доброту и милость её величества и горько страдает, что теперь подверглась немилости и опале.
И вдруг услышала она из уст императрицы такое, что не могла и сообразить, как возможно подобное.
— Вы чрезвычайно горды. Четыре года назад, вспомните, я спросила у вас, не болит ли у вас шея, потому что вы едва мне поклонились...
Екатерина в изумлении и отчаянии принялась уверять императрицу, что ни на одну минуту не могла бы и помыслить так поступить и что только по собственной глупости не поняла того, что было сказано четыре года назад...
Но тут вмешался великий князь.
— Она ужасно зла и упряма, — резко произнёс он, пошептавшись с Шуваловым.
— Если вы говорите обо мне, — повернулась к нему Екатерина, — то теперь, в присутствии её императорского величества, могу лишь заверить вас, что я зла с теми, кто советует вам делать мне несправедливости, а упрямой я стала с тех пор, как увидела, что угождения мои ни к чему другому не ведут, как только к вашей ненависти...
Елизавета после некоторой перепалки с великим князем подошла ближе к Екатерине и сказала ей вполголоса:
— Вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются. Как смели вы посылать Апраксину приказания?
Екатерина сделала изумлённое лицо:
— Господи, да мне бы и в голову не пришло так поступать...
— А разве ваши письма не доказывают это? — Елизавета пальцем указала на таз, в котором лежали письма Екатерины. — Вам же было запрещено писать...
— Это правда, — опустила голову Екатерина, — я нарушила запрет, но только потому, что принимала участие в фельдмаршале, о котором говорили здесь плохо, а в другом письме я поздравила его с рождением сына, а ещё с Новым годом...
— Бестужев уверяет, что было много и других, — вызывающе вскинула голову императрица.
Екатерина точно пересказала содержание трёх своих писем и этим обезоружила Елизавету.
— Если Бестужев так говорит, — скромно склонилась перед ней Екатерина, — то он лжёт...
— Ну, если он лжёт, я велю его пытать, — грозно нахмурилась Елизавета.
— Как будет угодно вашему величеству, — скромно потупилась Екатерина.
Она уже понимала, что все обвинения против неё сняты, хотя сама императрица ещё не догадывается об этом...
Снова вмешался Пётр и опять начал настраивать императрицу против Екатерины. Елизавета видела, что он старается лишь очистить место для Воронцовой, — она была умнее своего племянника, да и Шуваловым не улыбалось подпасть под власть господ Воронцовых, и они, как следует, подготовили императрицу к решению этого вопроса.
Елизавета прошлась взад-вперёд по зале, потом приблизилась к Екатерине и чуть слышно сказала ей:
— Я не хочу ссорить вас ещё больше, но я поговорю с вами ещё раз и с глазу на глаз...
— И мне хотелось бы открыть вам свою душу и сердце, — прошептала Екатерина со слезами на глазах.
Тем и кончилась эта аудиенция.
И опять ждала Екатерина нового свидания с императрицей, а пока сидела у себя в комнате, никуда не выходя, прочитывала том за томом «Энциклопедию» и «Письма путешественника» и разглядывала карту мира. Двор уже устал следить за этой тупиковой ситуацией, на все лады сплетничая и тоже ожидая развязки. Пётр постоянно играл в карты с Воронцовой в приёмной своей жены, а Екатерина скучала в обществе своей собаки да своего попугая. Однако и эта ситуация разрешилась счастливо для Екатерины, потому что она очень философски отнеслась к своей высылке. «Счастье и несчастье человека не в окружающем мире, — говорила она сама себе, — а внутри, в сердце и душе каждого смертного. Если ты переживаешь несчастье, становись выше его и сделай так, чтобы твоё счастье не зависело ни от какого события».
Екатерина ждала долго, но императрица прислала сказать ей, что пьёт за её здоровье в день её рождения.
И тогда Екатерина, узнав, что французский посол торжествует и хвалит её за сидение дома, решила поступить как раз наоборот. К изумлению и крайнему огорчению своих врагов, она вышла, стала весёлой и жизнерадостной, и снова закипела жизнь вокруг неё, словно и не было этого вынужденного затворничества.
Письма от Понятовского приходили регулярно. И его не забывала Екатерина во все дни своей жизни. Как ни странно, при всех своих немалых связях, при всех своих многочисленных любовниках она оставалась верной, хотя бы и на словах, тем, кто когда-либо любил её и доставлял ей хоть несколько приятных минут...
Став русской царицей, взойдя на самый высокий пьедестал своей карьеры, не забывала Екатерина Понятовского. Этого выскочку, парвеню, сделала она королём Польши, хоть и отказалась встречаться с ним, когда он умолял её разрешить ему приехать к ней сразу после переворота. Тогда она не могла позволить себе отдаться на волю чувств, да и другой уже заполонил её душу и сердце.
Она увидела Понятовского только через тридцать пять лет, когда он вернулся в Санкт-Петербург уже лишившимся короны, жалким неудачником, жившим за счёт русской казны. Но и тогда не потеряла уважения к нему русская царица, воздавала должное его сану, так позорно отданному им восставшим.
Зато послала она Суворова, чтобы сравнял с землёй Варшаву, а заодно последовала примеру Австрии, захватившей кусок Польши, и разделила в первый раз эту несчастную страну. Потом были и другие разделы Польши, но Екатерина всегда стояла за ту королевскую власть, которую она возобновила в Польше, и не её вина, что Понятовский оказался ниже тех почестей, которые она воздала ему как королю.
Григорий Орлов
1
это лето Екатерина осталась совсем одна. Утром, просыпаясь в своей широкой супружеской постели, она невольно подавляла слёзы, сразу же наворачивающиеся на её много и долго плакавшие глаза. И в это весеннее утро она, поёживаясь от заползавшего под толстые пуховики сквозняка, снова отдалась мрачным мыслям. Только вчера похоронила она свою дочку, царевну Анну, только вчера, стоя под сырыми сводами Петропавловского собора, где хоронили членов императорской фамилии, она смотрела на крохотный гроб, на свежее и такое милое личико своей дочери и заливалась слезами. Что ждёт её теперь? Кто займёт место в её сердце?
Нельзя сказать, чтобы она так уж была привязана к Анете: с самого рождения тётушка-матушка Елизавета отняла её у Екатерины, разрешала видеться с нею лишь раз в месяц, как и со старшим сыном Павлом. Не испытывала Екатерина особо нежных чувств к дочери, не любовалась её полными неуклюжими ножками. Не при ней пошла и сделала первые шаги Анета, не при ней кормили её мучной кашей, не при ней давали из рожка молоко, и только толстые крепкие кормилицы могли с нежностью гладить её светлые белокурые волосики, и только Елизавета могла вдоволь играть со своими внуками. Нет, не питала особенной любви Екатерина, и тем не менее сердце у неё щемило — дочка досталась ей гораздо тяжелее, чем Павел, её рожала она с трудом, долго болела после родов и думала об Анете с нежностью и гордостью. Виделось, что подрастёт она и станет гордостью матери и русского двора, начнёт уже в десять лет носить фижмы[15], а в двенадцать обрежут ей по русской моде ангельские крылышки, которые прикрепляли на спине у императорских детей, — таков был их ангельский чин, и моду эту ввёл ещё Пётр Великий.
Но Анета не дожила до своего совершеннолетия, умерла совсем крохой, едва-едва опередив два года, и когда Екатерина видела её, как всегда, крайне редко и недолго, то умилялась её пухленьким пальчикам и перетянутым, словно ниткой, ножкам, славной круглой попкой и целовала её в тугие щёчки и в голубые глазки, хоть и отворачивалась Анета от матери — ей была дороже её кормилица с широкой тугой грудью и объёмистым животом, с большими мягкими и добрыми руками, на которых так сладко спалось.
За несколько недель до смерти Анеты Екатерина получила скорбное сообщение, что умерла в Париже её мать, страстная любительница писать письма, умевшая, перескакивая с одного на другое, строчить обо всём и ни о чём. И эти несколько недель Екатерина пребывала в тоске и тревоге: мать вела слишком широкий образ жизни, задолжала огромные деньги, легкомысленно полагая, что дочь заплатит её долги — за шикарный дом, поставленный на королевскую ногу, за роскошную ложу в опере и выезд под стать самой царице. Много раз отсылала она Елизавете свои счета, даже не сомневаясь, что свекровь-тётка Екатерины обязана заплатить, если не хочет прослыть в Европе скаредой. Елизавета нимало не смущалась, что так будут о ней думать в Париже, и не платила долги своей навязавшейся ей на голову родственницы, но всё-таки после долгих споров и слёзных молений невестки согласилась заплатить часть их. И все последние дни Екатерина страшно волновалась при одной лишь мысли, что всё имущество матери может пойти с молотка, а её любовные записки станут предметом скандала. Всё-таки порицала Екатерина свою мать, но и старалась помочь ей. Война обратила мать Екатерины, принцессу Цербстскую, в нищую, заставила бежать из Гамбурга, где приютился её сын, в Париж, но своё пребывание здесь она сумела сделать для себя приятным и разнообразным.
Только-только кончились волнения Екатерины, связанные с кончиной матери, как настали дни траура по Анете...
Она ещё боялась высунуть из-под атласного одеяла голую руку и с нетерпением ждала, когда придут в её опочивальню дежурные фрейлины, чтобы зажечь огонь в камине, наполненном дровами с вечера. Несмотря на второй месяц весны, в летнем дворце всё ещё было холодно, и туда опасались переезжать, а здесь, в Зимнем, натопленном и обжитом, к утру вытягивало всё тепло и надо было обязательно протопить, чтобы не простудиться, став ногами на выстывший ледяной пол.
Екатерина ждала, взглядывала на тяжёлые дубовые резные двери, но никто не шёл, колокольчик стоял на прикроватном столике довольно далеко, и ей тоже холодно было тянуться за ним.
И снова студёные мрачные мысли подступили вплотную: всех, кого она любила, кто испытывал хоть какие-то тёплые чувства к ней, великой княгине, растеряла она в последнее время. Бестужева отправили в ссылку, хоть и не столь жестокую, как можно было ожидать, Чернышевых разогнали по отдалённым гарнизонам, Салтыков томился в Гамбурге — ему не разрешали приезжать в Россию, Понятовского изгнали из страны, Владиславову удалили от двора. Никого кругом, с кем можно было бы хоть посмеяться от души. Даже всегдашний её товарищ по всяческим забавам Лев Нарышкин, и тот отдалился от двора — теперь он женат, и семейные заботы поглощают его время. Никого рядом, она, как всегда, одинока и заброшена, она чувствует, что такой одинокой и заброшенной она ещё не была никогда...
И снова слёзы навернулись на глаза Екатерины. Хоть бы кто-нибудь заглянул в её опочивальню, хоть бы кто-нибудь сказал ей доброе слово, хоть бы одна живая душа подумала, что и ей может быть холодно утром, когда выстыли все печи и сквозняки гуляют по огромной зале, этой высокой зале с громадными окнами, плохо прилаженными, настолько плохо, что из всех их щелей дует и просвечивает. Она панически боялась сквозняков с тех самых нор, когда рожала Павла, и её оставили лежать на холодном полу, на кожаном матраце, в мокрых простынях, без помощи и внимания.
Вспомнив об этом, она опять было залилась слезами, но пересилила себя и всё-таки встала, сама подбежала к громадному камину и принялась растапливать его. Приготовленная с вечера береста тут же скрутилась в тугую пружину, медленно, синеватым пламенем охватилась и вспыхнула, облизывая бока берёзовых дров, на которых береста тоже начала загораться синим дымком.
Екатерина посидела перед камином, согреваясь от ещё нежаркого огня, потом оделась в тёплый длинный стёганый капот, сунула ноги в меховые тёплые шлёпанцы и выглянула в приёмную, постеснявшись звонить в колокольчик, видно, рассчитывала, что фрейлины ещё спят, и посовестилась будить их. Громадная зала приёмной, где должны были дежурить фрейлины, казалась пустой. Но у самого дальнего окна, придерживая шторы руками, сгрудились почти все её девушки, с десяток её приближённых. Нет, они не спали, они сосредоточенно и внимательно следили за кем-то через двойные рамы окна, ещё не подготовленного к лету и всё ещё законопаченного паклей.
Екатерина встала на пороге своей спальни и довольно долго наблюдала за своими фрейлинами. Они уже были одеты и причёсаны, правда, не в фижмах и кринолинах, как полагалось, но в утренних туалетах, а причёски их были верхом мастерства придворного куафёра[16].
Странно, они стояли тихо, в самых разных позах, кто пригнувшись, кто прильнув к самому стеклу, и вытягивали шеи, стараясь разглядеть что-то или кого-то за окном, не пропустить ни одного мгновения.
Екатерина подошла поближе, нарочно шлёпая своими меховыми башмаками, чтобы привлечь внимание своих девушек. Напрасная трата времени. Никто не повернулся, никто даже не взглянул на неё ни одним глазком.
Она подошла ещё ближе и через головы фрейлин, протиснувшись к окну, увидела внизу, на мостовой, двух мужчин. Они шли медленно, фланируя и перекидываясь словами, что можно было понять по тому, как шевелились их губы. Слов, конечно, не было слышно, но окно находилось не так уж высоко от мостовой, и каждое движение мужчин было хорошо видно.
Никакого движения среди фрейлин не замечалось, казалось, они с непередаваемым волнением и вниманием присматривались к этим двум людям, прогуливающимся внизу, перед окнами Зимнего, и так, словно бы это была их обычная прогулка.
В просвете между головами фрейлин Екатерина увидела этих двух, но низенький и тощенький флигель-адъютант в прусской военной форме, обшитой по всем краям золотыми прошивками, граф Шверин, о котором она узнала впоследствии, что он был взят в плен в битве при Цорндорфе, не остановил её внимания. Она перевела взгляд на его спутника и уже не могла его отвести. Флигель-адъютант прусского короля граф Шверин казался просто карликом рядом с офицером в тёмно-зелёном кафтане с красными отворотами из тончайшего сукна, с белоснежными манжетами, выглядывающими из-под не доходящих до локтя рукавов, одетым с той пренебрежительной выправкой, которая так отличала в восемнадцатом веке военного от штабного офицера или тылового крысы-интенданта.
Как же он был хорош, этот офицер, как же прекрасно облегала его военная форма, как изящен был шарф, повязанный поперёк груди, а мягкая треугольная чёрная шляпа украшалась султаном из разноцветных перьев! Всё это схватила Екатерина одним взглядом, но, увидев лицо офицера, уже не могла оторвать от него глаз. Это было совершенное лицо с белой кожей, едва ли не такой же, как осыпанные пудрой букли по височкам и косица волос сзади, протянутая по спине, — кожей, ничем ещё не тронутой — ни загаром, ни пятнами пигмента. На вид офицеру было едва ли не двадцать пять лет, но его снежно-белое лицо с тончайшим румянцем делало его ещё моложе, а ноздри, изящно и тонко вырезанные, трепетали — он прекрасно понимал, как разглядывают его все эти красивые, столпившиеся у высокого окна женщины, и принимал это как должное. «Боже, у него лицо Аполлона», — подумалось Екатерине, и ей страстно захотелось ближе и внимательнее разглядеть лицо этого гиганта.
Офицер приподнял голову на круглой шее, слегка улыбнулся дамам, снял шляпу, обнажив белокурый паричок с буклями, слегка поклонился и подмёл шляпой пыль у своих ног.
Потом как ни в чём не бывало он водрузил шляпу на голову и спокойно отправился дальше, переговариваясь со своим прусским спутником.
Ещё долго разглядывали фрейлины и вместе с ними Екатерина спины двух мужчин, и только после этого девицы со вздохом рассыпались из своей плотной толпы, с ужасом обнаружив, что их госпожа стоит рядом с ними и даже не делает им замечания за опоздание и намеренное молчание в ответ на звон колокольчика.
Как ветром сдуло с их лиц выражение мечтательности и мучительного желания, и они опять превратились в то, чем и были на самом деле, — в высокопоставленных служанок великой княгини, но не подруг или доверенных людей.
— И каждое утро вот так прогуливаются эти два кавалера под моими окнами? — язвительно спросила Екатерина, особенно ударяя на слове «моими».
Дамы наперебой пытались что-то объяснить, что-то произнести, но язык отказывался оправдываться, и Екатерина поняла, что все они, все семнадцать её фрейлин, поголовно влюблены в этого статного красавца, что каждое его движение заставляет их мучительно тосковать о такой совершенной красоте.
Она повернулась к недавно произведённой в статс-дамы Зиновьевой, даме уже в расцвете лет, и вопросительно взглянула на неё.
— Мы дальние родственники, — улыбнулась та, присев в низком реверансе, — а девушки решили увидеть этого героя, о котором ходит столько легенд...
— Легенд? — удивилась Екатерина, прекрасно понимая, что за этим её вопросом сразу же последует целый ворох былей и небылиц о красавце.
— О, — гордо выпрямилась Зиновьева, радостно взволнованная тем, что именно она дальняя родственница офицера и может хоть что-то рассказать своей госпоже, поразив её сведениями из самых первых рук.
Екатерина насторожилась.
— Он был ранен при Цорндорфе трижды, — захлёбываясь от восторга, заявила Зиновьева, снова приседая перед великой княгиней, — но не ушёл с поля боя, даже и не подумал сдаться в плен, а наоборот, сам принял участие в пленении человека, которого вы видели, — это флигель-адъютант самого Фридриха. Григорий взял его в плен, и моего родственника прислали вместе с пленником в Петербург. Впрочем, граф Шверин принят был матушкой-императрицей не как пленник, а как знатный гость...
— Я не была на последних куртагах и приёмах, — просто сказала Екатерина, — иначе я увидела бы этих двоих уже давно, и мне не пришлось бы вместе с вами наблюдать эту утреннюю прогулку...
— Теперь каждое утро они вместе прогуливаются по городу, и Григорий приставлен к старику больше для сопровождения, нежели для того, чтобы стеречь его...
— Ну, хватит обсуждать какого-то простого армейского поручика, — прервала излияния статс-дамы Екатерина, — камин мне пришлось растопить самой, кофе всё ещё не готов, а туалет задерживается...
И вся толпа её прислужниц завертелась с бешеной быстротой: кто нёс отглаженное платье, кто приглашал куафёра, кто мчался в кофейную, словно бы извиняясь за утреннее происшествие.
Екатерина и не пыталась больше узнать что-либо о простом гвардейском поручике, но Зиновьева горела желанием загладить утренний проступок и сама то и дело порывалась рассказывать о своём дальнем родственнике.
Во всяком случае, к концу туалета Екатерина уже знала о Григории Орлове то, что ещё не успела узнать осведомлённая петербургская знать.
Легендой она посчитала то, что успела в перерывах между чашкой кофе и причёсыванием сообщить ей Зиновьева. Родоначальник всей династии Орловых был обыкновенный стрелецкий стражник. Замешанный в стрелецком бунте, он должен был сложить голову на плахе. За казнью наблюдал сам Пётр Великий, мучительно жаждавший отомстить за минуты своего панического страха и бегства прямо в нижнем белье из родового Кремля в ближайший лес. Рубили и рубили головы стрельцам, и каждый вёл себя в минуты смерти по-разному, в зависимости от характера и нрава.
Иван Орел, как называли его свои же товарищи за беззаветную храбрость и отвагу, взошёл на эшафот спокойно и решительно, ногой оттолкнул голову только что казнённого товарища, мешавшую ему пройти, и без колебаний шагнул к плахе. И тут великий царь крикнул:
— Отпустить!
Ему очень понравилось это выражение презрения к смерти и отвага, с которой Иван Орел взошёл на эшафот.
Ивана помиловали, и с тех пор он, все его сыновья и многочисленная родня верно и преданно служили Петру. На них мог он опираться. А рослые и статные потомки Ивана были зачислены в гвардию, отборную армию царя, служившую ему надёжной опорой.
Ивана царь возвёл во дворянство и присвоил ему чин офицера. От Ивана Орла, или Орлова, как стали называть его, произошёл генерал-майор и новгородский генерал-губернатор Григорий Иванович, который в свои пятьдесят три года женился на дворянке Зиновьевой. Она принесла ему девять сыновей — в живых осталось лишь пять. И все пятеро служили в гвардии, и слава их в полках росла день ото дня. Солдаты любили всех братьев Орловых за удаль, отвагу, молодечество, а также за безумные поступки и всевозможные похождения.
Одни только рассказы о том, как вёл себя Григорий Григорьевич Орлов в Кёнигсберге, теперь ходили среди солдат гвардии как пример того, как должен вести себя солдат на территории, захваченной русскими солдатами, — нет, не было мародёрства, не было копеечного скопидомства, а были щедрые пирушки, элегантные победы среди немок, разгульные похождения и победы, победы, победы над женскими сердцами. Это и нетрудно было Григорию: как успела увериться великая княгиня, один его вид уже побеждал все сердца...
— Потрудитесь распорядиться выставить зимние рамы в приёмной, — резко сказала она обер-гофмаршалу Льву Нарышкину, слишком поздно явившемуся к месту своей постоянной службы. — Вы же видите, мои фрейлины даже не могут лицезреть то, что происходит на улице. Стёкла грязны, старая пакля торчит изо всех щелей, а воздуха в приёмной не хватает даже моему попугаю...
Она так требовательно и властно взглянула на товарища своих ранних приключений, что Нарышкин опешил: никогда ещё великая княгиня не разговаривала с ним таким тоном.
— Слушаюсь, ваше высочество великая княгиня, — низко склонился он перед Екатериной, — и впрямь вы правы: на дворе тепло, уже все горожане выставили зимние рамы и наслаждаются весенним воздухом, а во дворце всё ещё царит зимний холод...
Екатерина лишь усмехнулась: такой тонкий намёк на её холодность был в духе Нарышкина. Но она пропустила этот намёк мимо ушей. Сейчас её занимало только одно — где и как увидеть этого гиганта с головой Аполлона и побольше разузнать о его похождениях. Весь день она тоскливо писала бесконечные письма, перескакивая с одного предмета на другой, — это были её корреспондентки в Европе, которым она жаловалась на стеснённость своих возможностей и описывала будничные дни двора. Но в этот день она не написала ни одного слова Понятовскому — он как-то померк в её сознании. Она ещё не понимала, что происходит, она ещё пыталась представить себе, как изящно он входит в зал и как изысканно кланяется, как вежливо отпускает комплименты, но образ его расплывался в её сознании, а на место его ухоженного лица укладывался этот мужественный и отважный герой, о котором ходило столько легенд...
Ей мучительно хотелось узнать, занято ли его сердце какой-нибудь великосветской возлюбленной, страстно хотелось поговорить о нём со своими дамами, а особенно с Зиновьевой, но она запретила себе беседы об этом военном с фрейлинами и лишь иронически улыбалась, когда кто-нибудь из них заводил разговоры о нём.
К вечеру толстые зимние рамы окон в приёмной были выставлены, стёкла тщательно промыты, и Екатерина с наслаждением предвкушала утро, чтобы одной подойти к открытому окну и увидеть прогуливающегося Орла, Григория, наделавшего столько шума среди двора императрицы.
И собственно, кто? Никто, какой-то поручик, о котором и слыхом не слыхивали здесь, а вот надо же, возбудил такой интерес своим прожиганием жизни, рассказами о его сумасбродных выходках и победах над женскими сердцами. Что, в сущности, занимало его? Пирушки, карты, пули и снаряды, отвага, слишком похожая на бессмысленное бравирование, и бесконечные похождения, бросавшие его от одной юбки к другой со скоростью артиллерийского ядра. Она сама издевалась над собой и тем не менее жаждала снова увидеть его, полюбоваться красотой его лица и его прекрасной фигурой, затянутой в военный мундир.
Утром, едва рассвело, Екатерина уже была на ногах. В утреннем костюме, в изящном чепчике на своих роскошных волосах выскочила она в приёмную, чтобы разбудить своих дам и дать им десятки поручений, чтобы остаться одной возле заветного окна.
Ожидания не обманули её. Всех своих фрейлин она разослала с заданиями, приказав дежурным отправиться в гардеробную и приготовить ей дневной костюм самым тщательным образом.
Едва увидела она в дальнем пространстве улицы две фигуры, вышедшие на утреннюю прогулку, как тут же распахнула тяжёлые бархатные шторы и с трудом растворила летние рамы окна, впустив много воздуха и света в приёмную. Она встала у окна как в раме. Это и была прелестная картина — изящная, едва поднявшаяся ото сна дама стояла у окна, улыбаясь навстречу солнцу и воздуху. Утренний свежий ветерок немедленно пробрался под широкие свободные рукава стёганого обширного капота, но она не замечала холода — всё её внимание было приковано к двум подходившим всё ближе и ближе мужским фигурам.
Увы, в поручике, который на этот раз сопровождал флигель-адъютанта Шверина, она не узнала Орлова. Другой был на его месте. Екатерина вспомнила, что Шверин прибыл с двумя конвойными, если говорить грубо, и только один из них был Орловым. Другой ничем не отличался от обычных офицеров Преображенского полка, и Екатерина была разочарована. Она так надеялась увидеть вчерашнего попутчика Шверина!
Однако Шверин не преминул остановиться у открытого окна и сделал тот же жест, которым вчера любовалась Екатерина: своей остроугольной шляпой — знаменитой прусской треуголкой — он подмёл пыль у своих ног так же, как вчера проделал это Орлов, и Екатерина сочла себя вправе ответить на поклон Шверина.
— Я знаю, кто вы, — сказал ей на грубом немецком наречии Шверин, — и потому считаю своим долгом представиться вам...
Он опять поклонился, и Екатерина не стала разубеждать флигель-адъютанта самого Фридриха.
Из слов генерала она узнала, что его сегодня пригласили на раут, где он надеялся увидеть и великого князя, и великую княгиню.
— Надеюсь, вы не сочтёте неверным, если я приведу с собой и моих верных стражей? — любезно сказал ей Шверин.
Екатерина пожала плечами.
— Ваши дамы показали слишком большое внимание и почтение к моей вчерашней прогулке, надеюсь, это не столько из-за меня, сколько из-за моего стража — господина Орлова...
— Я побраню своих дам за чрезмерное внимание к его особе, — любезно ответила Екатерина, — но думаю, вы не откажетесь провести вечер за ужином со мной и моим мужем, великим князем, тем более что мне ужасно хочется узнать подробности вашего пленения.
Она очаровательно улыбнулась, и Шверин опять низким поклоном и подметанием пыли своей шляпой выразил своё восхищение и почтительность.
Теперь надо было подготовить Петра к ужину. Но Екатерина знала, как боготворит великий князь Фридриха, прусского короля, считая за честь делать иногда мелкие доносы и выведывая секреты в его пользу, и потому рассчитывала, что увидит на этом ужине и Орлова.
— Ваше высочество, — делая вполне дружелюбное лицо, заявила она, придя в покои Петра, — надеюсь, вы простите мне то, что я забежала вперёд и без вашего ведома пригласила к нашему ужину одно лицо со своими двумя стражами...
Пётр выскочил из-за стола, где развлекался картой военных действий, и вытаращил глаза на Екатерину. Давненько уже не посещала она его апартаменты и тем более не говорила ни о каких совместных ужинах.
— Кого это вы пригласили? — подозрительно спросил он.
С тех пор как Понятовского выставили из России и прекратились их весёлые пирушки вчетвером, ему приходилось изобретать всё новые и новые предлоги, чтобы увозить с собой Воронцову.
— Вы не поверите, кого я увидела сегодня у своего окна, — любезно продолжила Екатерина, оттягивая самый интересный для Петра момент.
— Да ещё и у окна, — ехидно заметил Пётр, словно бы указывая на её нарушение этикета.
— Да, это был флигель-адъютант Фридриха генерал Шверин, и я тут же, может быть несколько против этикета, пригласила его...
— Я уже давно наслышан о нём, — живо возразил Пётр, — и вы отлично сделали, что позвали его. Но как вам удалось первой удостоиться его любезности?
— О, мои придворные дамы не слишком-то хорошо служат мне, великой княгине, и мне частенько приходится выходить в приёмную, чтобы позвать кого-то из них...
Это был намёк на Воронцову, и Пётр понял его, но не обиделся, а лишь постарался чрезмерной вежливостью отдалить этот тонкий упрёк.
— Надеюсь, ужин будет без ваших милых дам, — ответил он ей любезностью на любезность, словно бы заглаживая все свои промахи в отношении Елизаветы Воронцовой.
Однако он не постеснялся поселить её рядом со своими апартаментами в летнем дворце, куда уже перевозили вещи и куда должен был отправиться на лето весь двор.
— Что вы, что вы, — постаралась расцветить будущий приём Екатерина, — я думаю, что как раз общество моих фрейлин будет приятно прусскому генералу, который так долго обходился без женского общества...
И Пётр совсем расцвёл. Мало того что он станет говорить с прусским генералом, ещё и Елизавета Воронцова будет присутствовать на этом ужине.
— Но, дорогой великий князь, — снисходительно произнесла Екатерина — ведь генерал в плену, и без своих сопровождающих ему нельзя появляться в свете...
— Конечно, конечно, — заторопился Пётр, — он придёт вместе с ними. Ведь у него двое конвойных?
— Как вы можете так говорить! — весело упрекнула его Екатерина. — Они просто сопровождающие, притом из родовитых семейств, так что никого из низших не будет рядом...
На том они и порешили.
И вечером Екатерина наконец очень близко увидела того, о ком мечтала.
Вблизи он оказался ещё красивее, чем она полагала.
Удивительно, но одна только Елизавета Воронцова не подпала под чарующее обаяние его больших глаз, его свежих, словно у младенца, гладких щёк, пухлых губ, и жемчужно-белый блеск его зубов не казался ей восхитительным. Зато остальные дамы, приглашённые к столу, млели, мялись и едва могли выговорить слово — так завораживал их вид Геркулеса с головой античного бога.
Екатерина тоже подпала под это обаяние. Великая княгиня понимала, что она несколько старше Орлова, но её притирания, духи, бриллиантовые ожерелья и браслеты с аметистами делали её неотразимой. Да и туалет она себе выбрала такой, какой может быть приятен и ласкать взор такого варвара, каким был Григорий, — тяжёлые фижмы, голубые и затканные золотом, нежно обрисовывали её всё ещё тонкую талию, а чудесные шёлковые башмачки, выглядывая из-под фижм, заставляли мысленно рисовать прелестную линию ног. «Ах, как жаль, — думала Екатерина, — что нет сегодня маскарада, где я могла бы одеться мужчиной и показать свои стройные крепкие длинные ноги!» Такие маскарады всегда придумывала сама императрица, чтобы весь двор знал, что она и в мужском костюме выглядит лучше всех красивых женщин.
Однако Екатерина постаралась скрасить своё пребывание на этом ужине ещё и смелыми шутками, несколько фривольными, но как раз подходившими этому военному, нисколько не обременённому хоть какими-то знаниями, — он не кончал кадетского корпуса, уже открытого при Елизавете, где офицеры изучали многие науки, в том числе и философию. Но Орлов был практиком, проходил школу боев на настоящем поле битвы, как и его отважные братья, и равнодушно относился к вопросам этикета, презрительно взглядывая на паркетных шаркунов. Он всегда знал, что у него нет соперников и стоит ему лишь мигнуть, как любая красавица склонится к его ногам. Вот и теперь он приехал на этот ужин после свидания с гордой и своенравной графиней Строгановой, всесильной любовницей всесильного начальника Тайной канцелярии Петра Ивановича Шувалова, родного брата ставшего фаворитом Елизаветы Ивана Шувалова. Ныне эта семейка распоряжалась во дворце так, словно это было их родовое гнездо, и все богатства России оказались к их услугам. Давно был забыт певец-хохол Разумовский, молоденькому и хитрому Ивану Шувалову стареющая императрица подарила своё сердце и открыла свою казну...
Великий князь с жадностью вцепился в Шверина, как и предполагала Екатерина, рассыпался комплиментами по поводу гениального стратега Фридриха, жадно расспрашивал, как расставлял он свои войска, какие приказы и распоряжения давал, и потому Екатерина могла всё своё внимание сосредоточить на Григории Орлове. Он был молчалив, старательно и немногословно отвечал, явно чувствуя себя не в своей тарелке за этим изысканным великокняжеским столом. Однако только первые минуты прошли для него в смущении. Орлов уже почувствовал всей своей кожей — как никто умел он оценивать возникающую близость, — что великая княгиня восхищается им, улыбается ему интимно и многообещающе, и он быстро поднял голову и взглядом дал понять ей, что тоже не настроен против неё.
Этот первый вечер стал обычным в череде других вечеров, где они встречались глазами и едва могли прикоснуться друг к другу. Екатерина вспыхивала, краснела и смущённо улыбалась, внутренний жар сжигал её, и она теперь уже могла бы сказать, что одного вечера ей было достаточно для того, чтобы потерять голову.
Да, она потеряла голову, как теряли её десятки других до неё и после неё...
Утром, едва лишь начинало светать и Орлов неизменно выходил со Шверином на прогулку — тот по своей немецкой педантичности не пропускал ни одного утра, чтобы не совершить свой моцион, — как она выходила в приёмную, где были окна, выходящие как раз туда, где гуляли Шверин с Орловым.
Они встретились глазами, и Екатерина немного подняла руку, словно бы приветствуя Григория. Пальцы её слегка шевелились на уровне плеча, и этот жест сразу развеял мечтательное, ещё сонное настроение Григория.
Он перемахнул улицу, взлетел на приступок у окна, схватился руками за широкий дощатый подоконник и перепрыгнул через него. Мгновение — и он уже стоял в большой приёмной зале, не обращая никакого внимания на хихикающих поодаль фрейлин. Ещё миг и кости Екатерины хрустнули от обжигающего объятия Орлова, а губы ожёг страстный, такой горячий и умелый поцелуй, что Екатерина задохнулась.
Он отстранил её лицо крупными смелыми руками, взялся за голову с обеих сторон, нежно прикоснулся к белому лбу великой княгини и так же нежно и тихо прошептал:
— Вчера я разглядел тебя. Ты — красавица...
И сердце Екатерины провалилось куда-то, ухнуло и забилось с такой силой, что казалось, оно прорвётся сквозь грудную клетку и выпрыгнет.
Она ничего не говорила и только страстно мечтала ещё раз получить такой поцелуй, которым ожёг её Орлов.
Великая княгиня стояла, подняв голову навстречу его взгляду, и ничего не могла сказать — все эти ощущения были для неё новыми, хоть и не считала она себя новичком в любви...
— Ночью приду к тебе, не запирайся, — усмехнулся Орлов, взлетел на широкий подоконник и спрыгнул прямо на улицу.
Как ни в чём не бывало подошёл он к Шверину, стоявшему под окном с разинутым ртом, заговорил о чём-то, и так, мирно и оживлённо беседуя, проследовали они мимо дворца, мимо едва начавших зеленеть лип, мимо восхищенных, жадных глаз фрейлин, как будто здесь и вовсе никого не было.
А Екатерина всё ещё не могла опомниться от поцелуя, не могла прийти в себя и даже не думала о том, что её фрейлины стали шептаться по поводу столь странного визита через окно. Она всё ещё чувствовала на губах свежесть губ Орлова и страсть, с которой был подарен ей этот поцелуй, всё ещё находилась под впечатлением его безумного и безоглядного поступка.
«Каков молодец», — хотела она уже было сказать по-русски и лишь тут догадалась, что Орлов говорил с ней по-русски. Не знал языков, не мог понять французского или немецкого, и она постаралась воспроизвести его русские слова и уразумела, что теперь ей самой предстоит совершенствовать свой русский. На этом языке в придворных кругах не говорили, даже Дашкова, которой поверяла Екатерина свои мысли и которую считала самой образованной среди русских вельможных кругов, не знала ни слова на своём родном языке и даже не пыталась учиться, зато владела в совершенстве чуть ли не всеми европейскими языками.
Орлов говорил с ней по-русски, и как красиво звучали его слова!
«Он не знает языков, — умилённо думала Екатерина, — не беда, я его научу, на нас двоих хватит одного моего ума...»
Великая княгиня ещё долго стояла перед окном, снова и снова вспоминала выходку Орлова, и умилялась, и восхищалась его отвагой и бесстрашием: никто не смог бы поступить так, как поступил он, — словно ангел влетел к ней из окна и словно ангел отлетел...
И опять она поняла, что потеряла голову, что этот человек, гигант с головой, прекрасной, как у античного бога Аполлона, надолго завладел её сердцем и душой. И она уже соображала, как обставить их первое свидание наедине, как сделать так, чтобы никто им не помешал, как устроить так, чтобы длилось и длилось время этого свидания и чтобы он, Орлов, смотрел на неё глазами восторженными и восхищенными. Надо было придумать наряд, в котором можно было бы нравиться ему, человеку, в свои двадцать два года уже испытавшему столько страстей и видевшему самых разных женщин — от княгинь до простых уличных проституток. Каждая была для него хороша — и нужно было сделать так, чтобы от неё, великой княгини, не отходил он, чтобы ради неё совершал поступки сумасбродные и сумасшедшие, чтобы он любил её.
2
Роман Екатерины развивался легко и непринуждённо. Всюду следовал за ней её избранник, везде трубил о своей победе, всем рассказывал, какие необыкновенные сорочки изобретает великая княгиня, чтобы и в постели ещё более соблазнять его. Он не делал тайны из своих отношений с Екатериной. И конечно же великая княгиня была на краю бездны при таком пылком и легкомысленном обожании, если бы хоть на минуту взял себе за труд её муж, великий князь Пётр, призадуматься о сложностях взаимоотношений в своей семье или хотя бы свекровь-тётушка, императрица Елизавета, кинула пристальный взгляд на семейство своей невестки. Нет, Пётр был увлечён Елизаветой Воронцовой, спал и видел, как возьмёт в жёны эту толстую, рябую, косящую, воняющую и ругающуюся, словно последний извозчик, фаворитку в жёны. Его чрезвычайно поддерживала вся партия Воронцовых, тоже втайне мечтающих породниться с царским домом. Противились этому лишь Шуваловы, боящиеся усиления влияния Воронцовых и наговаривающие на всех, кто только вставал на их пути.
А Елизавета, императрица, и вовсе не обращала в последние годы внимания на семью своего племянника Петра. Она вся обратилась в старуху, тщательно думающую лишь о своём здоровье, всё было посвящено этому: бесконечные поездки на богомолья, строительство монастырей и церквей, смена докторов, ахи, охи, стоны, обмороки и бесконечные сидения у зеркала в поисках исчезнувшей красоты. Дела и политика уже не интересовали умирающую императрицу, но она вполне понимала, что за наследник остаётся у руля страны. В последние годы она ненавидела Петра, осознавала его суть прусского солдафона, и только крайняя лень и нежелание обострять обстановку не позволили ей изменить завещание и оставить Россию не Петру, а его сыну Павлу, назначив регентшей Екатерину. И Елизавете тоже не было дела до Екатерины и её связей, на все наговоры о крайне бестактном поведении великой княгини она лишь махала рукой и болезненно морщилась. Правда, пару раз и она попыталась было что-то изменить и однажды предприняла шаги для этого.
Французский посол при дворе Елизаветы барон де Бретейль писал по этому поводу своему королю:
«Всеобщее желание и убеждение, что она возведёт на престол маленького великого князя, Павла, которого, по-видимому, страстно любит.
Однажды, когда великий князь Пётр уехал на день в деревню на охоту, императрица неожиданно приказала, чтоб в её театре дали русскую пьесу, и против обыкновения не пожелала пригласить ни иностранных послов, ни придворных, которые всегда присутствуют на таких спектаклях. Вследствие этого императрица явилась в театр только с небольшим числом лиц ближайшей свиты. Молодой великий князь был вместе с нею, а великая княгиня, единственная из всех получившая приглашение, тоже пришла в свою очередь.
Как только началось представление, императрица стала жаловаться, что в театре мало зрителей, и велела раскрыть двери для гвардии. Зал тотчас наполнился солдатами.
Тогда, по свидетельству всех присутствовавших, императрица взяла на колени маленького великого князя, чрезвычайно ласкала его и, обращаясь к некоторым из тех старых гренадер, которым она обязана своим величием, как бы представила им ребёнка, говорила им, каким он обещает быть добрым и милостивым, и с удовольствием выслушивала в ответ их солдатские комплименты.
Эта сцена кокетничанья продолжалась почти весь спектакль, и великая княгиня имела всё время очень довольный вид...»
Лишь из этого письма, этой депеши французскому королю ясно, что Екатерина с ужасом думала о смерти Елизаветы и предпринимала шаги, которые позволили бы упрочить её положение. Однако всё это кончилось ничем. Елизавета не решилась уничтожить старое завещание, по которому оставляла царство в руках Петра...
Но барон де Бретейль хорошо понимал тех людей, что стояли тогда у трона, и горечь проскальзывала в его словах, когда он оценивал возможность переворота после смерти Елизаветы:
«Когда я думаю о ненависти народа к великому князю и заблуждениях этого принца (Петра), то мне кажется, что разыграется самая настоящая революция (при смерти императрицы). Но когда я вижу малодушие и низость людей, от которых зависит возможность переворота, то убеждаюсь, что страх и рабская покорность и на этот раз так же спокойно возьмут в них верх, как и при захвате власти самой императрицей...»
Не сдавалась одна Екатерина. Она давно решила, что будет делать в случае смерти Елизаветы, и рассказывала ближайшему окружению, как станет действовать в этой ситуации:
— Я иду прямо в комнату моего сына. Если встречу Алексея Разумовского, то оставлю его подле маленького Павла. Если же нет, то возьму ребёнка в свою комнату. В ту же минуту я посылаю доверенного человека дать знать пяти офицерам гвардии, из которых каждый приведёт ко мне пятьдесят солдат... В то же время я посылаю за Бестужевым, Апраксиным и Ливеном, а сама иду в комнату умирающей, где обяжу командующего гвардией присягнуть мне и оставлю его при себе. Если я замечу малейшее движение, то арестую Шуваловых...
Конечно, это были одни лишь фантазии, но Екатерина придавала им большое значение и старалась быть щедрой и милостивой к солдатам гвардии. И потому её связь с Григорием Орловым была ей на пользу: Орлова обожали в полках гвардии, и её имя уже начали связывать с его именем...
Она знала, что в трудную минуту, когда царь Иван Грозный подозревал своих приближённых в заговоре, он будто бы решился просить приюта у английского короля. «Нет, — решала она про себя, — я или буду царствовать, или погибну с высоко поднятой головой...»
И действовала.
Григорий приходил к ней не только ночами, он не собирался быть тайным возлюбленным. И конечно же первое, о чём они стали говорить, когда начальные порывы любовных слов затихали, — это о предстоящем событии, о положении Екатерины в ту минуту, когда скончается Елизавета.
Даже Григорий при всей своей скудости ума понимал, что его возлюбленной придётся трудно — Пётр попытается упечь её в монастырь, чтобы развязать себе руки, жениться на Елизавете Воронцовой, а Павла объявить незаконным ребёнком. Жаждали этого Воронцовы, и их при дворе было много, но противились Шуваловы, опасаясь слишком высокого положения Воронцовых. Шуваловы попробовали привлечь на свою сторону воспитателя Павла — графа Панина, и он как будто согласился помогать им, но очень уж спесивые нравы и крайняя скупость Шуваловых отвратили Панина от этих фаворитов. Он решался выступать лишь на стороне Екатерины и молчаливо работал в её пользу.
Едва побывал Григорий в постели Екатерины, как началось его преображение из скромного низкородного солдата в гордого и своенравного вельможу. Екатерина тут же выхлопотала ему место флигель-адъютанта при самом Петре Ивановиче Шувалове — генерал-фельдцейхмейстере[17]. Пётр Иванович был двоюродным братом Ивана Шувалова, всемогущего фаворита Елизаветы, и, кроме того, начальником Тайной канцелярии. Но Орлов вовсе не лебезил перед Шуваловым — он тут же влюбил в себя его любовницу, красавицу княгиню Елену Куракину. И хоть Шувалов осыпал её золотом, но молодость и красота Орлова стали счастливыми соперниками старости и богатства. Только смерть помешала Петру Ивановичу отомстить своему молодому сопернику, и это ещё раз показывает, как благосклонно вела себя фортуна по отношению к легкомысленному и отважному герою романа Екатерины.
Впрочем, когда Григорий стал ночевать у Екатерины, Елена Куракина была оставлена, хоть и на короткое время, — он продолжал встречаться с ней, но теперь уже не было прежней страсти, даже он понимал, что великая княгиня — это не простая княгиня Куракина, и постепенно отошёл от прежней любовницы. Но случайные связи, обычные знакомства с ухаживаниями были всегда, и никогда Орлов не зависел от любви и ревности женщины, даже такой, как сама великая княгиня...
Почти каждую ночь Екатерина ждала своего возлюбленного. Она встречала его, всякий раз желая нравиться по-другому, слегка кокетничала и умилялась, дивясь снова и снова его внешности, силе, молодечеству и всё больше и больше привязываясь к этому великану и красавцу, отдающему духотой истинной казармы, неплотным сукном военного мундира и либо ботфортами выше колен, либо тупоносыми туфлями с огромными пряжками и тонкими чулками, изящно обрисовывавшими его сильные стройные ноги. Она могла без конца любоваться его могучим красивым телом и в минуты нежности трогала и трогала его железные руки и любила нежиться на широкой груди, слегка поросшей светлыми вьющимися волосами.
Он казался ей совершенством, и сначала она не хотела даже говорить о чём-либо ещё, кроме своей любви. Но он сам жадно выспрашивал её, заставляя рассказывать о мелочах придворной жизни, об этикете, и презрительно кривил губы, когда она смеялась над его неспособностью запомнить с детства знакомые ей тонкости светской жизни. Ему не надо было знать всё это, ему хватало его удали и молодечества, хватало его красоты, чтобы без усилий покорять женщин.
И только значительно позже, когда не оставалось уже ничего свежего в их отношениях, они перешли на темы, слишком грустные для неё, вызывающие боль и страдание.
Он сочувствовал ей и, смеясь, кричал, что четыре его полка, которые он и четверо его братьев держат в руках, без усилий возведут её на трон, что она будет императрицей, пусть даже и не сомневается. И она поняла, что Григорий — это её судьба, в нём одном сошлось всё, что было ей дорого: престол, корона, власть, любовь...
Откровенно, без утайки начали обсуждать они, как сделать её императрицей, когда, наконец, уйдёт на тот свет Елизавета, а Пётр взойдёт на трон и станет императором.
И теперь уже Екатерина начала относиться серьёзно к словам Григория — она выдавала ему большие суммы денег, благо Кейт, заменивший Вильямса, тоже предоставил ей огромный кредит. Нет, денег солдаты не видели, но чарка водки, кусок мяса лично от великой княгини, рубль каждому солдату постепенно завоевали симпатии гвардии. И вот уже пошли разговоры, когда, наконец, великая княгиня станет императрицей, когда она сядет на трон...
Но Елизавета была ещё жива — каждую ночь проводила она где-нибудь в другом месте, каждую ночь ждала и ждала переворота, боясь и ненавидя невестку, зная, что только одна она способна поднять бунт и захватить власть.
Тем не менее спокойно и мирно скончалась она в своей постели не от пули восставших, не от сабли заговорщиков — скончалась от своей трудной жизни, не приспособленной к тяготам переедания, недосыпания и полного отсутствия какого-либо режима...
Также спокойно и мирно взошёл на трон Пётр. И Екатерина первой бросилась к ногам мужа, клятвенно заверяя его, что она первая будет приносить ему присягу, что она станет верной рабой и послушной подданной монарха...
Позже она не любила вспоминать, как приносила эту присягу на верность императору, она всё ещё колебалась, зная, что ещё не имеет сил и надёжных сторонников, чтобы пойти на риск, хотя и здесь не отставала она от Григория — всегда была готова на отвагу и безмерную храбрость, всегда была согласна поступиться всем, чтобы получить всё.
Но Пётр не оценил великодушного поступка Екатерины и, хоть и называл её мадам Руссурс, всё же понял, что и ему пора определиться со своей властью.
Первое, что он сделал, — заключил невыгодный для России, но такой необходимый прусскому королю мир.
Семь лет сражались русские солдаты против Пруссии, а теперь, когда Фридрих уже считал себя позорно побеждённым, войска России должны были повернуть в обратную сторону, воевать с теми, кто был союзником, сражаться под началом того, кого били при Цорндорфе, Хунерсдорфе, кого обращали в бегство. Сам Пётр признавался, что ему улыбается удача — теперь он может воевать под руководством такого великого полководца, как Фридрих.
Но мир, заключённый с Фридрихом, был только началом той катастрофы, которую готовил сам себе Пётр. Воевать с Данией за Голштинию — вот был предел его мечты. И войска уже собрались в поход против этого государства лишь потому, что крохотная Голштиния была в далёком прошлом родиной неудавшегося капрала прусской армии, каковым считал себя Пётр.
Никто не был большим врагом самому себе, нежели Пётр. И он только помогал своими поступками Екатерине, уже много думавшей о том, чтобы решиться и выступить против своего мужа.
Нисколько не думал Пётр о России. В начале июня 1862 года даже Сенат доводил до сведения императора, что государственные доходы не покрывают всех расходов, казна пуста и нет ни копейки на «удовольствие заграничной армии», которую Пётр снаряжал на войну с Данией из-за споров о Голштинии, его родине. Крымчаки снова подняли голову и намеревались напасть на южные уезды России, а восставшие крестьяне провинций осмелели настолько, что для их усмирения требовались уже целые полки. Команды, высылаемые правительством, были смяты восставшими, крестьянские волнения охватили значительную часть Тульской, Галицкой и других провинций, а Белёвский, Волоколамский, Эпифанский, Каширский, Клинский и многие другие уезды были объяты пожаром народного недовольства.
Обо всём докладывали новому императору, но Пётр и слышать ничего не хотел — главным для него оставалась война с Данией, и гвардия уже открыто роптала, не желая снаряжаться в заграничный поход. В самом начале месяца высочайше повелел Пётр, чтобы «впредь от полков людей никуда в дальние отлучки без указу Военной коллегии не отлучать»...
Было ясно, что война всё-таки начнётся, а армия разута и раздета, голодает из-за нехватки провианта, гвардию же, которая сильно разленилась и не отставала от столичной жизни, Пётр намеревался выслать в первую очередь.
Даже любимый Фридрих, прусский король, идол Петра, и тот предупреждал императора, что Россия напоминает кипящий котёл, готовый вот-вот взорваться, и что император должен быть поосторожнее. Но Пётр и всегда-то мечтал служить хотя бы капралом у Фридриха, а теперь, после смерти Елизаветы, поторопился заключить с ним договор о мире и помощи и никак не мог предположить, что русские ненавидят его и готовы на всё, чтобы лишить Петра короны...
Мрачно и бесстрастно встречала Екатерина все эти новости. Она уехала в Петергоф, собирала сведения обо всём, что творится в столице и при дворе Петра, молча выслушивала советы своих доверенных людей.
А их к тому времени у Екатерины было уже довольно много. Даже сенатор Панин, воспитатель наследника трона, Павла, проникся небывалой ненавистью к Петру — тот решил, что Панину подобает участвовать в военных экзерцициях[18], и потребовал его присутствия на парадах и вахт-разводах.
Екатерина Дашкова, сестра фаворитки Петра Елизаветы Воронцовой, тоже была возмущена деятельностью и бестолковостью нового императора, прямым вредом России от него и неоднократно предлагала свои услуги Екатерине по вербовке деятельных и активных членов заговора.
Но пока что это были лишь разговоры, болтовня, и Екатерина хорошо понимала, что ещё не время выступить открыто и свергнуть Петра.
Последний же случай бестактности и грубости Петра и вовсе отвратил её от мужа.
Почти четыреста самых влиятельных и самых важных вельмож государства собрались на парадный обед, который давал император по случаю заключения мира с Фридрихом.
И хоть горько усмехались первые лица страны, видя поспешность, с которой Пётр заключил этот мир, — Фридрих уже готов был на самоубийство, настолько грозным и сокрушительным было его поражение от русских войск, — да только помалкивали, лишь в душе сетуя на бестолковость и прусскую направленность императора. Никто пока что громко и вслух не высказывался о намерениях и действиях императора — привыкли покорно повиноваться, приучились всё терпеть. Лишь гвардия роптала открыто, по городу группами ходили гвардейцы, не желавшие воевать в стане Фридриха, которого били уже семь лет подряд и которому надо было теперь повиноваться. Открыто возмущались, собирались толпами, но не было ещё вожака, который возглавил бы это недовольство...
Четыреста знатных персон стали свидетелями крайнего унижения и солдафонской грубости императора по отношению к жене. Пётр поднялся и провозгласил здравицу в честь императорской фамилии. Все четыреста человек, как один, вскочили на ноги и, стоя, пили за здоровье императора и всей его семьи. И только Екатерина, находящаяся в середине стола, не поднялась, справедливо считая, что пить за самое себя можно и сидя. Да и по этикету не нужно было вставать.
Пётр просто взбесился, когда увидел, что Екатерина не поднялась с места. Он крикнул своему любимому адъютанту Гудовичу, чтобы тот пошёл узнать, с чего это Екатерина не встала, не пила здравицу стоя. Гудович побежал между рядами, за стульями гостей к Екатерине.
Но Петру и этого не было довольно. Он прямо обратился в Екатерине не с вопросом, а крикнул через весь стол:
— Дура!
Все услышали это нестандартное приветствие жене, и весь стол замер, даже ножи и вилки прекратили своё движение. «Что-то будет» — написано было на лицах ожидавших скандала царедворцев.
На глазах Екатерины выступили слёзы. Но она быстро справилась с обидой и повернулась к прислуживавшему ей офицеру с просьбой рассказать что-нибудь весёлое — умела противиться грубости и хамству великая княгиня с обычным своим тактом и оживлением.
Гудович подлетел к Екатерине, и она уже с ласковой улыбкой и доброжелательностью ответила, что считает себя, императора и наследника членами царской семьи и потому не встала, чтобы пить за самое себя стоя.
Гудович снова полетел к Петру.
— А разве Георг Голштинский не член императорской семьи? — заорал Пётр, указывая на своего дядю, а следовательно, и на дядю Екатерины, Георга Голштинского, которого он только что произвёл в главнокомандующие русской армии.
И, не остыв от гнева, потребовал от Гудовича:
— Немедленно арестовать императрицу!
Счастье, что рядом сидел Георг, дядя Жорж, как называла его великая княгиня, дядя Жорж, который много лет назад был влюблён в Екатерину и даже просил её выйти за него замуж, на что и получил согласие матери Екатерины. С тех пор, хоть и не стала Екатерина его женой, он всегда хранил симпатию к ней и довольно часто спасал её в затруднительных положениях. Так и теперь вступился Георг за Екатерину.
— Стоит ли из-за пустяка арестовывать члена императорской семьи? — с улыбкой обратился он к Петру. — И потом, какой скандал это вызовет в Европе? Даже прусский король Фридрих не одобрил бы это решение...
Он убеждал и убеждал Петра, и тот сдался на уговоры Георга. Приказ был отменен, и, пожалуй, лишь это и спасло Екатерину от заключения в Шлиссельбургскую крепость.
Она всё это прекрасно поняла и видела, каким шатким и непрочным стало её положение: сумасбродный муж, уже давно решивший жениться на Елизавете Воронцовой, найдёт рано или поздно предлог, чтобы расправиться с ней, Екатериной...
Она уехала в Петергоф, полная мрачных предчувствий и досадных мыслей. Но и здесь не позволяла она себе распускаться, принимала гостей и откровенно обсуждала своё положение с Орловыми, особенно с Алексеем, старшим братом своего фаворита, отчаянно смелым, безрассудным и напористым. И продолжала добывать деньги, чтобы подкупать гвардейцев, подачками и мелкими милостями завоёвывая их расположение. Это была единственная сила, которая могла ей помочь...
Григорий в Петергофе не появлялся. Император приставил к нему своего верного офицера Перфильева, чтобы тот каждый день докладывал ему, что делает любовник Екатерины. И Перфильев добросовестно сообщал:
— Пьёт, играет в карты, никуда не отлучается...
И Пётр, поспешивший в свой любимый Ораниенбаум с многочисленной свитой, состоявшей в основном из фрейлин, которыми уже распоряжалась как своим штатом Елизавета Воронцова, уже видящая себя императрицей, спокойно напивался вместе с Елизаветой, курил свои вонючие трубки и рьяно командовал голштинцами, охранявшими Ораниенбаум.
Зато Екатерину старательно навещали Орловы — Алексей, Фёдор и Иван, руководившие гвардейцами. Они не стеснялись в выражениях, требуя и от Екатерины не только подкупа и милостей к солдатам, но и решительных действий.
Она выжидала. Однажды план захвата Петра уже не удался. Вместе с Алексеем Екатерина планировала захватить Петра в Зимнем дворце и заточить в Шлиссельбург. Но Пётр неожиданно уехал в Ораниенбаум, чтобы отдохнуть перед датским походом, и все планы заговорщиков сорвались.
Впрочем, никаких определённых планов, никаких интриг не было — у самой Екатерины была лишь надежда на Бога да на случайности, которые, словно ловушки, расставлял сам себе её щупленький и неумный муж.
Однако произошло событие, которое подвигло заговорщиков действовать решительно и смело.
Слухи между тем распространялись в Петербурге так скоро и с такими подробностями, что нельзя было отличить правду от лжи. Прежде всего говорили, что император хочет расторгнуть все браки всех своих придворных дам и первым подать пример, расторгнув свой брак с Екатериной и женившись на Елизавете Воронцовой. А затем прусский посланник барон Гольц должен был жениться на разведённой графине Строгановой. Марья Павловна Нарышкина, графиня Брюс, Марья Осиповна Нарышкина должны были выбрать себе новых мужей...
Но очередной, ещё более подорвавший веру в нового императора слух был сильнее этих семейных новаций: в Ораниенбауме император освятил евангелическую церковь, построенную для лютеран, которых было большинство в голштинском отряде, составлявшем охрану Ораниенбаума. А Синод получил в тот же день высочайший указ, где провозглашалось равенство всех исповеданий наравне с государственной религией, с православием, а обряды православной церкви отменялись, и церковные имущества отбирались в казну. Вот этого уже не могли стерпеть православные священнослужители.
Да ещё помиловал Пётр капитана Ямбургского полка, опасного преступника, саксонца, с 1758 года содержавшегося под стражей. Он был отпущен за границу, и слух об этом опять-таки быстро распространился по городу. Значит, император отпускает немцев на свободу, давит священников и отбирает в казну то, что даваемо попам людьми русскими, превозносит чужую веру, освящает лютеранские церкви... И люди добавляли от себя столько, что ненависть к Петру росла день ото дня...
Но лишь арест офицера Преображенского полка Пассека смог вызвать ту искру, что заставила заговорщиков решиться на смелые действия. Пассек был капитаном, он прогнал капрала, который явился к нему с вопросом, скоро ли свергнут императора. Но он не донёс об этом начальству, и узнав о подобном, Пётр приказал арестовать Пассека и как следует допросить его.
Это и стало предлогом для Алексея Орлова. Екатерина должна была появиться перед солдатами Преображенского полка и обратиться к ним со слёзной мольбой о защите её и наследника. Полк мог выслушать её и никак не отреагировать, но солдаты уже давно были подготовлены к такому повороту событий...
Накануне дня переворота, вечером, Екатерина велела приготовить для себя парадное платье, в котором собиралась быть на торжественном обеде, дававшемся в честь дня тезоименитства Петра. И Пётр должен был приехать к этому обеду из Ораниенбаума в Петергоф со всей своей свитой. После такого обеда вся армия и сам император должны были отправиться в Данию воевать за голштинское наследство...
Едва лишь рассвело — а в июне на севере России начинались белые ночи и белёсая мгла стояла всю ночь, — как фрейлина Шаргородская вбежала в спальню Екатерины. Всегда спавшая чутко, великая княгиня тут же открыла глаза, и Шаргородская успела только шепнуть:
— К вам Алексей Орлов...
Екатерина немедленно вскочила, набросила капот, отослала фрейлину, и тут же вошёл великан Алексей в военном мундире со всеми регалиями.
— Всё готово, — не тратя лишних слов, сказал он, — чтобы вас провозгласить...
Екатерина удивлённо подняла брови, хотела было что-то ответить, но Алексей добавил только:
— Пассек арестован...
И Екатерина тут Же позвонила. Вошедшей Шаргородской и камердинеру Шкурину тихим шёпотом она приказала закладывать лошадей. Но ждать, пока разбудят конюхов, пока они начнут взнуздывать лошадей, было уже некогда.
— Моя коляска к вашим услугам, — негромко сказал Орлов.
Екатерина бросила лишь быстрый взгляд в зеркало, кое-как пригладила волосы, покрыв их простенькой шляпой, тут же, при Орлове, переоделась в простое траурное платье, в котором провела столько дней у гроба императрицы Елизаветы, и надёрнула обычные башмаки, удобные и без каблуков.
Лошади Орлова уже устали: слишком быстро пришлось им преодолеть расстояние от города до Петергофа, — но никто и не подумал об этом. Орлов нахлёстывал лошадей, и пена капала с их губ на пыльную дорогу...
Вместе с Шаргородской Екатерина сидела в карете, а камер-лакей Шкурин и камер-юнкер Бибиков стояли на запятках. Сам Орлов поместился рядом с кучером.
Кинув взгляд на Шкурина, помещавшегося на запятках и видного в крохотное заднее окошко, Екатерина некстати вспомнила, как вышел из тяжёлого для неё положения камердинер, когда всего три месяца назад она рожала своего сына, зачатого от Орлова. Как хоронилась она от Петра, как старательно скрывала свою беременность, как сумела дойти до самых родов так, что никто не заподозрил её состояния. Какие платья изобретала она, какими шалями укрывалась, чтобы скрыть свой выступающий живот, и только трое её верных слуг знали о её положении. Когда же наступил самый ответственный момент — начались роды, Шкурин поджёг свой дом, и конечно же Пётр, обожавший распоряжаться на пожарах, весь день был там. Екатерина благополучно родила и уже на другой день встала с постели...
Она никогда не позволяла себе залёживаться в постели, сразу принималась за обычные дела и заботы, и никто никогда не слышал её жалоб или стонов...
Лошади неслись, поднимая за собой столбы пыли. Ещё не показались низенькие домишки предместья, как навстречу им вынеслась тройка Григория Орлова.
Екатерина выскочила из кареты Алексея, впорхнула в коляску Григория, упала в его крепкие и нежные объятия и горько разрыдалась.
Никто не знал, что будет, никто и не предполагал, что так скоро осуществится желаемое, но от напряжения и тревоги, от усталости и недосыпания слёзы сами лились из глаз Екатерины, и только сильные и ласковые руки Григория гладили её по лицу, а тёплые губы промокали её солёные слёзы.
3
Екатерина держала в руках этот клочок серой нечистой бумаги и снова и снова тупо пробегала глазами по корявым, неровным строчкам, нацарапанным пьяной неумелой рукой, не привыкшей к письменным излияниям:
«Матушка милосердая государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному рабу твоему. Но как перед Богом скажу истину, матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете... Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя. Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Фёдором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принёс, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневили тебя и погубили души навек...»
Алексей Орлов писал к ней эту записку сразу после смерти Петра. Она никак не могла понять, как отнестись ей к этому известию, что делать, что придумать, чтобы в глазах потомков и всего света не легла эта смерть на её душу.
Конечно, это было самым желанным для неё исходом, развязывало ей руки, теперь она становилась самовластной самодержицей, никто более не стоял на её пути. Но она уже хорошо понимала русскую душу. Пока был жив Пётр, возмущению его поведением не было предела. Вся столица негодовала, когда он кривлялся на похоронах Елизаветы, смеялся над православными обрядами, отпеванием, когда издевался над солдатами гвардии, заменяя их своими голштинцами, когда намеревался идти под крыло прусского короля Фридриха — словом, поводов для возмущения и недовольства он дал так много, сам себе вредя в глазах всех, что не было, пожалуй, в столице и армии людей, которые отнеслись бы благосклонно к любому распоряжению Петра. Но его кончина всё меняла. Отныне он становился мучеником в глазах народа, смерть оправдывала все его сумасбродные поступки, и она ещё отзовётся раскатами грома...
Вновь и вновь перебирала Екатерина в памяти события этих бурных июньских дней. Вновь и вновь видела себя в простом чёрном платье, умоляющей гвардейцев Преображенского полка о защите её и наследника трона, восстанавливающей солдат, дававших присягу новому государю, на бунт против него. Видела и тех, кто поддерживал её в эти дни, — гетмана Кирилла Разумовского, напечатавшего в своей типографии манифест о её восшествии на престол, видела Никиту Панина, цепко державшего в руках своего воспитанника Павла и в нужный момент вышедшего к народу вместе с нею и её сыном, но главное, видела всех братьев Орловых, подготовивших солдат к перевороту и бывших рядом и вместе.
Как странно было всё это — ничего не готовилось заранее, кроме настроения солдат, ничего не было предопределено, никакого плана не возникало. Недаром же, когда Екатерина Дашкова, княгиня и жена гвардейского полковника Дашкова, спросила Екатерину, что надо делать, как поступать ей по плану, имевшемуся у великой княгини, пришлось ей ответить, что никакого плана нет, что Бог даст, то и будет.
И счастье для неё, что все эти люди молча и усиленно работали в её пользу, вербовали сторонников её провозглашения, даже не сказываясь самой Екатерине и не требуя её одобрения или порицания...
Странным и нелепым образом совершился переворот, Екатерина провозгласила себя императрицей, возглавив лишь один полк. Но солдаты других полков, услышав об этом, присоединились к нему, и в два дня, пока Петра не было в Петербурге, власть перешла в руки Екатерины. Присягали все, кто только был в столице, — священники, вельможи, солдаты.
Эйфория была такой, что Екатерине приходилось успокаивать людей. Из Ораниенбаума, где находился Пётр, уезжали наиболее влиятельные вельможи, виделись с великой княгиней и тоже присягали ей на верность.
Но оставался Пётр, истинный император, занимающий престол. Он был при своих голштинцах, при своей армии, и кто знает, чем бы всё это закончилось, если бы были у Петра верные и умные советники, если бы не пришла в голову Екатерине счастливая мысль пойти походом на Ораниенбаум во главе всех войск, перешедших на её сторону.
Поход этот был простой прогулкой для вельмож и солдат, но Екатерина твёрдо готовилась к схватке с мужем. Облачённая в мундир полковника Преображенского полка, сидела она на коне как настоящий воин и усердный солдат, видела, как свистят пули и разрываются ядра, и понимала, что эта война ведёт её или к славе, или к смерти. И нисколько не страшилась — она всегда была беззаветно храброй и отважной и Орлова полюбила именно за эту беззаветную и фатальную отвагу.
Пётр не был храбр, не был отважен и скоро, слишком скоро сдался — подписал отречение от престола, умоляя только оставить ему его любовницу, его обезьяну и любимого камердинера.
Екатерина обещала Петру всё это, но едва он сел в карету, которая должна была отвезти его в Ропшу, где ему назначалась резиденция для проживания, как у него отняли всё, что было любимого, и прежде всего Елизавету Воронцову, на которой он так страстно мечтал жениться.
И о чём бы ни просил теперь низложенный император, все его просьбы оставались втуне[19], — умолял позволить ему выехать в Германию, в свою родную Голштинию, где он был герцогом, взяв с собой лишь камердинера, Воронцову и обезьяну...
Не могла Екатерина позволить ему уехать — слишком хорошо понимала, что живой Пётр сразу восстановит против неё всю Европу и, пожалуй, не избавиться тогда от настоящей войны, кровавой и непредсказуемой.
Нет, не могла она позволить ему уехать...
Но и смерть его пока что не устраивала её. Она думала, что большую часть жизни он проведёт в Шлиссельбурге, в крепости, куда сажали самых родовитых и опасных преступников, виновных только в том, что они появились на свет в самых знатных семьях. В Шлиссельбурге сидел уже двадцать два года прежний император, провозглашённый владыкой России в два месяца от роду и упрятанный в крепость ещё Елизаветой...
Как бы там ни было, на такую скорую развязку своей семейной жизни Екатерина не рассчитывала. Правда, в среде Орловых она прислушивалась к их словам, как всегда смелым и безрассудным — убить, и вся недолга. Но никогда не давала она согласия на это убийство — слишком уж был бы запачкан кровью этого императора её скипетр и её императорская мантия. Но судьба рассудила иначе: Алексей Орлов был поставлен командовать караулом, стерегущим Петра, и Алексей же Орлов сделал всё, чтобы Петра не стало. Хоть и написал он покаянную записку, умоляя простить его хотя бы ради Григория, но чувствовалась в его записке и гордость, и смелость, и удовольствие. Петра больше нет, путь к императорскому трону открыт для Григория, а уж ближе, чем Алексей, теперь у трона и не будет никого...
Всё это хорошо понимала Екатерина, размышляя и плача над запиской Алексея, этим клочком бумаги, завершившим жизнь её мужа.
Она не показала эту записку никому, кроме нескольких наиболее близких к ней людей, лишь Панин, гетман Разумовский да ещё её подруга и деятельная участница переворота Екатерина Дашкова узнали о записке. Чёрный ларец, инкрустированный ценными породами дерева, скрыл эту тайну на тридцать четыре года. Екатерина приняла решение, которое диктовал ей её политический разум, её стремление обелить себя, хотя бы и косвенно причастную к смерти Петра.
Однако Екатерина проделала все формальности, которые надлежало сделать, чтобы никто не заподозрил насильственную смерть Петра.
Она приказала произвести вскрытие трупа Петра, и свидетельство анатомов указало на то, что нет никаких следов отравления. Составлен был и «скорбный лист», в котором указывались причины гибели Петра.
В связи с этим последовал и манифест о смерти государя:
«В седьмой день после принятия нашего престола всероссийского получили мы известие, что бывший император Пётр Третий обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидальным впал в прежестокую колику. Чего ради, не презирая долга нашего христианского и заповеди святой, которою мы одолжены к соблюдению жизни ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему всё, что потребно было к предупреждению средств, из того приключения опасных в здравии его, и к скорому вспоможению врачеванием.
Но, к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею Всевышнего Бога скончался.
Чего ради мы повелели тело его привезти в монастырь Невский для погребения в том же монастыре.
А между тем всех верноподданных возбуждаем и увещеваем нашим императорским и матерним словом, дабы без злопамятствия всего прошедшего с телом его учинили последнее прощание и о спасении души его усердные к Богу приносили молитвы.
Сие же бы нечаянное в смерти его Божие определение принимали за промысел Его Божественный, который Он судьбами своими неисповедимыми нам, престолу нашему и всему Отечеству строит путём, Его только святой воле известным.
Дан в Санкт-Петербурге месяца июля, 7-го дня, 1762.
Екатерина».
Она не захотела ничего узнать о подробностях драки, в которой погиб её муж и император. Не призвала Алексея Орлова, не расспросила Фёдора Барятинского, не выяснила ничего, что могло бы пролить свет на обстоятельства последних минут жизни Петра. Главным для неё оставался смысл: нет более Петра, нет более императора, заслонявшего её восхождение на престол, она становится единоличной и полновластной хозяйкой страны, в которой провела столько лет в унижении и ограничениях.
Тем не менее сохранялся ещё один неясный пункт в её поведении после смерти Петра. Как жена она должна была бы присутствовать при погребении мужа — никто не разводил её с Петром, лишь смерть освободила её от власти супруга. Как императрица она должна была увидеть, как кладут в могилу бывшего императора, у которого она отняла трон.
Но велико было её смущение, её страх, что не сдержится, что не сумеет в полной мере, при всём народе выказать сочувствие и горе жены, потерявшей мужа. Всё же она объявила о своём решении приехать на похороны. 10 июля она должна была прибыть в Невский монастырь, куда собрались особы всех пяти высших классов России.
Первым о её решении узнал Григорий Орлов. Она и не скрывала от него, что ей было бы тягостно лицезреть Петра, доставившего ей столько горя, и видеть, как будут его погребать.
Григорий тоже понимал, что Екатерине вовсе не следовало быть на похоронах Петра. И он лишь намекнул Никите Панину, что необходимо найти средство отвратить Екатерину от её намерения.
Панин мгновенно понял и оценил обстановку.
Собравшийся под его руководством Сенат вынес такое определение, в котором содержалась нижайшая просьба не присутствовать Екатерине на похоронах низложенного императора.
«Сенатор и кавалер Никита Иванович Панин собранию Правительствующего сената предлагал:
Известно ему, что ея императорское величество всемилостивейшая государыня намерение положить соизволила шествовать к погребению бывшего императора Петра Третьего в Невский монастырь, но как великодушное и непамятизлобивое сердце её наполнено надмерно о сём приключении горестию и крайним соболезнованием о столь скорой и нечаянной смерти бывшего императора, так что с получения сей нечаянной ведомости ея величество в непрерывном соболезновании и слезах о таковом приключении находится, — то хотя он, господин сенатор, почитая за необходимый долг, обще с господином гетманом Кирилою Григорьевичем Разумовским, сенатором и кавалером, и представляли, чтоб ея величество, сохраняя своё здравие, по любви своей к Российскому отечеству, для всех истинных её верноподданных и для многих неприятных следств, изволила бы своё намерение отложить, но ея величество на то благоволения своего оказать не соизволила, и потому он за должное признал о том Сенату объявить, дабы весь Сенат, по своему усердию к ея величеству, о том с рабским своим прошением предстал.
Сенат, уважа все учинённые при том господином сенатором Паниным справедливые изъяснения, тот час, выступя из собрания, пошёл во внутренние покои ея величества и, представ монаршему ея лицу, раболепнейше просил, дабы ея величество шествие своё в Невский монастырь, к телу бывшего императора Петра Третьего, отложить соизволила, представляя многие и весьма важные резоны к сохранению для всех верных сынов Отечества ея императорского величества дражайшего здравия, и хотя ея величество долго к тому согласия своего и не оказывала, но напоследок, видя неотступное всего Сената рабское и всеусерднейшее прошение, ко удовольствию всех её верных рабов, намерение своё отложить соизволила.
Сенат, приняв сие за отменный знак ея матернего милосердия, по отдании своей рабской благодарности, возвратясь в собрание, приказали: о сём записать в журнале, объявя через господина обер-прокурора князя Козловского всему Святейшему синоду, что погребение отправляемо будет без высочайшего ея императорского величества при том присутствия и с сего для напечатания в газетах в Академию наук дать копию...»
Екатерины на похоронах Петра не было. Однако все лужайки монастыря, всё кладбище было так забито народом, что пройти было совершенно невозможно. И только караульные солдаты расчищали дорогу перед лицами, специально приглашёнными на эту печальную церемонию.
В тех же самых покоях, где выставлено было для обозрения тело принцессы Анны Брауншвейгской, а потом и дочери Екатерины, Анны Петровны, помещено было тело Петра. Две небольшие комнаты плохо освещались, низкие потолки и обитые чёрным сукном стены создавали тягостное впечатление. Никакой мебели в двух этих покоях не было, на стенах висели лишь большие иконы, а всё пространство между ними, без свечей, также было затянуто чёрным сукном.
Гроб с телом Петра стоял на возвышении в две ступени. Обитый красным бархатом, он был оторочен серебряным галуном, а на тело Петра в его любимом голштинском мундире был наброшен парчовый покров, спускающийся до самого пола.
У дверей при входе стояли дежурные офицеры. Такие же офицеры находились и у самого гроба. Они жестами приглашали вошедших поклониться телу, а потом, не останавливаясь, выйти в противоположную от входа дверь.
Только и видели посещавшие эту скорбную церемонию, что бело-голубой мундир со снежно-белыми отворотами да сложенные на груди руки в перчатках с крагами, такими, в каких щеголял ещё Карл Двенадцатый. Эти краги отметили и престарелый фельдмаршал Миних, и любимец Петра Первого генерал-полицмейстер Корф.
Сквозняки гуляли по всему покою, и жиденькие волосы покойника вздувались и едва не накрывали лицо. Оно было тщательно загримировано, но чернота уже ложилась на всю его поверхность. Шея была тщательно укутана шарфом...
Все эти подробности передавали потом Екатерине, но она и слышать не хотела о них. С неё достаточно было, что слёзы её не просыхали.
Она скорбела, печаль её была искренней и глубокой. Она была поражена в самое сердце. Как-никак она была женой Петра, столько лет терпела его в постели и не могла не сожалеть о безвременной и такой нетерпимой для неё смерти...
Восемь «асессоров» внесли гроб с телом в Благовещенскую церковь, священники отпели Петра, а потом в самой церкви было предано земле тело покойного императора, рядом с гробом правительницы Анны Леопольдовны...
Отзвуки этих необычных похорон, отзывы людей, приехавших посмотреть на последнюю церемонию бывшего императора, молва и слухи о его странной смерти и чёрном лице долго ещё ходили среди населения столицы и всё чаще и чаще ставили в вину Екатерине эту смерть.
Но теперь Екатерина озаботилась первой и главной, на её взгляд, церемонией: надо было сразу же начать подготовку к коронации. Пётр Третий так и не был коронован. Даже Фридрих писал своему «невозможному» другу о необходимости этой церемонии, но Пётр либо отшучивался, либо указывал на всяческие неотложные дела, из которых главным была для него война с Данией из-за голштинского наследства. Он сошёл в могилу, так и не будучи коронованным. А Екатерина прекрасно понимала важность этой церемонии и уже через четыре дня по воцарении отдала необходимые распоряжения для такого значительного дела...
Коронацию назначили на сентябрь, и Екатерине казалось, что и этот срок слишком долог. Ей говорили, что и корона ещё не готова, и она согласна была на то, чтобы подешевле и поскромнее изготовили её и расписание всей этой церемонии сделали возможно быстрее, но и тщательнее, и всё-таки даже она при всей своей рассудительности и разумности не смогла добиться от своих сановников большей поспешности.
А между тем Григорий Орлов стал полновластным хозяином во дворце. Екатерина поручила ему просматривать государственные бумаги, всевозможные письма и донесения от иностранных агентов и резидентов, но Григорию это было скучно, он никогда в жизни не занимался делами такого рода. И бумаги валялись по целым месяцам нераспечатанными и чуть ли не изорванными, масляные пятна и кофейные капли привлекали на их поверхность стаи мух.
Скоро, очень скоро поняла Екатерина, что лень и нерасторопность мешают Орлову быть настоящим государственным мужем. Он не читал ничего сложнее лубочных сказок и библейских притч, да и то было это в далёком детстве.
Екатерина старалась образовать своего невежественного любовника. Часами гуляла она с ним по аллеям то Летнего сада, то по тенистым парковым насаждениям Ораниенбаума или любовалась фонтанами Петергофа, попутно услаждая эти минуты отдыха целыми лекциями об античности или достижениях науки, а особенно о великих политических деятелях разных времён. Но всё это мешалось в голове Григория — ему скучны были эти образовательные лекции, он только и думал о пирушках и всевозможных похождениях с женщинами, и заботы Екатерины сильно тяготили его.
Теперь он ждал, что в ответ на все приключения переворота Екатерина сделает то, что сделала бы любая женщина, будь она попроще и менее знатна. Конечно же она вышла бы замуж за героя своего романа, конечно же она сделала бы Григория императором. Он спал и видел во сне, как слетает на его красивую голову корона императора, как становится он повелителем громадной России. Он и вёл себя соответственно этому образу, сложившемуся в его уме...
Но Екатерина не спешила со свадьбой. Она слишком хорошо знала спесивость родовитого дворянства, слишком хорошо понимала, что её положение может быть и шатким и народит целую тучу недовольных, едва она объявит о своём союзе с Орловым. Она очень боялась и семейки Орловых, зная её отвагу и удаль, зная, что они не ставят свою жизнь ни во что и могут пойти на любую авантюру.
И подтверждение тому нашла она в словах Григория. Однажды за обедом, в обществе тесного круга друзей и участников переворота, позволил себе Григорий откровенно заявить:
— Мы, матушка, отважны и смелы. Можем в два месяца доставить кому-нибудь другому корону империи, можем и свергнуть тебя с престола...
Екатерина знала, что слова эти не просто похвальба. Да, эти Орловы, в чьих руках вся гвардия, а теперь уже и вся армия, могут это сделать. Но даже она не нашлась с ответом и была бесконечно благодарна гетману Разумовскому, парировавшему на эту выходку:
— Не забывай, что властью, данной от Бога, мы бы в две недели нашли возможность тебя повесить...
Орлов прикусил язык, но не перестал приставать к Екатерине с вопросом, скоро ли будет их свадьба.
Он дулся на неё, сердился, иногда исчезал на целые недели, пропадал в самых грязных притонах Петербурга, у самых низких женщин, а она не смела даже упрекнуть его.
Екатерина боялась его, хоть и видела, как неумён, как поверхностен и ленив её избранник. Красота, лишь внешняя красота испортила его, не дала ему возможность образовать ум и сердце...
Она обещала, она отговаривалась, она старалась сгладить впечатление от отказов, но великолепно понимала, что, выйди она замуж за Орлова, и кончится её свобода, кончится её самодержавная власть, а Орлов был не такой человек, которым стоило бы гордиться. И хоть она и уверяла своих близких и даже иностранных послов, что это удивительно одарённый человек, все видели пустоту и ничтожность Орлова.
Зато она забрасывала его орденами, чинами, деньгами, одаряла и Григория, и его братьев сверх меры. Какими только должностями не могли похвастать Орловы! Их такое быстрое и удивительное возвышение уже начало вызывать зависть в вельможах и даже в армии...
Французский поверенный в делах господин Беранже писал из Петербурга в Париж:
«Чем более я присматриваюсь к г. Орлову, тем более убеждаюсь, что ему недостаёт только титула императора... Он держит себя с императрицей так непринуждённо, что поражает всех. Говорят, что никто не помнит ничего подобного ни в одном государстве со времени учреждения монархии. Не признавая никакого этикета, он позволяет себе в присутствии всех такие вольности с императрицей, каких в приличном обществе уважающая себя куртизанка не позволит своему любовнику...»
Краснела Екатерина, когда Орлов хлопал её по заду или хватал за руку и рывком поворачивал от собеседника к себе лицом, но никогда ни одного слова упрёка не вырвалось у неё по поводу его поведения.
Наоборот, она была готова на все эти вольности и лишь расхваливала красоту и способности Григория.
Барон де Бретейль свидетельствовал об этом в своих депешах:
«Несколько дней тому назад при дворе представляли русскую трагедию, где фаворит (Григорий Орлов) играл очень плохо главную роль. Государыня же между тем так восхищалась игрой актёра, что несколько раз подзывала меня, чтобы говорить мне это и спрашивать, как я его нахожу. Она не ограничилась только разговором с графом де Мерси (австрийским послом), сидевшим рядом с ней. Десять раз в продолжение сцены, она выражала ему свой восторг по поводу красоты и благородства Орлова...»
Да, она всё ещё была влюблена в него, и хотя уже убедилась, что в государственных делах её избранник ничего не смыслит, но любовь её не хотела ничего замечать, кроме его наружности, его удали и отваги.
Она была настолько щедра по отношению к Григорию, и не только к нему, но и к его братьям, что ничего не жалела для них. Дворцы и дома, поместья и тысячи крепостных крестьян, ордена, чины, звания, деньги так и сыпались на всю эту семью.
Но похоже, что Григорий воспринимал всё это равнодушно, без особенных благодарностей. Даже когда ему дали титул графа, он отнёсся к этому иронически.
Он всё-таки ждал, что Екатерина станет его женой, а он получит титул императора. Но особого честолюбия по этому поводу не проявлял. Он просто ждал, когда Екатерина отблагодарит его самым ожидаемым способом.
И Екатерина едва не сдалась. Уже и в Сенате обсуждался этот проект. И все сенаторы молчали, предоставляя судьбе самой позаботиться о развитии событий. Лишь один Панин, питавший самую яростную ненависть к выскочкам Орловым, нашёл в себе мужество протестовать против предполагаемой женитьбы. Он резко встал со своего объёмистого кресла, прислонился к стене, оставив на ней белое пятно от напудренного парика, и, скрестив руки на груди, с усмешкой произнёс:
— Императрица вольна поступать, как ей угодно, но графиня Орлова никогда не будет российской императрицей...
Сенаторы заметили это белое пятно на обоях сенатской залы и старались потом потереться головой об это белое пятно «для храбрости».
Екатерина твёрдо усвоила, что её брак с Григорием станет причиной новых волнений и, кто знает, может стоить ей российской короны...
Но высказать это Григорию, поговорить с ним на языке рассудка она так и не решилась. Придумала другой ход, чтобы выведать настроение общества, гвардии, армии, которая, как она сама это испытала, могла всё решить, вплоть до смены государя.
Она сразу после переворота вызвала из ссылки своего старого товарища по политическим делам, канцлера Елизаветы Бестужева.
«Алексей Петрович, приезжай, пожалуй, помогай советом», — писала она ему.
Бестужев прискакал в столицу, полный надежд восстановить своё былое могущество. Но пока что ему не находилось дела. И когда Екатерина намёками высказала ему своё пожелание, он сразу решил, что это и есть возможность снова вернуть себе влияние на государственные дела. Он тут же набросал проект указа о предполагаемой свадьбе Орлова и Екатерины и уверил её, что соберёт подписи под этим проектом всех сколько-нибудь влиятельных вельмож. Но главное — он припомнил, что у старого Разумовского, первого фаворита императрицы Елизаветы, имеются, видимо, документы, свидетельствующие о тайном браке его с Елизаветой. Так что нужен лишь указ Екатерины, чтобы объявить об этом всенародно, отплатить Разумовскому всяческими дарами, а также заявить, что этот случай, прецедент, уже был в семье и Екатерина только следует по стопам своей матушки-тётушки Елизаветы...
Екатерина согласилась на этот опыт. Действительно, если существовал этот тайный брак, то Екатерина ничего не теряет, выйдя замуж за Орлова и выставив в качестве аргумента документ о венчании Елизаветы и Разумовского...
Екатерина уехала на коронацию в Москву, где провела несколько недель, поразив старую столицу яркостью и пышностью церемонии, а Бестужев рьяно принялся за дело.
Первый же свой визит он отдал Алексею Разумовскому. Но теперь, чтобы заставить старика сделать необходимые признания, нужен был человек более молодой и такой, который бы служил верой и правдой Елизавете.
Бестужев уговорил бывшего канцлера Елизаветы Воронцова побывать у старого придворного певчего, сделавшего такую необыкновенную карьеру.
Воронцов согласился. Ему казалось, что он так же будет иметь былое величие, если послужит интересам Екатерины, новой императрицы.
Он подготовился тщательно: искусно составил речь, захватил с собой проект указа, написанного Бестужевым, и выехал вечером, чтобы застать Разумовского дома.
Бывший придворный певчий теперь жил совершенно уединённо, предаваясь молитвам и бесконечному чтению Библии.
Воронцов попросил камердинера доложить о своём приходе и тут же получил позволение войти.
В громадной зале, сплошь заставленной драгоценной резной мебелью, мягкими креслами и диванами, столами, накрытыми потускневшими бархатными тканями, сидел возле камина, полыхавшего громадными поленьями, старый человек с седыми волосами и морщинами, прорезавшими его когда-то красивое лицо. Он был одет в потёртый бархатный архалук. На его коленях лежал толстый плед из верблюжьей шерсти, а поверх него толстый том Библии киевского издания на украинском языке.
Разумовский вопросительно поднял на нечаянного гостя глаза, всё ещё живые и ясные.
Воронцов торопливо присел на один из бархатных резных стульев и, почти заикаясь от почтительности, начал свою искусно составленную речь.
Разумовский слушал не перебивая, только изредка ощупывал руками Библию, её кожаную обложку с золотыми обрезами.
Ему щедро заплатят — так истолковал цель своего визита Воронцов, — если он, Разумовский, покажет документы, свидетельствующие о том, что он — официальный супруг Елизаветы и есть даже проект указа самой императрицы об этом.
Разумовский молча протянул руку.
Воронцов в ответ протянул ему свиток с проектом указа. Старик долго читал текст, шевеля губами и продумывая каждое слово.
Указ предполагал возвести его в сан светлости со всеми почестями и преимуществами этого титула.
Разумовский молча вернул Воронцову текст указа, затем медленно поднялся из кресла и отошёл в другой конец большой залы, где стоял огромный дубовый шкаф с многочисленными отделениями и дверцами.
Он осторожно вынул из шкафа большой, окованный золотом чёрный ларец, отнёс его к своему креслу, сел, поставил ларец на колени и начал перебирать лежащие в нём бумаги.
Толстый свиток, обёрнутый в выцветший от времени розовый атлас, был перевязан розовой ленточкой. Старик развязал ленту, развернул несколько толстых листов и тщательно просмотрел их, останавливаясь глазами на каждой строке. Потом, всё также медленно, он поднялся из кресла, прошёл поближе к камину и стал неторопливо бросать в огонь листы из розового свитка. Толстая бумага разгоралась не быстро, сначала темнела и коробилась, затем вспыхивала ярким пламенем.
Когда сгорел последний лист, Разумовский вернулся к креслу, положил в ларец розовый атлас, поставил ларец на прежнее место и лишь после этого негромко, хриплым, дрожащим от волнения голосом сказал:
— Я всегда был только верным и покорным рабом её величества императрицы Елизаветы. Желаю также быть покорным слугой императрицы Екатерины. Просите её остаться ко мне благосклонной.
Он перекрестился и бросил взгляд на камин, где догорали последние листы пергамента. На глазах его заблестели слёзы.
Воронцову ничего не оставалось делать, как только откланяться...
Когда Бестужев доложил об этом Екатерине, она вздохнула с облегчением — теперь уже не существовало случая, прецедента в семье...
Но Бестужев не успокоился — он, едва Екатерина отъехала в Москву на коронацию, начал объезжать всех сколько-нибудь имеющих влияние вельмож и духовных лиц с петицией, в которой Екатерину просили вступить в брак вновь, поскольку наследник здоровья был слабого и речь идёт о том, чтобы дать империи ещё одного наследника. Упоминался в петиции и Григорий Орлов...
Но едва разнёсся слух о том, что Бестужев собирает подписи в документе о предполагаемом замужестве Екатерины, как грянул заговор Хитрово.
Сенатор Суворов получил от Екатерины рескрипт:
«Василий Иванович! По получении сего призовите к себе камер-юнкера князя Ивана Несвитского и прикажите ему письменно Вам подать или при Вас написать всего того, что он от камер-юнкера Фёдора Хитрово слышал, и по важности его показаний пошлите за Хитрово, каким Вы удобнейшим образом за благо рассудите, а есть ли придёт арестовать его, Хитрово, тогда для дальнейшего произвождения оного дела призовите себе на помощь князя Михаила Волконского и князя Петра Петровича Черкасского и рапортуйте ко мне как можно чаще...»
Глаза и уши Екатерины уже написали ей, что по городу ходит «эха», молва и слухи, и что офицеры гвардии взволнованы и возмущены, а более всех камер-юнкер Хитрово, который будто бы даже задумал убить Григория Орлова и подговаривает других офицеров вступить с ним в сообщество.
Суворов немедленно арестовал Хитрово, и тот, не кривя душой, тут же признался, что Орловы хотят завладеть императрицей, что Григорий глуп, а всё больше делает Алексей, и что он великий плут и всему оному делу причиною...
Заговор, однако, ничем не кончился. Всех подозреваемых лишь выслали в свои деревни, но и Екатерина, и Григорий поняли, что брак их невозможен.
Следствие показало, что все были против её брака с Орловым: оба Рославлевы, сенатор Брылкин, князь Несвитский, Ржевский, князь Голицын, граф Мусин-Пушкин, князь Шаховской, следовательно, все, кто участвовал так или иначе в перевороте, приведшем Екатерину на престол.
Миссия Бестужева прошла успешно, цель была достигнута, Григорий и Екатерина испугались нового переворота, и мысль о её браке с Григорием навсегда исчезла даже из их бесед о дальнейшем будущем.
4
Изнеженная праздность — вот идеал, к которому стремился Григорий Орлов. Он неосознанно считал, что слишком много потрудился, доставив Екатерине и себе столь высокое положение, и потому имеет право ничего не делать, а только предаваться утехам лени и приключениям с женщинами. Иногда он исчезал из дворца, в котором Екатерина его поселила, на целые недели, предаваясь самому грязному и гнусному разврату. Но Екатерина не осмеливалась сделать ему ни одного упрёка и лишь иногда, намёками, ласково укоряла своего обожаемого красавца в лени и изнеженности. Она любила его, но и знала, как сильны и отважны его братья, побаивалась их и без конца сыпала благодеяния на эту семью.
Екатерина и Григорию старалась доставить как можно больше титулов, чинов, должностей. Она сделала его директором инженерного корпуса, шефом, полковником кавалергардского полка, генералом-аншефом артиллерии, генерал-фельдцейхмейстером, вручила ему казну от всех этих должностей, но снова и снова делала такие богатые подарки, которые и во сне никогда не снились бедному поручику, одарённому лишь красивой внешностью. Екатерина построила для него знаменитый Мраморный дворец, такой роскошный, что подобал бы и самой императрице, а на фасаде велела выбить девиз: «Воздвигнут благодарной дружбой».
Но она не пробудила в нём честолюбия. Он не хотел да, впрочем, и не мог чем-нибудь управлять, что-то предпринимать, он ничего не хотел делать и играть хоть какую-то роль в государстве не желал. Он заседал в Сенате, но каждый раз, высказываясь, проявлял такую дремучую неспособность разбираться в политике и в жизни страны, что Екатерина краснела за него. Щедрым потоком лились на него все блага. Он пил и ел во дворце, все его дворцы состояли на балансе державы, все его камзолы, расшитые бриллиантами, оплачивались казной государства. Но сверх всего этого он получал ещё десять тысяч рублей на покрытие карманных расходов, десятки тысяч крепостных крестьян, поместья и угодья в самых лучших уездах России, дачи и дворцы. Екатерина подарила ему свой портрет, сделанный в форме сердца и усыпанный бриллиантами, и право носить его в петлице, а этого права никто не мог себе позволить...
Но Екатерина всё ещё была в восторге от своего возлюбленного, доставившего ей престол. Даже в письмах она расхваливала его, как покорная и боязливая любовница.
«Когда пришло Ваше последнее письмо, — писала она одному из своих корреспондентов, — граф Орлов был в моей комнате. Есть одно место в письме, где Вы называете меня деятельной, потому что я работаю над законами и вышиваю шерстью. Он, отъявленный лентяй, хотя очень умный и способный, воскликнул: «Это правда!» И это первый раз, что я услыхала похвалу от него...»
Но Екатерина словно бы просыпалась от чар, навеянных этим красавцем. Она уже почувствовала его пустоту и ничтожество и мало-помалу начала охладевать к нему. Граф, а потом и князь Римской империи, богач и сноб, развратник и лентяй, как будто тоже пробуждался. Он увидел, как деятельна Екатерина, как день её заполнен трудом, работой, стремлением не только понять жизнь своей страны, но и дать ей хорошие законы, которые могли бы установить порядок и право в этой варварской земле.
И Орлов перехватил взгляд Екатерины. Он направлен на пригожего армейского офицера Васильчикова, и Григорий вдруг понял, что может лишиться своего положения красивой наложницы и капризной куртизанки.
Он нашёл предлог, чтобы вновь покорить сердце Екатерины. В Москве вспыхнул чумной бунт...
Два месяца свирепствовала чума в старой столице. Чумные бараки не вмещали всех заболевших, половина жителей вымерла, и мор катился по городу, сея панику и ужас.
Начались волнения, с которыми не в силах была справиться местная власть. Даже митрополит был убит чернью, когда призывал смириться перед Божьим испытанием. Губернатор бежал в свои деревни, бросив на произвол судьбы весь город.
Екатерина получала панические отчёты о делах в старой столице и металась в ужасе, не зная, кого послать туда, чтобы не только подавить мятежи, поджоги, убийства, но и справиться с самой смертью...
И тогда к Екатерине пришёл Григорий.
— Я усмирю эту чуму, — гордо сказал он.
Екатерина содрогнулась. Как сможет он, лентяй и неженка, красавец и солдат, усмирить Москву, как сумеет совладать с самой смертью? Нет у него ни одного слова заклятия от чумы, похоже, он просит отправить его по мериться силами с самой костлявой.
А в душе она радовалась, что наконец-то Григорий проснулся, очнулся от безделья и разврата, что он не боится сразиться с самой страшной заразой.
Долгие уговоры Григория убедили Екатерину. Но когда она попыталась узнать, что намеревается сделать её возлюбленный в Москве, он лишь рукой махнул:
— Там будет видно...
У него тоже не было никакого плана, никаких мыслей, он ехал наобум и действовал по наитию. Но действовал...
Екатерина перечитывала письмо престарелого губернатора Петра Ивановича Салтыкова, героя Семилетней войны, убоявшегося невидимого и грозного врага:
«Болезнь уже так умножилась и день ото дня усиливается, что не осталось никакого способа оную прекратить, кроме, что всяк старается себя сохранить. Мрёт в Москве в сутки до 835 человек, включая и тех, кого тайно хоронят, и всё от страха карантинов, да и по улицам находят мёртвых до 60 и более. Из Москвы множество народу подлого побежало, особливо хлебники, квасники и все, кои съестными припасами торгуют, калачники, маркитанты[20] и прочие мастеровые. С нуждою можно что купить съестное, работ нет, хлебных магазинов нет, дворянство всё выехало по деревням.
Генерал-поручик Пётр Дмитриевич Еропкин (на него было возложено руководство борьбой с эпидемией ) старается и трудится неусыпно, но все его труды тщетны, зло никак не прекратить. У него в доме человек заразился, о чём он меня просил, чтоб донести вашему императорскому величеству и испросить милостивого увольнения от сей комиссии. У меня в канцелярии тоже заразились, кроме что кругом меня во всех домах мрут.
И я запер свои ворота, сижу один, опасаясь к себе несчастья.
Я всячески генерал-поручику Еропкину помогал, да уж и помочь нечем: команда вся раскомандирована, в присутственных местах все дела остановились, и везде приказные служители заражаются.
Приемлю милость просить мне позволить на сие злое время отлучиться, пока оное по наступающему холодному времени может утихнуть, и комиссия генерал-поручика Еропкина лишняя ныне и больше вреда делает, и все те частные смотрители, посылая от себя и сами ездя, больше болезнь развозят...»
И не дожидаясь ответа от Екатерины, старый генерал убежал в свою подмосковную деревню, бросив на произвол судьбы гибнущую столицу...
Григорий Орлов выехал скоро, собрав команду людей, таких же, как он, не боящихся ни Бога, ни чёрта, ни самой чумы.
Уже на въезде понял он размеры гигантского бедствия: везде по сторонам дороги лежали неубранные трупы, а потом стали попадаться и санитары в белых балахонах, белых бахилах и белых рукавицах, кидающие в смрадные дымные костры нехитрый домашний скарб убитых чумой, вынося его из опустевших домов. На углах стояли те же санитары и разливали в ведра и бидоны уксус, будто бы помогающий от чумы. Но очереди к санитарам были жиденькие: не очень-то верили москвичи в это снадобье.
Услышал Орлов и то, как был убит митрополит Амвросий. У Варварских ворот стояла в простом окладе икона Богородицы, и всякий прикладывался к ней, памятуя о том, что икона чудотворная и может принести исцеление. Однако доктора стали говорить, что целование иконы помогает разносить заразу, и Амвросий распорядился снять икону и отнести её в какую-то другую церковь, а ящик с народными деньгами, куда простые люди кидали последние копейки, опечатать и отвезти в воспитательный дом для сироток.
Но народ узнал об этом, служек[21], которые пытались увезти народные деньги, разорвали в клочья, а Амвросия убили.
И теперь ещё смута носилась по городу в виде мужиков с дубинами и кольями, с вилами и ухватами...
Маленький седенький митрополит Амвросий нашёл страшную смерть. В Чудовом монастыре, где он спрятался от толпы, нашли его миряне, стащили с амвона, где он служил службу, протащили по всей церкви, выволокли на паперть, бросили посреди церковного двора и принялись работать кольями...
Смрадный дым поднимался над Москвой, зловоние заставляло затыкать носы, плыл над городом натужный звон колоколов.
Под этот набатный тревожный перезвон въехал в Москву Орлов. В его обозе колыхались несколько повозок с отменной водкой, которую уже много лет готовил для него старый цирюльник Ерофеич. Там была и мята, и анис, и корки померанца. Этой настойкой Орлов растирался и принимал её внутрь, если только занедуживал, и все его болячки как рукой снимало. А вот поможет ли его настойка против страшной болезни — в этом и сам Григорий сильно сомневался.
Встретили его не больно-то пышно. Едва-едва собралась группа самых знатных людей, что ещё не уехали, не прятались по углам да дворам, и поднесла ему на золотом блюде хлеб и соль в резной деревянной солонке. Еропкин, всё ещё ведавший спасением города, низко, в ноги поклонился важному господину, посланному самой императрицей...
Не успев войти во дворец, отведённый ему под жильё, Орлов собрал совет, пригласив всех, кто ещё оставался в городе, и особенно докторов. Выслушал все жалобы. Докторам платили крохи, но и те уже давно не выплачивали, больниц и карантинов не хватало, негде было размещать больных. И не хватало тех, кто мог бы помогать докторам и санитарам.
Орлов решил мудро: докторам, которые борются с самой смертью, жалованье утроить и тут же выплатить, больных размещать в опустевших дворцах, и даже его дворец, предназначенный ему для житья, отдать под больницу, а всех крепостных, что захотят работать на карантинах, сделать людьми вольными. Он велел выпустить всех, кто сидел по тюрьмам, — пусть вывозят мёртвых и хоронят их. И пусть больных пользуют его домашним зельем, которое он привёз с собой, — водочкой Ерофеича, настоянной на травах. Уксуса тоже привёз с собой Орлов немалое количество...
Распорядился Григорий доставлять в Москву торговцев съестными припасами, отдавать их покупателям по более низкой цене, разницу покрывать за счёт государственной казны, а вокруг Москвы вырыть большой ров, начать чинить и прокладывать дороги, осушать болота, с которых летели на город тучи комаров.
О щедрости, расторопности и замечательных распоряжениях Орлова пошли по Москве настоящие сказания...
Стали приходить к Орлову целыми толпами люди, которые нуждались в работе и деньгах, больные заполнили дворцы, и водка Ерофеича спасла многих — может, было это больше из доверия к Орлову, но только стихала сама чума, а порядок и строительство в городе возобновились.
Начали открываться съестные лавки, а скоро и у модных лавок забегали московские барышни.
Словом, показал себя Григорий таким рачительным, щедрым и расторопным хозяином, что недаром в Москве стали слагаться песни и легенды о вельможе, не погнушавшемся отдать свой дом под больных, открывшем не один воспитательный дом для сирот, потерявших в чуму родителей.
Поразительно, но как будто сама смерть отступила перед Григорием. Он укротил чуму, усмирил Москву и вернулся в Петербург победителем...
Екатерина построила в честь спасителя древней столицы триумфальную арку, а самого Орлова стала называть не иначе, как человеком, похожим на древних римлян прекрасных времён Республики. Даже медаль, выбитая в честь героя, сравнивала Григория с Курцием, а надпись на медали гласила: «И Россия имеет таких сынов».
Императрица хотела было написать на медали «такого сына», да Орлов поскромничал. Впрочем, он и всегда был равнодушен к славе, а честолюбием никогда не отличался.
Однако отсутствие честолюбия не помешало ему напроситься в почётную миссию по заключению мира с турками в Фокшанах. Мир добыл знаменитый Румянцев, но Орловым как будто овладел бес зависти. Он не мог простить полководцу, что именно тот победил турок, и потому сразу по приезде в Фокшаны устроил скандал и так разругался с Румянцевым, что турки лишь диву давались, как легко могли они отспорить несколько статей мирного договора. А ведь Екатерина только что писала об Орлове в одном из своих многочисленных писем:
«Полагаю, что мои ангелы мира находятся теперь уже лицом к лицу с этими противными бородачами турками. Граф Орлов — без преувеличения первый современный красавец — должен казаться действительно ангелом перед этими неотёсанными мужиками. Свита его блестящая и избранная. Но бьюсь об заклад, его особа затмит всех окружающих. Странная личность этот посол. Природа была так щедра к нему, как в отношении наружности, так же и ума, сердца и души...»
Но Орлов не оправдал надежд Екатерины. Он завистливо глядел на проект мирного договора и пытался возобновить войну, чтобы быть победителем, как Румянцев, которому он грозил виселицей.
Ему уже чудилось, что он возьмёт штурмом Константинополь, но, едва остыв, он прерывал переговоры, уезжал в Яссы и проводил там время в роскошных празднествах и ничегонеделании. Не забывал он при этом надевать платье, подаренное ему Екатериной и стоившее миллион рублей.
И вдруг, как удар грома посреди ясного неба, пришло известие, что в его апартаментах, предназначаемых для избранников императрицы, поселился Васильчиков.
Будто холодным душем окатили Григория. Он понял, что его карта бита, что его ангельское лицо и безумная храбрость на этот раз не помогли ему — императрица скоро нашла ему замену. А значит, всё его положение, всё его состояние находятся под угрозой — он теряет всё...
Бросив все дела в Фокшанах, так и не заключив мира и не слушая ничьих увещеваний, бросился он в простую кибитку и в считанные дни преодолел расстояние в несколько тысяч вёрст. И тут полученное распоряжение заставило его остановиться — ему приказано было выдержать карантин.
Распоряжение касалось всех, кто возвращался с юга, — велика была ещё опасность возобновления эпидемии чумы. Орлов только усмехнулся — это ему, победителю чумы в Москве, приказано выдерживать карантин...
Но он послушно выполнил волю императрицы. Она предоставила ему на выбор — пройти карантин либо в Ропше, где был убит её муж, о чём она никогда не забывала, либо же в Гатчине, где для самого Орлова был выстроен дворец итальянским архитектором Ринальди. Восхвалялась местность в Гатчине — триумфальная арка и дворец сделаны Ринальди, восхитительная речка Ижора украшает окрестности, словно нарочно созданные природой для уединённого отдохновения.
Орлов поселился в Гатчине и ждал, когда Екатерина сама вспомнит о нём. Он не старался безумными выходками, как бывало некогда, заново привязать к себе охладевшую к нему женщину и императрицу...
А Екатерина боялась. Она всё ещё верила в силу его безумств и страшилась какой-нибудь выходки с его стороны — она знала его буйную и неуёмную натуру. Потому и велела переменить все замки во дворце, поставить усиленный караул у дверей своего нового протеже и тщательно следить за всеми, кто приезжает во дворец.
Ей доложили, что во дворе появился экипаж, похожий на карету Орлова, и она стремительно убежала в апартаменты Панина, чтобы не встретить Григория.
Она боялась его, его братьев и оттого приказала усиленно наблюдать за ними. Но никто из них не решился на новый переворот, они уже получили всё, что могли, и потому нравственная лень поселилась в этих когда-то беззаветно отважных людях.
Екатерина продолжала баловать своих попутчиков к трону, и эти подачки действовали усыпляюще. Даже Алексей Орлов, став адмиралом и отправившись командовать флотом в Средиземном море, не помышлял более о том, чтобы подняться на Екатерину, хотя в его руках была кандидатка на императорский престол России — княжна Тараканова. Но власть и богатство расслабляют человека, и даже безумно смелый Алексей не стал ввязываться в очередную авантюру...
Государыня не хотела видеть Григория, но каждый день писала ему. Темы для писем были самые разные: как он питается, хорошо ли ему, кто следит за его постельным и нижним бельём — словом, самая нежная забота, самые дружеские чувства. Секрет был прост. Рассказал о нём французский поверенный в делах России:
«Императрица удостоверилась, что больше тысячи гвардейских солдат состоят на жалованье у графа Орлова и что он приобрёл расположение духовенства. У него, говорят, десять миллионов капиталу, поэтому императрица боится его и предпочитает уладить дело миром...»
Она и хотела уладить дело миром — хотела, чтобы сам Орлов отказался от всех своих должностей. Но на намёки он не отвечал, не понимая их, а высказаться напрямую Екатерина не решалась...
Наконец ей надоело ходить вокруг да около, и своим указом она отрешила его от всех должностей и объявила, что даёт ему отпуск для поправки здоровья. Но он весело ответил ей, что никуда не поедет, потому что здоров как бык и никакой отпуск ему не нужен.
Всё кончилось тем, что ему было дано позволение появиться при дворе — как раз пришло разрешение Вены на титул князя Великой и Священной Римской империи специально для Орлова. И Григорий снова показался при дворе. Екатерина приняла его, сидя за картами в игральном зале. Он подошёл, она внимательно поглядела на него, вновь удивилась его красоте и ангельскому лицу, заговорила с ним весело и непринуждённо. Он отвечал ей в тон, также весело, остроумно и непринуждённо.
Казалось, он смирился с Васильчиковым. Во всяком случае, он на другой же день ездил с ним в карете по Петербургу, встречал знакомых и оживлённо рассказывал, что в постели императрицы его теперь заменяет его спутник. Васильчикову становилось неловко, но Орлов не замечал этого. И снова его приёмная была полна — на всякий случай вельможи являлись к нему за знаками благоволения, испрашивая различные милости. И он выполнял свои обещания: выпрашивал орден для одного, поместья для другого — отказа ему не было, императрица ничего не жалела для прежнего любимца.
— Я многим обязана семье Орловых. Я осыпала их богатствами и почестями, я всегда буду им покровительствовать. И они могут быть мне полезны. Но моё решение неизменно: я терпела одиннадцать лет, теперь я хочу жить как мне вздумается и вполне независимо. Что касается князя, то он может делать всё, что ему угодно, — он волен путешествовать или оставаться в империи, пить, охотиться, заводить себе любовниц... Поведёт он себя хорошо — честь ему и слава, поведёт плохо — ему же стыд...
Так говорила она одному из своих приближённых. И эти слова уже показывают, что она всё ещё не совсем избавилась от страха перед отважным семейством Орловых, но уже решила изменить судьбу и жалела только, что слишком осыпала милостями этих своих товарищей по борьбе.
Впрочем, человек, заменивший Григория Орлова в его апартаментах и в сердце царицы, не смог вытеснить его влияние. Очень многое связывало этих двух людей, и чересчур памятны были каждому из них все те события, которые привели их на вершину власти. А Васильчиков был всего лишь временщиком, который мог доставить императрице удовольствие чисто телесного свойства и никогда не пользовался никаким влиянием на государственные дела. Да Екатерина и не спрашивала его мнения, для этого у неё были советники, а чаще всего она разделяла позиции своих советников. И всё же Григорий Орлов пользовался её милостями, не занимая никаких государственных должностей. Недаром же, против всяких правил, она повезла его с собой в Гатчину, где пребывали и две Гессен-Дармштадтские принцессы, одну из которых Екатерина намеревалась выдать замуж за своего сына, наследника престола Павла.
В ужасе пишет посол прусского короля Фридриха Сольмс своему королю:
«Мне поручено открыть Вашему величеству весьма важную тайну, от которой зависит счастье России и которая для Вас как друга и союзника этой империи не может быть безразлична. Граф Панин, всегда зорко наблюдающий за всем, что делает семья Орловых, по-видимому, имеет причины подозревать, что князь Орлов имеет и простирает свои честолюбивые виды до намерения жениться на принцессе Дармштадтской. Необыкновенная внимательность, которой он по-своему окружает ланд графиню, и свободное обхождение, какое он уже позволяет себе с принцессами, особенно же с младшей, за которой формально ухаживает, подтверждают эти подозрения. Принцесса по живости своего характера, не подозревая ничего дурного, может дать этому честолюбивому человеку возможность успеть в своих замыслах. Самое ужасное, что предупредить эти планы невозможно, ибо на императрицу в этом случае рассчитывать не стоит».
И Екатерина думала, что её бывший любовник может таким образом приобрести своё семейное гнездо. Но, увы, первая же встречная фрейлина расстроила все эти матримониальные планы. Он увлёкся дурнушкой, и роман его с Гессен-Дармштадтской принцессой остался без продолжения.
А между тем он мог бы стать родственником императрицы, если бы Павел, наследник, и он женились на сёстрах-принцессах. Характер Орлова не позволил ему сделаться расчётливым. Его же характер подвёл его к последней черте — его последнему роману, начавшемуся столь идиллически и закончившемуся столь трагически.
Он ездил по заграницам, поражая европейцев неслыханной роскошью, переезжал из загородных резиденций Екатерины в свои дворцы, пока, уже в сорок три года, не увидел свою двоюродную сестру, только что вступившую в должность фрейлины при Екатерине.
Это была хорошенькая, хрупкая, грациозная фрейлина Зиновьева, не знающая отбоя от женихов. Все при дворе прочили ей прекрасное семейное счастье, потому что она была умна и прелестна, самого нежного и традиционного воспитания. Она сумела понравиться и самой императрице, а уж поклонников у неё было столько, что не припомнить и самой Екатерине: немало женихов каждый день делали предложения Зиновьевой. Она над всеми смеялась, всем отказывала, и даже мать с отцом, родственники князя Орлова, не перечили дочери.
Григорий увидел её на очередном придворном бале, протанцевал с нею несколько танцев и погиб окончательно и бесповоротно. В свои годы, имея на счету большое количество любовных интрижек, словно бы русский Дон Жуан, он влюбился глубоко и серьёзно, настолько, что сразу предложил Зиновьевой руку и сердце. Проснулись его старые привычки ухаживать красиво и возвышенно, искренность его намерений и его горячая любовь покорили восемнадцатилетнюю красавицу.
Все были против этого брака. Прежде всего родители — кровное родство, кровосмешение, отказ церкви венчать. Поражена была в самое сердце Екатерина — она всё ещё продолжала любить это странное существо, хотя и видела всю его ничтожность и пустоту, но измены, хоть и после смерти своей любви, она не могла простить бывшему возлюбленному...
Наплевал Орлов на все преграды, на все препоны, нашёл крохотную церквушку и старенького попа, обвенчался с Зиновьевой, назвал её по полному праву женой и провёл с нею первую ночь.
А дальше начались такие препятствия, что сама его жена отчаивалась увидеть мужа. Синод постановил развести супругов, наложил жестокое наказание на старенького священника, обвенчавшего двоюродных брата и сестру, восстал и Сенат, не признавая противоестественную связь, закончившуюся браком...
Долгое время родители Зиновьевой держали дочь взаперти, и ей приходилось прибегать к немыслимым ухищрениям, чтобы только написать мужу, не говоря уже о том, чтобы свидеться с ним.
Но императрица наконец смилостивилась. Она прервала действие постановления Сената и Синода, и молодожёны воссоединились. Они уехали из Петербурга в Швейцарию, и письма молодой жены Орлова родителям и друзьям в Петербург и Москву дышали неприкрытой любовью и восторженным обожествлением своего супруга.
«Всякий край с тобою рай», — сочиняла она немудрёные стихи о своём любимом. Екатерина лишь грустно улыбалась: когда-то и она также восторженно обожествляла своего возлюбленного, прославляла его красоту и отвагу...
Они вернулись и долгое время жили тихо и семейно. Нигде не показывалась молодая чета, им было довольно самих себя. Екатерина подарила молодым новый дворец, а галантный Григорий Орлов преподнёс Екатерине в день её именин знаменитый «Надир-шах» — бриллиант, обошедшийся в полмиллиона рублей. Но больше Орлов никак не влиял на двор и отправлял тех, кто обращался к нему, к другим фаворитам императрицы...
Никто из фаворитов не имел такой власти над императрицей, как Григорий. В одном из своих писем Екатерина признавалась, что Орлов и до конца её жизни был бы при ней, если бы не скучал сам...
Когда Екатерина услышала, что Орловы вновь собираются за границу, она было не хотела отпускать их, но узнала страшную для молодых супругов истину: у жены Орлова оказалась грудная болезнь, неизлечимая чахотка, и заграничные врачи могли хоть как-то помочь ей. Ничего не пожалел Григорий, чтобы вылечить больную жену, но через несколько месяцев она умерла за границей.
Его привезли одного, но никто уже не мог узнать прежнего Григория. Его разум помрачился, он пускал слюни, как младенец, ничего не помнил, ходил под себя, и последние годы жизни его близких были отравлены сознанием его безумия...
Он умер, даже не осознав, что умирает. Екатерина очень жалела о нём, ей дорог был и товарищ прежних дней, и первый настоящий возлюбленный, которого она создала таким, каким он стал. Судьба сделала для него всё, что могло быть хорошего, но умственная лень и неразвитость не позволили ему встать на высоту идей своего времени. Он умер, кем и был, — князем лишь по названию, а в сущности всё тем же простым поручиком Преображенского полка, которого увидела и полюбила Екатерина, будучи ещё великой княгиней.
Екатерина Дашкова
1
х и скверным характером наградила мать-природа княгиню Екатерину Романовну Дашкову! Впрочем, зачем сваливать на мать-природу то, что сама Екатерина выработала в себе, соединив с врождённой родовитой спесью несколько идей, вычитанных ею в книгах французских энциклопедистов, а также с презрением глядя на всеобщее невежество, окружавшее её.
Родовитая спесь вкоренилась в характер Екатерины Романовны не на пустом месте — она действительно происходила из знатнейшего в России рода Воронцовых. Имена этих царедворцев, всегда близко стоявших у трона, покрыли себя славой ещё в пятнадцатом веке. Они сражались с врагами русской земли: и с Казанью, татарским ханством, и с сильной Литвой, всегда обращавшей жадные взоры на несметные богатства и необозримые пространства России, — справлялись даже с набегами, устраиваемыми извечным противником — татарскими крымчаками, боролись под знамёнами и хоругвями московских князей.
Один из Воронцовых стал воспитателем и наставником молодого, в то время ещё малолетнего царя Ивана, прозванного позже Грозным. Учил его Михаил Воронцов всему, что было тогда в стиле века, обуздывал его нелепые и скверные выходки, за что и поплатился своей головой — обвинил Грозный учителя в покушении на свою самодержавную власть да и отрубил ему голову. Сыновья Михаила тоже не избежали участи отца, но один погиб от руки самодержавного царя, а второй сложил голову на воинском посту.
Словом, предки Екатерины были славны и делами, и ратными подвигами, да и теперь, в восемнадцатом веке, стояли близко к трону, своими советами и участием помогая русским царям.
Трое братьев Воронцовых — Иван, Михаил и Роман — славились и богатством, и знатностью, и причастностью к делам государственным. Средний — Михаил Илларионович — стал вице-канцлером при императрице Елизавете, старший — Иван — женился на Марье Артемьевне, дочери знаменитого Волынского, которому Анна Иоанновна отрубила голову, а Елизавета, сменившая её на престоле, полностью оправдала его и возвратила из ссылки всех его детей, вернув и все их наследственные владения. Иван богатым барином жил в Москве, много сделал для её развития и градостроительства и пользовался славой человека доброго, хлебосольного и щедрого.
Зато младший — Роман — превзошёл своих братьев мотовством и разгульной жизнью. После смерти своей жены, принёсшей ему четверых детей, закрутился он в попойках, похождениях и распутстве. А детей разбросал по разным сторонам. Старших — Марию и Елизавету — пристроил фрейлинами при дворе императрицы Елизаветы, младшего — Александра — оставил в своих деревнях, приставив к нему воспитателей и гувернёров, а самую смуглую и некрасивую — Екатерину — отдал в дом брата — вице-канцлера.
Михаил был женат на двоюродной сестре императрицы Елизаветы — Анне Карловне Скавронской, происходившей из той шведской ветви родственников Екатерины Первой, которые после смерти Петра Первого обсели её престол, как мухи.
В этой семье воспитывалась одна-единственная дочь Анета, и Михаил попросил Романа отдать Екатерину к нему в дом: обе были одногодки, родились почти в один день и все воспитатели и гувернёры, учителя и няньки стали у них, этих двух девочек, общими...
С раннего детства знала Екатерина все интриги, происходившие при царском дворе, читывала государственные бумаги, которые вице-канцлер нередко приносил домой, а то и принимал чиновников у себя в покоях.
Анета не особенно интересовалась этими государственными бумагами. Хватало с неё и того, что надо было под присмотром учителей болтать изрядно по-французски, по-немецки и по-английски, уметь изящно танцевать все новейшие европейские танцы да ещё рисовать грифелем и писать масляными красками портреты ближайших родственников. А у Екатерины вызывали интерес как раз эти государственные дела — с раннего возраста забиралась она в кабинет дяди Михаила Воронцова и прислушивалась к разговорам, ведущимся там.
Впрочем, может быть, ничего бы и не вышло из этого, кабы не подходящий случай. Екатерина заболела оспой, а тогда при дворе она считалась особенно опасной и заразной, и все дети, да и взрослые, кто подвергся такому несчастью, изгонялись из окружения императрицы, отправлялись подальше, в свои поместья или дальние деревни, чтобы, не дай бог, не заразить императрицу. Елизавета особенно боялась этого, потому что жених её, готовившийся к свадьбе, неожиданно заболел этой страшной болезнью и умер накануне дня свадьбы. И долго жалела Елизавета своего жениха, вспоминала его до самой своей кончины, даже жену своему наследнику, Петру Голштинскому, выбрала из той же семьи, из которой происходил её умерший жених.
Вот потому и всполошились все в доме Воронцовых, когда доктор объявил об ужасной заразе. Конечно, и Анна Карловна, и Михаил Илларионович любили свою воспитанницу и племянницу как свою родную дочь, но делать нечего, оставалось лишь покориться царским приказам. И маленькую Екатерину под присмотром двух немецких нянек отправили в самую дальнюю, захолустную деревню, чтобы императрица даже не знала о болезни Екатерины.
Вот тут-то, в глухой деревушке, засыпанной снегами, и началось настоящее образование Екатерины Романовны. У неё и без того было много книг — снабжал её всеми новинками французской литературы сам фаворит Елизаветы — Иван Иванович Шувалов, большой книгочей и книголюб, недаром основал он Московский университет и всем делам и куртагам предпочитал хорошую книгу.
Екатерина познакомилась с ним при дворе, где бывала у своих сестёр — Елизаветы и Марии. Поскольку никто из фрейлин не интересовался чтением, а мыслями были лишь на балах, Иван Иванович и приметил некрасивую девчушку, жадными взглядами следившую за новыми изданиями у него в руках.
Она попросила привезти ей все книжки, которые уже собрались в её обширной библиотеке, и умоляла знакомых просить Ивана Ивановича присылать ей новые издания. Странно, но фаворит императрицы снизошёл к просьбам племянницы вице-канцлера, и с каждой новой почтой Екатерина получала целые пачки новых книг.
Это были не только любовные французские романы, но и серьёзные книги, освещавшие все новейшие философские мысли, бурно расцветшие во Франции именно в восемнадцатом веке...
Екатерина Романовна проглатывала все книги, что присылал ей Иван Иванович Шувалов, а потом начала просить прислать то, о чём она вычитала в самых новых изданиях. Даже «Энциклопедический словарь» Бейля, в котором были помещены статьи о литературе, астрономии, математике, картографии, она прочитывала залпом, возвращаясь к напечатанному по нескольку раз.
Немки-няньки плохо прислуживали княжне. Иной раз не дозовёшься, не допросишься обыкновенного бульона, надо было непременно бежать босиком по холодному полу к дверям, чтобы выпросить чашку чаю. И Екатерина почувствовала отвращение к людям — слишком хорошо узнала она их натуру и навсегда стала мрачной и злобной.
А когда она вернулась в Петербург, распираемая знаниями, сведениями, новыми горизонтами мыслей, и пустилась было обсуждать эти серьёзные вопросы с окружавшими её людьми, на неё начали смотреть как на помешанную. Ну кому могло прийти в голову, что у этой девчонки столько самых разных знаний, и зачем они ей нужны, если всё её устремление должно состоять лишь в одном: как удачно выйти замуж, народить детей, составить счастье семье и мужу!..
Она осталась одинокой и непонятой даже в своей довольно-таки образованной среде. Приходя во дворец к сёстрам, служившим фрейлинами, она чаще всего заставала старшую, Елизавету, самозабвенно играющей в карты с великим князем Петром, и бесконечно удивлялась, почему Пётр вдруг стал отличать её сестру — толстую, рябую, неуклюжую, грубую на слова и жесты. Случайная встреча с Екатериной Алексеевной, великой княгиней, женой Петра, объяснила ей всё. Её сестра, Елизавета, стала любовницей Петра, во всём потакает ему, старается, как и он, напиваться на всех вечеринках с его голштинскими солдатами, курить, как и он, вонючие трубки, ругаться с изяществом извозчика...
Но скоро обе Екатерины перешли к вещам гораздо более занимательным: начали разговаривать о французской литературе, об энциклопедистах, о смелых и свежих идеях, бродивших по Европе, и обнаружили, что их вкусы и мнения совпадают, а разговоры становятся всё более любопытными и увлекательными.
С этих самых пор Екатерина Романовна стала смотреть на весь двор как на скопище невежественных, необразованных людей и теперь почитала только себя да ещё великую княгиню людьми современными, образованными и умными.
Эта её родовитая спесь да в сочетании с её образованностью и стали отправной точкой её скверного, взбалмошного и неуживчивого характера. Презрительное отношение к окружающим, высокомерное чувство первенства и превосходства сделали её человеком, стремящимся хоть как-то участвовать во всех политических событиях, развили в ней честолюбие и желание во всём быть первой.
Слегка притушили эти её чувства лишь скорая свадьба с князем Дашковым и рождение двоих детей.
И снова, отправившись в Москву, чтобы показаться родителям князя, она почувствовала, что превосходит всех своей начитанностью и знаниями. Мать князя сразу невзлюбила невестку за то, что та не могла даже отдать приказание прислуге на русском языке — при дворе говорили только по-французски или по-немецки, и свой родной язык Екатерина Романовна почти не знала, никто и не занимался с ней её родной речью.
И потому конечно же Екатерина Романовна не могла вести разговоры со свекровью — та знала лишь свой, родной, русский...
Она поспешила отправиться в Петербург.
Ей было всего восемнадцать лет, когда она начала участвовать в политике. В 1761 году она приехала из Москвы и поселилась на лето на даче своего дяди, Михаила Воронцова. Дача была как раз на полпути между Петергофом, где решила пребывать императрица Елизавета вместе с маленьким Павлом, сыном Екатерины и Петра, и Ораниенбаумом, где проживали великая княгиня и великий князь.
Екатерине Алексеевне было позволено навещать своего сына раз в неделю, в воскресенье, — императрица по-прежнему не отпускала от себя внука и не доверяла его воспитание ни отцу, ни матери. И Екатерина покорно приезжала в воскресенье, чтобы увидеть маленького Павла. Но и свидания с ним были очень коротки, Елизавета разрешала разве что поинтересоваться успехами внука в ученье, а потом забирала его с собой на прогулку, как она это называла, именно затем, чтобы свидания сына и матери не продолжались более часа.
Великая княгиня сразу же уезжала, но по пути останавливалась у Екатерины Дашковой, брала её и увозила с собой в Ораниенбаум. Там они много болтали, сближаясь всё больше и больше. Общие темы их бесед вряд ли были очень весёлыми: Екатерина Алексеевна была слишком встревожена своей судьбой, висевшей на волоске, а у Екатерины Романовны уже определился её мрачный нрав. Но они обсуждали самые животрепещущие темы: как сложится судьба Екатерины после смерти тётушки-императрицы, как будет жить Россия под властью голштинского унтер-офицера Петра, не признающего никого в мире, кроме великого Фридриха Второго, прусского короля.
Беседы их были чересчур откровенны, и вскоре Екатерина, великая княгиня, приобрела себе не просто подругу, а товарища, готового со шпагой в руке защищать её честь и достоинство. А за три дня до смерти Елизаветы Дашкова появилась во дворце Екатерины с чёрного хода. Она услышала, как вещала на улицах Петербурга юродивая Ксения, чтобы прихожане пекли блины. А блины бывают только на поминках, и значит, скоро быть смерти императрицы, и что будет потом — одному Богу известно.
Екатерина Романовна прибежала в спальню к великой княгине замерзшая, ещё не совсем оправившаяся от болезни, с промокшими ногами и красным носом.
Великая княгиня приняла её, лёжа в постели, приказала сбросить шубу и лезть под тёплые одеяла, чтобы согреться.
Екатерина Дашкова принялась выспрашивать великую княгиню, что та собирается предпринимать в случае смерти императрицы, есть ли у неё какой-то план предотвратить те события, которые назревают. А события могли сложиться, как об этом говорили уже все во дворце, следующим образом: Пётр заявлял неоднократно, что едва он сделается императором, как тут же разведётся с женой, женится на Елизавете Воронцовой, старшей сестре Дашковой, и объявит незаконным наследника Павла, чтобы возвести на трон ребёнка от Елизаветы...
Всё это носилось в воздухе, все об этом знали и втихомолку шептались, но никто ничего не предпринимал, чтобы предотвратить это.
И Екатерина Дашкова изумилась, услышав, что у Екатерины нет никаких планов, что она всё оставляет на волю Божью, что если суждено чему-то случиться, то всё и произойдёт по велению Бога.
«Она не хочет ни во что вмешиваться, — подумалось Дашковой, — так я сама буду работать на её пользу...»
Дашкова вернулась домой поздно вечером и тут же села составлять планы заговора, переворота в пользу Екатерины. Планы были сумбурные, но для начала она стала ездить по своим близким аристократам, говорить с ними и вербовать сторонников Екатерины...
Она и не знала, что в спальне Екатерины уже давно созрел план заговора, что Орловы уже давно вербуют сторонников великой княгини, но не в великосветских гостиных, а в полках гвардии, которая одна только и составляла силу, способную произвести переворот.
Дашкова всё ещё носилась по гостиным, уговаривая присоединиться к сторонникам Екатерины гетмана Разумовского, Никиту Панина, воспитателя великого князя Павла, аристократов Пассека, Рославлева и других.
Но всё это были одни лишь разговоры — никаких планов, ничего конкретного не предлагала Дашкова.
И все, с кем она говорила, отмалчивались, скрывали от молоденькой княгини, что давно уже посвящены во все дворцовые интриги и даже с ними уже велись переговоры от имени Екатерины. Чересчур ненадёжной казалась им юная княгиня, младшая сестра Елизаветы, уже давно ставшей фавориткой Петра, и опасались слишком близкого родства Дашковой с нею. Могла быть тут и просто провокация, чтобы вскрыть корни заговора.
Ничего, кроме уклончивых вздохов да крайне осторожных слов, не могла найти в гостиных Дашкова...
Императрица Елизавета умерла под самое Рождество 1761 года. Мирно, без всяких эксцессов вступил на престол Пётр Третий, и сразу же посыпались указы, вызывающие у всех придворных и у гвардии недоумённые вопросы и тихий ропот недовольства. Едва тётушка закрыла глаза, как Пётр послал Фридриху, прусскому королю, послание о мире. Семь лет воевала Россия с Фридрихом и уже поставила его на колени. Этот великий король был на грани самоубийства — настолько разгромлена была его армия, а от Пруссии оставался небольшой клочок земли — все занимали русские войска. Но судьба была так милостива к этому королю, что послала смерть Елизавете, и Пётр немедленно заключил с Фридрихом мирный договор, вернув ему всё утраченное...
И тут же Пётр стал готовиться к походу на Данию, чтобы вернуть клочок земли возле его Голштинского герцогства. Зароптала гвардия, только что сражавшаяся с Фридрихом, а теперь находившаяся в арьергарде прусских солдат, ставших союзниками. Армия ничего не могла сказать, у неё не было такой возможности, а гвардия, разленившаяся и сидевшая в столице, развлекавшаяся лишь разводами да вахтпарадами, уже громко возмущалась распоряжениями нового царя...
Екатерина Романовна бегала по гостиным, вербуя сторонников Екатерины и всячески понося Петра, но прекрасно понимала, что в случае неудачи заговора, в случае провала не сносить головы было даже не ей, а мужу её, князю Дашкову, командиру полка гвардейцев, в котором тоже раздавались голоса возмущения против Петра.
В случае неудачи, думалось княгине, ей ничего не будет: Пётр — её крестный отец, воспринимал её от купели, относился к ней с нежностью и любовью главным образом из-за Елизаветы, на которой мечтал жениться; дядюшка — всесильный канцлер Воронцов — тоже не даст племянницу в обиду. А у Дашкова нет таких великих заступников, и в случае чего голова его может слететь с широких и крепких плеч.
Едва сделав привычный утренний туалет, набросив нарядное платье — парадную робу, помчалась она к Воронцову...
Он читал новый указ императора, только что полученный им из рук самого Петра, — указ о вольности дворянской. Теперь дворянам разрешалось служить лишь по их желанию, а стародавние законы о непременной службе дворян по защите императорской чести отменялись. И Воронцов размышлял над этим указом — теперь императорская власть как будто оставалась без особой защиты...
Екатерина влетела в кабинет дяди, даже не спрашивая разрешения на визит. Влепила поцелуй любимому дядюшке и сразу приступила к сути своего прихода:
— Дядюшка, что хочешь делай, но удали моего Дашкова от двора...
Воронцов в изумлении поднял глаза.
— Не удивляйся, дядюшка, но поход в Данию намечен на скорое время, и там может погибнуть мой муж — что тогда буду я делать с моими двумя крошками?
Конечно, поход в Данию, куда Пётр собирался отправить всю столичную гвардию, был для Екатерины только предлогом — она боялась опасности пострашнее войны...
— Да куда ж я его могу отправить? — опять удивился канцлер.
— Что ж, уже нет и свободных посольских мест? — напрямую спросила она. — Разве нельзя послать его в Англию, Швецию или, скажем, в Италию?
— Ну, племянница, ты просишь невозможного. Все посольские места давно заняты, все послы состоят при своих должностях, а если кого смещать, так предлог надобен, да и времени уйдёт немало...
— Погляди, погляди, дядюшка, где ещё есть свободное местечко, умоляю тебя, не оставь меня сиротой с моими крошками...
Воронцов погрузился в чтение списка всех посольств при разных странах.
— Только и есть, что в Константинополе, — нерешительно сказал он, — да ведь даль какая, зашлёшь, а турки могут и в Семибашенный посадить.
— Ты лишь назначь, дядюшка, а уж сборы и дорога столько времени займут, да и в Москве муж у своей матери может задержаться, не к спеху же к должности прискакать...
— Ладно, Константинополь так Константинополь, — пожал плечами любящий дядюшка и снова занялся своими государственными бумагами.
Екатерина Романовна вернулась домой уже с подписанным императорским указом о назначении Дашкова послом в Константинополь.
Прочитав императорский указ, Михаил Дашков взбеленился.
— Как, — бушевал он, — вся армия пойдёт в поход на Данию, а я — в тихий угол? Да все мои товарищи по полку скажут, что я дезертировал, прячусь от пуль! Никогда и нигде не укрывались от опасности Дашковы, всегда всей своей жизнью, верой и правдой служили царю-батюшке!
Он едва не полетел тут же во дворец просить об отмене позорного для него указа.
Екатерина Романовна молча смотрела на него.
— Да и какой из меня дипломат? — продолжал Дашков. — Я знаю только кавалерийские экзерсисы[22], да стрелять умею, да на врага могу пойти с открытой грудью! Что я понимаю в посольском деле, кто учил меня этому? И никогда Дашковы не служили отечеству иначе, чем с оружием в руках. Что подумают мои товарищи в полку, что скажут о трусе Дашкове?
— Ты, Михайло, никогда трусом не был, а что посылают тебя в даль далёкую — так это ещё опаснее, чем на войну идти. Что, если турки посадят тебя в Семибашенный замок да издеваться начнут? И как ещё больше можно служить отечеству, если не утихомириванием этих басурманов, которые только и ждут урвать от России кусок да обратить в рабство наших южных славян. Нет, Михайло, не прав ты — твоя служба может быть почётней и опасней, чем служба в полку...
Дашков присел рядом с Екатериной Романовной, гнев его постепенно утихал, он слушал и слушал разумные слова жены и снова и снова удивлялся, как может такая молоденькая женщина держать такие разумные речи...
— Да и потом, подумай сам, Михайло, — говорила княгиня, — видишь, как неустойчив нрав у нашего императора? Да ты на слова не опаслив, чаю, уж и во дворце знают, какие речи ты говорил о Петре, моём крестном отце? И самое тебе время ехать в Москву. Побудешь там с полгода — надо же ведь и посольство собрать немалое, — а там уж видно будет, что и как повернётся.
И всё больше прислушивался Дашков к словам жены и втайне, в душе понимал, как она права и как разумно может оценить всю обстановку.
В тот же день он начал готовиться к отъезду. Радовался, что попадёт в Москву, что погостит у матушки в имениях, что увидит двоих своих детей, которых Екатерина Романовна оставила на бабушку.
Словом, после вспышки гнева наступила мирная пора, началась подготовка к спешному отъезду, и снова разумные советы жены действовали на Михаила умиротворяюще.
Екатерина Романовна успокоилась только тогда, когда скрылась за воротами дорожная кибитка князя Дашкова, когда улеглась и пыль на дороге, взбитая копытами четвёрки вороных коней.
Теперь у неё были развязаны руки, теперь она могла не страшиться за мужа и детей, теперь она была в состоянии очертя голову броситься в заговор, агитировать за Екатерину Алексеевну, говорить с офицерами, с аристократами — словом, готовить переворот, хоть и не было у души этого заговора, великой княгини, никакого плана, никакого обозримого замысла, было одно лишь стремление, одно лишь желание — занять российский престол.
2
«Милый, милый мой князь, здравствуй, дорогой! Если б ты знал только, как я скучаю по тебе, как всё время видятся мне твои ясные глазоньки, как тянется сама рука погладить твои пышные пушистые усы, как хочется хоть на миг прижаться к твоему сильному прекрасному телу...»
Княгиня на миг остановилась, макнула перо в мраморную чернильницу. Как хотелось ей всё рассказать Мишелю, передать ему ту особую атмосферу, которая наполняла воздух в доме Кейта, куда ездила она к завтраку с дотошным и проницательным послом Англии! Он всегда знал всё, во всём разбирался лучше, чем кто-либо другой, и уж его послания в Лондон были обстоятельнее и глубже, чем других его коллег, хоть бы того же испанского посланника или, скажем, прусского...
Как хотелось ей описать этот завтрак, весь разговор с Кейтом, как мечталось выставить себя в таком радостном свете, умной и проницательной...
Но она вздохнула и начала писать о том, что и она, и дочка здоровы и в доме всё слава богу...
Нельзя, нельзя было писать Мишелю правду, нельзя и намёком обмолвиться, какую бурную деятельность развила его жёнушка по его отъезде.
Она опять вспомнила громадную залу у Кейта, маленькие тарталетки и свежие русские булки на круглом столе, рассчитанном персон этак на двадцать. Но сидели за столом лишь она и Кейт, живой благообразный англичанин, прекрасно говорящий по-русски и до тонкостей знающий все свежие сплетни и слухи...
Кейт внимательно взглянул на Дашкову и ни с того ни с сего неожиданно заявил, что по Петербургу носятся совсем уж несообразные слухи — будто бы гвардия собирается взбунтоваться и низложить императора.
Екатерина Романовна в изумлении подняла глаза на Кейта — с чего вдруг такие разговоры? Или знает что или просто наталкивает на то, чтобы и она что-нибудь недружелюбное по отношению к Петру сказала? Хитёр Кейт, ух хитёр и знает всё, да только как расценивает?
Чашка с крепчайшим кофе застыла в её руке, но на лице не отразилось ничего.
— Как вы меня испугали, — вздохнула она и поставила чашку на блюдце. — Мой муж тоже гвардеец, теперь, правда, послан в Константинополь, послом. Да ведь это ничего не значит — дойдёт дело, могут и его привлечь, а уж он-то ни слухом ни духом не виноват. Ох, боюсь я за милого моего князя! Правда, он теперь далеко, будет добираться до турок с извещением о воцарении Петра Третьего.
Она встревоженно посмотрела на Кейта, светского льва и дамского угодника, стараясь в его лице найти отголоски тревоги и суетливости по случаю бунта.
Но Кейт продолжал болтать о предстоящем бунте как о деле совершенно невыполнимом, словно бы раскладывал перед княгиней целую колоду карт.
— Гвардия может и взбунтоваться, да только кто её поддержит? Без главарей, без вожаков из родовитых особ ничего не выйдет. Лишь прогонят нескольких солдат через палки, кое-кого сошлют в Сибирь, кое-кого могут и расстрелять. Но всё это выеденного яйца не стоит, ведь офицеры не станут отказываться от участия в войне с Данией — там им и награды, и чины, а солдат — что ж, солдат существо бессловесное, куда погонят, туда и пойдёт.
— Вы думаете, что всё это было бы бессмысленно? — с тревогой спросила княгиня. — Зачем тогда поднимать бунт, зачем лишние наказания?
Кейт снова внимательно глянул на молоденькую княгиню. Похвально, что ничем не выдаёт себя, а он наверняка знал, что почему-то в последнее время участились визиты гвардейских офицеров в дом княгини Дашковой. То один, то другой, а то и многие вместе...
— А гвардия привыкла жить в тепле да добре, — заулыбался Кейт, — а теперь что же, погонят из столицы, с тёпленьких местечек в Данию, да ещё сзади будут голштинские капралы подгонять. Да и из родовитых людей никто не решится подставить себя под удар, ваши графы, бароны и князья не привыкли чем-нибудь жертвовать, если нет заранее объявленной милости...
Дашкова тоже внимательно посмотрела на Кейта. Да, слишком хорошо понимает он настроения и характеры местной родовитой знати, но чего он от неё хочет, неужели думает, что вот так, на блюдечке она всё ему и выложит, да ещё и имена назовёт? «Нет, милостивый государь, вы хитры, а я ещё хитрее...» — заключила Екатерина Романовна.
Она мило болтала, беспокоилась как будто о муже, всё расспрашивала, что известно о главарях бунта. Кейт тоже мило улыбался, затаённо смотрел на княгиню, примечал, где покраснеет, где улыбнётся. Нет, маленькая княгиня казалась совершенно непричастной к заговору, и Кейту нечего было о ней сообщать в Лондон...
Зато от этого завтрака остались у Дашковой самые разные воспоминания. И хороший совет — да, без главарей из родовитых, аристократических семей солдатский бунт ничего не стоит. А вот кто может его возглавить? Она и сама усомнилась, начала перебирать тех, с кем уже говорила, кто уже был посвящён в тайну заговора. Ничего не было дельного, только одни разговоры, да и сама Екатерина Алексеевна не давала ещё никому слова, что возглавит этот солдатский бунт.
Было над чем подумать.
А рука привычно писала всякие нежности, всякие тревоги по поводу здоровья Мишеля и детей — старших сыновей отдала Дашкова на воспитание бабушке, а теперь там и сам отец. Ничтожные новости, никчёмные дела, только одни страхи за мужа, за его здоровье, за его сборы...
Умом же слушала себя: кто ещё будет за них, кто ещё за императрицу Екатерину, впрочем, как это там говорил Панин, не императрицей она должна быть, а регентшей — ведь у неё никаких прав на престол нет, она чистокровная немка, лишь по мужу и русская. Пока не взойдёт на престол её сын, Павел, быть ей регентшей...
И вновь Дашкова стала перебирать в памяти последние события. Хорошо, если на стороне Екатерины Разумовский — аристократ, правда, не из старинных родов, да только он полковник Измайловского полка, солдаты его любят, а уж богатств не счесть — баловень судьбы. Заикнулась было Дашкова, спросила у Панина, с кем Разумовский, но тот не ответил. То ли посчитал, что княгине не надо знать этого, то ли сам с Разумовским ещё не говорил. Важная фигура, нужная, как раз для заговора...
Тут ей принесли формальное приглашение на парадный обед в Петергофе по случаю дня тезоименитства нового монарха. Приглашение было богато украшено золотом, строчки букв явственно величественны, и нечего даже и думать о том, чтобы не явиться на этот парадный обед...
«Не пойду, — сразу же решила княгиня. — Что я там не видела — снова праздные речи, снова напьётся Пётр и будет выкрикивать бессмысленные слова, обижать всех вокруг речами неразумными, а все только и станут делать вид, что слова царя ах как милостивы, и глядеть будут на этого прусского капрала глазами преданной собаки, выпрашивающей хоть какую-никакую да кость...»
«Нет, не поеду», — твёрдо решила она.
Вечером к ней заглянули на огонёк офицеры Преображенского полка — Бредихин, Рославлев, Пассек. С ней, княгиней, они могли разговаривать совершенно откровенно — где и кто с кем говорил, как настроены солдаты, какова обстановка в полках.
Но все эти разговоры были туманны, далеки от начала переворота, лишь указывали на неопределённость, уходящую в будущее. Никаких определённостей, никакого намёка на число, на дату переворота — словом, всё в стадии разговоров. И видно было, что уповают офицеры только на отъезд Петра в армию, чтобы без него произвести переворот. «Ну, это ещё когда будет», — подумала княгиня, но взгляд её упал на отделанное золотом приглашение на парадный обед в Петергоф. Через три дня после этого обеда Пётр собирался выехать к армии...
И опять ничего определённого, опять одни лишь пустые разговоры — да, готовы солдаты на бунт, да только кто их возглавит, кому придёт в голову подставлять свою судьбу под удар?..
Офицеры ушли, и снова надолго задумалась княгиня. Что она в состоянии сделать, если даже сама Екатерина, императрица, ничего не может сказать определённого, если и она не имеет никакого плана...
Дашкова легла спать всё ещё в горьких думах о том, что заговор пока держится на одних лишь словах, на одних лишь встречах, ничего нет конкретного, даже у Екатерины, ради которой и затевается этот сыр-бор, нет никакой ясности. И только вставал перед всеми заговорщиками срок, в который и должно было уложиться это их мероприятие: через три дня после празднования дня своего тезоименитства Пётр отправлялся в Данию вместе с армией, и вот тут-то и надо было действовать.
А как действовать, что предпринять — никто ничего не знал, всё расплывалось в прекраснодушных мечтаниях да решительных словах. Никто ничего не предпринимал, никто не действовал. Лишь офицеры, которым доверилась княгиня, могли бы начать действовать, но ими никто не руководил, никто не поставил их в известность относительно какого-нибудь начала, срока, даты и хоть плохонького, но плана. Без плана, как и говорил Кейт, всё могло вылиться лишь в солдатский бунт, который так просто было подавить Петру...
Екатерина Романовна долго сидела у окна, всматриваясь в белесоватую мглу небес. В Петербурге стояли белые ночи, солнце едва скрывалось за горизонтом и тут же словно выплывало из небытия, а время своего отсутствия заменяло не темнотой, а полусумерками, которые легко можно было использовать, чтобы читать без свечи. Но белые ночи действовали на княгиню угнетающе, она не могла спать в такую белесоватую печаль, закутывала большие окна тяжёлыми бархатными гардинами, но всё равно сквозь щели пробивался белёсый свет, и нечего было и думать даже, чтобы уснуть крепко, не обращая внимания на этот свет.
Она мучилась часов до трёх, никак не могла вызвать в себе тот блаженный покой, в котором и приходит сон, пила свои отвары, которые так искусно готовила старая нянька, и всё равно не могла решиться нырнуть под жаркие одеяла, закрыть глаза и утонуть в дрёме.
Уже под самое утро сон наконец сморил её. Ей снились какие-то сражения, битвы, где она на своём огромном вороном скакуне размахивала саблей и задыхалась от криков, поворачивала на тёмные густые толпы солдат, раздавала им приказы, но никто её не слушал, и рот её был разинут в крике, который чувствовала лишь она одна.
В спальне было темно и тихо — бархатные шторы всё-таки запрещали свету вход в окна и только слегка золотились понизу, отзываясь навстречу заре и дню. Но Екатерине Романовне не пришлось долго спать в этот раз.
Едва слышно отворилась дверь, старая нянька с ослепшими от темноты глазами долго всматривалась во мрак и покой спальни и лишь потом тихонько позвала:
— Княгинюшка, дитятко...
Екатерина Романовна не отозвалась — она только что опять провалилась в воинственный сон, опять скакала на своём огромном чёрном коне, размахивала саблей в ничто, в тошнотворную серую муть громады армии. И опять её никто не слышал...
— Дитятко, — потрясла нянька Екатерину Романовну за круглое белое плечо, высунувшееся из-под одеяла.
Княгиня едва открыла глаза и снова провалилась в сон, но нянька всё трясла и трясла её за плечо, и Екатерина Романовна наконец разлепила сонные глаза, словно засыпанные песком, и недовольно буркнула:
— Просила же не будить... Теперь опять не усну всю ночь...
— Дитятко родное, — запричитала нянька в голос, — день белый на дворе, да и гость к вам ранний пожаловал...
— Кого ещё там принесло, — проворчала княгиня, но выпростала из-под одеял ноги, потом скинула душную жаркую перину и подняла глаза на няньку.
— А просили в любое время принимать князя Репнина, — защитилась от её угрюмого и гневного взгляда нянька, — и вот он, приехал раненько, знать, подпирает, нельзя отложить на позднее...
Полыхнула горькая мысль — уж не с арестом ли спешит предупредить её князь Репнин: всё-таки родня, хоть и седьмая вода на киселе...
— Скажи, сейчас буду, — сонно проговорила княгиня, но уже страх схватил её за самое сердце, и она, не глядя, как одевается, накинула большой тёплый халат, сунула ноги в пушистые шлёпанцы, едва пригладила жиденькие волосы и спешно выскочила в гостиную залу.
Князь сидел у стола и пил чай из принесённого нянькой самовара. Репнин был племянником Панина, родня Екатерины Романовны по двоюродной сестре самого князя Дашкова — был женат на ней не больше чем полтора года, и детей у них ещё не было.
Она торопливо присела сбоку стола, потянулась за чашкой.
— Всё пропало, — ровным бесстрастным голосом сказал князь Репнин.
И у княгини задрожали руки, чашка выпала из пальцев и откатилась к краю стола.
— Говорите, — легко вымолвилось, словно и не сжимал страх её сердце ледяной лапой.
— Императору показалось обидным удовольствоваться только парадным обедом по случаю заключения мира с Пруссией, — ровно, бесстрастно говорил Репнин. — Сегодня вечером он закатил ужин в Летнем дворце на Фонтанке, так повеселился, что из-за стола не смог встать, пришлось лакеям вынести его к карете и отвезти в Зимний...
Княгиню знобило, руки у неё по-прежнему дрожали, но она спокойно выслушивала Репнина. Ведь не приехал же он лишь из-за такой малости, как ужин императора...
— Император не пригласил императрицу на этот ужин, она по-прежнему в Петергофе.
«А вот уже начинаются последние новости», — подумалось княгине, и она поплотнее устроилась на стуле, руки её перестали дрожать. Она одёрнула себя, словно трусоватую скаковую лошадь: а ну-ка замолчи, да слушай, да думай...
— Но самое пикантное в том, что на этом ужине он преподнёс вашей сестре, Елизавете Воронцовой, орден Святой Екатерины...
Княгиня резко подняла голову: вот она, новость, которую и не ждали.
— Да, да, — заметил её рывок князь Репнин, — а как вы знаете, награждают этим орденом только членов императорской фамилии, значит...
Он не договорил и упёрся взглядом в лицо княгини. Она молчала. Что ж, значит, рябая и толстая Лизка всё-таки добилась своего. Раз уже пожалована орденом Святой Екатерины, значит, и в самом деле выйдет замуж за Петра. А императрицу, значит... Такова и будет её судьба: либо крепость, либо монастырь...
— А меня император посылает в Берлин, — снова ровно и совершенно бесстрастно заговорил Репнин. — Сказал, чтобы все приказы и пожелания прусского короля исполнял. Резидент, дескать, в Берлине, чуть ли не посол, а только представитель России в Пруссии, но главное — чтобы молниеносно исполнять все пожелания и приказы Фридриха... — повторил князь.
Он покачал головой, и в глазах его наконец появилось выражение горя и зажатого гнева.
— Значит, семь лет воевали, довели Фридриха едва не до самоубийства, а теперь ему же и подчиняйся...
Репнин опустил голову, и слёзы едва не закапали с его щёк.
— Видно, в день тезоименитства всё и произойдёт, — добавил он, всё не поднимая головы. — Устранит Екатерину, а нас погонит воевать с Данией. И к чему, зачем так Отечество утеснять?
Этот его вопрос был явно риторический, и княгиня поняла, что он ждёт от неё утешения, её твёрдого слова, что такое не случится. А как не случится, если всё уже готово...
Значит, через три дня в Петергофе, во дворце, при всех генералах и знатных людях, произойдёт переворот в пользу Елизаветы Воронцовой...
— Что ж делать, — сказала Дашкова не так решительно, как хотелось бы Репнину, — будем и мы ждать, чем всё закончится. А только я не поеду на этот раз в Петергоф, хоть мне и прислали уже приглашение...
Она помолчала, потом вспомнила, что на часах всего лишь раннее утро, и посоветовала Репнину:
— Поезжайте домой, отдохните, а после заезжайте к Никите Ивановичу Панину: уж он-то что-нибудь да придумает...
— К сожалению, мой дядюшка чересчур холоден и ленив, чтобы предпринимать что-то, — грустно усмехнулся Репнин, — да и срок очень уж мал, никто ничего не успеет сделать...
И всё-таки княгиня выпроводила Репнина с неясной надеждой: вроде и не открывается она, а возможно, и у неё есть какие-никакие ходы-выходы, на то она и умница, и определённо держит сторону Екатерины — императрицы...
Эти три дня до парадного обеда в Петергофе княгиня не знала покоя. То и дело приказывала она запрягать лошадей, садилась в карету и объезжала тех, с кем ещё не успела переговорить, кому ещё не рассказала последние новости. Чаще всего виделась она с Никитой Ивановичем Паниным, горячим сторонником Екатерины, воспитателем её сына, Павла. С Екатериной Панин много разговаривал о её судьбе, о России, которую потянет в сторону Пруссии новый император, о будущем наследника. Но эти разговоры словно были прикрыты лёгкой вуалью — вроде бы и разговоры, да все какие-то академические, теоретические, никак к практике не применимые. Лишь с июня, когда уже начали вовсю прорисовываться планы Петра, когда стало ясно, что новый император заменит всю гвардию своими голштинцами и вовсе упразднит её, а то и пошлёт воевать за кусочек земли — Голштинию — с Данией и поставит ещё русские войска под руку Фридриха, — разговоры с Екатериной стали принимать всё большую определённость и форму практических планов. Сначала Панин предлагал арестовать Петра в Зимнем дворце, как некогда арестовала Елизавета Анну Леопольдовну, и потом заключить его в Шлиссельбургскую крепость. Но Пётр уехал в свой любимый Ораниенбаум, и эта часть плана отпала сама собой. Значит, надо арестовать Петра в то время, когда он поедет к войскам, направляющимся в Данию...
Но даже и тогда, когда продумывался этот план, было в нём что-то холодное и ленивое, как сам Никита Иванович. И теперь оставалось всего три дня, и всем планам заговорщиков настал бы конец. Тут нужны были действия, и действия самые решительные и, может быть, даже несколько необдуманные.
Накануне переворота они с Никитой Ивановичем Паниным сидели в тёплом полусумраке вечера в гостиной зале, пили чай из пышущего самовара и толковали всё об одном и том же — о перевороте.
Вошла служанка и скромно объявила:
— Какой-то поручик стучится, просил сказать...
Княгиня сразу нахмурилась, Никита Иванович подозрительно сощурился.
Вообще-то Екатерина Романовна почти не общалась с гвардейцами, если не было на то оснований, — зналась же она только с родовитыми военными, и все они были хорошо ей знакомы, но поручиков среди соучастников не было.
Но она сделала приглашающий жест, и в комнату, нагнувшись под низкой притолокой, ступил высоченный поручик в мундире Преображенского полка, с удивительно чистым, белым и красивым лицом.
Княгиня никогда его не встречала, и первое, что она подумала, было: «Дожила, всякая низость в мой дом тащится...»
Но военный представился:
— Поручик Преображенского полка Григорий Орлов...
И княгиня увидела одобрительную улыбку на лице Никиты Ивановича Панина. «Знает он его, видимо», — подумалось ей, и она приглашающим жестом усадила поручика за самовар.
— Вероятно, вас прислали с каким-нибудь сообщением? — немного резковато спросила она.
Григорий прищурился, несколько раз поглядел то на Дашкову, то на Панина, потом так же резковато, как и княгиня, ответил:
— Говорят, вы всё знаете, потому и к вам направился я сам. А новость важная: Пассек арестован...
Княгиня задохнулась, но вежливо налила полную чашку чаю и подвинула её к поручику.
Она молчала. Говорил Панин:
— А причина ареста?
— Никто не знает, арестован, говорят, по приказу императора...
Княгиня подняла глаза на Панина. Ведь это провал! Пассек — один из активнейших участников заговора, если он расскажет всё о нём на следствии — тут же покатятся головы...
— Я думаю, что он может быть арестован по какому-нибудь поводу из-за недостатков в полку. Может быть, даже по причине недисциплинированности, — сказал Панин. — Наш император любит порядок, — глубокомысленно завершил он.
— Может, и так, — покладисто согласился молодой красавец, отпил глоток чаю и заторопился.
Княгиня не встала, чтобы проводить его, а он слегка поклонился им и выскочил за порог...
— Что вы думаете? — обратилась Дашкова к Панину.
— Нельзя же всё ставить в зависимость от нас. Жизнь идёт...
— Вы так и не поговорили с Разумовским? — спросила княгиня.
Панин пошевелился в мягком кресле и, вздохнув, ответил:
— Думаю, что в этом и нет нужды. Гетман и сам ненавидит императора, издевается над ним, так и бросает остротами, а бедный Пётр их не понимает и ценит Разумовского больше прежнего. Думаю, что хитрый хохол молчит и втихомолку работает на императрицу. Он в неё был влюблён, ещё когда она была великой княгиней, а уж теперь и вовсе действует так, чтоб комар носа не подточил...
«Как же он был прав, этот умнейший и ленивейший человек!» — много позже вспоминала Екатерина Романовна. К Разумовскому в тот вечер тоже явился один из Орловых, младший брат Фёдор, и тоже рассказал ему про арест Пассека. Но был откровеннее, чем Григорий Орлов у княгини, уехавший сразу из её дома под присмотр флигель-адъютанта Перфильева, шпиона и доносчика императора, и даже сел играть с ним в карты. Фёдор высказал всё, как было условлено: завтра на рассвете Орловы привезут императрицу в казармы Измайловского полка и провозгласят императрицей-самодержицей...
И никакого ответа не дождался Фёдор. Разумовский не произнёс ни единого слова, но по уходе Фёдора позвал Тауберта, начальника типографии, и приказал ему отпечатать манифест о восхождении на престол Екатерины. Тот пытался было протестовать, но Разумовский возразил, что Тауберт и так много знает, а значит, обе их головы всё равно что в закладе и потому манифест должен быть к утру отпечатан. Тому ничего не оставалось делать, кроме как покориться...
А на рассвете Кирилл Разумовский собрался, оделся в свой полковничий мундир Измайловского полка, сел на вороного скакуна и помчался к казармам своего полка...
Он немножко опоздал — уже шла присяга, принимал её седенький полковой священник, солдаты, взволнованные и радостные, кричали поминутно: «Ура нашей матушке-императрице!» — а Екатерина стояла в плохонькой коляске и подавала солдатам руку — они целовали её и кричали громче прежнего.
Увидев своего полковника верхом, солдаты затихли: что скажет, что сделает их командир?
А командир упал на колени перед Екатериной и поцеловал ей руку...
3
Спустя много лет после переворота 28 июня 1762 года княгиня Дашкова в своих «Записках» преувеличила свою роль в этом событии как только могла. И будто бы знала она, что Орловы собираются привезти императрицу на рассвете 28 июня в Петербург из Петергофа, и что сама давала распоряжение Орловым привезти императрицу, и что упрекала их за нерасторопность и нерадивость...
Ничего подобного в самом деле не было. Проспала княгинюшка и приезд Екатерины, и провозглашение её самодержавной императрицей...
Она опять долго не могла заснуть — эти белые ночи угнетали её, заставляли ворочаться с боку на бок, не давали глазам закрыться. И она снова и снова продумывала, как произойдёт переворот, но всё это было для неё ещё в неближнем будущем, а теперь она решала, поедет на парадный обед в Петергоф или же скажется больной. С одной стороны, хотелось посмотреть, что изобретёт Пётр, чтобы арестовать Екатерину, как будет держаться отставленная императрица, с другой — в сущности, самой ей ничто не грозило. Хоть она и участвовала в хитросплетениях для переворота и обожала свою подругу — Екатерину, но всё-таки сестра её была бы императрицей, а крестный отец Пётр любил бедную княгиню и частенько говаривал ей:
— Если вы не хотите здесь жить (он имел в виду Ораниенбаум, куда переселился на летние месяцы со всем двором, кроме Екатерины, живущей в Петергофе), всё равно должны каждый день приезжать сюда, и я желаю, чтобы вы были больше со мной, чем с императрицей...
Но не послушалась своего крестного отца Екатерина Романовна и продолжала бывать у императрицы больше, чем у императора. И на это сумел Пётр произнести фразу, которую она запомнила на всю свою жизнь и оценила только много времени спустя после его гибели:
Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон...
Ещё с вечера она приказала приготовить себе парадное платье — мало ли для чего оно могло понадобиться, — а уж если ехать в Петергоф на парадный обед, то без такого парадного платья, или робы, как называли этот тяжёлый наряд, не обойтись. Так она и не решила, поедет в Петергоф или же притворится больной, провертелась в громоздких тяжёлых одеялах до самого рассвета и заснула, вся наполненная мрачными предчувствиями и тягостными думами...
Так и не увидела Екатерина Романовна, как подъехала к казармам Измайловского полка будущая самодержавная императрица, как метался Григорий Орлов от одного домишка до другого, где жили солдаты, и сперва появились перед Екатериной лишь с десяток солдат. Но и они кричали ей здравицу, хлопали ошалелыми глазами, глядя, как с их помощью, с их согласия и ободрения становится на русский престол жена их государя, приехавшая просить у солдат защиты от мужа-самодура, угрожающего её жизни, а главное — жизни наследника трона, Павла...
Григорий бегал и бегал от одного домишка до другого, солдаты выскакивали в одном нижнем белье, но, схватившись за ружья, подбегали к поцарапанной обветшалой коляске, где в траурном платье и неказистой чёрной шляпе, собрав волосы на затылке под простенький гребень, стояла Екатерина.
Она обратилась к ним со словами, которые могли бы растрогать сердце самого жестокосердного человека, просила защиты и ободрения. И солдаты в немом восторге от собственной значимости дивились на эту кроткую и трогательную беззащитную женщину, ищущую у них защиты и утешения.
А Григорий уже вёл к коляске старенького полкового священника — отца Алексея — и тут же стал приводить к присяге солдат. Отец Алексей давно уже был обласкан Орловыми, и Екатерина понимала, что без его согласия, без его участия не смогла бы состояться эта скоропалительная присяга, которую солдаты давали ей, матушке-государыне Екатерине...
Но тут на своём гнедом иноходце появился полковник Измайловского полка, и сердце Екатерины дрогнуло: а ну как своенравный полковник, малороссийский гетман, обласканный и задаренный троном всем, что только было возможно, гаркнет на солдат, скажет слова о верности императору, которых Екатерина боялась, солдаты ведь тоже давали ему присягу, — и всё рухнет, ничто не состоится. Но она одёрнула себя: прекрасно зная об отношении Разумовского к императору, далее и думать не хотела, что Кирилл Разумовский пойдёт против неё...
И полковник сделал так, как представляла себе Екатерина ещё за минуту до его поступка: он спрыгнул со своего громадного коня, упал на колени перед Екатериной и приложился губами к её руке...
Она победила Измайловский полк, хотя хорошо понимала, что ничего ещё не кончено, что надо поднять солдат других полков, что одного Измайловского полка совершенно недостаточно. И это нужно было делать теперь, сейчас, хоть ни плана, ни какого-либо устремления всё ещё так и не состоялось. Григорий предложил идти всем полком с Екатериной во главе на Фонтанку, к Семёновскому полку, чтобы поднять этот полк, и снова идти, теперь уже к Преображенскому, потом к другим полкам, которые уже были готовы к тому, чтобы провозгласить Екатерину самодержицей.
Но едва полк, так и не построившийся в стройные колонны, повернул на мост через Неву, чтобы свернуть направо, к казармам Семёновского полка, как надобность в этом миновала — семёновцы бежали навстречу, радостно крича, бежали толпой, без всякого строя: они давно уже были подготовлены Орловыми и теперь спешили занять первые места в кортеже Екатерины.
Екатерина давно уже поняла, что Алексей Орлов в принципе обманул её, ничто не было готово к перевороту, солдаты только теперь узнавали о провозглашении её императрицей, но она уяснила также, что момент был действительно нужным, именно этот момент, потому что в армии высшей точкой недовольства Петром оставалось лишь это время. И пусть всё идёт так, как идёт — распропагандированные солдаты присоединяются к кортежу Екатерины, всё ещё едущей в дрянной коляске, в траурном платье и чёрной шляпе...
Французский поверенный в иностранных делах в Петербурге Рюльер так писал о восхождении Екатерины на престол:
«Чтобы сделаться самодержавной властительницей самого обширного государства в мире, прибыла Екатерина между семью и восемью часами, она отправилась в дорогу, поверив на слово солдату, везли её крестьяне, сопровождал любовник, и сзади следовали горничная и парикмахер...»
Бежали и бежали к Екатерине солдаты других полков, узнавшие о перевороте, и становились в хвост огромной уже к девяти часам процессии. Лишь один Преображенский полк сделал слабую попытку сопротивления.
Командовал ротой в этом полку Семён Воронцов, и полк был предан Петру. Семён, как и другие, мечтал о том, чтобы его сестра заняла место Екатерины, и сегодняшний парадный обед в Петергофе должен был упрочить не только его положение, но и положение всех его родичей.
Поэтому он не пожелал помогать делу, которое вело к краху всех его надежд. Кроме того, Семён Воронцов ни на минуту не забывал, что присягал он на верность Петру, и потому в решительную минуту он обратился к солдатам с речью, и под его влиянием полк бросился на толпу, обступившую Екатерину. Две маленькие армии встретились перед самой церковью Казанской Божьей Матери. Екатерину окружала беспорядочная, хотя и огромная толпа солдат, а преображенцы шли стройными рядами, и им ничего не стоило рассеять эту хаотическую свиту Екатерины.
Но счастье Екатерины было предопределено. Две армии стояли друг против друга, и неизвестно, кто выдержал бы это сражение.
Вдруг один из сослуживцев Семёна Воронцова, шедший в самом конце полка, крикнул изо всех сил:
— Ура! Да здравствует императрица!
И этого было достаточно: словно сигнальный выстрел потряс весь полк. Солдаты кинулись к своим братьям по оружию других полков, вставали на колени перед Екатериной и раскаивались в том, что собирались было рассеять толпу сторонников Екатерины. Они вымаливали у царицы прощение за то, что сразу не признали своих товарищей, винили во всём своих офицеров. Арестовав Воронцова и Воейкова, они заставили их переломить шпаги перед Екатериной.
Никогда, во всё время своего царствования не могла Екатерина забыть этот момент, когда её жизнь и корона были в такой опасности. Сердце у неё замерло, она следила глазами за колышущимся морем голов и каждую минуту ждала провала всей операции. И позже, при других обстоятельствах, в другие времена, не могла Екатерина простить Семёну Воронцову и Воейкову эту тягостную для неё минуту.
Семён Воронцов был известен как храбрый воин и отличный командир, но он вынужден был выйти в отставку, и Екатерина услала его в почётную ссылку — послом в Лондон. Недоброжелательством был отмечен каждый шаг Екатерины по отношению к Воронцову. Как ни странно, сестру его не коснулась тяжёлая царская десница. Екатерина просто приказала ей поселиться в подмосковных деревнях и не выезжать оттуда до её указа...
Минута, когда всё пришло в смятение, кончилась. Екатерина нимало не дрогнула и поспешила в Казанский собор. Священники встретили её с распростёртыми объятиями. И неудивительно. Только три дня назад при освящении евангелического костёла в Ораниенбауме Пётр распорядился считать все религии в государстве полноправными, и костёл для своих голштинцев был одним из его орудий, направленных против духовенства. Пётр приказал отобрать все земли, принадлежащие монастырям и церквям, и передать их в казну государства. Священники дружно восстали против этого, разнесли слухи, что император хочет всех записать в прусскую веру, притесняет духовенство. Екатерина явилась для них избавительницей и защитницей православия, их земель и богатств. Дружной семьёй вышли они из Казанского собора и устроили Екатерине благодарственный молебен по случаю вступления на российский престол...
И лишь тогда, после этого молебна, после благодарственных молений Екатерина отправилась в Зимний дворец, сопровождаемая теперь уже бесчисленной толпой: к солдатам присоединились и горожане, толком так и не знающие, что происходит, но любопытные и зеваки, каких всегда было много на петербургских улицах.
В Зимнем дворце Екатерину уже ожидали члены Сената, Синода, знатные люди государства. Они поспешили принести ей присягу в верности, и сенаторы уже советовали ей, что предпринять дальше...
Княгиня Дашкова узнала обо всём происшедшем только в середине дня, когда кухарки и служанки собрались на рынок за припасами и обнаружили, что все лавки закрыты, а на улицах течёт громадная людская толпа.
Старая нянька поспешила разбудить княгиню, и та встала с ругательствами за раннее пробуждение, потому что голова её всё ещё не пришла в порядок от тягостных дум ночью.
Но нянька быстро закрыла рот Екатерине Романовне словами:
— Говорят, императрицу провозгласили, уж и молебен в Казанском соборе был...
Княгиню словно подхватило с постели.
Вот когда пригодилось парадное платье. Она ещё порасспросила своих слуг и поняла, что Екатерина, провозглашённая императрицей, уже работает в Зимнем, при ней и сенаторы, и Священный синод, и все уже принесли присягу новой самодержавной императрице...
Дашкова велела закладывать карету, и, обрядившись в парадное платье, поехала к Зимнему.
На площади перед дворцом было не протолкнуться. Море голов, видное из окон Зимнего, составляло огромную толпу, и Екатерина Романовна поняла, что ближе к дворцу ей не проехать. Она велела кучеру остановиться на самом краю, где народу было поменьше.
Она вышла из кареты и решилась уже перейти площадь, хоть и не знала, сумеет ли одолеть такую густую и плотную толпу. На её счастье, несколько военных, которые стояли в толпе, узнали её, подняли на руки и понесли поверх голов стоявших на площади людей.
Опустили её только перед самым входом во дворец. Она удивилась, что нигде нет постов и что каждый, кто стоял на площади, мог в любое время войти во дворец и выйти из него. Но это соображение скользнуло в её голове как-то быстро, просто ей было отрадно, что никто не остановил её.
Мельком увидела она своего дядю, канцлера Воронцова. Он пришёл во дворец, заметил Екатерину и спросил её, почему она покинула Петергоф, поскольку сегодня должен был состояться парадный обед. Он ничего не понимал во всей этой ситуации, и Екатерина не стала объяснять канцлеру то, что свершилось. Она лишь знаком показала ему на стопку отпечатанных манифестов, а потом на море голов перед Зимним дворцом.
Воронцова увели. Ему предложили пойти в церковь целовать крест на верность Екатерине. Он не сопротивлялся, послушно присягнул Екатерине в верности, и больше у него не было возможности спрашивать Екатерину о её поведении.
Княгиня добралась до дворца как раз в то время, когда Сенат, Синод и все правительственные чиновники давали присягу, как давали до этого присягу и гвардейские полки. А раз полки доверились Екатерине, поддержали её, то и все высшие чиновники империи вслед за войсками присягнули на верность императрице, с нынешнего дня ставшей самодержицей...
Дашкова поднялась по мраморной лестнице, забитой людьми, бродившими туда-сюда, гвардейцами и горожанами, и очутилась перед громадной тяжёлой резной дверью. Только тут и был караул — на часах стояли гвардейцы Измайловского полка. Но лицо княгини показалось знакомым одному из солдат, и он услужливо распахнул резную высоченную дверь. Екатерина Романовна едва не зажмурилась — настолько много света, солнечного сияния брызнуло ей прямо в глаза. Двухсветная зала поражала обилием солнечных искорок, сверкавших на золочёных воротниках и плечах сенатских деятелей, а от риз, надетых на высших священников Синода и покрытых сплошным узором золота, стреляли сияющие искры.
Золототканые одежды так и светились в огромном море солнечного блеска, и лишь фигура императрицы, стоявшей впереди всех этих раззолоченных чиновников, выбивалась из общего сияния. На Екатерине всё ещё было надето простое чёрное траурное платье, а её густые каштановые косы прикрывала чёрная кружевная шляпа.
Екатерина увидела свою подругу и едва сделала шаг к ней навстречу, как княгиня подбежала к молодой императрице и сжала её в своих объятиях.
Обняла Дашкову и Екатерина. Обе они только и выговаривали единственное:
— Слава Богу! Слава Богу!
Руки их разжались, и Дашкова увидела, что на Екатерине ещё нет голубой Андреевской ленты, а через плечо протянута лента ордена Святой Екатерины. «Как же так, — подумала княгиня, — ведь орден Святой Екатерины был дан ещё молоденькой немецкой принцессе, когда перед свадьбой императрица Елизавета надела его на Екатерину. А знак высшего монаршего достоинства на Екатерине теперь отсутствует».
И Дашкова не растерялась. Рядом стоял её дядя, Никита Панин, воспитатель Павла, уже показавший народу маленького наследника, — Екатерина подхватила Павла из рук Панина и вышла с ним на балкон. На груди Панина голубела лента Андреевского ордена.
Княгиня подбежала к Панину, рывком сняла голубую ленту с его плеча, снова подбежала к Екатерине и водрузила ей на грудь эту ленту. Но ей пришлось снять ленту ордена Святой Екатерины и спрятать её в свой карман.
Только тогда княгиня увидела стопку сложенных манифестов, взяла один из них и поспешила домой, чтобы пообедать, привести себя в порядок и подогнать по фигуре мундир поручика Пушкина, отдавшего ей свой наряд.
Дома она тщательно изучила манифест, отпечатанный ещё ночью в типографии Тауберта по приказу Разумовского, и нашла, что слог его очень хорош и отвечает всем правилам русской теперешней грамматики.
«Божией милостью мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссийская и пр., и пр., и пр.
Всем прямым сынам отечества российского явно оказалось, какая опасность всему государству российскому начиналась самим делом. А именно, закон наш православный греческий перво всего восчувствовал своё потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона.
Второе. Слава российская, возведённая на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое своё кровопролитие заключением нового мира с самым ея злодеем отдана уже в действительное порабощение. А между тем внутренние порядки, составляющие целость всего нашего отечества, совсем ниспровержены. Того ради убеждены будучи всех наших верноподданных таковою опасностью, принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных, ясное и нелицемерное, вступили на престол наш российский самодержавный, в чём и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили...»
Подписано было Екатериной...
Нашла Екатерина и её тайные сторонники, чем уколоть сердце русского человека — переменой вероисповедания с греческого на лютеранский. Да, лишь это и бросалось в глаза прежде всего, а какой русский человек не восстанет против такого! Поняла Екатерина душу и сердце русского народа, строго державшегося за свою веру и готового ради неё идти на смерть и любые муки.
С самого утра, как сказывали княгине её служанки, уже не преминувшие затеряться в толпе, восславляющей новую императрицу, раздавались народу отпечатанные листки манифеста. Но как же было мало грамотных в столице России, если возле каждого читальщика собирались целые толпы, задние недослышали и втискивались в другую толпу, просили и требовали повторить тот или иной кусок текста! И главным во всём манифесте было только одно — угроза переменить вероисповедание. Это действовало как кнут, занесённый над головой, это вызывало немедленную реакцию православных, тем более что и священнослужители присоединили свои голоса к голосу народа — Пётр лишил их поместий, уделов, крепостных крестьян, а новая императрица, как думалось священникам, не сделает такой ошибки, какую сделал Пётр...
Из Зимнего княгиня поехала к себе в дом, задала задачу портному, приказав подогнать мундир преображенца на свою фигуру, пообедала и решила снова поехать к императрице.
Но в Зимнем она уже не застала ни Екатерины, ни Сената, ни Синода. Все перебрались в Летний Елизаветинский дворец, туда же были стянуты и все войска.
Летний дворец Елизаветы помещался прямо напротив дворца Строгановых, и Екатерине пришлось просить графа Строганова сделать её своей постоялицей: во дворце не оказалось ничего, кроме голых стен да кое-какой запущенной мебели. И слуги, которые уже к тому времени появились у Екатерины, были вынуждены перетаскивать из дворца Строгановых и мебель, и посуду, да сверх того ещё и приготовить там обед для императрицы...
Но к Елизаветинскому дворцу у Полицейского моста уже стягивались все войска. Теперь это были уже не войска, одетые в похожую на прусскую форму, а как бы вернувшиеся во времена Елизаветы. Каптенармусы[23] без всякого на то приказа на больших фурах привезли к полкам старые елизаветинские мундиры, хранившиеся в полковых цейхгаузах[24], и солдаты мигом переоделись. Даже Екатерина, выйдя из Зимнего дворца, не узнала своих пособников...
Когда княгиня подъехала в своей карете к Полицейскому мосту, ей показалось, что вокруг Летнего дворца раскинулся военный лагерь. По обе стороны моста тянулись чёткие ряды солдат, с удовольствием и радостью выполнявших все команды своих офицеров, а сам дворец был оцеплен густой сетью солдат.
Но княгиню беспрепятственно пропускали везде: уже все знали, что она — одна из главных фигур переворота, что её помощь и поддержка помогли Екатерине занять российский престол, и потому она только ласково улыбалась гвардейцам, останавливающим экипаж. Увидев её лицо, солдаты опускали ружья, и проезд княгине был обеспечен.
«Это очень умно со стороны императрицы, — подумала княгиня, — но ведь Пётр может неожиданно приехать, и неизвестно, с какой стороны его ждать». С этой мыслью она и ринулась в громадную, почти пустую залу, где совещались и новая императрица, и все члены Сената, и даже священнослужители, руководившие Святейшим синодом.
Гвардейцы, стоявшие на часах перед входом в залу совещаний, молча распахнули дверь перед молоденькой княгиней.
На кое-как составленных стульях сидели раззолоченные сенаторы, а на обтрёпанном стуле перед ними сидела, а чаще всего расхаживала Екатерина.
Княгиня вошла и оторопела — все члены Сената встали и поклонились ей в пояс. Она ответила реверансом и тут же подошла к Екатерине.
— Надеюсь, вы обезопасили себя? — тихонько шепнула она на ухо императрице. — Ведь Пётр может объявиться с минуты на минуту...
— О, не беспокойтесь, княгиня, — улыбнулась Екатерина своей помощнице, — с самого утра везде патрули, военные любят порядок, а к единственному проезду у Калинкина моста отряжён эскадрон. И бывший император послал туда, к этой дороге, свой любимый конногвардейский полк. Но солдаты перешли на нашу сторону, а офицеров арестовали...
— Да, но с моря... — не унималась княгиня.
— И там тоже всё в порядке. Теперь вот готовим указы для всей армии с требованием принести присягу новому царствованию...
— Извините, господа, — повернулась княгиня в сторону сенаторов, — что я отняла у вас время и государыню...
Екатерина снова улыбнулась княгине, и молоденькая сподвижница выскочила за дверь.
И вновь началось совещание важных сановников и новорождённой императрицы.
Как поступать дальше, что предпринять, как обезопасить себя и столицу от возможного приезда императора? Конечно, нужно было прежде всего опередить Петра в армии, написать манифесты о восшествии Екатерины на престол, развезти их по войскам, а особенно в те войска, что уже приготовились к походу в Данию. И тут смелая и неожиданная мысль пришла в голову Екатерине. Манифесты ещё нужно было написать, и хотя секретарь Теплов был под рукой, но необходимо время, чтобы войска узнали о совершившемся перевороте и о присяге гвардии императрице. Конечно, сразу же следует отправить гонцов во все полки и команды, в Кронштадт, на все флотилии и суда с манифестом и присяжными листами. На всё это нужно время. Поэтому решили не соблюдать проформу, а вместо указа дать, например в Кронштадт, только записку самой Екатерины с указанием повиноваться посланному ею лицу.
Всё равно, надо было начать действовать — от Петра уже явились посланцы, царедворцы, искавшие лишь предлога удалиться от императора.
Но у Петра были в Ораниенбауме его любимые голштинцы, он мог уехать к войску, подготовленному для войны с Данией, как ему и предлагал фельдмаршал Миних, он мог захватить Кронштадт. И Екатерина возвестила, что сама пойдёт в Ораниенбаум впереди войск.
Это решение было встречено шумным ликованием. Все прекрасно сознавали, что этот поход будет только прогулкой, развлечением. Солдаты, стоящие с утра под ружьём, радовались, что наконец-то будет завершение их труду, в котором они сыграли такую видную роль.
И войско стало собираться в поход на законного императора. Первыми выступили легкоконные полки, преимущественно гусары и казаки. Их повёл Алексей Орлов.
Князю Мещёрскому указано было предводительствовать артиллерией с несколькими полевыми полками.
Сама Екатерина взялась руководить гвардией, которая должна была составить арьергард.
К десяти вечера все войска ушли из столицы. Екатерина оставила Сенату записку:
«Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтоб утвердить и обнадёжить престол, оставляя вам, яко доверенному лицу, верховному моему правительству, с полною доверенностью, под стражу: отечество, народ и сына моего. Екатерина».
Сенат во всё время похода заседал в зале Елизаветинского дворца, а в смежной зале помещался наследник престола, Павел. Сенат обязан был как можно чаще сообщать Екатерине все новости...
Гвардейские полки выстроились перед дворцом. Екатерина явилась перед солдатами в мундире Преображенского полка, на высоком белоснежном коне, с саблей в руке и возвестила громким голосом, слышном во всех концах близлежащих улиц, что она возвела сама себя в чин полковника Преображенского полка и сама поведёт гвардию вперёд, чтобы защитить и отстоять честь императорской фамилии, наследника престола и себя, императрицу всероссийскую.
Многократное громкоголосое «Ура!», «Да здравствует императрица Екатерина!», «Многая лета матушке Екатерине!» заставило трепетать воздух над Мойкой, и солдаты, которых императрица пропускала мимо себя, восторженно кричали и кричали ей здравицы. Вся гвардия выступала повзводно, солдаты шли церемониальным маршем, и народ Петербурга также поддерживал многоголосые крики, переполняя воздух белой ночи восторгом и радостью.
В десять вечера, когда с Невы потянуло прохладой, а светлый сумрак белой ночи просветлел ещё более, готовясь к раннему восходу солнца, Екатерина выехала перед последними взводами гвардейцев в мундире и с саблей.
Она была очень хороша в этом радостном волнении светлого вечера: зелёный мундир, красные лацканы, высокие ботфорты, треуголка, украшенная плюмажем и золотой бахромой, — всё было ей к лицу.
Такой и увидела её княгиня Дашкова, когда вылетела из ближайшего переулка на громадном вороном коне с широкой, словно диван, спиной. Она была также одета в мундир Преображенского полка, хорошо подогнанный по её хрупкой фигуре.
Она оглядела сидящую на белоснежном рысаке Екатерину и сравнила её с собой. Обе они выглядели прекрасно, и может быть, такое возможно было лишь сегодня, в день торжества Екатерины. «Наверное, мундир императрицы будет храниться как реликвия в роду Александра Талызина, у которого Екатерина позаимствовала мундир», — подумала Дашкова, и в голове у неё мелькнуло, что и её мундир, позаимствованный ею у поручика Пушкина, тоже станет реликвией...
Она подскакала к Екатерине и вскинула руку в приветствии.
— Опаздываете, княгиня, — ласково уколола её Екатерина, — уже прошли все полки, остались лишь несколько взводов для охраны...
— О, ваше величество, — разулыбалась Дашкова, — вы не поверите, но меня задержал мой портной...
Екатерина отметила про себя, что Дашкова не сказала ей даже слова извинения, а ответила так, как будто портной — самое главное дело в её жизни. И уже тогда закралось у неё сомнение: так ли уж предана ей молоденькая княгиня?
А княгиня Дашкова сияла от лучей славы, которые падали на неё через Екатерину, императрицу.
И уже через день слава нашла Дашкову: иностранные министры при русском дворе отписали своим правительствам, что Екатерина ехала в Ораниенбаум вместе с молоденькой — девятнадцати лет — княгиней Дашковой, руководительницей всего заговора. «Она возвела Екатерину на престол!» — разнеслось по всей Европе.
Это был её звёздный час — час, который оставил её имя в истории.
Но княгиня напрасно строила воздушные замки. Как и посланники при русском дворе, она ожидала, что уж если не править ей вместе с Екатериной, то хотя бы управлять внешней политикой, быть министром. Но её честолюбие столкнулось с честолюбием самой Екатерины, и всего через несколько месяцев Дашкова оказалась в оппозиции к новой императрице.
Пока же она скакала рядом с Екатериной и упивалась сознанием своей особой роли в судьбе русской императрицы.
4
Всего девять вёрст от Петербурга прошли войска, возглавляемые Екатериной, Это было для княгини поистине незабываемое зрелище — впереди небольшой отряд конных гвардейцев, за ними на довольно значительном расстоянии Екатерина и княгиня Дашкова на своих чистокровных великолепных лошадях, сзади блестящая свита царедворцев, и только потом замыкающий отряд конных гвардейцев.
Княгиня то и дело поглядывала на императрицу, отныне самодержицу всероссийскую. Та сидела на своём белом скакуне гордо и величественно, и даже треуголка, слегка сползавшая ей на лоб, не мешала ей красиво держать удила, и конь покорно слушался её, умеряя шаг. Княгиня старалась держаться так же, как императрица, и радужные мечты застилали ей глаза, заставляли рисовать в воображении картины того, как она, княгиня, будет ведать всей внешней политикой России, влезать во все государственные дела и даже, может быть, давать советы Екатерине и слегка руководить ею...
К Екатерине подъехал кто-то из важных сановников и тихо шепнул ей на ухо, что войска слишком устали и пора позаботиться о ночлеге.
Екатерина встрепенулась. Да, конечно, с восьми утра были солдаты под ружьём, присягали, затем охраняли её в Зимнем, а потом и в Елизаветинском дворце и не ели, не пили с самого утра. Да и сама Екатерина чувствовала, что и ей, с раннего утра бывшей в таком напряжении, в лучах поднимающейся славы и огромных забот, следует отдохнуть.
Скоро подъехали к неказистой деревушке с единственной харчевней, которую местные крестьяне весело окрестили «Красным кабаком», и Екатерина решила отдохнуть здесь.
Сумеречный свет белой ночи позволял видеть всё вокруг, и солдаты немедленно расположились биваками[25] вокруг харчевни. Загорелись бледные в северной ночи костры, кашевары взялись за приготовление пищи, а солдаты немедленно повалились прямо на землю и прикрыли глаза в ожидании каши...
Для Екатерины и княгини Дашковой не нашлось иного места, как на старой деревянной кровати в самом просторном помещении харчевни. Кровать была ветхая, крестьянская, не слишком чистые тряпицы покрывали её поверхность, но женщины быстро вышли из положения. Княгиня Дашкова присмотрелась к длинному тёплому и широкому плащу капитана гвардейцев и выпросила его для отдыха императрицы.
Плащ отлично заменил и простыни, и одеяла. На его свободной и мягкой подкладке они удобно разместились, отвернувшись друг от друга. Сапоги и мундиры решено было не снимать: слишком кратким был отдых — всего три часа. Уже на самом рассвете необходимо было снова садиться на лошадей и отправляться в путь. Теперь они должны были добраться до Петергофа и там ждать вестей от передового отряда Алексея Орлова.
Но волнения сегодняшнего дня, продолжающегося так долго, не давали им уснуть. Поворочавшись, поёрзав на подкладке офицерского плаща, они вместе взглянули друг на друга и расхохотались. Не спалось обеим.
— Что ж, не спим, значит, будем работать, — сказала Екатерина и тут же, пристроившись с пером, принялась сочинять манифесты, которые надо было выпустить в народ не далее как завтра.
Впрочем, о каком завтра могла идти речь — уже сегодня, поскольку в крохотные слюдяные окна уже давно светила белёсая мгла белой ночи и вот-вот и прольются в них солнечные лучи.
Они тихонько заговорили. Екатерина делилась с подругой мыслями о стиле манифестов. Княгиня сразу же стала оспаривать её мысли, направлять их в сторону — необходимую, как ей казалось. Екатерина задумчиво взглядывала на княгиню, грызя кончик приготовленного для неё пера.
Внезапно взгляд княгини упал на тесовую перегородку, в которой она увидела небольшую тёмную дверь.
— Ваше величество, — прервала она ход мыслей Екатерины, — вы не знаете, куда ведёт эта дверца?
Екатерина удивлённо оглянулась на дверь.
— Вы, конечно, позволите мне проверить, куда выходит эта дверь и нет ли там для вас опасности...
Не успела она ещё закрыть рот, как в противоположную дверь тихо вошёл дежурный офицер и свистящим шёпотом доложил:
— Никита Иванович просит принять...
— Зовите, зовите, — спрыгнула с просторной кровати Екатерина и обернулась к княгине. — Да, да, идите, княгиня, проверьте, что там...
Екатерина Романовна ещё помедлила, хотела взглянуть на Панина, но увидела холодное лицо императрицы и поняла, что та не жаждет тройной встречи. А Панин приехал из Сената, может быть, привёз новости, которые княгине и вовсе не полагалось знать...
Дашкова с силой толкнула дверцу за спинкой кровати, дверь тревожно заскрипела на ржавых петлях — видно, давно никто не ходил этим ходом.
Княгиня распахнула небольшую дверцу и вошла, не оглядываясь, в длинный тёмный коридор. Здесь не было даже таких крошечных слюдяных окошек, как в спальне, и она осторожно нашаривала ногой пол, чтобы избежать ненужных случайностей.
Коридор привёл её к другой дверце, точно такой, как и за кроватью императрицы. И снова ей пришлось приложить немалые усилия, чтобы открыть её. Дверь также натужно и тягуче заскрипела, и прямо в лицо княгини ударил белёсый свет северной ночи.
Она постояла на пороге, привыкая к свету, потом увидела на дворе множество гвардейцев, расположившихся на ночлег.
Дашкова прошла между спящими солдатами, не выпускающими из рук оружия, заметила тихо разговаривающего с солдатом молоденького гвардейского офицера и сразу же приступила к своей цели.
— Вы, молодой человек, знаете, кого вас поставили охранять?
Офицер вскочил, вытянулся перед княгиней, узнав в ней ту, что ехала во главе отряда рядом с императрицей, и не нашёлся что ответить.
— Вы охраняете саму императрицу,— выговаривала ему княгиня на французском языке, — и вы даже не потрудились поставить караул у дверей, которые ведут в спальню...
Она всё распекала и распекала бедного молоденького офицера, и голос её становился всё громче, выше и пронзительнее.
Его услышала и Екатерина.
— О, — пожаловалась она Панину, — характер у вашей племянницы совсем не мёд…
— Ну, вы ещё узнаете его хорошо, — пообещал Панин, тоже знающий, каким вздорным и вспыльчивым характером обладает его племянница.
А княгиня вернулась с самым победительным видом и чётко отрапортовала:
— Ваше величество, караул у вашей двери поставлен...
И только тут она повернулась к Панину:
— Здравствуйте, дядюшка. С чем приехали?
Екатерина поняла, что и в этой беседе княгиня грозит захватить первенствующее положение, и потому вмешалась в разговор, обратившись к Панину:
— Ну, мы уже всё обсудили, вам пора обратно или вы останетесь до Петергофа?
— Пожалуй, пойду, прилягу где-нибудь в сене, а утром провожу вас до замка...
Две женщины снова улеглись на просторную кровать, но заснуть им так и не удалось. Скоро запели полковые рожки, забили барабаны, зовя солдат в поход, и вот уже вся рать, вышедшая с императрицей против её собственного мужа, погасила бледные костры, собралась с силами, и заржали кони, готовые к новому походу, зазвенели шпоры и стремена, и снова уселись в сёдла две женщины и возглавили поход в Петергоф...
Никита Иванович Панин возвратился в Петербург, чтобы передать Сенату повеление императрицы об обеспечении безопасности столицы со стороны моря. Догнал Панин кортеж уже почти у Петергофа, вновь привезя известия, что в Петербурге всё спокойно и Кронштадт присягнул Екатерине.
До самого Троице-Сергиева монастыря корпус двигался безостановочно. И всё это время, в течение нескольких часов сердце Екатерины разрывало лишь одно: что делает Пётр, что устроено им для обороны, где отряд Алексея Орлова? Пока что не было никаких известий ниоткуда, и княгиня Дашкова, взглядывая на ехавшую рядом с нею императрицу, тоже волновалась и тревожилась обо всём на свете.
Только подъехав к монастырю, обе они наконец успокоились. Стали попадаться на дороге люди, бежавшие от Петра, и разведчики из голштинцев, посланные Петром для выяснения обстановки.
Спешившись у монастыря, давая себе краткий отдых, обе женщины успокоились совершенно.
У ворот их ожидал вице-канцлер Голицын, привёзший письмо от Петра Третьего.
Екатерина сошла с коня и внимательно прочитала письмо мужа. Через её плечо взглянула на листок бумаги и княгиня Дашкова.
— Ваше величество, — заговорила она, едва увидела, что Екатерина дочитала все строки, нацарапанные Петром, — мне кажется, начать ему ответ следует таким образом...
И она приготовилась раскрыть свои мысли, но Екатерина вдруг резко оборвала её:
— Никакого ответа не будет. Нельзя создавать у бывшего императора иллюзию, что всё ещё может поправиться...
А именно об этом и писал Пётр: он осознал, что был не прав, обещал жене исправиться и предлагал полное примирение.
Екатерина строго посмотрела на вице-канцлера князя Голицына, и тот поспешил заверить её, что немедленно принесёт присягу в верности ей, императрице.
Теперь настроение Екатерины изменилось, она стала весела и добродушно шутила с приближёнными. Её задача была уже наполовину выполнена — теперь нужно было получить от Петра полное отречение от трона.
От князя Голицына получила Екатерина и полную информацию о том, что происходило и происходит в Ораниенбауме. Князь рассказал ей о неудавшейся экспедиции в Кронштадт и о бурном налёте Алексея Орлова с гусарами. Ещё в пять часов утра гусары прискакали в Петергоф, увидели несколько сот голштинских новобранцев, согнанных на плац для муштровки, опрокинули их, смяли, вырвав деревянные мушкеты, и рассадили всех по подвалам и другим надёжным местам. Узнав, что Пётр находится в Ораниенбауме, Алексей Орлов поскакал туда, и его гусары заняли все посты и входы, отрезав таким образом бывшего императора от всяких сообщений с миром.
Екатерина въехала в Петергоф уже в одиннадцать часов утра с блестящей свитой, войска разместились в зверинце, где ещё недавно маршировали петровские голштинцы.
Громовое «Ура!» встретило императрицу. Здесь она наконец смогла удобно расположиться и засесть за тысячи манифестов и указов, которые следовало выпустить новой власти.
Сюда, в Петергоф, приехал из Ораниенбаума генерал Петра Измайлов. Он привёз Екатерине второе письмо Петра. И тон этого письма был совсем другой. Пётр просил у жены прощения, обещал отказаться от всех прав на российский престол, но умолял выдать ему небольшую сумму денег, чтобы он мог отъехать в свою любимую Голштинию с любимым адъютантом Гудовичем и любовницей Елизаветой Воронцовой.
Очень внимательно читала это письмо Екатерина. И усмехалась. Разве в самом деле уяснил своё положение Пётр, если он хочет уехать в Голштинию, да ещё и получать субсидии от русского престола, разве не понял он, что свергнут, отринут от трона, разве имеет он право ещё что-то просить?
— У вас, ваше величество, есть документ, узаконивающий весь переворот, — не выдержала княгиня Дашкова, — теперь ваше положение безопасно.
Екатерина со вздохом прервала княгиню:
— Пётр сидит в Ораниенбауме, у него много голштинских солдат: если идти туда, может произойти кровопролитие, а этого я и опасаюсь.
Она пристально взглянула на Измайлова и проговорила:
— Мне нужен официальный документ — полное отречение от короны и по всем соответствующим правилам...
Она смотрела на генерала, и он понял, что необходимо сделать ему, чтобы завоевать милость императрицы.
— Если вы доверяете мне, — тихо ответил он, — я берусь доставить вам такой документ...
— Я вам верю, — также тихо сказала Екатерина, — но я дам вам бумагу, откуда надо будет переписать всё в точности, дословно, — тогда его отречение будет считаться действительным...
Екатерина написала записку Петру, в которой требовала, чтобы он «удостоверение дал письменно и своеручно» в том, что отказывается от престола «добровольно и непринуждённо».
Ещё несколько минут потребовалось, чтобы составить текст отречения, который Пётр должен был переписать и под которым ему следовало подписаться...
Всё так и случилось, как предсказывал Измайлов. Пётр настолько ослабел и стал беспомощным, на все согласным, что уговорить его оставить российский престол уже не составляло никакого труда.
Измайлов вышел из кабинета Петра, держа в руках нужную бумагу. На конце её стояла подпись Петра.
Григорий Орлов и князь Голицын, сопровождавшие Измайлова, схватили драгоценный акт отречения и тут же поспешили в Петергоф.
А через несколько минут после их отъезда отправился в Петергоф и Пётр — в закрытой четырёхместной карете с Гудовичем, Воронцовой и Измайловым. Генерал до конца выполнил свою миссию: он не только добился от Петра отречения, но и сумел привезти бывшего царя в Петергоф.
Конвой из гусар, которыми руководил молодой и красивый капрал Григорий Потёмкин, тут же окружил карету. Собственно, это не было арестом формальным, но так получалось, что Пётр попал в руки своих врагов и больше уже не сопротивлялся своей скорбной судьбе...
Едва он подъехал ко дворцу, как молча вышел, молча сдал дежурному офицеру свою шпагу, а лента Андреевского ордена была с него снята как излишняя. Гудович и Воронцова были арестованы, и Пётр остался один.
Ему предложили подобрать для себя место пребывания, он назвал Ропшу, и скоро карета поехала опять — теперь уже на отдалённую мызу[26], в Ропшу, и сопровождали её гвардейцы под начальством Алексея Орлова.
Дело было сделано, можно было возвращаться в столицу...
Апартаменты княгине Дашковой отвели рядом с покоями императрицы. Она разделась, сбросив большие для её ног ботфорты, скинула надоевший гвардейский мундир и нырнула под легчайшее пуховое одеяло. Сон сморил её мгновенно...
А Екатерина в это время работала с секретарями, Паниным и сочиняла новый манифест, который был обращён к сенаторам. Собственно, это был почти дневник, и княгиня Дашкова первая прочла отчёт о петергофском походе, написанный собственноручно императрицей:
«Господа сенаторы!
Вы сами свидетели, каким образом, при самом начатии нашего предприятия, Божье благословение пред нами и всем Отечеством нашим излиялось, а чрез сие я вам объявляю, что оная рука Божия почти и конец всему делу благословенный оказывает.
Мы маршировали от Петербурга до половины пути в неизвестности, что делается в Ораниенбауме, и на половине пути получили подлинное известие, что бывший император со всем находившимся при нём двором, оставя свои мнимые голштинские войска, ретировался на яхте и галере в Кронштадт, куда мужеск и женск пол оного своего двора всех насильно без остатка с собою взял. Но это сие предприятие было им поздно затеяно...
В Кронштадте ему было объявлено, что другого государя, кроме нашего императорского величества, не знают. И было ему объявлено, что если он немедленно не ретируется, то пушками препровождён будет.
Сие от Кронштадта, а другое уведомление о нашем к нему приближении столь много отвагу его поразило, что в убежище он немедленно возымел к раскаянию, почему и прислал к нам два письма: первое через вице-канцлера Голицына на французском языке, в коем просил помилования, а другое через генерал-майора Михаила Львовича Измайлова своеручное ж, — писанные карандашом, что была б только его жизнь спасена, а он ничего столько не желает, как совершенно на век весь свой отказаться от скипетра российского и нам оный со всяким усердием и радостью оставить готов торжественным на весь свет признанием...
Сей момент бывший император к нам в Петергоф и удостоверение своеручное, которого и копию прилагаем, нам подал, а оригинальное мы сами Сенату отдадим.
Екатерина.
Петергоф, 1762 года, июня 29».
Дашкова застала торжествующую Екатерину в то время, когда ей наконец подали обед. Но до самого момента обеда увидела княгиня в столовой зале молодого поручика Григория Орлова, возлежавшего на канапе и вскрывавшего толстые пакеты, вероятно, присланные из Сената.
Княгиня остолбенела. Она много раз видела такие пакеты, приходившие к её дяде. В таких пакетах содержались все новости, а также все тайны царского двора. Как?! Какой-то молоденький поручик, хоть и красивый собой, вскрывает государственные пакеты, тогда как делать это должны лишь особые люди, занимающиеся государственными делами?!
— Молодой человек! — вскричала княгиня. — Как вы смеете вскрывать государственные пакеты, их можно открыть только по повелению государыни-императрицы!..
Григорий внимательно посмотрел на княгиню и обворожительно улыбнулся:
— Да она же сама и приказала мне ознакомиться с этими бумагами. Но тут такая скучища...
Он не встал, как полагалось бы при разговоре с дамой, да ещё такой родовитой, как княгиня, потянулся и даже зевнул.
— Эти пакеты могли бы оставаться нераспечатанными ещё несколько дней, пока императрица не назначит особых людей, чтобы просматривать их. Ни вы, ни я для этого не годимся...
— А, вы уже здесь, — промолвила Екатерина, входя в столовую залу. — Как вы, мой герой?
И снова княгиня была поражена, с какой фамильярностью императрица разговаривает с каким-то поручиком.
— Побаливает моя нога, — неожиданно тоном капризного ребёнка проговорил Орлов, — к обеду не встану...
И он поморщился от мнимой, а может быть, от действительной боли.
— Я прикажу поднести стол прямо к канапе, — произнесла Екатерина.
Она тут же крикнула слугам, чтобы они выполнили её приказание.
— Садитесь, садитесь, княгиня, не стесняйтесь, — пригласила императрица Екатерину Романовну, когда стол был вплотную приставлен к дивану, на котором лежал поручик Орлов.
С угрюмым видом и явной холодностью к Орлову уселась княгиня за стол и лишь слегка поковыряла вилкой в тарелке, всем своим видом показывая, что никогда не стала бы делить трапезу с неродовитым да ещё и нахальным поручиком.
За столом она не сказала Орлову ни единого слова, хотя и он, и Екатерина весело переговаривались.
Двадцать лет после этого обеда Дашкова не разговаривала с Орловым. Не кланялся ей и он...
Но едва она выскочила из-за этого невыносимого для её родовой гордости стола, как тут же побежала за всем приглядывать, всё осматривать, всех распекать. Она приказала солдатам, выкатившим из подвала бочки с венгерским вином и пившим его, словно лёгкий русский мёд, немедленно вылить вино из киверов, куда они его набрали, и вкатить бочки обратно в подвал. Взамен она раздала все бывшие при ней мелкие монеты. Солдаты неохотно повиновались.
Екатерина Романовна бегала по петергофскому парку, где разместились гвардейцы, и, если где-то видела непорядок, шумела и обливала старших офицеров, а порой и солдат холодной водой насмешки и презрения.
В конце концов кто-то из офицеров попросил императрицу успокоить княгиню...
В тот же день, в седьмом часу вечера, войска отправились обратно в Петербург. Но теперь императрица уже не спешила, чтобы въехать в столицу возможно более торжественно.
Лёгкая конница на другой день, в светлое воскресенье, возглавила парадный въезд, за ней шёл императорский эскорт, за ними следовал весь придворный штат, в котором нашлось место и для Дашковой, и только потом ехала Екатерина снова в гвардейском мундире Преображенского полка как старейшей воинской части. За императрицей двигались измайловцы и семёновцы, артиллерия и три линейных полка.
Солнце светило так ярко, что золото на мундирах и белоснежные шарфы отсвечивали и кидали лучики в народ. По обеим сторонам улиц стояли горожане, уже успевшие повеселеть в одном из кабаков — все они были открыты и бесплатно поили солдат. Однако каких-либо беспорядков не было.
Торжественный перезвон колоколов заглушался порой полковой музыкой и громовым «Ура!», которым сопровождали Екатерину возбуждённые горожане — на всех крышах, в окнах, на заборах стояли петербуржцы и наперебой кричали славу новой императрице. На паперти церквей, соборов, часовен в полном торжественном облачении выходили священники и благословляли идущие мимо войска.
Белоснежный конь Екатерины медленным парадным шагом вёз императрицу. Блестящая свита придворных ехала на лошадях вслед за Екатериной, все лица были радостно возбуждены и тоже в такт с горожанами кричали славу новому царствованию.
Одна лишь Дашкова была угрюма и мрачна. Ей определили место среди свиты, а она всё устремлялась взглядом к одинокой всаднице, едущей впереди всех войск. Там, рядом с императрицей, должна была она находиться, там должна была принимать здравицу от народа.
Но нет! Она опустилась в число не самых родовитых, но блестящих лиц царской свиты, она была одна из многих.
Ещё там, на достопамятном обеде в Петергофе, княгиня поняла, что не она царит в сердце императрицы, что есть силы, которые совершили весь переворот и о которых она даже не знала: Екатерина не поделилась с нею секретом об Орловых. И теперь княгиня мучительно и злобно ревновала императрицу к Орлову, понимая, что он занял её законное место в сердце Екатерины.
Священники благословляли крестами войска, проходящие мимо многочисленных церквей, кропили их святой водой, и торжествующий гул города сливался с торжественным звоном колоколов.
Екатерина подъехала к Летнему дворцу, где уже собрались представители Сената и Синода, наследник престола и все, кто имел доступ во дворец.
Императрица проследовала прямо в придворную церковь, к молебну.
А княгиня отправилась домой, мучимая тревожными мыслями. Она хорошо понимала, что Орлов, ставший вдруг самым нежным другом Екатерины, не забудет распекавшего тона княгини, что так или иначе он постарается вытеснить её из придворного круга и из милостей императрицы.
В этом ей пришлось убедиться сразу же, едва она нанесла визит отцу, Роману Воронцову.
К нему приставили двух офицеров, стерегущих каждый его шаг. Рядом были два гвардейских полка, и надзиратели опасались каких-нибудь беспорядков в них из-за домашнего ареста Воронцова.
Княгиня тотчас нашла, что солдат, оставленных на постой в доме её отца, слишком много, и строго стала выговаривать одному из офицеров в своей всегдашней распекающей манере, ссылаясь на то, что императрица крайне благоволит к ней, Дашковой, и вынуждена будет сделать выговор и тем, кто арестовал её отца.
Всё было сделано так, как сказала княгиня. В доме Романа Воронцова оставили только нескольких солдат: распекающий тон Дашковой воздействовал на гвардейских офицеров...
Но на следующий же день, приехав в Летний дворец, княгиня со страхом увидела, как разговаривают с императрицей Орлов и тот из офицеров, что был приставлен к её отцу. Результатом этой интриги явилось то, что императрица холодно обошлась с Дашковой. Уже тогда заметила она на лице своей юной девятнадцатилетней пособницы черты скверного вздорного характера, которым так отличалась княгиня Дашкова.
Много лет спустя об этом её характере писали молоденькие сёстры Вильмот, приехавшие погостить в имение княгини. Они благожелательно относились к Дашковой, но сквозь строки писем проступает неодобрительный взгляд на неё.
«Посмотрели бы вы на княгиню, когда она в зените славы и богатства, владелицей необозримого имения, выходит на прогулку, или, говоря точнее, отправляется осматривать своих подданных!
Она одета в старое, заношенное коричневое платье, на шее платок, заношенный до дыр, — княгиня носит его уже восемнадцать лет и будет носить до самой смерти, так как он принадлежал её подруге — миссис Гамильтон. Княгиня оригинальна во всём, манера её речи своеобразна. Она всё умеет делать — помогает каменщикам возводить стены, собственными руками прокладывает дороги, кормит коров. Она сочиняет музыку, поёт и играет на музыкальных инструментах, пишет статьи, лущит зерно, поправляет священника в церкви, если тот неточен в службе, в своём театре исправляет ошибки актёров. Она доктор, аптекарь, ветеринар, плотник, судья, адвокат — одним словом, княгиня ежечасно совмещает несовместимое. Она ведёт переписку с братом, занимающим первый пост в империи, обсуждая с ним политические вопросы, с литераторами, философами, поэтами, со всеми родными, и притом у неё остаётся ещё уйма времени... По-английски говорит она чудесно, неправильно, как ребёнок, но с необычайной выразительностью, Ей всё равно — говорить по-французски, по-русски или по-английски, и она постоянно смешивает эти языки в одном предложении. Говорит она по-немецки и по-итальянски тоже хорошо... Мысли её постоянно возвращаются ко двору, кабинету, туалетной комнате и будуару Екатерины... Главная зала в Троицком украшена громадным портретом Екатерины на коне, в мундире, изображённой в день свержения с трона её мужа. Княгиня говорит, что сходство очень велико. Портреты Екатерины есть в каждой комнате...»
Этот портрет княгини Дашковой лишь завершает её характер, основой которого стали первые дни царствования Екатерины. Много чего было с тех пор — и немилость императрицы, и многолетние скитания по Европе, и смерть любимого мужа, и смерть сына, и капризы и мотовство дочери, — но она выстояла, вынесла все свои горести. И только одно она не могла простить своей царственной подруге: та наслушалась сплетен, оговоров, наговоров, тихого шёпота Орлова и отвернулась от своей пособницы, молоденькой княгини Дашковой.
5
Зимний дворец весь светился огнями. Тысячи свечей не давали тьме угнездиться в укромных уголках гигантской бальной залы. Как и всегда, на бал к Екатерине, уже двадцать лет спокойно царствующей в громадной России, съехались все самые именитые и самые родовитые люди, разукрашенные бриллиантовыми пуговицами и золотом расшитых воротников. Во всех концах залы прохаживались, прислушиваясь к разговорам, посланники всех стран, с которыми дружила Россия.
Когда в дверях появилась княгиня Дашкова, на неё начали оглядываться, улыбались, ещё не зная, как примет свою прежнюю подругу императрица. Княгиня, одетая более чем просто, не нацепившая на себя ни одного драгоценного камня, смело вгляделась в блеск и мишуру залы и улыбнулась нескольким знакомым, оказавшимся здесь.
К ней пока не подходили: никто не знал отношения Екатерины к прежней подруге, тем более что и Дашкова уже немного поотвыкла от традиций русского двора, поскольку появилась здесь после многолетних поездок по Европе и знакомства с самыми именитыми и образованными людьми.
Екатерина ещё не выходила, и все придворные с любопытством ждали, как отнесётся она к опальной княгине.
Императрица вошла быстро, кивком головы здороваясь с присутствующими, и подошла к группе иностранных министров при русском дворе.
Она говорила с ними о вещах, обычных для неё: о политике, о новинках архитектуры, литературы и театра, узнавая детали отношения к этим видам искусства из первых уст.
Увидела она и Дашкову и кивком головы подозвала её к себе. Ласково и милостиво поздоровалась она с княгиней, спросила о её здоровье и здоровье её детей, с которыми Екатерина Романовна путешествовала по Европе, стараясь дать им наилучшее образование.
И только потом, пригнувшись к уху Дашковой, Екатерина сообщила ей:
— Я хочу предложить вам, княгиня, кое-что особенное...
Екатерина сказала это с таким видом, что ближайшие придворные увидели в этом знак неблаговоления и тут же отодвинулись от Дашковой.
— Я закончу разговор, и вы подойдёте ко мне, — объявила Екатерина Дашковой и отвернулась от неё с хмурым и строгим лицом.
Все увидели в этом опять-таки знак немилости и постарались не встречаться с Дашковой даже взглядами...
Княгиня и сама заволновалась, не зная, что стоит за словами императрицы. Кто знает, может, ссылка в подмосковную деревню, где она и так провела несколько лет, стараясь выправить дела в имении и расплатиться с долгами, которые оставил ей после смерти её муж, бывший полковником в Дерпте и тративший все свои средства на устройство полка.
А может быть, императрица выскажет ей порицание за то, что она слишком часто встречалась с Дидро, с Вольтером, с самыми знаменитыми философами и учёными Европы. Кто знает, что может быть на уме у Екатерины...
Дашкова стояла, поражённая предчувствиями, и даже не заметила, как Екатерина вышла на середину залы и уже смотрела на неё, призывая к себе взглядом.
Только тогда, когда княгиню подтолкнули под локоть придворные, у неё хватило сил подойти к Екатерине, в одиночестве стоявшей на открытой середине залы.
— Я хочу изумить вас своим предложением, — серьёзно и строго проговорила Екатерина. — Знаю, что вы, как всегда, будете сопротивляться, но кроме вас, мне кажется, никому недостанет смелости и образованности, чтобы занять это место. А место это — президент Академии наук.
Дашкова была потрясена. Она даже не нашлась что ответить.
— Да, мне кажется, что самый лучший учёный в нашем государстве — это вы, и вы сумеете обуздать профессоров и академиков, которые теперь доставляют мне много хлопот...
Дашкова наконец обрела дар речи.
— Ваше величество! — воскликнула она. — Но я не смогу выполнить вашу волю, и обязанность эту я не в силах исполнить, потому что я круглая невежда, и где уж мне соревноваться с такими умными и учёными людьми, как профессора Академии...
— Ну, положим, не все они умные и такие уж учёные. Вашей образованности хватит на них, — хмуро улыбнулась Екатерина.
— Господи, да назначьте меня начальницей над вашими прачками, — заговорила Дашкова, — и я стану ревностно вам служить. Я не знаю этого ремесла, но буду стараться исправить ошибки, которые могу допустить, а как исправить ошибки, которые повлекут за собой пагубные последствия невежества директора Академии наук?
— Ваш отказ лишь убеждает меня, что мой выбор сделан правильно, — сказала императрица и поспешно отошла от Дашковой.
Придворные расценили этот торопливый отход от Дашковой как свидетельство крайней неприязни Екатерины к ней. Для этого у них были серьёзные основания. Много лет при дворе, исполняя обязанности статс-дамы, которыми почтила её императрица, жаловалась Дашкова на неё всем иностранным послам, что будто бы не получила она от Екатерины ничего, живёт в нищете, и переворот, в котором она играла такую видную роль, ничего ей лично не дал. Дашкова, вероятно, забывала, что указ императрицы, давший ей двадцать четыре тысячи рублей — по тем временам целое состояние, читали все иностранные министры, и даже в Европе знали, чем одарила Екатерина не только Дашкову, но и других участников переворота. Она, Дашкова, ворчала, ей было мало милостей императрицы, хоть и выдавала она всегда себя за бессребреницу...
И холодно отпустила её Екатерина в Европу, и уже не было прежней дружбы и откровенности, словно бы Дашкова сделала своё дело и теперь больше не была нужна императрице...
Словом, мотивов для вывода, что императрица опять холодна и немилостива к княгине, у придворных было немало...
Дашкова, поговорив с Екатериной, поспешила домой. Она не захотела более оставаться на великосветском балу — предложение императрицы так взволновало её, что уже ничем нельзя было занять свои мысли, как анализом этого предложения.
Она не сняла бального платья, а тут же уселась за стол и стала писать длиннющее письмо императрице.
Она выразила в нём свою крайнюю благодарность за такую высокую оценку её, Дашковой, скромных знаний, но принять этот выбор она не решается, так как ещё нигде и никогда не руководила женщина сонмом[27] учёных мужей, да и сама природа сотворила женщин не директорами, а этот шаг — явление историческое, и потомки осудят императрицу за этот странный выбор.
Словом, много чего написала княгиня, мотивируя свой отказ и дрожа от возбуждения и волнения.
С кем ей было посоветоваться? Конечно, с Потёмкиным, который уже стал фаворитом Екатерины, и все дела не решались без его участия. Тем более что Потёмкин уже оказал многие услуги княгине: он посодействовал тому, чтобы дочь Елизаветы Воронцовой, сестры княгини, бывшей фаворитки Петра, была принята в фрейлины при дворе, а её сын при содействии фаворита был произведён в чины в армии. Потёмкин благоволил к Дашковой, потому что и сам был человеком образованным и умным...
И хотя часы пробили полночь, Дашкова поскакала к Потёмкину.
Князь уже давно был в постели, но Дашкову принял.
— Вот письмо, которое я написала её величеству, — объявила ему княгиня. — Я хочу, чтобы вы прочли его, а завтра поутру передали императрице.
Потёмкин взял бумагу и начал читать страстные слова отказа от должности.
Читал он долго, спотыкаясь на особо взволнованных словах княгини. Потом он поднял голову, пристально вгляделся в лицо Дашковой, всё ещё возбуждённое и встревоженное, и вместо ответа разорвал письмо на мелкие кусочки.
Княгиня побелела: как он смел разорвать письмо, адресованное не ему — императрице?
А Потёмкин сказал, что императрица уже давно решила сделать её директором Академии и только она одна способна будет потушить пожары склок и ссор среди учёных мужей. И кроме того, добавил он с усмешкой, императрица надеется удержать княгиню в Петербурге, чтобы иметь возможность наслаждаться обществом такой образованной и умнейшей дамы...
Дашкова как будто несколько оттаяла, доводы Потёмкина польстили ей. Но она снова едет домой, опять пишет ещё более взволнованное и возбуждённое письмо и сразу же отправляет его Екатерине.
Ответ прислан был сразу же, немедленно.
«Понедельник, 8 часов утра.
Вы встаёте ранее меня, прекрасная княгиня, и сегодня к завтраку прислали мне письмо. Отвечая Вам, я приятнее обыкновенного начинаю свой день. Так как Вы не отказываетесь безусловно на моё предложение, то я прощаю Вам всё, что Вы разумеете под словом «неспособность», и оставляю для удобного случая присоединить к нему мои собственные замечания. А то, что Вам угодно называть моим, правом, я заменяю более приличным именем: благодарность. Согласитесь, однако, что для меня замечательная новость — победить такой твёрдый характер, как Ваш. Будьте уверены, что, во всяком случае, когда я могу быть Вам полезной словом или делом, я всегда буду готова к тому с радостью...»
И уже к вечеру княгиня получила письмо от графа Безбородко с копией указа о назначении Дашковой директором Академии...
Безбородко, кстати, написал княгине:
«Её величество поручили мне передать Вам, что Вы во всякое время, когда Вам угодно, утром или вечером, можете обращаться к ней по каждому делу, касающемуся вверенного Вам предприятия, и что она всегда будет готова устранить все препятствия и затруднения, которые могут Вам препятствовать при исполнении Ваших обязанностей...»
Можно ли было больше польстить княгине с её неуёмным честолюбием и жаждой деятельности?
И в этот же день приступила Дашкова к исполнению вверенных ей обязанностей...
Мимоходом бросила Екатерина своему фавориту, а теперь ещё и руководителю всей политики, как внешней, так и внутренней, Григорию Потёмкину:
— Большой кусок зажмёт ей рот...
Екатерина всё ещё подозревала Дашкову в заговорах, переворотах, как было сразу после событий 1762 года: Дашкову присоединяли и к заговору Хитрово, имевшему целью не дать императрице выйти замуж за Григория Орлова, а то и просто убить его. Конечно, Дашкова не была участницей этого заговора, как не стояла она и во главе заговора Мировича, целью которого было посадить на русский трон Иоанна Шестого, объявленного императором в двухмесячном возрасте и дожившего до двадцати четырёх лет в темнице Шлиссельбургской крепости, а потом и погибшего от рук своих надзирателей.
Таковы были наговоры на княгиню со стороны всех Орловых, которых она ненавидела. Теперь Орловы потеряли всё своё значение при императрице, а возвысился Григорий Потёмкин, к которому Дашкова явно благоволила.
И потому Екатерина считала нужным задаривать Дашкову. Она купила ей большой просторный дом на Миллионной улице, подарила несметное богатство в виде имений с двумя тысячами крепостных крестьян, одаривала её орденами, деньгами и много помогала в устройстве всего хозяйства Академии.
Через год Дашкова обратилась к Екатерине с просьбой открыть Российскую академию наук, что и было сделано.
А в академии Дашкова установила такие порядки, что уже через два года здесь царил мир, лад и хозяйственные успехи...
И даже несмотря на гнев императрицы по поводу опубликования мятежной повести Княжнина «Вадим Новгородский», между этими женщинами всё время сохраняется дружба. Всё-таки Екатерина со временем стала ценить то, что Дашкова ехала в Петергоф в 1762 году вместе с нею и была её горячей сторонницей.
Кипучая академическая деятельность княгини прервалась со смертью императрицы. Павел, вступив на престол, отобранный его матерью на тридцать четыре года, первым делом отрешил Дашкову от всех её должностей и сослал в подмосковные деревни. А затем, решив, что наказание слишком мягкое, сослал её в захолустное имение сына в Новгородской губернии. Здесь у Дашковой не было ни бумаги, ни пера, чтобы просить о помиловании. И всё же она отважилась обратиться к императрице, жене Павла, Марии Фёдоровне, и та вымолила для неё прощение. Однако поселиться ей пришлось опять-таки в глухой деревушке Калужской губернии. Она снова занялась там хозяйством, и через короткое время деревня преобразилась: у крестьян появился скот, новые избы и даже одежда стала добротной.
Четыре года оставалась Дашкова в глухом захолустье.
В 1801 году на престол взошёл Александр Первый, и он вспомнил о Княгине. Она получила приглашение жить во дворце, ей даже отвели там апартаменты.
Но она и сама скоро поняла, что становится смешной со своими старомодными платьями и манерами, и что за её спиной раздаются смешки и остроты. Она быстро осознала, что теперь уже приходится не ко двору молодого красивого императора, и уехала в своё Троицкое, которое со временем сделала игрушкой. Она сама строила мосты и дороги, управляя своими крепостными, рыла пруды, а её пшеница была много лучше, чем у соседей...
Современники не смогли оценить её. Свидетельство тому — замечание одного из знатных иностранцев, описавших жизнь при русском дворе:
«Княгиня уже с давних пор сделалась несносна по своему дурному характеру и заслужила всеобщую нелюбовь. Знаменитая героиня 1762 года хвалилась тем, что она подарила трон Екатерине и в то же время со всех знакомых офицеров и адъютантов собирала дань галунами или аксельбантами. Любимым её занятием было отделять шёлк от золота и серебра, которые она потом продавала. Таким образом, те, кто хотел заслужить расположение княгини, должен был прежде всего отослать ей свои старые тряпки с золотым и серебряным шитьём.
Зимой она не приказывала топить залы заседания…
Академии и, однако, требовала, чтобы члены Академии аккуратно посещали заседания...
Очень оригинально было видеть эту женщину одну посреди бородатого духовенства и русских профессоров, которые сидели подле неё с выражением глубокого почтения, хотя в то же время сильно дрожали от холода. Её обхождение с членами Академии было гордо и даже грубо: с учёными она обращалась как с рабами или крепостными...»
Один из многих иностранных писателей заключает это обвинение Дашковой:
«Окончательно смешною сделал княгиню процесс с Александром Нарышкиным, который имел поместье рядом с её землями. Однажды его свиньи поели капусту на полях Дашковой, и та велела перебить животных. Когда Нарышкин после того встретил княгиню при дворе, то громко сказал:
— Посмотрите, как с неё течёт кровь моих свиней!»
И русские современники не больно-то жаловали княгиню. Даже Державин отзывался о ней как о человеке, склонном к «велеречию и тщеславию», «хвастовству», «своекорыстным расчётам», «без которых она ничего и ни для кого не делала». Это Державин обвинил Дашкову в том, что она без всяких причин не любила известного механика-самоучку Кулибина и всё это «по вспыльчивому её или, лучше сказать, сумасшедшему нраву»...
В Троицком княгиня Дашкова написала свои знаменитые «Записки» под давлением и влиянием сестёр Вильмот, двоюродных сестёр знаменитой леди Гамильтон, которую она чрезвычайно любила.
Такова была эта знаменитая женщина. Мелочи в обиходе, наряды и драгоценности не интересовали её, она вся была в плену литературных ассоциаций и служила образцом старого, восемнадцатого века.
Она умерла в январе 1810 года, забытая всеми, кому она помогала и кого обласкала своими услугами.
Григорий Потёмкин
1
оглядеть на диво дивное сбегались крестьяне из сел и деревень, находившихся поблизости от накатанного тракта из Петербурга в Москву. Обозы с провизией, лакеями, поварами и поварятами прошли тут ещё вчера днём, но смотреть было особенно не на что — обыкновенные крестьянские телеги с запряжёнными в них сивыми каурками бойко катили по тракту, вздымая пыль, оседавшую на проклюнувшейся зелёной траве.
Скидывая шапки на бегу, плюхались крестьяне коленями в жидкую грязь у обочины, утыкались лбами в мягкую податливую землю и исподлобья следили за этим необыкновенным зрелищем.
Поглядеть действительно было на что.
Двенадцать пар блестящих от сытости и ухода вороных коней стремглав несли длинную огромную карету. Белые султаны из пушистых страусовых перьев качались над головами двух передних жеребцов. Такие же султаны, но поменьше, красовались над головами всех остальных лошадей. Двое берейторов[28], сидевших на передних конях, направляли ход этого огромного шествования. Сверкали позументы на их ливрейных одеждах, а ездовые, расположившиеся на высоком кучерском месте, блистали шитыми золотом широчайшими кафтанами.
Высокие, едва не в половину высоты кареты, лёгкие колеса, окрашенные в золотой и чёрный цвет, мягко катили длинную карету, покачивающуюся на ремённых рессорах. Сверкало золото императорских вензелей на дверках кареты, сияли прозрачные стеклянные окошки, задёрнутые занавесками. На запятках, вытянувшись во весь рост, стояли два рослых грума[29], залитые золотом ливрей.
Сбоку кареты гарцевали на серых в яблоках лошадях суровые гвардейцы, разряженные в роскошные мундиры.
Замыкал поезд отряд конногвардейцев.
Словом, было на что посмотреть!
Карета стремительно пронеслась, и поднявшие лбы крестьяне узрели только столб пыли, закрывший и дорогу, и удивительное видение.
Каретных дел мастера Екатерины хорошо знали своё дело. В каретных сараях дворцов громоздились самые разные транспортные средства: маленькие изящные прогулочные ландо, военные императорские возки, обитые изнутри малиновой камкой, а снаружи покрытые грубой рогожей. Пузатые тарантасы горбатились рядом с целыми поездами, в которых умещались и гостиные с ломберными столиками для игры в карты, и кабинеты с приземистыми письменными столами. В стены кабинетов были впаяны огромные куски стёкол, и здесь можно было работать даже днём, а уж вечером зажигались свечи в больших просторных шандалах.
Были императорские поезда и поменьше. Как раз такой поезд и спешил из Петербурга в Москву по уже накатанному и пыльному тракту, к Троице-Сергиевой лавре на богомолье.
В полутёмном нутре кареты на мягком диване внушительных размеров виднелась грузная фигура Григория Потёмкина. Генеральский мундир его был расстегнут, большая голова в крупных завитках иссиня-чёрных волос покоилась на кожаной подушке. Единственный глаз был прикрыт веком, а широкая сильная ладонь подпирала щёку с той стороны, где на вытекшем глазу синела врачебная повязка. Екатерина сидела на противоположном диване, пристроив на коленях книжку, и молча смотрела на Григория.
Императрица вовсе не собиралась ехать на богомолье. Она ещё не совсем оправилась после родов, девочка выдалась крупная и порвала ей многие связки внутри. Но придворная акушерка, каждое утро обследовавшая императрицу, сказала, что теперь уже нечего опасаться кровотечения и можно отправляться в любой путь. Где-то в глубине души Екатерина знала, что и придворную акушерку очаровал Григорий — небось многие червонцы из его стола перешли в её карман. Ну да Бог с ней. Екатерина чувствовала себя превосходно, и даже покачивание кареты и присутствие Григория не сдерживали её руку, скользящую по бумаге. Она всегда умудрялась работать в самых неподходящих условиях. Вот и теперь, положив книжку на колени и пристроив на ней листок бумаги, она писала своему неизменному корреспонденту в Германии Гримму. Изредка она отрывалась от бумаги и взглядывала на тяжёлую длинную голову Григория.
Как странно, думалось ей, она очень хорошо чувствует себя самодержицей, повелительницей сорока миллионов, владычицей огромной части земного шара, а в сердце невольно закрадывается страх: всё-таки она женщина, пусть не слабая, но как хочется ей прислониться к мужскому сильному плечу, разделить с ним груз своих забот и ответственности! И она всегда ищет, ищет это сильное плечо.
В самом начале своего восхождения на престол она так надеялась, что её возлюбленный, гигант с головой Аполлона, Григорий Орлов, будет не только её любовником, но и высоким государственным мужем. Ему поверяла она европейские заботы, с ним разделяла все свои мысли. Как она ошиблась в нём!
Блаженное, праздное времяпрепровождение заменяло Григорию всё. Государственные дела были ему скучны и чужды, а его высказывания в Государственном совете не вызывали ничего, кроме смеха над глупостью фаворита. Она любила Григория всем сердцем, но очень скоро поняла, что ничто не может вывести его из ленивой спячки, кроме карт, женщин и вина.
Екатерина знала о его многочисленных любовницах, терпела от него побои, сносила синяки и всё прощала. Много позже она писала новому фавориту, Григорию Потёмкину: «Сей бы и до смерти остался, кабы сам не скучал».
Она перешла к передней стенке кареты, у которой был устроен крохотный вырезной столик, по сходству с известным растением названный «бобком», и села на большой высокий стул за этим столиком. На блестящей поверхности «бобка» были поставлены большая бронзовая чернильница и бронзовая же табакерка, из которой Екатерина время от времени доставала табак и вкладывала его в нос.
Чернильница была словно гвоздь, пришпиливший столик к дну кареты и мешавший ему сдвигаться с места во время толчков и покачиваний.
А рядом, в стакане из гранита, торчали гусиные перья, остро и тонко очиненные её секретарями и услужливо подставленные под правую руку государыни.
Екатерина взяла большое перо, обмакнула его в чернила и приготовилась писать на одном из листков стопки бумаги, также старательно приготовленной её секретарями, которые ехали в следовавшей за императрицей коляске.
Даже здесь, во время поездки на богомолье в знаменитую Троице-Сергиеву лавру, не могла Екатерина отказаться от своего излюбленного занятия — писать и писать. Теперь она приготовилась описать своего нового любимца всегдашнему корреспонденту из Германии — Гримму. Она прекрасно отдавала себе отчёт в том, что все её строчки сразу же будут напечатаны во всех газетах Европы, и писала именно так, чтобы они и стали известны всему миру. Слишком хорошо понимала она значение печатного слова и всегда старалась, чтобы о событиях при русском дворе узнали не от какого-нибудь писаки, а из первых рук, из уст самой императрицы. Это давало ей возможность освещать события с её точки зрения, так, как это было удобно и выгодно именно ей, русской императрице...
«...Я отдалилась от некоего превосходного, но чересчур скучного господина, которого немедленно заменил, сама уж, право, не знаю точно как, один величайший забавник, самый интересный чудак, какого только можно видеть в наш железный век! ... Ах, что за хорошая голова у этого человека! Этот мир (Кучук-Кайнарджийский мир с Турцией, подписанный 14 июля 1774 года) — его дело более, чем кого-нибудь другого. И эта хорошая голова забавна, как дьявол!»
Изредка она поднимала голову и взглядывала на большое сильное тело Григория Потёмкина, раскинувшееся на мягком диване. Его левый глаз закрывала синяя надглазная повязка, но и из-под неё виднелись длинные чёрные иглы ресниц. А правый глаз, косой, но теперь прикрытый синеватым веком тоже с длинными чёрными ресницами, пересекала прядь чёрных волнистых волос, падавших на плечи густыми локонами. Он не носил париков — при такой вьющейся чёрной шевелюре они были ему ни к чему.
Несмотря на уродство — вытекший глаз, Екатерина считала, что он удивительный красавец, что в подмётки ему не годится ни один из прославленных красавцев восемнадцатого века. Он был строен, значителен на удивление, его высокая грудь хорошо прикрывалась золочёными камзолами и военными кафтанами, развёрнутые и тоже высокие плечи делали его фигуру удивительной по рисунку. Недаром вокруг Потёмкина вилось такое количество женщин.
Впрочем, не все женщины считали Потёмкина красавцем. Вот Катя Шаргородская, втихомолку пристроившаяся на одном из мягких сидений в самой глубине кареты, неизменная спутница Екатерины во всех её поездках, словно бы талисман, называла Потёмкина циклопом, презрительно кривила губы при одном его появлении, но всегда честно и наивно говорила императрице:
— Этот человек — чёрт, но какой умный, какой остроумный и резкий! Не зря не любят его все придворные...
Екатерина знала цену любви придворных и потому лишь усмехалась при этих словах Кати Шаргородской. Она привыкла доверять ей, потому что Екатерина Ивановна в роковой день июня 1762 года не побоялась влезть вместе с хозяйкой в потрёпанную коляску и поехала с ней навстречу трону или эшафоту. Потому и брала её теперь с собой в каждую поездку Екатерина — считала, что, как и тогда, в день переворота, приносит ей её любимая горничная удачу...
Знала Екатерина, что не только не любят придворные Потёмкина, но и просто ненавидят, что не мешает им по утрам собираться в его приёмной и униженно выпрашивать милостей, чинов, денег, крестьян...
Она умилённо смотрела, как стекает из уголка губ на расшитый генеральский воротник тоненькая струйка слюны, а сами губы, полные и слегка вывернутые, вздрагивают во сне. Он казался ей большим и пушистым, но грозным и опасным зверем, хоть она и не знала за собой качеств дрессировщицы.
Почему именно Потёмкин сделался её фаворитом? Почему он сумел покорить не только сердце, но и ум её, рассудительный и скорее холодный, чем увлекающийся? Почему он стал неизменным советником во всех её государственных делах? Почему без совета с ним она не предпринимает теперь никаких шагов?
Ей вспомнилось, как привели Потёмкина во дворец братья Орловы. Было это вскоре после переворота, Алексей и Григорий вздумали потешить матушку-императрицу.
Она не помнила, было это на малом или большом приёме во дворце, но сияние тысяч свечей, отражающееся в раззолоченных мундирах и сверкающих камзолах, в драгоценностях придворных дам, она чётко видела перед собой.
Екатерина вышла из распахнутых высоченных резных дверей, раскинутых перед ней её шталмейстерами, и вся зала словно по команде образовала двухсторонний ряд придворных.
В самых первых рядах стояли Орловы. Их головы возвышались над всеми другими, и Екатерина в который раз изумлённо порадовалась высоте их роста и красоте лиц.
Едва она дошла до Григория Орлова, слегка кланяясь во все стороны, как её возлюбленный тихонько прошептал:
— Дозволь, матушка-государыня, представить тебе старого товарища моего, корнета Потёмкина...
Екатерина смерила взглядом Григория и медленно, но громко произнесла со своим немецким выговором, но по-русски:
— Сколько мне помнится, Потёмкину я собственноручно проставила в указе чин — поручик, или у меня уж и память отшибло?
Григорий Орлов несколько смутился, но тут же ответил:
— Матушка, да это я по старой дружбе, а прежде он был корнет, ну а теперь уж буду называть его поручиком...
Екатерина повернулась к Потёмкину, отметила его одинаковый с Орловым рост, высокую, сильную и стройную фигуру, смугловатое, но чистое лицо двадцатидвухлетнего офицера и сказала, глядя прямо в чёрные, слегка раскосые глаза будущего фаворита:
— Надеюсь, вы не в обиде на то, что старый товарищ назвал вас старым чином, таким образом несколько понизив вас в чинах...
И изумлённо выкатила глаза, услышав свой собственный звонкий высокий голос с тем неуловимым немецким акцентом, от которого она не могла избавиться до конца своей жизни:
— И, матушка, стоит ли мне обижаться на старого товарища? Да по мне, хоть горшком меня называйте, только в печку не ставьте...
Стоящие рядом придворные не выдержали. Поглядывая на императрицу, угадывая её реакцию на выходку Потёмкина, закрывая рты ладошками, они расхохотались. Хохотал и Григорий Орлов, успев между тем проговорить:
— Забавник, матушка. Уж я-то знаю, как умеет смешить...
Екатерина не растерялась. Она показала на стоящую в самом дальнем конце залы молоденькую фрейлину, только что определённую ею в придворный штат:
— А вот её голоска не хватит у вас умения передразнить...
Потёмкин низко поклонился императрице.
— Ваше величество, — произнёс он своим красивым приятным баритоном, — прикажите девице сказать хоть одно слово, я ж не слышал её никогда...
Екатерина повернулась к фрейлине:
— Скажи хоть несколько слов...
Но та стояла молча, как чурбан, и слёзы уже блестели на её глазах. И вдруг она кинулась на колени, затараторила в голос и со слезами:
— Матушка, милостивая государыня, не извольте гневаться, никогда больше опаздывать на дежурство не буду...
И Потёмкин бухнулся на колени перед Екатериной и запричитал голосом фрейлины:
— Да если бы вы, матушка-государыня, знали, чем я занималась, перед тем как опоздать на дежурство! Разве вы не помните того молоденького пажа, с которым я уже успела перемигнуться в саду?
Гомерический хохот сопровождал каждое слово Потёмкина. Даже Екатерина не могла сохранить свой величественный вид — она тоже хохотала от всей души...
— Ладно, — наконец отсмеявшись, заявила Екатерина, — девушек и женщин передразнить умеете, а вот старца, хоть бы князя Репнина, сможете ли?
Потёмкин вскочил с колен, тут же выпятил несуществующий живот, уткнул подбородок в воротник мундира и глубоким, густым дребезжащим басом проговорил:
— Ну что ты, матушка, старика мучаешь, небось не знаешь, что меня девки-поломойки в бане ждут?
Ответом на эту реплику был опять гомерический хохот со всех сторон. Главное, что поняли придворные, — лучше не попадаться на язык этому великану с гривой вьющихся чёрных волос: высмеет, да ещё и ущипнёт за больное место...
— Ну, утешил, Гришенька, — тихонько сказала Екатерина Орлову и, повернувшись к Потёмкину, громко добавила: — Не сочтёте за труд потешить нас за ужином сегодня? Приглашаю вас, замечательный вы забавник...
И опять голосом самой Екатерины Потёмкин поблагодарил за приглашение:
— Да разве могу я отказаться лицезреть ваши прелестные ручки, вашу чудесную шейку, ванте величественное и доброе лицо?
Даже этот двусмысленный намёк прошёл хорошо, придворные смеялись, и Екатерина не смогла поставить на место зарвавшегося шута.
Григорий Орлов покосился на Потёмкина, ревнуя к вниманию императрицы, но потом встряхнулся: стоит ли тратить нервы и злость на этого странного протеже? Ведь это он, Григорий Орлов, представил его Екатерине, желая позабавить её. Вот и позабавил. Да ещё всё впереди. На вечернем интимном рауте Потёмкин может показать и кое-какие другие свои таланты, что, несомненно, развлечёт императрицу, доставит ей несколько приятных минут, и уж, конечно, она не замедлит отметить, кто предоставил ей такое развлечение. А паяц он и есть паяц, что с него взять...
Кстати, это Орлов вручил Екатерине 12 июля список наград для заговорщиков. Там он представил Потёмкина к чину корнета, о чём и пытался напомнить Екатерине на приёме. Но императрица собственной рукой вычеркнула этот чин и написала: капитан-поручик. А после развлекательного спектакля Потёмкина, поставленного им на ужине у императрицы, Екатерина присвоила ему чин камергера с бриллиантовым ключом. Он с удовольствием играл роль шута, и Орлов и не думал ревновать Екатерину к нему, сознавая, насколько эта роль унизительна и неподходяща для него, фаворита императрицы, имевшего доступ в спальню повелительницы в любое время.
Как-то за обедом случилось Екатерине завести разговор о французской литературе. Знала она, что все её вельможи, за редкими исключениями, не читали ничего, кроме «Святцев», и разговор вела по-французски, посвящая своих придворных в сюжет Тристана и Изольды.
Она процитировала несколько фраз из французского оригинала и споткнулась, позабыв окончание фразы. Дождавшись, когда императрица замолчала, подыскивая оправдание своей забывчивости, Потёмкин продолжил фразу на чистейшем французском языке и читал так, как будто смотрел в книгу.
Екатерина в очередной раз удивилась. Никому не удавалось поразить её своей образованностью, кроме разве княгини Дашковой, а тут, пожалуйста, не только читал, но и знает наизусть.
И она принялась экзаменовать застольного шута. Оказалось, что он не только читал всё то, что читала Екатерина, но мог долго и нудно цитировать французские первоисточники целыми страницами. Никто ещё не поражал Екатерину своей образованностью и такой феноменальной памятью.
Стушевались братья Орловы перед таким вниманием императрицы к поручику Потёмкину и стали наперебой советовать ей пристроить его куда-нибудь служить по гражданской части.
— Но выговор ваш слабоват, — любезно сказала Екатерина капитану-поручику, — я позабочусь о том, чтобы ваш французский не хромал. Дворянин Вомаль де Фаж образован, знает свой родной язык в совершенстве и будет вам хорошим преподавателем.
Потёмкин сердечно поблагодарил Екатерину уже своим собственным красивым глубоким баритоном и на следующий же день начал занятия со своим новым секретарём. Кстати, этот Вомаль де Фаж прослужил у Потёмкина двадцать три года в качестве секретаря и владел многими тайнами временщика.
Екатерина позаботилась о том, чтобы молодой капитан-поручик не утратил своих знаний, а приносил бы пользу России. Она назначила его в один из департаментов Сената, повелев своим сенаторам ознакомить молодого человека со всеми делами. И уже тогда подавал Потёмкин Екатерине советы, которые скоро показали его глубокий ум, всестороннюю одарённость и удивительно богатое воображение.
Но Орловы не давали Екатерине увлечься Потёмкиным. Они искали с ним ссоры, понимая, что со своими богатыми умственными дарованиями он очень скоро превзойдёт их на пути к сердцу императрицы. А тогда, естественно, кончатся все те блага и милости, что лились на них золотым дождём...
Однако заботы Екатерины об окончании образования Потёмкина вовсе не были первой ступенькой к её сердцу. Она в то время любила одного лишь Григория Орлова и даже не думала о замене его кем-нибудь другим. В истории существует немного таких примеров, каковым являются отношения Орлова и Екатерины. Она всё прощала ему, он был на вершине славы и богатства и тем не менее пожелал заменить императрицу в своём сердце своей двоюродной сестрой, а после смерти молодой княгини повредился рассудком. Но и тогда Екатерина ездила к нему домой, чтобы собственноручно мыть его, ухаживать за ним с редкой для таких женщин верностью и нежностью...
Но она не могла не заметить, как остроумен, находчив и смел её неожиданный шут. Однажды она обратилась к Григорию Потёмкину с каким-то малозначительным вопросом по-французски, а он отвечал ей пространно и красиво на русском языке.
Один из вельмож, представлявший иностранный двор, сделал Потёмкину замечание:
— Если государь обращается к вам с вопросом, то отвечать вы должны на том языке, на котором обратился государь...
И выражено это было так надменно и гордо, что Григорий не выдержал и также надменно и гордо ответствовал:
— А я считаю, что если государь обратился с вопросом, то подданный должен ответить на том языке, на котором лучше всего может выразить свои мысли. А русский язык я учу уже двадцать два года...
Екатерина не могла не признать этот блестящий вывод и наклонила голову в знак правоты своего подданного.
Потёмкин всё искал случая быть поближе к императрице — червь честолюбия и пример Григория Орлова заставляли его искать пути к сердцу Екатерины. Как-то раз он прислонился к столику, за которым Екатерина играла в карты с Орловым, и посмотрел в её карты. Орлов злобно шепнул, чтобы Потёмкин убирался как можно дальше. Но Екатерина не разрешила Потёмкину уйти всего лишь одним словом:
— Оставьте его, он вам не мешает...
Всё это вспоминала Екатерина, чтобы самой себе объяснить этот феномен возвышения косоглазого и кривого Циклопа.
Ей рассказывали много легенд о потере глаза Потёмкиным. То кто-нибудь из придворных шептал, что Орловы в потасовке выбили глаз гиганту-конногвардейцу — у Орловых тоже хватало врагов в придворном стане, то повествовали об удалом поединке, в котором соперник выколол глаз Потёмкину неосторожным ударом шпаги, то говорили, что простолюдины исколотили рейтара палками за неосторожные амурные похождения. Она-то знала истину и не мешала злобным языкам работать.
После коронации Екатерина вернулась в Петербург и, долго не видя Потёмкина на своих вечерних приёмах и в своём интимном кругу, спросила о нём у своих ближайших окружающих.
— Он окривел и удалился от двора, — ответили ей.
Окольными путями узнала она и всю правду. После коронации Потёмкин заболел жесточайшей лихорадкой. Но человек он был неординарный и потому лечиться у патентованных докторов не пожелал, а привязал к голове примочку Ерофеича, пользовавшего Потёмкина с ранних лет. Тот изобрёл даже своего рода панацею от всех болезней — настойку водки на редких травах и кореньях. К этой панацее и вздумал прибегнуть Потёмкин.
Но примочка произвела в голове и левом глазу Потёмкина такую нестерпимую боль, что он не выдержал и сорвал повязку. Глаз его был затуманен, видеть мешало пятно, нарост, возникший на глазу.
Никогда и никому не доверявший себя, Потёмкин вытащил тонкую булавку, подцепил краем нарост на глазу и сорвал его.
Глаз вытек...
Отчаяние и мрак поглотили Потёмкина. Теперь всем его честолюбивым мечтам приходил конец, а радужных грёз у него было слишком много.
Тогда Екатерина и послала Орловых за Потёмкиным.
— Прихотлив наш камергер, — сказала она им, — говорят, что он окривел, но я не верю в эти байки, просто он не хочет быть при дворе.
И Екатерина сделала такое надменное и строгое лицо, что даже Орловы, знавшие всю гамму её мимики, поверили в холодное отношение императрицы к их всегдашнему сопернику и покорно пошли исполнять её приказание.
Они явились к Потёмкину в тёмную комнату, где он уныло проводил свои дни между распятием и книгами по божественным вопросам, мечтая уйти в монастырь, затвориться от мира: как и прежде, ещё когда жил в Москве, он думал о монашеской рясе...
Сначала Потёмкин не принял Орловых, отговариваясь болезнью, но они пожаловали в его берлогу, зажгли свет и сорвали повязку с его глаза. Убедившись, что глаза действительно нет, они выдали ему решение Екатерины:
— Думали мы, что ты плутуешь, а оказывается, правда, что ты окривел. Но матушка-императрица прислала за тобой, и мы поведём тебя во дворец...
Екатерина обнадёжила Потёмкина одними лишь словами:
— Даже это не нарушило вашу замечательную красоту...
И снова стал бывать Потёмкин у императрицы, хоть и стеснялся первое время своего единственного косого глаза...
Он, сам замечательный лицедей, не принял всерьёз слов Екатерины, но начал оказывать ей такие знаки поклонения, нежности и преданности, что она поверила, будто гигант-конногвардеец страстно и бурно влюблён в неё, но таится от всех. Ей было приятно такое поклонение, тем более что оно не обращало на себя внимание придворных, которые уж разобрали бы эту тайную страсть конногвардейца на косточки и перемыли бы их все.
Никогда не говорил Потёмкин Екатерине прямых слов признания в любви, но он умел замечательно говорить обиняками, намёками, двусмысленностями.
Но началась турецкая война, и Екатерина поняла, что Потёмкин не устоит перед возможностью показать себя её преданным подданным, не исключавшим удобного случая пролить за неё кровь. Это особенно грело сердце Екатерины, уже надломленное капризами и изменами Орлова.
Он действительно уехал на войну...
«Беспримерные Вашего величества попечения о пользе общей, — так писал Потёмкин в своём прошении отпустить его на войну, — учинили отечество наше для нас любезным. Долг подданнической обязанности требовал от каждого соответствования намерениям Вашим...
Я Ваши милости видел с признанием, вникал в мудрые указания Ваши и старался быть добрым гражданином. Но высочайшая милость, которою я особенно взыскан, наполняет меня отменным к персоне Вашего величества усердием. Я обязан служить государыне и моей благодетельнице, и так благодарность моя тогда только изъявится во всей своей силе, когда мне для славы Вашего величества удастся кровь пролить...
Вы изволите увидеть, что усердие моё к службе Вашей наградит недостатки моих способностей, и Вы не будете иметь раскаяния в выборе Вашем».
Письмо было громкое и помпезное, и оно произвело на Екатерину то самое хорошее впечатление, на которое и рассчитывал Потёмкин. К этому времени он уже занимал целый ряд должностей, на него сыпались милости и незаслуженные награды, но все эти должности — казначейская и надзирающая за шитьём военных мундиров, заседатель в обер-прокурорском столе Святейшего синода, «дабы слушанием, питанием и собственным сочинением текущих резолюций навыкал быть способным и искусным к сему месту», опекунская в «комиссии духовно-гражданской», где он опекал татар по причине, что они не довольно знают русский язык, чтобы участвовать в составлении знаменитого «Уложения», — все эти должности казались ему мелкими и недостаточными для претворения в жизнь его громадных честолюбивых планов. Он решил, что на военном поприще ему удастся составить себе громкое имя, чтобы опять-таки произвести впечатление на императрицу. Во дворце, где гнездились интриги и люди недостойные и вовсе лишённые природных способностей, занимали крупные и важные места, не удастся, казалось ему, закрепиться на особенно высоких должностях...
У Потёмкина уже был чин камергера — должность немалая при дворе, и Екатерина соизволила разрешить ему отъезд в армию, заменив его чин на чин генерал-майора.
Под началом князя Голицына Потёмкин участвовал в целом ряде стычек и сражений и завоевал здесь первые лавры.
«Непосредственно рекомендую Вашему величеству мужество и искусство, которое оказал в этом деле генерал-майор Потёмкин, — так писал о нём Голицын Екатерине в своём рапорте о поражении Молдаважи-паши в августе 1769 года, — наша кавалерия до сего времени ещё не действовала с такой стройностью и мужеством, как в сей раз, под командою вышеозначенного генерал-майора».
Все знаменитые сражения той первой турецкой войны при Екатерине происходили не без участия Потёмкина, и каждый раз главнокомандующий подробно расписывал в рапортах императрице его личную храбрость и умение вести бой, распорядительность и знание тактики и стратегии военного дела.
Что и говорить, Потёмкин был храбр, но отличался ещё и наилучшими организаторскими способностями, личной распорядительностью и, несомненно, много сделал для побед русского оружия. Недаром Екатерина в письме к Гримму отмечала Потёмкина, внёсшего большой вклад в Кучук-Кайнарджийский мир. Она здесь нисколько не преувеличивала.
Репутацию Потёмкина поддерживали и его друзья при дворе. Библиотекарь Екатерины Василий Петрович Петров, взятый императрицей в кабинетные переводчики и чтецы за свою быструю манеру составлять стихи, стал одним из лучших друзей Потёмкина. Они сошлись на почве взаимных интересов к литературе и поэзии, вместе много читали, когда Потёмкин ещё не отправился на войну. А писатель и переводчик Иван Перфильевич Елагин, бывший директором придворного театра, ценил в Потёмкине его фантастическую память, благодаря которой тот мог наизусть, с первого чтения, запомнить все роли в пьесах на придворном театре.
Вот они-то и были главными поставщиками сведений о Потёмкине Екатерине. Через них Григорий Потёмкин испросил позволение писать императрице и получать устные ответы. Но сами письма Потёмкина, удивительные по стилю и обширным знаниям, сделали всё, чтобы Екатерина начала не только устно и через своих секретарей отвечать генерал-майору, но вскоре и сама взялась за перо.
2
От каждого письма Потёмкина исходила сила и мощь, каждое было пронизано множеством сведений, но и каждое носило на себе отпечаток почтительного и нежного внимания к ней, императрице. Немногие в окружении императрицы могли похвастать такой глубиной ума, обширностью и полезностью сведений, рассудительностью и глубоким государственным интересом. Но самое главное для Екатерины заключалось в том, что Григорий никогда не высказывался о своей страсти к ней, женщине и повелительнице, а намёки, обиняки, двусмысленные сравнения лишь разжигали её интерес к нему.
Она расспросила всех, кто знал Потёмкина, заглядывала в его прошлое, хотя он и не имел привычки делиться с кем-то о себе и своих былых занятиях.
Екатерина узнала, что родился он в мелкопоместной дворянской семье, довольно сильно обнищавшей и жившей в селе Чижове близ Смоленска. Отец Григория был майором в армии, и характер его невольно унаследовал единственный среди дочерей сын. Александр Васильевич Потёмкин был человек своеобразный, гордый и вспыльчивый, не обращавший внимания на оценки и разговоры окружающих, добивавшийся поставленной цели средствами, не носившими достойный характер. Его первая жена не могла иметь детей, и Александр Васильевич, встретив молодую и красивую вдовушку Дарью Васильевну, задумал жениться на ней, что он и сделал, не обратив внимания на обряды и увещевания святых отцов. Но Дарья Васильевна оказалась умнее своего мужа: она приехала к первой жене своего мужа и убедила её уйти в монастырь.
Но счастье её продолжалось недолго. Она родила Александру Васильевичу трёх дочерей и маленького Гриця и потеряла мужа в 1746 году.
В осиротевшей семье принял участие Григорий Матвеевич Кисловский. Он жил в Москве, в царствование Анны Иоанновны числился генерал-провиантмейстером, а при Елизавете Петровне дослужился до президента Камер-коллегии и начальника межевой канцелярии.
Дарья Васильевна просила Кисловского о помощи, и он предложил ей вместе с детьми переселиться в Москву, где он мог бы помочь семье.
Мать Потёмкина так и сделала. Дочери были пристроены, а самый младший ребёнок — сын Григорий — вместе с сыном Кисловского Сергеем начал ходить на обучение в школу Литкеля в Немецкой слободе.
Ещё с младенческих лет Потёмкин был записан в конногвардейский полк, хотя ни разу в нём не побывал. Таков тогда был обычай всех дворянских семей — записывать отпрысков в армию, но вместе с тем находить для них и другое поприще. Такое вот другое поприще и выбрал Кисловский для своего протеже: Потёмкин обладал недюжинными способностями и феноменальной памятью и потому был записан в Московский университет, только что основанный Иваном Ивановичем Шуваловым, тогдашним фаворитом Елизаветы Петровны.
Но Григорий Потёмкин не ограничивался слушанием лекций в университете. Он постоянно бывал у иеродиакона[30] греческого монастыря Дорофея и многое познавал из его бесед и назиданий. Уже тогда влекло его к себе всё таинственное и мистическое, и общение с Дорофеем давало его уму глубокое религиозное образование. Он изучил все литургии, знал множество молитв при своей феноменальной памяти и все обряды церковной службы.
Однажды Иван Иванович Шувалов задумал похвалиться перед Елизаветой усердными учениками Московского университета, и двенадцать самых способных и самых разумных учащихся были отобраны им для посещения Петербурга. Вот здесь-то и увидел Потёмкин роскошный двор Елизаветы, которой он, вместе с другими, был представлен. Было это ещё в пятьдесят седьмом году, когда за свою усердность в постижении наук Григорий Потёмкин был награждён золотой медалью.
Учеников представили знатным вельможам, и здесь Григорий имел случай блеснуть своей находчивостью и остроумием, а затем и подлинными глубокими знаниями в эллино-греческом языке и богословии.
Роскошный двор Елизаветы поразил богатое воображение Потёмкина. Он увидел тех баловней счастья, которые, не обладая никакими знаниями и никакими достоинствами, занимали высшие посты в государстве, гребли деньги лопатой, основываясь лишь на внешних качествах — высоком росте, красоте лица и фигуры.
Долгие размышления и уныние, последовавшие за этой блестящей поездкой, привели к тому, что Потёмкин перестал усердствовать в овладении науками. Он понял, что никакая наука и никакие успехи в ней не смогут привести его к блестящей придворной карьере, а это было единственное, о чём он теперь думал и мечтал. Как бы то ни было, а разочарованный Григорий начал искать пути к достижению карьеры.
Его исключили из университета за леность и нерадение к наукам.
Впрочем, он был не единственным — вместе с ним исключили из университета и Новикова, одного из самых просвещённых людей того времени.
Как бы то ни было, Григорий Потёмкин решил вернуться к запасному пути — поехать на службу в армию, и именно в Петербург...
За советом и помощью Григорий обратился к самому уважаемому им клирику[31] — епископу Переяславскому и Дмитровскому Амвросию Зертис-Каменскому.
Амвросий не только одобрил намерение Потёмкина, но даже дал ему на дорогу пятьсот рублей. Облагодетельствованный Григорий обещал заплатить долг и даже с процентами, но сделать это не успел по одной простой причине: во время чумного бунта 16 сентября 1771 года Амвросий, тогда уже ставший московским архиепископом, был растерзан толпой.
Словом, благословлённый епископом, одарённый деньгами, Потёмкин отправился в Петербург.
Сразу после рождения Григорий был записан в конную гвардию рейтаром. Теперь он уже был каптенармусом, потому что ещё в ту первую поездку в столицу по докладу Шувалова Елизавете за свои успехи в богословии и эллино-греческом языке повышен был в чине до капрала.
Без каких-либо приключений Потёмкин добрался до столицы и явился в конногвардейский полк. Его радушно приняли и заставили заниматься строевой службой.
Во всяком деле выказывал Григорий Потёмкин незаурядные способности, не гнушался самыми мельчайшими деталями и в военной службе проявил себя сразу же. Он превосходно ездил на лошади, умел отлично управляться с конём в строю, а его красота, великолепная посадка, высокий рост и прекрасное знание всех служебных тонкостей уже через короткое время позволили ему быть произведённым в вахмистры.
Его взяли ординарцем к главнокомандующему русскими войсками, предназначенными для войны с Данией, дяде Екатерины и самого Петра Третьего Георгу Голштинскому. Правда, этот командующий был настолько ненавистен солдатам своей жестокостью и тупостью, надменностью и себялюбием, что во время переворота единственный дом, сгоревший и полностью разрушенный заговорщиками, был дом Георга Голштинского. Едва успели спасти только самого дядю царя...
Переворот дал Григорию Потёмкину четыреста душ крестьян, чин подпоручика гвардии и звание камер-юнкера при дворе. Екатерина даже писала о нём Понятовскому, своему бывшему фавориту и будущему королю Польши:
«В конной гвардии офицер Хитрово и унтер-офицер Потёмкин направляли всё благоразумно, смело и деятельно...»
С этих пор Екатерина уже знала о Григории всё, и те мелкие должности, на которые она его устраивала, видимо, его не удовлетворяли, если он с таким рвением отпросился на войну.
И она решилась на самое доверительное письмо к нему, когда уже множество посланий показывало всё повышающийся интерес к этому человеку.
А стихи переводчика и императорского чтеца Петрова, ревниво отстаивающего своего друга, и вовсе распалили любопытство Екатерины:
Он жил среди красот и, аки Ахиллес, На ратном поле вдруг он мужество изнес: — Впервые принял он гром, и гром ему послушен, Впервые встретил смерть — и встретил равнодушен!Она убедилась, что слова прошения Потёмкина об отъезде в армию оказались не пустыми. Её волонтёр отличался мужеством, храбростью и пылкостью. В ней нарастало чувство благосклонности к человеку, не забывавшему постоянно напоминать о себе и своей тайной страсти к ней — он писал красиво, поэтично, возвышенно. Никто из фаворитов Екатерины — их, правда, ещё было всего несколько человек — не сумел обворожить её таким прелестным слогом, такой романтической влюблённостью. И она остро отозвалась на слова, предназначенные для её ушей...
Выведенная из себя высокомерным поведением Орлова, отправившегося в Фокшаны заключать мир с турками, но самовольно покинувшего этот конгресс, чтобы бежать в Петербург, Екатерина приказала своему фавориту отбыть в Гатчину и жить там до её приказа.
Именно в это время и отправила она под Силистрию, которую осаждал со всем войском Потёмкин, письмо, изменившее всю судьбу Григория:
«Господин генерал-поручик и кавалер! Вы, я чаю, столь упражнены глазением на Силистрию, что Вам некогда письма читать... Всё то, что Вы сами предприемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему Вашему усердию ко мне персонально и любезному отечеству, которого службу Вы любите.
Прошу по-пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься, сделаете вопрос: к чему оно писано? На сие имею Вам ответствовать. К тому, чтобы Вы имели подтверждение моего образа мыслей об Вас, ибо я всегда к Вам весьма доброжелательна».
Это письмо решило всё — Потёмкин заторопился с отъездом из армии. Уже в начале января 1774 года он был в Петербурге, а через два-три месяца перед ним заискивали самые могущественные люди, раньше третировавшие его как выскочку, парвеню.
Первым сдался Никита Иванович Панин, неизменный первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел. Он пришёл к Потёмкину и просил того содействовать назначению своего брата генерала Петра Ивановича Панина на командование теми отрядами, что были направлены на подавление бунта Пугачёва.
Потёмкин зрело рассудил, что генерал Панин лучше всякого другого сумеет подавить кровавый бунт.
Назначение состоялось. Пётр Иванович, действительно, в течение весьма короткого времени так организовал наступление на отряды Пугачёва, что разбил их, и казаки сами выдали ему самозванца. Пугачёв был привезён в Москву и казнён на Болотной площади...
Екатерина поощрила Потёмкина, и очень скоро он стал таким могущественным человеком, что сам обратился к ней с просьбой о пожаловании ему чина генерал-адъютанта.
Услышав эту просьбу, произнесённую голосом вполне равнодушным и даже холодным, Екатерина изумилась. Весь двор прекрасно знал, что чином генерал-адъютанта она награждала лишь тех, кто был вхож не только в её кабинет, но и в её спальню.
— Сие никому не будет в обиду, — заключил Потёмкин свою просьбу, — а я приму за верх моего счастья, тем паче что, находясь под особливым покровительством вашим, удостоюсь принимать премудрые повеления ваши и, вникая в оные, сделаюсь вяще способным к службе вашей и отечеству...
Как могла Екатерина отказать ему после таких слов!
Она выдержала лишь три дня, сравнивая своего нынешнего фаворита Васильчикова с фаворитом будущим, Потёмкиным. И через три дня утвердила его в новом звании временщика, фаворита. Васильчикову было пожаловано имение под Москвой, и этот малозаметный фаворит сразу же отправился в изгнание. Впрочем, он не разобиделся на своего преемника, поскольку признавал превосходство Потёмкина.
«Положение Потёмкина, — так сказал он одному своему другу, передавшему потом эти слова французскому посланнику, — совсем иное, чем моё. Я был содержанкой. Так со мной и обращались. Мне не позволяли ни с кем видеться и держали взаперти. Когда я о чём-нибудь ходатайствовал, мне не отвечали. Когда я просил чего-нибудь для себя — то же самое. Мне хотелось анненскую звезду, я сказал об этом императрице. На другой день я нашёл тридцать тысяч в своём кармане. Мне всегда таким образом зажимали рот и отсылали в мою комнату. А Потёмкин — тот достигает всего, чего хочет. Он диктует свою волю, он властитель...»
Что бы ни говорили при дворе, но влияние и власть Потёмкина признавали все. Даже Елагин, бывший покровитель и информатор Потёмкина, рассказывал всем, что императрица без ума от Циклопа, что они очень любят друг друга, поскольку сильно схожи между собой. Елагин угадал бурное воображение Потёмкина и честолюбивые устремления Екатерины, уже теперь стремящейся диктовать свою волю всей Европе и стать самой первой среди монархов этой части света.
Он же передавал слухи о том, как устроил своё назначение в Сенат Потёмкин, жаждавший всё большей власти. Приехав в Петербург, Григорий сразу же встретился с Елагиным и начал говорить о делах Сената. Он всё порицал, даже больше — хулил все назначения и поступки сенаторов. Елагин подсказал ему такие вещи, которые при передаче государыне могли бы подвигнуть её на большие изменения.
— Что же я могу сделать, я не член Сената.
— Так сделайтесь им, — ответил Елагин.
— Сего не желают, — задумался Потёмкин, — но я заставлю...
Это был его излюбленный ход: чтобы добиться чего-нибудь, он проводил тактику холодного и настойчивого повиновения, но языка нежных слов и жестов уже не применял.
За обедом он даже не отвечал Екатерине, когда она обращалась к нему, а уж разговор поддерживала только она одна. И она нередко забывалась, лицо её омрачалось, когда она искоса взглядывала на Потёмкина. Тот был совершенно спокоен и подчёркнуто холоден. Эта неявная ссора, свидетелями которой были все придворные, сделала атмосферу парадного обеда невыносимой. Лишь записной шут Лев Нарышкин, теперь уже шталмейстер, пытался как-то оживить воздух приёма, но его грубые и плоские шутки повисали в воздухе, не вызывая никакой реакции.
Екатерина удалилась к себе с расстроенным видом и едва удерживаясь от слёз. А когда она появилась снова, то все придворные отметили её покрасневшие от слёз глаза.
В понедельник, после этого злосчастного воскресного обеда, Екатерина назначила Потёмкина членом Сената, и видно было, что весёлое настроение вернулось к ней — вновь слова Григория убеждали её в том, что он обожает свою милостивую повелительницу.
Перед этим всемогущим человеком, умеющим склонить государыню к поступкам, прямо влияющим на его судьбу, начинают склоняться все. Ему отводят во дворце роскошные апартаменты, и во всякое время может Потёмкин видеть свою повелительницу и снова и снова диктовать ей...
Прошло всего несколько месяцев, а Потёмкин уже ведает внешней и внутренней политикой. Он стал не просто сенатором, он теперь руководит всеми его действиями. А председателя Военной коллегии Захара Чернышева он третирует и унижает в глазах императрицы и Сената так, что тот вынужден скромно уехать в Москву, написав на дверях своего дворца: «Продаётся или отдаётся внаём».
Теперь Потёмкин уже председатель Военной коллегии, он управляет всеми военными делами, и от этого фигура его становится всё более могущественной и важной...
Словно бы туча, наполненная золотым дождём, встала над головой Потёмкина. Усадьбы, полные крепостными крестьянами, поместья в самых плодородных областях, дворцы и дома в Петербурге, безграничные земли, деньги — всё это оседало в карманах Потёмкина. Он как будто достиг своей цели — честолюбие его было несколько укрощено. Свою мать и сестёр он перевёз в Петербург, и императрица сделала простую дворянку Дарью Васильевну статс-дамой при дворе, а сестёр — фрейлинами, одарила их домами и деньгами и каждый раз выискивала предлог, чтобы ещё что-то подарить этой семье. Через несколько месяцев Потёмкин стал уже генералом-аншефом, президентом Военной коллегии и кавалером ордена Святого Андрея Первозванного. Посыпались на счастливца и другие дары. Уже в 1775 году ему был вручён диплом с графским титулом, почётная бриллиантовая шпага, а портрет Екатерины в бриллиантовой окантовке засиял на его груди.
Не отстали в выражениях милости к Потёмкину и иностранные монархи. Фридрих, прусский король, прислал ему орден Чёрного Орла — высший знак награды Пруссии, а австрийский император Иосиф возвёл его в сан князя Священной империи с наименованием «светлейший».
Всё было теперь у него, князя Священной Римской империи, самого богатого человека в России, могущественного вельможи, перед которым склонились все головы. Но не таково было честолюбие Потёмкина, чтобы удовлетвориться этим. Он видел перед собой цель, и Екатерина догадывалась, о чём думал и к чему пролагал пути её фаворит...
Когда Екатерина забеременела, Потёмкин обрушил на неё целый каскад нежности, высоких слов и необычайного внимания. Он ждал мальчика, чтобы его цель была ещё ближе...
Екатерина разрешилась девочкой, и торжество Потёмкина несколько поувяло: ему нужен был сын, чтобы добиться желанной мечты.
Но и дочь от императрицы — это тоже было неплохо для фаворита.
Екатерина всех своих детей разбрасывала по знатным домам, давала на них большие деньги, но никогда не интересовалась их судьбой: материнские чувства были ей чужды. Так и теперь она пристроила свою дочку в одну из знатных семей, позаботившись о том, чтобы девочка носила фамилию Потёмкина, но уменьшенную. Такие фамилии давали тогда незаконнорождённым детям, чтобы не путать их с законными, рождёнными в браке.
Девочка получила имя Елизаветы Григорьевны Темкиной, и больше Екатерина не возвращалась к заботам о ней...
Крепкая и сильная женщина, Екатерина уже очень скоро оправилась от родов, и тут Потёмкин и приступил к осуществлению своего могучего плана.
Для начала он испросил у Екатерины позволения уничтожить Запорожскую Сечь.
Потёмкин потребовал усиления армии Задунайского и решительно отвергал все претензии на ревизию его деятельности. Он настоял, чтобы генерал Текелий занял Запорожскую Сечь русскими войсками и разорил это гнездо бандитов, безнаказанно набегавших на всех — на православных и мусульман, грабивших и разорявших все окрестные города и сёла. Это позволило Екатерине навести порядок в придунайских окрестностях, сделать жизнь в плодороднейших областях Малороссии спокойной. Казаки перестали врываться в дома крестьян, забирать в рабство женщин, девушек и здоровых мужчин, и население Малороссии благословило Екатерину за разрушение этого бандитского гнезда. Казаки почти полностью ушли на службу в Турцию и отныне уже несли её исправно...
В два года поднял себя Потёмкин до высоты императрицы. Ничто теперь уже не делалось без его согласия или его инициативы. И надо сказать, что Екатерина только радовалась этому: ум и рассудительность Потёмкина, его богатое воображение позволяли ей грезить о славе, которая могла бы утвердиться в потомстве. На него рассчитывала Екатерина, ему доверяла самые сокровенные мечты.
Главный её советник, авторитетный и решительный...
Она снова взглянула на Потёмкина и увидела, что его единственный глаз приоткрылся и серьёзно, проницательно смотрит на неё.
Перо её скользнуло по бумаге, сделало большую черту, и она смяла бумагу, бросила её под стол и стала ждать слов фаворита.
— А что, матушка, как ты рассудишь сон мой?
Потёмкин вскочил с дивана и принялся выхаживать своими длинными и кривыми ногами по небольшому пространству кареты.
Екатерина приготовилась слушать, опершись локтем о край «бобка».
— И что за сон такой, что моего рассуждения требует? — спросила она.
— А вот какой. Виделось мне, что в голубом небе над Айя-Софией уже не турецкий полумесяц сияет, а наш православный христианский крест возвышается...
Екатерина нахмурилась. Непревзойдённое воображение Потёмкина уводило его в бесконечные грандиозные дали, но к чему крест над Айя-Софией, мечетью в Стамбуле, бывшем Константинополе? Она было догадалась, но не подала и вида.
— И не пора ли тебе, матушка, подумать: а не заменить ли в самом деле полумесяц на наш родной христианский крест?
— Какая же кровавая война, — ещё больше нахмурилась Екатерина.
— Зато все твои потомки будут имя твоё прославлять, скажут, что крестоносцы не сумели, то сумела самодержица российская...
— Выдержит ли Россия такие тяготы? — уже с надеждой взглянула Екатерина на Потёмкина. — Это ж такой грандиозный план, что глаза зажмуриваются...
— А вот и думай, матушка, — весело сказал Потёмкин.
Он подошёл к Екатерине и ласково прижал её к себе. Она умилённо прильнула к его широкой груди.
3
Широко распахнутые чугунные ворота обители с самого утра поджидали важных гостей. Монахи в чёрных суконных рясах, подпоясанных витыми шёлковыми шнурами, расположились по обе стороны белой каменной дорожки, ведущей от ворот к тоже распахнутым на всю ширину высоким дубовым дверям собора.
Императорский поезд появился наконец из-за больших лип и дубов подъездной аллеи, и вороные кони, как каменные, встали у ворот.
Соскочили с коней сопровождающие гвардейцы, выстроились в плотную стену, подбежали к дверцам длинной кареты грумы с её запяток, откинули крошечные подножки и вытянули руки, встречая императрицу.
Екатерина в простом чёрном платье, покрывавшем пышные нижние юбки, в чёрных же чулках и чёрных грубых башмаках, в кружевной чёрной шляпе, низко надвинутой на глаза, показалась в дверцах. Сильные руки грумов подхватили её и поставили на белые каменные плиты у ворот обители.
Потёмкин не воспользовался помощью слуг — он легко выскочил из кареты и встал за плечом императрицы. Весёлый перезвон колоколов, ангельское пение чернорясных монахов ударили им в уши.
Почти у самых ворот встретил императрицу сам архимандрит, настоятель Троице-Сергиевой лавры, в чёрном клобуке, с большим серебряным крестом на чёрной рясе. Он сразу же простёр руку над императрицей, благословляя её приезд в лавру, помахал большим серебряным кадилом и повёл приехавших в храм.
Екатерина ступила на белые каменные плиты и едва не споткнулась — в середине каждой плиты были глубокие выбоины. Так много паломников побывало в знаменитой лавре, так много ног исходило по этим плитам и на коленях, что стёрлись первые слои камня, а там уж было недолго и до самой почвы, на которую аккуратно были уложены камни.
Потёмкин подхватил Екатерину своей железной рукой и не дал ей возможности упасть и на коленях подползти к храму, как делали это все паломники, приезжавшие на богомолье.
Екатерина благодарно взглянула на своего фаворита и вслед за архимандритом и сопровождавшим его белым духовенством[32] направилась к открытым дверям храма. На паперти её поджидали приодетые и чистенькие юродивые и нищие, и Екатерина вынула из своих обширных карманов небольшой замшевый мешочек с медными монетами.
— Не теперь, — придержал её руку Потёмкин, — а уж как выйдем после молебна...
Она едва не покраснела — знала, что милостыню подают лишь после посещения храма, а тут не удержалась. Ей казалось, что нищие только и думают о том, чтобы получить монетку прямо из рук государыни.
Монахи по обе стороны белой каменной дорожки всё продолжали петь тихими ангельскими голосами, их пение заглушалось трезвоном колоколов, но едва Екатерина и Потёмкин вошли в храм, трезвон прекратился, затихло и монашеское пение...
Потёмкин провёл Екатерину к самому амвону, она упала на колени перед образом Богоматери и склонилась головой к полу. Широкие края чёрной шляпы не дали ей возможности поцеловать пол святого храма.
Григорий опять поднял Екатерину за локоть и подвёл к широкому, обитому красной кожей месту для сидения с резными деревянными подлокотниками.
Она села и приготовилась выслушать всю длинную службу от начала и до конца.
Потёмкин встал у её правого уха и тихонько подпевал хору, произносил слова службы вместе со священником, и Екатерина всё время удивлялась его бархатному баритону и великолепной памяти, позволявшей ему помнить наизусть все слова длинной службы.
Императрица крестилась, когда полагалось, но думы её были далеко. Она почти не слышала песнопений, уносилась мысленно к той дали, которую приоткрыл недавно в карете Потёмкин. Да, эта идея была блестящей, и её царствование было бы ознаменовано великими деяниями...
Выходя после длинного молебна из собора, Екатерина развязала над большим серебряным блюдом большой замшевый мешок с золотыми империалами. Монеты, звеня, покатились в высокое блюдо и затопили его золотым блеском...
Монахи и священники заворожённо глядели на груду золота, теснившуюся на серебряном блюде. Екатерина заметила блеснувший радостью глаз архимандрита.
— Пожалуйте к трапезе, государыня, — едва слышно пролепетал он.
Длинная седая борода архимандрита колыхнулась в такт его словам.
— Да разве мне можно? — громко удивилась Екатерина. — Ведь по правилам православной церкви нельзя женщине ступать в монашескую трапезную, как невозможно даже её пребывание в православной лавре?
— Не исключение и вы, государыня, — поклонился ей архимандрит, — но вы государыня, а это всё равно что правитель, монарх, и это едва ли не мужчина. Да и другие знатные боярыни бывали тут, только на всё смотрели из-за решёток...
— Так, может, и мне из-за решёток? — лукаво прервала его Екатерина. — Не хотелось бы нарушать ваш устав.
— Смейтесь, государыня, смейтесь, — улыбнулся архимандрит, — позволено вам всё, раз всё в России вам подвластно...
Екатерина усмехнулась и, поддерживаемая Потёмкиным под руку, направилась в сторону трапезной монастыря.
Однако монахи, окружившие Екатерину и Потёмкина плотным кольцом, повели их не в сторону приземистого здания общей трапезной. Екатерина лишь одним глазом смогла заглянуть в открывшуюся дверь трапезной, построенной ещё в конце прошлого века. Но успела увидеть обширное длинное помещение, в дверь которого, низенькую и узкую, входили и входили нищие, обряженные в свои отрепья, юродивые, стучавшие посохами на пороге трапезной, калеки, двигавшиеся, хромая, и приползавшие к стенам здания.
Длинный дощатый стол, добела отмытый и выскобленный, окружали лавки, до блеска отполированные задами кормящихся. Чёрные монахи бесшумно скользили вдоль лавок, ставили на стол большие глиняные миски с пареной репой, оловянные казанки с мясной похлёбкой, оловянные же подносы с крупно нарезанным, только что испечённым чёрным хлебом и раскладывали деревянные ложки, которыми едоки и ели похлёбку из общих казанков.
Запах хлеба, пряный и свежий, резанул по носу Екатерины, и она внезапно почувствовала, что необыкновенно голодна и с удовольствием съела бы такой запашистый ломоть, вызывающий во рту обильную слюну.
Но их провели мимо этой трапезной, в которой с давних пор кормили всех голодных, провели и мимо монашеской трапезной, расположенной поблизости от общей.
Открылась невысокая дверца, словно бы нарочно, чтобы Екатерина увидела убранство и этой трапезной. Голые стены, иконы в углу, большое распятие, такой же длинный стол, выскобленный с мелкой кирпичной мукой, белый и сверкающий в лучах солнца. Лавки вокруг этого длинного стола тоже были от давности отполированы, а на столе не было столько еды, сколько в общественной трапезной, лишь хлеб, вода в глиняных высоких кружках, миски с пропаренной репой. «Нескоромно же питаются монахи», — подумала императрица и взглянула на Потёмкина.
— Ужасно есть хочется, — ответил он шёпотом на её взгляд.
Наконец их привели в трапезную комнату самого архимандрита. Небольшая келья, даже не келья, а приёмная зала настоятеля монастыря вся была увешана иконами, крестами, распятиями, бумажными вырезками со словами из Священного Писания.
Стол здесь был тоже небольшой, ничем не покрытый, но окружали его не скамьи, а мягкие стулья, удобные и высокие.
Архимандрит перекрестился на образа, повернулся к столу и благословил еду широким крестом.
Жестом руки он пригласил Екатерину и Потёмкина за стол, стоя, прочитал «Отче наш» и только после этого сел перед едой.
Безгласные и бесшумные монахи уже уставили стол замечательными кушаньями — отварной и жареной осетриной, супом из куриных потрошков, паштетами и зеленью, сладостями и свежими фруктами. Словно по мановению руки, поставив на стол небольшой графинчик с церковным вином, монахи исчезли, и они остались втроём — архимандрит, Екатерина и Потёмкин.
Сполоснув руки в большой серебряной чаше, они взялись за еду. Пример подал сам архимандрит — его аппетит был огромен, как и его наеденное брюхо.
Екатерина с удовольствием уплетала церковный обед — давно уже не приходилось ей испытывать такое чувство голода. Даже настойку она выпила с наслаждением, хотя обычно не пила ничего, кроме крепкого кофе и холодной воды.
— Слава тебе, Господи, — улыбнулся архимандрит румяными губами, заросшими седыми усами и бородой и едва видными в этой щетине, — привелось и мне разговеться в день сегодняшний. Благодарствую, матушка-государыня, что приехала, что пришла ко мне на трапезу и разделила её со мной.
— Спасибо вам, — ответно улыбнулась Екатерина, — так роскошно меня угощаете, а я видела — монахов своих не сильно балуете.
Архимандрит качнул чёрным клобуком, и глазки его, светлые и пронзительно чистые, и вовсе спрятались под чёрными ресницами.
— Так ведь наш пресвятой Сергий завещал нам не роскошествовать. Он не питался ничем в среду и пятницу, а только в другие дни принимал пищу, да и то лишь хлеб и воду.
— А я слышал, — вмешался Потёмкин, — что он все пять дней недели не принимал никакой пищи и только в субботу да светлое воскресенье ел хлеб и пил воду...
Екатерина тут же уловила, что Потёмкин провоцирует архимандрита на долгий разговор о святых, об их постных и скоромных днях, поняла, что он хорошо знает, как питался Сергий Радонежский, но отчего-то хочет показать ей прекрасное знание архимандритом жития Сергия. И Екатерина прервала их беседу.
— Мы сегодня так устали, — ласково сказала она, — ехали долго, потом благодарственный молебен отстояли, а теперь вот трапезничаем. Не пора ли нам и по своим постелям?
Архимандрит посерьёзнел, посмотрел на Потёмкина, а потом медленно и важно сказал:
— Сын мой может и пойти отдыхать, а тебе, дочь моя, предстоит ещё выслушать мой наказ. Но ты государыня, на твои плечи легло так много забот и труда, что удостой меня ещё только минуточкой...
Потёмкин поднял брови, удивляясь просьбе архимандрита, но покорно встал, подошёл под благословение монаха и вышел, даже не взглянув в сторону Екатерины.
Екатерина выжидательно смотрела на монаха, забыв в руке кусок чёрного запашистого хлеба.
— Сегодня мы принимали тебя, дочь моя, замечательная монархиня и государыня наша, в Успенском соборе, отслужили благодарственный молебен за то, что путешествие твоё окончилось успешно, и ты, и все твои слуги здоровы и благополучны.
Екатерина всё смотрела на архимандрита, гадая про себя, к чему ведёт он речь.
— Завтра с самой ранней заутрени стоять будем в Троицком соборе, где хранятся останки нашего святителя, Сергия Радонежского, и после службы разрешится тебе прикоснуться к мощам великого святого. А служба наша будет состоять в том, что мы станем умолять нашего святого Сергия, чтобы он просил Господа помочь тебе, нашей государыне, во всех твоих делах.
Он вздохнул, словно переходя к самой трудной части своей речи, и продолжил:
— Перед этой службой спроси себя, чиста ли ты перед Господом нашим, не слишком ли отягощают твою душу грехи?
Екатерина вздрогнула и ответила так, как когда-то отвечала Елизавете, своей свекрови и тётке: «Виновата, матушка».
— Виновата, батюшка, грешна, грешна сильно, батюшка...
Сказала и не заметила, как навернулись на глаза слёзы.
— Грехи разные бывают, — рассудительно заметил архимандрит, — но на душе у человека должно быть светло, чисто и спокойно. А у тебя, вижу, не совсем чисто на душе, во грехе живёшь, во грехе чад рождаешь, не просишь Господа простить тебе твои грехи...
— Прошу, прошу, умоляю, причащаюсь, стараюсь грехов не накапливать, а всё грешна, грешна, батюшка...
— Покрой все свои грехи венцом, взвали на плечи, рядом стоящие, свои заботы и прегрешения, раздели их пополам...
Слёзы Екатерины сразу высохли.
Так вот в чём дело, так вот почему архимандрит услал Потёмкина, так вот почему Григорий умолял её совершить это богомолье...
Он прекрасно знал язык этих чернорясных монахов, он умел подражать им, он мог вторить службам и даже нередко поправлял их ошибки. Конечно же это он говорил с архимандритом да, наверное, ещё и с монахами, так что ей предстоит выдержать ещё не одну атаку...
— Святой отец, — лукаво прищурилась Екатерина, — а откуда вы знаете про мои грехи? Я ведь ещё не исповедовалась, ещё никому в здешних стенах не раскрывала свою душу...
Архимандрит ничуть не смутился.
— Господь открывает нам немало такого, о чём не подозревают мирские люди, — поучительно сказал он, пронзительно глядя на Екатерину своими выцветшими голубенькими глазками, — да и не в пустыне мы живём, слухами земля полнится, и до нас доходит...
— Я буду молиться, чтобы Господь простил мне мои грехи, — холодно произнесла Екатерина и добавила уже ласковее: — Спасибо вам за то, что так хорошо приняли нас, меня и всех моих слуг, спасибо за угощение, мой желудок просто прославляет вас за ваши прелестные кушанья...
Она встала и подошла под благословение святого отца.
— Подумай, дочь моя, — наставительно произнёс архимандрит, — и исправь грехи свои...
Он осенил её широким крестом, жестом вызвал из соседней кельи монахов, чтобы проводить императрицу в покои, отведённые ей в царском дворце, построенном ещё царём Алексеем Михайловичем.
Окружённая целой толпой чёрных монахов, Екатерина пересекла широкий двор, мельком взглянула на скромную больничную церковку и взошла на высокое крыльцо царских хором.
С десяток монахов, сопровождавших Екатерину, упали перед ней на колени прямо перед первыми ступенями крыльца и забормотали в один голос:
— Матушка-государыня, не дай врагам рода человеческого, тем, кто за нами следит и вредит нам, запихнуть тебя в геенну огненную, не дай им уволочь тебя в пещеры тёмные, страшные, к врагам рода человеческого...
«Вот и вторая атака», — усмехнулась Екатерина, поклонилась монахам и отворила резную деревянную дверь, простеленную железными полосами.
В царской опочивальне, приготовленной для императрицы, её уже ждала Катя Шаргородская с мягкими простынями, круглыми мылами и ароматными травяными настойками.
— Пожалуйте, Екатерина Алексеевна, — пригласила она, — тут, оказывается, есть огромная бадья, как стопа человеческая, и уже натаскали горячей воды, слова не успела сказать...
С великим наслаждением погрузилась Екатерина в громадную бадью, прислонилась к высокому деревянному бортику и принялась размышлять, пока Катя намыливала её сильное большое тело, раздобревшее после последних родов.
Да, постарался Григорий, уговорил монахов, чтобы просили за него, даже самого архимандрита прельстил. Да только было уже у неё в жизни одно испытание бракосочетанием, и она охотно пошла бы на него. Григорий Орлов ожидал, что она в знак благодарности за то, что возвёл её на престол, выйдет за него замуж и он станет российским императором. Но затея эта встретила такое возмущение, сразу же возник заговор Хитрово, да и Никита Панин, возглавляющий всю внешнюю политику и воспитатель наследника, Павла, встал у стены Сената и громогласно произнёс:
— Императрица вольна поступать, как ей угодно, но графиня Орлова никогда не будет российской императрицей...
Так и пришлось оставить эту затею.
Конечно, ныне уже не те времена, и она может позволить себе выйти замуж, но теперь уже ей и самой не хочется этого. Стеснять будет муж, а станет он русским императором, и она, императрица, отойдёт на второй план.
«Нет, дорогой Григорий Александрович, хоть и люблю я тебя, хоть и головка у тебя светлая, но выпустить из рук самодержавную власть я никогда себе не позволю. Хозяйка теперь я, а потом буду вынуждена считаться с императором. Нет, никогда...»
Но она знала, что монахи не успокоятся, что снова и снова станут они по наущению Потёмкина пытаться обвенчать её с Григорием, какие угодно слова будут изрекать, и стращать карами небесными, и умолять, и уговаривать самыми ласковыми речами, но она была уверена, что никогда не согласится поступиться своей верховной властью...
Монахи и правда приставали к Екатерине при всяком удобном случае. И умоляли, и уговаривали, и стращали. Но она откупалась от них то приказанием привезти в лавру пятнадцать возов гранитной плитки для замены выщербленной, то дачей денег на покров Богоматери, на оклад иконы.
Ранним утром пошла она в Троицкий собор, где выстояла очень длинную церковную службу.
Едва вошла она в приготовленный для утренней службы собор, сияющий тысячами свечей в больших паникадилах, спускающихся с потолка на толстых серебряных цепях, как вдруг защекотало в глазу, и не успела она что-нибудь подумать, как из её глаз полились слёзы. Она удивилась этой странности: не было у неё ни одной грустной мысли, никакого горя, и не хотела она плакать, а слёзы лились и лились. Она стояла возле Потёмкина, тронула его за рукав мундира и прошептала:
— Что ж я плачу, я ведь не грущу?..
Он сразу же нашёлся с ответом:
— А слёзы сами льются, место тут такое, намоленное...
Всю службу Екатерина стояла с мокрыми глазами и только после последнего песнопения подошла к священной раке, где покоилось тело Сергия Радонежского.
Серебряная тяжёлая рака, или саркофаг, была поставлена в другую, тоже серебряную. Ещё Иван Грозный приказал поместить останки Сергия в Троицком соборе и выковать для них раку чудовищной тяжести и неописуемой красоты. Вслед за ним Анна Иоанновна тоже одарила Троице-Сергиеву лавру серебряным узорчатым саркофагом.
Сверху, там, где находилось лицо святого, окошко было прослоено полупрозрачной слюдой. Под ней угадывались очертания лица, нетленные останки, покоившиеся уже много веков.
С дрожью в ногах Екатерина подошла к раке, наклонилась над слюдяным окошком, чтобы приложиться к мощам святого Сергия, но в нос ей ударил сырой склепный дух, и она едва удержалась на ногах. Поцеловав воздух высоко над ракой, она отшатнулась от неё и чуть не упала в объятия Потёмкина. Он сразу же вывел её на свежий воздух и внимательно, пытливо поглядывал на неё своим единственным кривым глазом.
— Любовь моя, — сказал он тихонько, — разве Господь не указывает нам на совместную дорогу к славе твоей, к утешению отечества? Разве неможно нам соединиться, связать свои жизни, потому что для меня и для тебя нет ничего дороже отечества и твоей бессмертной славы?..
Екатерина всё ещё чувствовала некоторую дурноту и даже не взглянула на Потёмкина.
— Не хочешь всеобщего узнавания, можем пойти на секретный брак, как пошла на него Елизавета, тётка твоя, с Разумовским...
Она опять даже не посмотрела на него. Разве не знает он, как просила она выведать у Разумовского, был ли он тайным мужем её тётки, царицы Елизаветы? Ничего не ответил Разумовский, лишь сжёг документ при свидетеле и произнёс:
— Я всегда был только верным и покорным рабом её величества императрицы Елизаветы.
Но Екатерина не сказала об этом Потёмкину — уж верно, знает он и об этих словах...
Он проводил её в покои, и там она одна отобедала вместе с Катей Шаргородской.
За обедом старая горничная и почти подруга императрицы поинтересовалась:
— Что, нет аппетита? Нагнали на вас страху эти черноризцы?
— Нет, — улыбнулась Екатерина, — лишь Циклоп желает на мне жениться.
Катя Шаргородская так и ахнула.
— Да не бойся, — успокоила её Екатерина, — или ты думаешь, что мне моя свобода не дорога?
Больше об этом за столом не было разговора, и Екатерина знала, что Катя ни о чём не проронит ни словечка: уж сколько раз убеждалась она не только в Катиной верности и преданности, но и в её молчаливости, нежелании лезть во все придворные сплетни и интриги...
Третий день паломничества ничем не отличался от первого. Всё также сопровождали Екатерину монахи и всё также умоляли её пойти под венец с Григорием Потёмкиным. Но Екатерина уже приняла решение. Она была ласкова и приветлива с монахами, одаряла их царскими дарами, жертвовала на монастырь большие деньги, но на уговоры не отвечала, словно бы и не слышала их.
Она ничего не отвечала и Григорию, всё ещё не оставившему надежду пойти с нею под венец. Он не заговаривал больше ни о своей любви к ней, ни о боязни греха, ни о заблудшей душе. Ни о чём не говорил он с Екатериной, и она как будто тоже не замечала его молчаливого поведения.
Снова и снова шли молебствия. Екатерина причащалась, исповедовалась, и ей отпускали её грехи. Приехал к последнему молебну из Москвы митрополит и сам вёл службу, и Потёмкин тоже подпевал ему и сердился на его частые ошибки. Обед с митрополитом был скучен, и Екатерина уже откровенно жаждала закончить паломничество и вернуться в столицу.
Но вновь и вновь подвергалась она атакам монахов, при каждом удобном случае они всё ещё уговаривали её, намекали, стращали загробными карами. Екатерина терпеливо выслушивала их и ничего не отвечала.
В последний час, когда уже были запряжены кареты, когда все придворные приготовились к отъезду, вдруг пропал Потёмкин. Екатерина оглядывалась, искала его в толпе разряженных, раззолоченных слуг, но нигде не видела.
И вдруг к ней подбежал чернорясный монах, молча поклонился ей в ноги и поднял к ней лицо. Она узнала Потёмкина.
— Государыня, госпожа моя, раз я не могу быть тебе полезен в управлении отечеством, раз не могу пойти с тобой к алтарю, решился я похоронить себя в этой лавре, стать монахом, чтобы огонь, что зажгла ты в моей душе, не был виден никому другому, а огонь этот пусть разгорается и пожжёт меня...
Екатерина изумлённо глядела на генерала. Ему шла чёрная ряса, он был в ней огромен, строен и выделялся среди всех других монахов. Их бледные лица сильно контрастировали с загорелым ликом и здоровым румянцем Потёмкина.
— Я похороню себя, посвящу себя Богу, коли не смог посвятить себя тебе, моя повелительница...
Он поцеловал край её чёрного платья. Екатерина уже пришла в себя и спокойно ответила ему:
— Разве смею я соперничать с Богом? Если вам по душе служение Богу, как я могу препятствовать вам?
Она повернулась, кивнула всей своей придворной свите и легко взбежала по выщербленным белым каменным ступеням к карете, уже стоящей перед чугунными ажурными воротами лавры.
4
Оглушительный удар по самолюбию, по всем его планам, осколками разлетевшимся в разные стороны, Потёмкин перенёс стоически. Только два дня после отъезда императрицы метался он из угла в угол в тесной монашеской келье, рвал на себе толстую суконную чёрную рясу, едва не до крови грыз ногти и думал, думал, думал... Что предпринять, как вернуть себе прежнее положение и влияние, как не упустить судьбу?..
На третий день он в рогожном, побитом ветрами возке собрался в обратную дорогу. Снова напялил свой генеральский мундир, причесал копну чёрных вьющихся волос, уселся на деревянное жёсткое сиденье и пустился в дорогу.
Вернувшись в Петербург с такого неудачного богомолья, Екатерина уже подумывала заменить Потёмкина новым фаворитом, но скучала, глядела по сторонам, изредка бросала взор на двух молодых и обворожительных секретарей, рекомендованных и представленных ей Румянцевым-Задунайским, но всё не могла решиться резко порвать с прежним любимцем. Она ждала, что он вернётся, никак и помыслить не могла, что он останется в лавре, усмехалась, когда вспоминала его в чёрной рясе и монашеской скуфейке.
Он и вернулся. Не глядя по сторонам, прошёл прямо в покои Екатерины, упал на колени перед её маленьким столиком и протянул к ней руки.
— Прости ты меня, дурака, благодетельница и милостивая моя государыня. Не по самолюбию моему хотел повести тебя под венец, а по защите и служению тебе, великая монархиня! Не видишь ведь, сколько с разных сторон тебе грозят...
Екатерина бросила перо, которым писала в очередной раз своим корреспондентам, и смущённо слушала князя, снова обрядившегося в позолоченный, сверкающий мундир генерала.
— Орлы из твоих рук едят, их кормишь, осчастливила ты их выше самой высокой меры, а они в сторону глядят...
Потёмкин знал, что говорил. Как раз в это время Григорий Орлов сосватал свою двоюродную сестру, фрейлину Зиновьеву, преодолев тысячи препятствий как со стороны государыни, так и со стороны Святейшего синода, запрещавшего браки между близкими родственниками.
Угадал Потёмкин, ударил прямо в больное место, всё ещё кровоточившее.
— А двор молодой? — задал он вопрос, всё ещё стоя на коленях. — Панина слушают, а он уж и ножницы приготовил, чтобы мантию твою по краям обрезать...
Екатерина пригорюнилась. Да, со всех сторон угрожают ей, она слаба и беззащитна, и помощь, опека, заступничество Потёмкина ей очень нужны, тем более что сам он бескорыстен, а просит только дозволить ему помогать ей.
Потёмкин всё ещё что-то говорил — и о делах европейских, и о славе государства и его государыни, — но она уже поднялась с места, вышла из-за стола, подошла к фавориту и склонилась над ним, обняв руками его чёрную голову и целуя в самую макушку.
Он резво поднялся и сжал её в своих могучих объятиях...
В несколько дней Потёмкин вернул себе всё, что было потерял, — неограниченное влияние на императрицу, новые чины, новые дворцы и земли, сотни крепостных крестьян. С ужасом видели придворные, всеми силами ненавидевшие Циклопа, как внимательно прислушивается Екатерина к словам светлейшего, как нежно и умильно смотрит на него.
И тогда Потёмкин решил идти дальше: его честолюбивые мечты не давали ему успокоиться. Он заговорил было о том, что ему необходимо стать герцогом Курляндии, чтобы защищать Екатерину и с этого бока, а лелеял он ещё и мечту сделаться королём Польши.
Но и этим его планам не суждено было осуществиться. Екатерина лишь молча усмехалась на его доводы, слушала его внимательно, но не торопилась выполнять его притязания.
И тут Потёмкин совершил ошибку, такую же, какую в своё время совершил Григорий Орлов, — он испросил отпуск для ревизии в Новгородской губернии.
Он уехал, и у Екатерины снова были развязаны руки. В покоях рядом с её опочивальней поселился Завадовский, и у императрицы вновь повысилось настроение — голос её был теперь нежен и ласков, и придворный штат ощутил на себе её милостивое соизволение...
Потёмкин вернулся и застал в покоях Екатерины Завадовского. Он был взбешён, но не тот человек это был, чтобы опустить руки и смириться с отставкой.
И опять стоял он у Екатерининого кресла и старательно, медленно и вдумчиво подбирал слова для решительного разговора с бывшей любовницей:
— Вечный траур буду я носить по той искренней и горячей любви, которой одарила меня удивительнейшая из женщин, прекрасная и разумная. Но как же легко изменили мне в этой любви, как просто отодвинули меня в сторону!
Екатерина смущённо молчала.
— О нет, не буду я добиваться того места, что было в сердце моей вечной благодетельницы, не стану отвоёвывать у какого-то молодого человека его теперешнее место. Кто он таков? Без прошлого, без особых способностей, взял лишь своим миленьким личиком и длинными ногами. Нет, моё сердце не позволяет мне сражаться с ним. Я не хочу больше входить в ту дверь, что была осквернена, но я не мальчик, я слуга императрицы, я князь, генерал и министр, поставленный тобою, моя государыня, у кормила правления. И вот здесь я не откажусь от своих прав. Я буду защищать, как каменная стена, всё государство моей государыни, я буду твёрдо стоять на охране её, пусть даже и предавшей меня...
Он высказывался долго, и Екатерина опять подчинилась волшебной силе его голоса и слов, которые он так хорошо умел подбирать. Он говорил ей, что высшая сила призывает его стать для Екатерины верным слугой и выполнять все её капризы, потому что случай с Завадовским не более чем её каприз. Да разве не может он подобрать государыне такого создателя её удовольствий, чтобы она могла чувствовать в душе благодарность ему, отказавшемуся от своих прав для выполнения её каприза? Он будет создавать эфемерные связи для императрицы, он найдёт таких красавцев, которые соблазнят Екатерину, но останутся ничтожными, ничего не понимающими в государственных делах...
И Екатерина согласилась с его словами, хотя они были не столь уж мягки и справедливы. Но она поняла, что все её связи теперь будет контролировать этот могучий человек, и она облегчённо вздохнула — она больше не боялась Потёмкина, она положила свою судьбу и судьбу своего сердца в его сильные руки...
Как залётная птица, исчез Завадовский из золотой клетки, где его поселила императрица. И начался поток молодых красавцев, ничтожных по уму и дарованиям. Корсаков, Зорич, Ланской — всех их отыскивал для Екатерины Потёмкин, угадавший непостоянство своей бывшей любовницы. Они блистали некоторое время, потом исчезали, как ночные мотыльки, недолговечные, ничтожные, не смевшие сравняться могуществом со всесильным Потёмкиным...
Потёмкин исчез из покоев Екатерины, предназначаемых для ночных утешителей, но зато поселился в её уме и без малого восемнадцать лет был не просто её добрым товарищем, но и соправителем громадной России. Ничего не делала Екатерина без совета со своим верным другом, и эта странная дружба помогала ей блистать в мире.
Со всех сторон жужжали в уши Екатерине о Потёмкине: и что-де бесконтрольно распоряжается императорской казной, и что кладёт себе в карман миллионы, и что делает всё лишь для того, чтобы пустить пыль в глаза Екатерине и её двору, а на самом деле все его начинания — феерия, пустота, одни бесплодные мечтания.
Но Екатерина твёрдо знала: ни одному из своих преданных людей не может она доверять так, как Потёмкину, никто из придворных не в силах сравниться с ним по уму, дарованиям и высокому полёту мысли. И она покорно следовала за ним во всех его начинаниях, потому что видела — всё сделанное Потёмкиным ведёт только к славе её царствования, всё идёт к прославлению её имени как великой самодержицы...
Никто не смог предложить ей такой захватывающий проект, как тот, что придумал Потёмкин ещё по дороге в Троице-Сергиеву лавру, — греческий проект, позволявший России встать над Турцией, проект, предусматривающий покорение Константинополя — Стамбула, возведение православного креста вместо восточного полумесяца, стояние на коленях великой Османской империи...
Екатерина сама была склонна ко всему фантасмагорическому, и греческий проект грел ей душу.
Но Потёмкин не просто подал идею — он детально и обстоятельно рассказал об этом проекте в своей записке императрице. Всё учёл здесь его ум: и то, что славяне Балкан встанут на защиту своей веры и их можно будет использовать в качестве отдельных отрядов для борьбы с турками, и то, что Молдавия и Валахия тоже православные страны и договоры с ними, заключённые в скором времени, заставят эти маленькие страны вместе с Россией бороться с врагом, изнурявшим их в течение нескольких веков. Даже грузинские цари были учтены Потёмкиным в этом проекте: с ними надо договориться, взять их под своё крыло, тем более что грузины не раз просили протектората России.
Когда Екатерина читала эту записку, когда она анализировала все её положения, то видела, что Потёмкин учёл всё, приводил железные аргументы на всё, точным расчётом оправдывал все будущие движения российской армии. Она могла лишь удивляться гениальности его предположений и не слушала доводов противников фаворита, упрекавших Потёмкина в невиданной растрате сил и энергии государства, в непосильных расходах и тяготах.
Она так искренне и серьёзно верила в этот греческий проект, что даже при своём дворе предприняла некоторые шаги, показывающие веру в это будущее. Едва родился её второй внук, Константин, — она назвала его в честь греческого проекта, в честь последнего из византийских императоров, приставила к нему греческих учителей и выбила медаль, на которой на Айя-Софии красовался православный крест.
Но до Чёрного моря, где могла разыграться последняя сцена покорения Турции, было так далеко. Запорожскую Сечь уничтожил Потёмкин, и пространство, контролируемое ею, было теперь под влиянием России. Но какое безрадостное было это пространство — не только казаки грабили и разоряли близлежащие сёла и города, но и крымчаки пользовались любым случаем, чтобы набегать, нападать, грабить, зорить всё те же крестьянские хозяйства, уводить в плен женщин, девушек, парнишек. И постепенно обезлюдела вся полоса вдоль Днепра, выше и ниже днепровских порогов. Потёмкин понял, как знала это и Екатерина, что без покорения Крымского ханства, без присоединения к России Крымского полуострова нечего и мечтать об осуществлении греческого проекта.
Несколько лет понадобилось российским дипломатам, чтобы создать в Крымском ханстве сильную российскую партию, тяготевшую к северному соседу. Лишь удобный случай, когда на престол взошёл Шагин-Гирей, помог осуществиться планам и надеждам Екатерины. Шагин-Гирей был слаб и сладострастен, совсем не склонен к военным забавам, и давно уже роптали крымчаки, утратившие почти все свои богатства, нажитые грабежом и разбоем. Шагин-Гирею не нужны были степи, низкорослые татарские лошадки, бесконечные набеги и разбои, он не хотел ничего, кроме как нежиться на мягких подушках и развлекаться с гуриями[33]. А Турция требовала вассальной дани, угрожала, подстёгивала Шагин-Гирея.
Уговаривали, сулили несметные богатства русские посланцы Потёмкина, толкали Шагин-Гирея к отречению от престола. Но не только к отречению. Несколько миллионов золотых рублей сулили татарскому хану, дворцы и земли в российской части мира, нежную жизнь и блаженное ничегонеделание.
И добились. Шагин-Гирей отрёкся от престола, получил золотые рубли за весь полуостров. Россия просто купила этот кусок земли и тотчас ввела туда свои войска.
Вся организация, всё осуществление крымского происшествия взял на себя Потёмкин, за что и получил звание князя Таврического.
Теперь все земли от самого Киева до Чёрного моря были во власти России. Но эти обезлюдевшие, обессиленные земли требовали рук, людей, населения. Весь двор шептал в уши Екатерине, что Потёмкин лишь бесконтрольно распоряжается громадными казёнными суммами, не давая никому отчёта в них, а всё пространство до Чёрного моря так и стоит пустынным, безлюдным и никогда князю Таврическому не заселить, не оживить этот необитаемый край.
Екатерина слушала эти сплетни и наветы, но безраздельно верила Потёмкину и в конце концов решила проверить, что же сделал князь Таврический для заселения необитаемого края.
А Потёмкин работал. Он заполнял людьми пустынные плодородные земли, соблазняя переселенцев всевозможными льготами и денежными вспомоществованиями, а то и просто сгонял малороссов на берега Днепра силой, закладывал города и верфи для строительства флота, не стеснялся в расходах и всё совершал для того, чтобы изумить, поразить государыню размахом нового дела.
Вот как говорил о Потёмкине государственный деятель и писатель Василий Александрович Чертков, главный командир на Днепровской линии, а потом азовский губернатор:
«Я был с его светлостью в Тавриде, Херсоне и Кременчуге месяца за два до приезда туда её величества. Нигде ничего не было отменного — словом, я сожалел, что он позвал туда государыню по-пустому. Приехал с нею. Бог знает, что там за чудеса явилися. Чёрт знает, откуда явились строения, войска, людство, татарва, одетая прекрасно, казаки, корабли.
Какое изобилие в яствах, напитках — словом, во всём! Придумать нельзя, чтобы, пересказать порядочно. Я иногда ходил как во сне, право, как сонный — сам себе не верил ни в чём, щупал себя: я ли, где я, не мечту ли, не привидение ли вижу? Ну, надобно правду сказать: ему, ему только одному можно такие дела делать, и когда он успел всё это сделать?»
Крым, Тамань, прикубанские степи — всё это было теперь российским, а распорядительность, умение всё организовать, заселить, насадить — всё это только Потёмкин, умевший создать такую феерию. Конечно, было много такого, что лишь пускало пыль в глаза Екатерине — например, огромные стада скота, которые по ночам перегонялись с одного места на другое по пути следования императрицы, некоторые декоративные сёла, но всё подделать невозможно, глаз всё равно различит подлог. А декорации Потёмкин делал только там, где уже невозможно было по-настоящему расселить переселенцев...
Знаменитое путешествие Екатерины в Крым началось 18 января 1787 года. Стояли сильные морозы, ветер заметал все реки, покрытые толстым слоем льда, из-за белёсых туч лишь изредка проглядывало такое же белёсое зимнее солнце. А возле Зимнего дворца теснились кареты и сани, бегали и суетились слуги, ржали кони, кричали погонщики. Снег, сначала падавший крупными снежинками, скоро превратился в секущую лицо крупу, быстро намочившую крупы коней и верхи дорожных экипажей.
Не суетились лишь возле императорской кареты. Здесь уже было всё готово: неподвижно сидели на козлах бородатые погонщики, как изваяния замерли форейторы, и только тридцать лошадей в попонах и больших султанах переступали копытами, надоедливо взмахивали пышными хвостами и мотали головами навстречу ветру.
Распахнулись парадные резные двери, перешагнула порог императрица в распашной горностаевой шубе до пят, вслед за ней вышли иностранные посланники, приглашённые участвовать в путешествии. Провожать её вышли весь молодой двор — наследник с женой и маленькими детьми, придворные, остающиеся в Петербурге.
Екатерина ещё раз взглянула на Павла, на его сразу покрасневший на морозе курносый нос и заслезившиеся глаза — он упорно не надевал шубу, оставался в одном мундире. «Нет, не станет он затевать возню», — решила она. Екатерина уже давно приказала доверенным, преданным людям — коли что, хватать наследника и представлять его ей. Она собиралась в поездку надолго, на целых полгода, мало ли что мог замыслить Павел, ненавидевший мать и всегда считавший, что она лишила его престола, как убила и его отца...
Слуги подхватили расплывшуюся императрицу под мышки и поставили её на порог кареты.
Карета была большая, объёмистая: гостиная на восемь персон, кабинет, спальня, карточный стол, даже маленькая библиотека и все удобства.
Нынешний фаворит Екатерины, Мамонов, уже сидел в карете, развалившись на мягком диване, возилась в гардеробной неизменная фрейлина Протасова, а к карточному столу примостился записной шут и неменяющийся весельчак Лев Нарышкин. Государыня поднялась к Мамонову и скинула шубу на руки Протасовой.
— Голубушка, государыня, — взмолилась фрейлина, — да на дворе мороз, простудитесь...
Но Екатерина махнула рукой в сторону большой медной жаровни и уселась рядом с фаворитом.
Императорская карета, длинная, громоздкая, вылетела на площадь, завернула к заставе. Вслед за ней потянулись кареты и сани со свитой, с провизией, мебелью и посудой. Сорок карет едва вмещали всех приглашённых в путешествие, а сто двадцать саней были битком набиты всем необходимым в дороге.
Всем материальным обустройством путешествия до Киева занимался Безбородко. На поездку было выделено четыре миллиона рублей, но хватило их только на половину дороги. И потому Безбородко просил губернатора Украины, знаменитого Румянцева, быть поэкономнее: безумная расточительность, неистовое воровство, везде большой беспорядок и мало удобств испугали его — он не хотел отвечать за всё это безобразие.
На каждой остановке императорский поезд ожидали наскоро выстроенные и также наскоро меблированные дворцы, а в крытых галереях длинные столы, уставленные закусками. Но все жаловались, как плохо, невкусно и отвратительно их кормят. Три тысячи человек везла с собой Екатерина, и, конечно, трудно было угодить каждому. Сама Екатерина не жаловалась: её хорошо кормили — уж за этим чётко следил Безбородко.
А вот принц де Линь писал:
«Все наши кареты полны персиков и апельсинов, наши слуги пьяны от шампанского, а я умираю с голоду, потому что всё холодное и отвратительное. Ничего нет тёплого, кроме воды, которую мы пьём...»
Однако до Киева доехали скоро: подготовленные станции были размещены как раз по времени проезда императрицы, дороги здесь, в этой части России, выровняли и укатали, а глядеть, собственно, было не на что. Это была обыкновенная серенькая бедная Россия, да и не выглядывала Екатерина в окошко кареты, занятая игрой, чтением и перемигиванием с Мамоновым.
Это был тот самый Мамонов, который через несколько месяцев упал на колени перед императрицей и со слезами просил у неё позволения жениться на юной фрейлине, княжне Щербатовой. Екатерина тогда изумилась — ничего не жалела она для фаворита, но ничто не привязало его к ней, императрице: ни деньги, ни земли и дворцы, которые она ему беспрестанно дарила. Он соблазнился молодостью и красотой.
— Давно уж, с год махаемся... — мямлил Мамонов.
Екатерина была поражена в самое сердце — она так привязалась к этому юному офицерику, писаному красавчику, что не мыслила себе и дня без него. Даже своему другу Потёмкину посылала от него поклоны и приветы: «Саша тебе кланяется, любит тебя, как отца родного...»
Но не стала злобиться — она всегда была великодушна, — сама причесала невесту к венцу и отпустила молодую пару в Москву, наградив дворцом и поместьем...
Теперь же она вся ещё была во власти грубой чувственной любви к Мамонову и то и дело брала его за руку, разглядывала на ладони глубокие борозды и старалась прочитать его судьбу...
Румянцев не встретил Екатерину с пышностью, помпой, как она ожидала. Он не позаботился даже о парадном убранстве святого города Киева. А Екатерина так мечтала показать своим гостям этот замечательный город. Она не стала ничего говорить Румянцеву, но послала к нему своего генерал-адъютанта Мамонова. Тот не поскупился на злые слова. Румянцев не задержался с ответом:
— Скажите императрице, что моё дело брать города, а не украшать их.
Вот тут и затаила Екатерина обиду на Румянцева и как могла выказывала её.
Когда все кареты доставили императорский двор в Киев, здесь уже начиналась настоящая весна. Снег давно стаял, распускались на деревьях первые нежные листочки. Екатерина решила подождать, пока можно будет по-летнему плыть по Днепру, и развлекалась до тех пор тем, что осматривала город, стояла на молебнах в Киево-Печерской лавре, бывала в домах местных дворян, дрожавших от такой чести...
Но наступило настоящее лето — солнце день ото дня набирало силу, трава полезла из земли со скоростью трёх сантиметров в день, зацвели черешни, вишни, яблони, груши, вся местность вокруг святого города погрузилась в белый туман.
И лишь тогда скомандовала Екатерина садиться на суда и спускаться по Днепру...
Удивительной красоты суда подготовил ей Потёмкин: двадцать галер[34], три тысячи человек экипажа.
Первыми шли три одинаково разукрашенные парусные галеры. Золото и красная краска покрывали их от воды до кончиков мачт. На палубах размещались павильоны и были устроены особые площадки с солдатами, стоявшими в боевом порядке.
На «Днепр», первую из этих величественных галер, Потёмкин пригласил императрицу. Золото и шёлк, бархат и парча, невообразимые и изящные удобства окружили Екатерину.
Такую же галеру занимал «Буг», где помещался сам Потёмкин со своими племянницами, с которыми находился вовсе не в родственной связи, — графиней Браницкой и графиней Скавронской.
Третья такая же галера служила столовой: здесь императрица давала свои парадные обеды.
Потёмкин хорошо знал вкусы своей повелительницы, знал, как хочется ей блеснуть перед всем светом, как любит она показной шик и блеск. И он сделал всё, чтобы императрица не только осталась довольна его трудами, но и восхищалась его изобретательностью и умением угодить её вкусам.
За этими тремя самыми роскошными галерами следовали менее блестящие, но всё равно богато убранные и красиво декорированные суда — «Снов», который занимали Безбородко, Ангальт и Левашов, «Сейм» с иностранными гостями и многие другие, где размещалась свита. «Тавель» и «Дон» образовали военное прикрытие, а на «Кубани» и «Самаре» готовили еду и складировали провизию.
Даже граф де Сегюр, французский посол в России, с восторгом рассказывал о пышном убранстве флотилии:
«Золото и шёлк блистали в богатых помещениях, устроенных на палубах. Каждый из гостей имеет на своей галере комнату и кабинет, где роскошь соперничает с изяществом, удобный диван, превосходную кровать из пёстрой тафты и бюро красного дерева. На каждой галере своя музыка. Множество шлюпок и лодок снуют беспрестанно во главе и по бокам этой эскадры».
Восторг сквозит и в его дальнейшем описании этого путешествия:
«Все остановки рассчитаны так, чтобы путешественники не испытывали ни малейшего утомления. Флотилия останавливается только перед живописно расположенными местечками и городами. Громадные стада оживляют луга, толпы крестьян усеивают берега. Множество лодок с молодыми парнями и девушками, распевающими свои родные сельские песни, окружают беспрестанно галеры».
Эти записи, позже опубликованные в Европе, — высшая лесть всемогущему фавориту и его честолюбивой, полной собственного достоинства возлюбленной. Это была феерия, фейерверк мощи России, и Екатерина цвела от гордости и счастья. Теперь она уже не верила ни одному плохому слову о Потёмкине.
5
Торжественно и ликующе двигалась царская флотилия по Днепру. Отойдя на несколько десятков вёрст от Киева, галеры и барки в строгом порядке расположились перед неприметной пристанью скромного заштатного городка Канева. Вся река от берега до берега была усеяна большими и малыми судами, а сама Екатерина вышла на палубную надстройку «Днепра», ожидая прибытия польского короля. Здесь было назначено их свидание после почти тридцатилетней разлуки.
Возле пристани выстроились вельможные паны в красных жупанах[35], а на самой пристани сиротливо стоял польский король Станислав Понятовский, окружённый десятком своих высших генералов.
Едва флотилия замерла посредине реки, а «Днепр» бросил якорь у пристани, как начался знаменитый фейерверк Польши, который в качестве подарка приготовил Понятовский для русской императрицы. Огненные колеса завертелись в воздухе, вверх полетели ракеты, рассыпающиеся разноцветными огнями, взрывались петарды, с дымом и стреляющими искрами разнося шум по реке.
Екатерина стояла на палубе «Днепра» в окружении самых приближённых лиц, и, скучая, смотрела на фейерверк, который терял половину своего цвета из-за яркого незаходящего ещё солнца.
Развернулся красный ковёр, покрывший сходни пристани и широкий трап царской галеры, и Понятовский под шум музыки и выстрелы ликующих панов поднялся на палубу. За ним последовали сопровождающие его поляки.
Напрасно ловил Потёмкин хоть искру сожаления о прошедшем на двух царственных лицах. Екатерина в парадном платье, в малой короне на голове была весела, любезна и холодна. Она подала Понятовскому руку, и он склонился над ней.
Потом Екатерина представила польскому королю всех своих вельмож, и Потёмкин подошёл к Понятовскому одним из первых. Польский король протянул Потёмкину руку, намереваясь пожать в ответ его руку. Но Потёмкин неожиданно для всех нагнулся над рукой Понятовского и поцеловал её.
Многие позже толковали об этой внезапной выходке временщика: то ли хотел он сделаться польским королём и выказывал дружелюбное отношение к польскому народу, то ли просто посмеялся над Станиславом. Поцелуй этот тем не менее имел значение. Станислав Понятовский проникся к Потёмкину симпатией и дружбой, разговаривал почти с ним одним, а потом писал временщику много писем. Только это и послужило причиной, что Понятовский ещё несколько лет оставался королём...
Однако истекли три четверти часа, отведённые Екатериной на эту встречу, и польские паны взошли по красной ковровой дорожке на пристань Канева. Загремели пушки на бортах галер, загрохотали цепи якорей, и флотилия скоро скрылась из виду...
Первым городом, который очаровал Екатерину и заставил её отбросить все сомнения в распорядительности Потёмкина, был Кременчуг. Когда она увидела семьдесят блестящих эскадронов, несущихся во весь опор навстречу ей, когда рассмотрела их манёвры и блестящие повороты, она бросила реплику одному из придворных:
— О, как люди злы! Они уверяли меня, что конница, сформированная светлейшим, всего лишь миф, выдумка! Им так хотелось обмануть меня!
А когда она переночевала в превосходном помещении с великолепным садом, разбитым Потёмкиным, то и слов у неё для восторга уже не хватало. Зато она писала невестке и сыну об очаровательных дворцах, садах, живописных панорамах по Днепру в восторженных тонах...
После Кременчуга Екатерине пришлось выдержать ещё одну встречу — на этот раз с австрийским императором Иосифом Вторым. Екатерина не пригласила Понятовского следовать за нею в Крым, а Иосифа она не могла не пригласить — ей нужно было договориться о новой войне с Турцией, и она хотела поддержки Священной империи. Она достигла своей дели. Иосиф, путешествующий под именем графа Фалькенштейна, так же, как и императрица, был поражён всем увиденным.
Потёмкин умел пускать пыль в глаза, но два года его непрестанных трудов позволили ему основать города, заложить крепости, заселить и окультурить Крым, сделать прежнюю пустыню не только обитаемой, но и весело трудящейся. Верфи, заложенные им, строили корабли, мастеровые трудились над возведением дворцов, садовники разводили сады и оранжереи, и всё это жило, работало, благоустраивалось...
Иосиф тщательно наблюдал за тем, как проходило путешествие, и, хотя не мог критиковать те постройки и города, что были ему показаны, ограничивался лишь брюзжанием по поводу неудобств, испытываемых теми, кто был на судах:
«В этом путешествии царит невероятная путаница. Сход на берег продолжительный и затруднительный. На судах больше вещей и народу, чем могут вместить экипажи, и лошадей не хватает для запряжки. Кто-нибудь летит вперёд, остальные торопятся за ним.
Князь Потёмкин, сходя с ума по музыке, один везёт за собою сто двадцать музыкантов. А когда один бедный офицер сильно обжёг себе руку порохом, то четыре дня некому было оказать ему помощь.
В путешествии по суше господствует такой беспорядок, какого нельзя себе представить. Часть карет ещё не выгружена. Все захватывают кибитки, местные повозки, куда складывают багаж. По этим беспредельным равнинам несутся сломя голову по шести, восьми карет в ряд. И хотя делают в день не более 32 вёрст, но экипажи ломаются, посуда разбивается, матрацы, багаж теряются. Всё валяется по степи, и всего не хватает, когда хватишься. Еды в изобилии, но всё по большей части невкусное, всё холодное, чёрствое. Наконец, не будь императрицы, которая очень любезна, и нескольких господ, в особенности иностранцев, общество которых терпимо, такое времяпрепровождение могло бы обратиться в сущее наказание...»
Иосифу действительно не повезло. Даже в самый день его встречи он чуть было не остался вообще без обеда: кибитка с обедом для императора перевернулась в дороге. Положение спас Потёмкин: вместе с графом Браницким он мгновенно состряпал обед. Гость, однако, остался чрезвычайно недоволен им.
Впрочем, Иосиф вовсе не разделял радужного настроения Екатерины, которой нравилось всё, что касалось сделанного Потёмкиным. Австрийский император дулся из-за того, что везли его по непроходимым, с его точки зрения, дорогам, лишь бы показать в английском парке ангорского козла с козой, то из-за того, что роту бомбардиров для устройства фейерверка везли аж из самого Петербурга. Словом, он ворчал и злобствовал, но про себя, поскольку уже заранее знал, что согласится на все условия, поставленные Екатериной, когда начнётся война с Турцией...
Одна Екатерина восхищалась всем, что видела. Едва путешественники въехали в Крым, как экипаж Екатерины окружили родовитые татарские мурзы, из которых была составлена гвардия. Их яркие одеяния ослепляли глаза, а чудесные панорамы моря, гор, прекрасной природы Крыма и вовсе заставили Екатерину смотреть на всё глазами в розовых очках.
Особенно восторженно начала она ко всему относиться после того, как собственными руками положила первый камень в основание кафедральной церкви в городе Екатеринославе.
Потёмкин основал этот город, и Екатерина поняла, что он может стать сосредоточением силы, богатства и народного просвещения этого прежде пустынного края. Ещё в прошлом, 1786 году Потёмкин послал ордер наместнику края:
«Предложа Екатеринославской казённой палате об отпуске Вашему превосходительству двухсот тысяч рублей на строение губернского города Екатеринослава, предписываю Вам, по принятии вышеозначенной суммы, приступить немедленно к заготовлению материалов и припасов, сколь можно в большом числе, поблизости к означенному от меня под тот город месту, где теперь находится деревня Половицы. Примите также меры к приисканию мастеровых и рабочих людей, дабы таким уже образом ничто не мешало и не препятствовало открытию и произведению работ, в сём новом городе, посвящённом славе имени великой нашей самодержицы. 11 октября 1786 года, князь Потёмкин».
Размах души Потёмкина заставлял его делать всё грандиозно, возвышенно, так, чтобы осталось на века. Так и Екатеринослав был замышлен как грандиозный город, в котором даже кафедральный собор был бы на аршин больше собора Святого Петра в Риме. Потому и длина города должна была быть до пятнадцати вёрст, а ширина — до двадцати пяти вёрст. Триста квадратных вёрст должен был обнимать собой этот город. Да и здания было предписано построить не только обыкновенные — присутственные места, гостиные дворы, купеческие лавки, — но и другие: чтобы здесь располагались архиерейский и генерал-губернаторский дворцы, большое число православных церквей, несколько церквей иностранных исповеданий, а также университет, Академия музыки и живописи, двенадцать различных казённых фабрик, из которых чулочная и суконная уже работали.
Даже наставники уже были определены, хотя не существовало ещё и плана постройки университета и академии. Сарти и Неретин, которые должны были вести занятия со студентами, уже получили квартиры, жалованье, стол.
Обо всём подумал Потёмкин, в том числе и об устройстве колодцев и бассейна на возвышенности, где начинался город, чтобы подавать туда воду из Днепра механически и распределять её по всему городу. До восьмидесяти тысяч десятин земли предполагал Потёмкин дать городу, да ещё два острова на Днепре: Монастырский — для создания при нём ботанического университетского сада — и Становой — для разбивки там парка для городских жителей и для рыбной ловли.
Знал Потёмкин, что для таких больших работ и строений необходимы были значительные суммы денег и рабочие руки. И это он предусмотрел: намеревался ввести в губернию двенадцать полков сроком на три года. Солдаты должны были строить, возводить, возносить город, чтобы он действительно стал славой Екатерины.
К приезду императрицы заготовлено было здесь столько потребного материала, что могло хватить на все строения. Для изготовления кирпичей светлейший приказал соорудить два завода, и они обильно снабжали строительство. Возами, обозами везли сюда, на эту гигантскую строительную площадку, бутовый камень из окрестных карьеров, гранит из копей поблизости, известь и алебастр. Словом, организаторский талант светлейшего предусмотрел всё, даже то, что сама государыня должна была положить первый камень в основание нового города — при закладке кафедрального собора.
Но при самом подъезде Екатерины к городу случилась на Днепре жестокая буря, вода захлёстывала корабли, а галера с императрицей едва не разбилась, волнами выброшенная к самому берегу. Екатерина приказала тотчас же подойти всем судам к берегу, бросить якоря и переждать бурю, так напугавшую её. Сразу же было организовано переселение всех знатных гостей на сушу, и конечно же не обошлось без неразберихи, которую так страстно ругал в душе Иосиф Второй.
Но решающая встреча с ним была ещё впереди. В двадцати вёрстах от Екатеринослава, при селе Романкове, Екатерина вышла с галеры и поехала дальше в экипаже. В селе Койдак, где они с Иосифом условились встретиться, был построен для императрицы великолепный дворец, где она и увиделась с Иосифом, сильно расстроенным по поводу того, что так скоро согласился он сопровождать Екатерину в Крым, а более всего тем, как выгоднее обставить договор о дальнейшей совместной борьбе с турками. А что война неминуема — это понимал даже Станислав Понятовский, напряжённо выспрашивавший всех придворных, скоро ли начнётся война с турками. Один только Безбородко тогда, при встрече польского короля и Екатерины, осмелился объявить ему, что война грядёт, но не скоро...
Флотилия не пострадала от бури, но императрица уже не решилась взойти на корабль, потому что судам предстояло пройти труднейшее испытание — перебраться через Ненасытинские пороги, которые и названы были так потому, что ненасытно топили всех, кто старался переправиться через них.
Потёмкин ещё раньше пытался взорвать пороги, чтобы сделать путешествие Екатерины не опасным, а удобным, но пороги не поддались, и теперь Екатерине пришлось спрашивать у Потёмкина, смогут ли большие суда перебраться через них невредимыми.
Светлейший уже знал, как можно это сделать, но для спокойствия Екатерины собрал лоцманов и предоставил ей самой спросить их об этом.
Лоцманы были старые, мудрые, много раз тягавшиеся с порогами, и они посоветовали Екатерине сделать на судах то, что делали они всегда, — вытесать из цельных брёвен огромные, широкие и плоские лопаты, кормовые и носовые вёсла, — тогда пороги должны пропустить суда государевы.
Так оно и случилось. Екатерина отдала приказ оборудовать свою флотилию такими вёслами, и все суда беспрепятственно прошли через бурные опасные пороги...
А сама Екатерина тем временем вместе с австрийским императором направилась к новостроящемуся городу, чтобы заложить первый камень в его основание.
Для пребывания императрицы в Екатеринославе Потёмкин разбил императорскую палатку на самом берегу Днепра. Почти рядом находился дом-дворец самого светлейшего, стоящий лицом прямо к Днепру, напротив алтаря созидающейся церкви. Пока ещё были возведены лишь стены, низ которых был строен из белого гладкотёсаного камня, середина краснела кирпичами, а кровля предполагалась тесовая. Через два года дом был отделан богатейшим образом: огромные залы и гостиные поражали роскошью, которую так любил Потёмкин. Но уже и теперь вокруг дома был разбит обширный, редкой красоты сад — плодовые деревья цвели пышным белым цветом, а в оранжереях содержались редкостные тропические деревья — лавровые, померанцевые, лимонные, апельсинные, гранатовые, финиковые, и ветви их разрослись так, что достигали стеклянных крыш оранжерей.
Екатерина остановилась на берегу Днепра, с которого далеко были видны все излучины великой реки с её лесистыми островами, лугами на противоположном берегу, заросшими высокой травой и полевыми цветами.
Потёмкин пригласил на освящение и закладку церкви преосвященного Амвросия, архиепископа Екатеринославского и Херсонско-Таврического, и специально для этого события приготовил походную полковую церковь рядом с палаткой императрицы.
Амвросий встретил императрицу с крестом и святой водой в руках, отслужил Божественную литургию в полковой церкви, а потом окропил святой водой громадный ров, вырытый для фундамента собора, и прочитал все молитвы, полагающиеся при закладке церкви.
Иосиф наблюдал за всем происходящим, стоя на некотором отдалении от вырытого рва, а императрица в парадном платье, затканном золотыми цветами по голубому полю, в малой бриллиантовой короне медленно и торжественно сошла в котлован, выкопанный для фундамента. Специально для неё постройщики сделали ступеньки и покрыли их длинным красным ковром.
Оказавшись на дне гигантской ямы, Екатерина подошла к Амвросию, приложилась к кресту и на две стороны поклонилась народу, очень плотно окружившему фундамент. Потёмкин поднёс ей большой, тяжёлый, обтёсанный со всех сторон камень. Екатерина едва не согнулась под его тяжестью, но устояла, положила камень на приготовленный раствор и подняла вверх руку, чтобы показать всем, что она сама заложила камень в основание собора.
Крики, буханье пушек, громогласное «ура» заглушили все другие звуки. Восторгу народа не было предела. Любое зрелище вызывает волны эмоций, а тут произошло такое, чего в этих краях никогда не бывало — сама императрица склонилась над первым тяжёлым камнем...
Екатерина взяла из мешка, который держали приближённые, горсть монет и бросила их на камень — сверкнули золотые и серебряные монеты. Но тут народ единодушно закричал:
— Пятачок! Пятачок!
Екатерина улыбнулась, снова взяла из мешка горсть монет, теперь уже медных, и кинула их на камень. Разлетелись пятачки, усыпали и камень, и раствор.
Потёмкин вместе с другими придворными накрыл камень толстой медной, густо вызолоченной доской с вырезанными на ней словами: «Екатерина, императрица всея России, в основание храма Преображения Господа Спасителя нашего первый положила камень 1787 г.».
— Многая лета! — зазвучало из уст священников.
Поднялся весёлый колокольный перезвон, и пушки гремели во славу Екатерины.
Начался невиданный здесь ранее праздник, но виновница торжества в ту же минуту отбыла в город Херсон, лукаво поглядывая на Иосифа, бывшего свидетелем её успеха.
Екатеринославу была уготована злосчастная судьба — все начинания Потёмкина словно преследовал злой рок. Едва он умер, как Екатеринослав тотчас превратился в обыкновенный заштатный губернский город. Невольно напрашивается сравнение: Пётр основывал города с самой обычной избы, его деревянный домик и сейчас стоит на берегу Невы, — то, что закладывалось с такой помпой, с таким шумом, обычно превращалось в серость и отсталость...
И в Херсоне пожинала Екатерина плоды своего торжества. Она уже договорилась с Иосифом о совместных военных действиях против Турции и вытребовала много — и солдат, и продовольствие, и припасы, — словом, она теперь могла гордиться собой. Это путешествие принесло свои плоды...
Изумление всех путешественников закрывало глаза Екатерине, но она и не хотела видеть, и не видела, какой ценой достались все эти волшебные изменения в крае, ещё два года назад бывшем пустыней. Словно бы по взмаху волшебной палочки произошли все эти изменения. Но есть очевидцы, свидетели, которые рисуют страшную картину тирании и деспотизма Потёмкина, не гнушавшегося ничем, чтобы затмить глаза императрице.
Ланжерон, также изумлявшийся перемене в этих краях, писал тридцать лет спустя:
«Каким волшебством можно создать подобные чудеса? Надо сознаться, что они созданы благодаря тирании и грозе и повлекли за собой разорение нескольких областей. Из населённых губерний Малороссии и тех местностей, где императрица не должна была проезжать, выгнали всё население, чтобы заполнить эти пустыни. Тысячи селений опустели на некоторое время, и все их жители перекочевали со своими стадами на различные назначенные пункты. Их заставили на скорую руку выстроить искусственные деревни по более близким берегам Днепра и фасады деревень в более отдалённых пунктах. По проезде императрицы всех этих несчастных погнали обратно домой. Много народу перемерло, не выдержав таких испытаний.
Будучи тридцать лет спустя генерал-губернатором этих областей, я сам убедился в справедливости этих подробностей, показавшихся мне сначала сказочными...»
В Херсон Екатерина въехала в великолепной колеснице вроде римских, приготовленной Потёмкиным. Он сам помещался вместе с императрицей и Иосифом Вторым и указывал на достопримечательности, которых ещё семь лет назад вообще не существовало: церкви, красивые здания, купеческие строящиеся суда на верфи, арсенал со множеством пушек, сама крепость и даже готовые к отплытию три боевых корабля на верфи города.
Иосиф не верил своим глазам. Его приближённые осматривали город изнутри и докладывали ему о недостатках — и фортификация была с огрехами, и дерево сырое использовалось в постройке кораблей, а значит, они скоро сгниют, и выход из верфи был слишком сложен и требовал новых приспособлений и машин...
Одна Екатерина ничего не хотела замечать, а Иосиф и не собирался говорить ей о недостатках: он тоже, как всякий монарх, оставлял при себе свои соображения.
Но Крым потряс даже Иосифа. Он ещё ворчал на плохие дороги и ломаные экипажи, но парадный обед в Инкермане, прошедший с невиданной помпой, заставил его забыть об этом.
Обед действительно был необычайным. Вина, закуски, кушанья — всё было прекрасным, и тут уж вволю отъедались иностранцы, ворчавшие на русскую кухню. Необычные татарские блюда, острые и пикантные, украинские борщи и галушки, прелестная рыба и нежнейшее мясо — всё это заставляло гостей уписывать за обе щеки.
Но вот гости насытились, пришла очередь десерта и тонких вин, и здесь Потёмкин поразил всех.
Задняя стена огромной залы, в которой был дан парадный обед, внезапно раздвинулась. С длинного широкого балкона, где стояли мурзы и казаки, открылся неожиданный вид: гвардейцы посыпались в стороны, и взорам предстала Севастопольская бухта — десятки кораблей, тысячи мачт, множество галер, лодок, баркасов.
Воздух потрясли залпы тысяч орудий — так приветствовал Черноморский флот свою обожаемую правительницу.
Екатерина сначала не могла вымолвить ни слова. Её изумлённый взгляд бродил по оснастке кораблей, по синей бескрайности моря, по прекрасной гавани, обрамленной скалами...
Потёмкин молча смотрел на императрицу. Это был момент его триумфа, его победы.
Императрица, взволнованная, с огненным взглядом, с сияющим лицом, встала со своего места и сказала притихшим и тоже изумлённым гостям:
— Мечта моего деда, великого Петра, исполнилась. Он всегда хотел твёрдой ногой встать на Черном море и ещё в начале века воевал Азов. Но его мечта осуществилась только теперь: русские вышли на берега Чёрного моря, построили Черноморский флот. И во всём этом заслуга светлейшего, князя Потёмкина, населившего пустыню, оживившего бесплодный край, построившего корабли нового, Черноморского флота. Теперь нам не страшен никто, русские станут господствовать на этом море, как господствуют на Северном. Ура князю Потёмкину, ура славному русскому!
И крики славословия слились с залпами пушек на кораблях...
Екатерина не выдержала взятую на себя торжественную роль: она просила Потёмкина тут же позволить ей объехать весь флот, посмотреть поближе на суда, построенные за такое короткое время. Она была счастлива, целовала Потёмкина, называла его самыми ласковыми именами.
Потёмкин уже давно приготовил для Екатерины особую шлюпку. Он заказал её в Константинополе и велел сделать во всём сходной со шлюпкой султана.
Екатерина пригласила Иосифа следовать за нею в эту шлюпку. Роскошь убранства шлюпки поразила их обоих.
На этот раз не выдержал даже Иосиф — он восторженно осматривал гавань Севастополя и предрекал ей блестящее будущее. Но в письмах его отзывы были более сдержанны: «Императрица в восторге от такого приращения сил России. Князь Потёмкин в настоящее время всемогущ, и нельзя вообразить себе, как все за ним ухаживают».
Награды, которые только и были в России, достались теперь Потёмкину, и императрица приказала присвоить ему звание князя Таврического за всё то, что он сделал в Крыму.
Те сады, что развёл князь в Крыму, стали роскошными и редчайшими, а в Карасубазаре, где он построил себе дворец с фонтанами и искусственными водопадами и где рядом выстроил такой же, с таким же прекрасным садом дворец для императрицы, до сих пор растут деревья редчайших пород.
Последним чудом в этой сказке для Екатерины стал фейерверк, который выпустили триста тысяч ракет. Никогда ещё не чувствовала себя Екатерина такой счастливой, такой необыкновенной властительницей, и никогда ещё она так не благодарила Потёмкина, создавшего всю эту феерию.
На обратном пути из Тавриды в Петербург она писала ему:
«А мы здесь чванимся ездою и Тавридою и тамошними генерал-губернаторскими распоряжениями, кои добры без конца и во всех частях...
Я тебя и службу твою, исходящую из чистого усердия, весьма, весьма люблю, и сам ты — бесценный. Сие я говорю и думаю ежедневно...
Друг мой сердечный Григорий Александрович! Третьего дня окончили мы своё шеститысячевёрстное путешествие и с того часа упражняемся в рассказах о прелестном положении мест Вам вверенных губерний и областей, о трудах, успехах, радении, и усердии, и попечении, и порядке, Вами устроенном повсюду. И так, друг мой, разговоры наши, почти непрестанные, замыкают в себе либо прямо, либо сбоку твоё имя, либо твою работу...»
Как Екатерина без конца говорила о своём путешествии, так и вся Европа разговаривала об этом. Иностранные послы, сопровождавшие императрицу, разнесли молву об этом путешествии, о могуществе и успехах князя Таврического. Но это путешествие имело самые печальные последствия.
Екатерина, едучи в Крым, и так уже понимала, что Турцию не обрадуют и строительство флота на Черном море, и большая армия, собранная Потёмкиным на берегах Чёрного моря, и запасы боеприпасов, складированных во вверенных ему частях империи. Понимала и потому договорилась с Иосифом о войне. И едва она приехала в Петербург, как начались усиленные приготовления к новой войне. Она была неизбежна.
6
— Может ли человек быть счастливее меня?
Князь обвёл взглядом гостей, сидевших за роскошно накрытым столом в одном из его богатейших дворцов. Все внимали каждому его слову, торопясь излить свои верноподданнические чувства к могущественному вельможе. Тут были и простые графы, и иностранные посланники при российском дворе, тут были все, кто хотел просить у князя милостей, денег, домов, земель, крепостных крестьян. Все они униженно слушали князя, выбирая минуту, чтобы обратиться к нему с просьбой.
— Может ли человек быть счастливее меня? — повторил князь, грустным взглядом обведя своих гостей.
С самого начала обеда он был весел, любезен, но тут вдруг сделался грустен, мрачен, и отчаяние сквозило в каждом его слове.
— Всё, чего желал я, — продолжал Потёмкин, — все прихоти мои исполнялись как будто каким-то очарованием. Хотел чинов и орденов — имею. Любил играть — проигрывал суммы несчётные. Любил давать праздники — давал великолепные. Любил дорогие вещи — имел их столько, сколько ни один частный человек не имеет так много и таких редких. Словом, все мои страсти выполнялись в полной мере...
Он ещё раз обвёл взглядом своих гостей, вдруг поднялся, схватил со стола дорогую венецианскую фарфоровую тарелку, бросил её с силой на пол, разбив вдребезги, кинулся в свою спальню и запёрся там. И никакой силой нельзя было вытащить его оттуда. Гости продолжали веселиться на роскошном празднике, словно бы тут и не бывало князя, жалея лишь об одном: не придётся испросить милости и почести.
Несколько дней князь не выходил из комнаты, валяясь на мягких диванах в широчайшем бархатном халате, нечёсаный, нестриженый, неумытый.
Эти припадки меланхолии повторялись у Потёмкина довольно часто, но всегда кончались одним и тем же: князь приказывал подавать ему грубую солдатскую форму, садился в рогожный возок с продранным верхом и дни и ночи скакал туда, куда призывало его несчётное количество дел...
Крайности были у Потёмкина и в одежде. Часто ходил он в затрапезном халате, под которым ничего не было, даже иностранных министров принимал в этом наряде, превосходя надменностью всех вельмож и министров двора её императорского величества, то вдруг облачался в суконный солдатский топорный мундир, а то приказывал принести ему платье, на котором было нашито столько бриллиантов, что они затмевали сияние свеч. Один эполет на парадном платье Потёмкина стоил четыреста тысяч рублей, а пуговицы и пряжки на башмаках доходили в цене до нескольких тысяч. Эта чисто азиатская роскошь сменялась у Потёмкина грубой одеждой с дырами и заплатами, одна крайность переходила в другую.
Его стол считался самым изысканным и самым роскошным в Петербурге. Устрицы, паштеты, парижские трюфели, ананасы — всё это громоздилось на столах, предназначенных для самых важных обитателей столицы. Но усевшись в дрянной возок, скача по кочкам и колдобинам десятки вёрст в день, Потёмкин предпочитал всему чёрный хлеб с чесноком да неизменный квас, которого выпивал по нескольку бутылок в день.
Турецкая война застала его в такой вот меланхолический период, когда Потёмкин был в отчаянии и безысходной тоске, ничем не занимаясь и лишь без конца обращаясь к Богу.
А Турция сразу после путешествия Екатерины на юг, в июле 1787 года послала России ультиматум, словно бы вызов северному соседу, и посла России в Константинополе Булгакова заключила в Семибашенный замок. Это была война.
Ещё во время путешествия Екатерины светлейший беседовал с французским послом в Петербурге графом де Сегюром о полном разделе Турции, и этот разговор тоже стал предметом опасений и возмущения Порты. Граф Сегюр писал в Версаль:
«Мы так привыкли к тому, что Россия легкомысленно бросается в самые рискованные предприятия и счастье при этом неизменно помогает ей, что рассчитать будущие действия этой державы по правилам политической науки невозможно...»
Французы, как могли, помогали Турции, высылая своих военных комиссаров в Порту, инструкторы этой страны наставляли турецкие орды, чтобы сражаться с Россией Порта могла эффективно. Австрийский император Иосиф Второй тоже сделал всё для того, чтобы война разразилась. Он непременно хотел урвать кусок и для себя.
Французский посланник не раз призывал Иосифа не подливать масла в огонь, не поддерживать милитаристские настроения Екатерины, но Иосиф легкомысленно отвечал ему:
— Чего же вы хотите? Эта женщина в исступлении, вы это видите сами, надо, чтобы турки уступили ей во всём. У России множество войска, воздержанного и неутомимого, с ним можно сделать всё, что угодно, а вы знаете, как низко ценят здесь человеческую жизнь. Солдаты прокладывают дороги, устраивают порты в семистах милях от столицы без жалованья, не имея даже пристанища, и не ропщут. Императрица — единственный монарх в Европе, действительно богатый. Она тратит много и везде и ничего не должна. Её бумажные деньги стоят столько, сколько она хочет...
Но Иосиф глубоко ошибался, слишком высоко оценивая состояние русского войска. Все собранные Потёмкиным в Крыму солдаты годились только для парадов, и хотя светлейший ввёл в армии новое обмундирование, свободное и простое, заменил букли стрижкой в кружок, отменив заплетание кос, завивку буклей, посыпание их мукой и смазывание салом, но боевая подготовка войска была чересчур облегчённой. Солдаты не умели стрелять, не могли производить манёвры, не хватало пушек, снарядов, пуль, а голодать эти солдаты уже привыкли — никогда не было достаточного подвоза продовольствия и боеприпасов.
Что и показала начавшаяся война — турки очень скоро завоевали славу побед над русскими. Поражения стали для Потёмкина ещё одной каплей в его меланхолическом настроении. Он даже писал Екатерине, что надо немедленно эвакуировать Крым, сдаться на все условия турок. Понимал Потёмкин, что эскадра, выстроенная из гнилого дерева, недолго выдержит натиск врага, а плохое снабжение и недостаточная подготовка солдат сделают своё недоброе дело.
Но Екатерина возмутилась. На это скорбное письмо Потёмкина она ответила хорошим советом — взять Очаков.
— Возьми Очаков и тогда увидишь, что осядут турки, как снег по степи после оттепели, да поползут, как вода по отлогим местам...
И Потёмкин восстал духом. Он был фельдмаршалом в этой войне, он руководил всеми силами на юге России, но он не забывал и о том, что Алексей Орлов отказался командовать Черноморским флотом — знал герой Чесменской битвы, чего стоят корабли Потёмкина.
Сомнения людей, ненавидевших Потёмкина и всеми силами старавшихся очернить все его начинания, казалось бы, были оправданными. Черноморская флотилия под командованием Войновича почти вся погибла, и не от ратных дел, а только от бури.
Потёмкин приказал Войновичу: «Произвести дело, хотя бы всем погибнуть, но должно показать свою неустрашимость к нападению и истреблению неприятеля. Сие объявить всем Вашим офицерам. Где завидите флот турецкий, атакуйте его во что бы то ни стало, хотя бы всем пропадать...»
Но эскадру Войновича истребили не турки, а буря. Это так ударило по Потёмкину, что он не выходил из своей меланхолии и отчаяния несколько недель. Тогда же отправил он императрице ряд писем, в которых просил своей отставки от армии, поскольку не уберёг эскадру, стоившую стольких забот и жертв отечеству. Эти отчаянные письма свидетельствуют, до какой степени пал духом полководец.
Екатерина выказала тут более бодрости духа. Она ободряла светлейшего и говорила всем: «И честь моя и собственная княжая требуют, чтобы он не удалился в нынешнем году из армии, не сделав какого-либо славного дела, хотя бы Очаков взял»...
А уж по поводу бури, погубившей Черноморский флот, она писала Потёмкину:
«Сколько буря была вредна нам, авось столько же была вредна и неприятелю. Неужели, чтобы ветер дул лишь на нас? Ты упоминаешь о том, чтобы вывести войска из полуострова. Я надеюсь, что сие от тебя письмо было в первом движении, когда ты мыслил, что весь флот пропал. Приписываю сие чрезмерной твоей чувствительности и горячему усердию: прошу ободриться и подумать, что добрый дух и неудачу поправить может. Всё сие пишу к тебе, наилучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и более ещё имеет расположения, чем я сама, но на сей случай я бодрее тебя, понеже ты болен, а я здорова. Ни время, ни отдалённость и ничто на свете не переменят мой образ мыслей к тебе и о тебе...»
Императрица всё ещё верила в Потёмкина, в его решительность и энергию.
Впрочем, Потёмкин даже перед несдающимся Очаковом не забывал развлекать себя. Его роскошная ставка гремела музыкой — итальянский композитор Сарти сочинял для светлейшего оратории, прерывавшиеся громовыми залпами орудий. Гости же, которых собирал Потёмкин на недели и месяцы, поглощали безумное количество изысканных блюд, и за ними светлейший отправлял ежедневно курьеров в Париж. Иногда, правда, не только трюфели и устрицы доставлялись из других стран. Какие-нибудь башмачки для возлюбленной, а то и чудесные ленты привозились теми же курьерами. А возлюбленных у Потёмкина было бесчисленное множество. Женщины, несмотря на войну, слетались в его ставку и пользовались моментами, чтобы выпросить милостей, денег, земель, крестьян. Он не скупился...
Прошло лето, миновала осень, проходила зима, а князь всё ещё не взял Очакова. В Петербурге уже громко говорили о том, что князь истощился, что не для его возраста такая кровопролитная война, ненавистники и завистники Потёмкина подняли головы. Медлить более было нельзя. И светлейший нашёл способ взять Очаков: он пообещал солдатам всю добычу, включая сюда пушки и всю казну. «Город может быть разграблен за три дня», — заявил Потёмкин.
И Очаков в страшный мороз 6 декабря 1788 года был взят. Потёмкин не нарушил своё обещание — солдаты разграбили всё. Из военной добычи князю достался великолепный изумруд величиной с куриное яйцо. Князь отправил его Екатерине, которая радовалась не столько подарку, сколько тому, что фельдмаршал оправился от своей хандры и начал воевать победоносно.
Всему двору и всем иностранным министрам выражала Екатерина уверенность, что ещё до конца лета Потёмкин будет в Константинополе. Но она как будто сглазила собственное счастье — союзников-австрийцев турки разбили наголову. Лишь русские войска продолжали своё победоносное шествие. Суворов и принц Кобургский победили турецкую армию при Фокшанах. Суворов уже в одиночестве разбил её при Рымнике, за что и получил звание Рымникского. А сам Потёмкин, оправившись от своей хандры, занял Бендеры. Оглушительный удар получили турки при Измаиле — Суворов ценой крупных потерь взял неприступную турецкую крепость Измаил...
Но тут Екатерину ждала очередная измена союзников-австрийцев. Иосиф Второй неожиданно для всех умер, а новый император отказался продолжать кровопролитную борьбу с турецкой империей. Прусско-австрийский конгресс в Рейнбахе объявил об отделении от русских интересов. Больше того, через какой-нибудь год Фридрих Вильгельм, прусский король, заявил Екатерине, что вступается за Турцию, и императрица должна была уступить...
Она хотела сделать это ещё раньше, потому что проснулась вдруг Швеция. Она прошла со своими войсками почти до самого Петербурга, и залпы пушек неприятеля слышны были в самой столице.
Екатерине чуть было не пришлось бежать из Петербурга — сто шестьдесят лошадей во всё время шведской войны стояли в полной готовности в Царском Селе, а императрица ложилась спать, держа наготове все свои драгоценности.
Две северные державы всегда держались хороших отношений. Екатерина даже посылала Густаву Третьему стерлядей и квас, как в своё время посылала арбузы Фридриху. Но эти продукты, так хорошо оценённые шведским королём во время его посещения Петербурга, не закрыли ему глаза. Ещё в 1739 году Швеция заключила оборонительный союз с Турцией, и теперь Густав вспомнил об этом договоре. Он знал, что Екатерина все свои войска отправила на юг, оставив для охраны Петербурга лишь самую малость, и потому надеялся захватить столицу России без особых кровопролитий.
В глубочайшей тайне снарядил он в Карлскроне весь свой флот и в июне 1788 года появился возле Кронштадта.
Екатерина была вне себя. Она вспомнила, что Анна Иоанновна в таком же случае велела в самом Стокгольме не оставить камня на камне. Но теперь положение было совсем другим — приходилось думать только о защите собственной столицы.
Граф Ланжерон писал о войне со Швецией так:
«Случайности этой войны и положение Петербурга были таковы, что шведский король мог явиться туда без большого риска. Он мог быстро пройти те сорок вёрст, которые отделяли его от столицы, мог даже высадить свою пехоту, потому что императрица выставила против него лишь половину того войска, которым он располагал. Если даже предположить, что ему не удалось бы перейти Неву, то он мог обстреливать дворец императрицы, с противоположного берега. Не постигаю, как он не попытался это сделать...»
Екатерина до этого момента упорно стояла на том, чтобы отправить все суда и все войска на помощь Потёмкину. И если бы Густав пришёл немного позже, ему не пришлось бы даже стрелять — столица оказалась бы совершенно оголённой.
Но Екатерина не потеряла голову. Уже через несколько недель она собрала шестнадцать тысяч солдат, выпросив у Потёмкина немного полков, которые тот переслал на почтовых.
Но странный Густав не стал развивать молниеносную войну. Он пустился в чернильную войну — начал посылать Екатерине высокомерные декларации и требования сдаться и ожидал ответов на эти бахвальские претензии.
Но в Швеции у России была сильная партия, русские агенты подогрели своими деньгами настроение прорусских шведов, и в самой столице Швеции вспыхнул бунт. Престол закачался под Густавом, и ему не миновать бы было низложения, если бы Екатерина не предложила преждевременно позорный для Швеции мир. Густав устоял, укрепился в союзниках — и Англия, и Пруссия заявили о своей готовности оказать ему помощь. И быть бы Екатерине в плену у Густава, да вмешался испанский посланник — он предложил свои услуги для переговоров о мире, и императрица с радостью ухватилась за его предложение. Мир был заключён не лучшим для России образом, но Екатерина в тот же день написала Потёмкину:
«Мои платья всё убавляли с самого 1784 года, а в сии три недели начали узки становиться, так что скоро нам прибавить должно меру...»
Князь во всём был непоследователен. Он чаще всего любил предоставлять своим подчинённым трудиться для него, выигрывая баталии и беря крепости. В то время как Суворов брал Измаил, осаждая его, он целые дни проводил за чисткой своих бриллиантов или посылал букеты цветов предмету своей очередной любви. До обеда Потёмкин пил кофе и шоколад по нескольку раз, закусывая цыплёнком или ветчиной, а после обеда занимался любезничаньем со своими многочисленными поклонницами. Он завёл себе целый гарем и ни разу не поскупился на подношения. Он был так богат, как никогда и никого уже не было в России. Несметные суммы, выделяемые ему для армии бесконтрольно, часто переходили в его карман. Но даже при таком богатстве он не упускал ни единой возможности обогатиться. Он построил стеклянный завод в одном из своих имений возле Петербурга и добился того, что Екатерина запретила ввоз иностранного стекла в империю. Это принесло ему дохода больше, чем оброк с пяти тысяч крестьян. Но и оброк Потёмкин собирал старательно — его слуги и приближённые вымогали с крестьян всё, что те имели. Он богател, а его крестьяне нищали.
И при всём при том князь ещё умудрялся делать долги и никогда не расплачивался с кредиторами.
Не стеснялся Потёмкин ни с кем. Принимая какого-нибудь важного гостя, он не намеревался даже сменить свой вечный халат на мундир и обдавал пришедшего таким презрением и надменностью, что, казалось бы, никто больше и не придёт к нему. Однако нет, приходили, обивали пороги у светлейшего, низко кланялись и в ответ на высокомерное замечание лишь улыбались и опять просили о милости. Как же было ему не презирать эту низкопоклонническую толпу?
Главная квартира князя в Бендерах стала сказочным скопищем всех роскошных редкостей, какие только можно было встретить на свете.
Ланжерон так рассказывает об этом обиталище роскоши:
«Князь во время моего отсутствия велел уничтожить одну из зал дома, где жил, и построил на этом месте киоск, где были расточены богатства двух частей света, только чтобы прельстить красавицу, которую он желал покорить. Золото и серебро сверкали, куда ни посмотришь. На диване, убранном розовой материей с серебром, затянутом лентами и цветами, сидел князь в изысканном домашнем туалете рядом с предметом своего поклонения, среди нескольких женщин, казавшихся ещё красивее от своих уборов. А перед ним курились духи в золотых курильницах. Середину комнаты занимал стол, на котором сервировался ужин, поданный на золотой посуде».
Жена генерала Долгорукого, состоявшего в подчинении князя, Екатерина, занимала в это время все мысли Потёмкина. В день именин императрицы он праздновал также и день именин своей покорительницы. Она сидела рядом с Потёмкиным, и князь всё своё внимание уделял лишь ей, не заботясь об остальных гостях.
За десертом вдруг стали обносить всех чашей с золотой ложечкой, где сверкали бриллианты. Хозяин просил дам вынимать этой ложечкой алмазы и брать их себе. А дам было за столом двести человек.
Екатерина Долгорукая крайне удивилась такому расточительству и обратила на князя свои изумлённые глаза.
— Не удивляйтесь, — ответил ей шёпотом Потёмкин, — ведь я праздную ваши именины...
Но была и ещё одна — не менее постоянная дама сердца — знаменитая мадам де Витт, ставшая впоследствии княгиней Потоцкой. Ей Потёмкин хотел подарить драгоценную шаль, но опасался, что прекрасная фанариотка[36] вернёт ему подарок. Тогда он пригласил всё тот же свой гарем, состоявший из двухсот дам, и разыграл беспроигрышную лотерею, где в каждом номере были одни только драгоценные шали. Так он выказал своё обожание.
Балы, ужины, театральные представления, комедии и музыкальные вечера чередовались во всё то время, пока подчинённые Потёмкина брали города, сражались с турками и теряли солдат в кровопролитных боях. Он приказал за две недели построить два подземных помещения, призвав для этого два гренадерских полка и освободив их от участия в боях. Генералы роптали, но не смели сказать ни слова. Они все помнили выходку Потёмкина, когда князь Долгорукий вздумал было перечить своему патрону. Светлейший поднял его за воротник в воздух с криками, что Долгорукий не стоит ничего, а ордена и чины присвоил ему лишь он один, Потёмкин...
Двести хорошеньких женщин, которых собирал на своих вечерах светлейший, находили там столько же блестящих кавалеров. Принц Нассау-Зиген, граф Дама, испанские, австрийские, итальянские дворяне соседствовали с чистыми азиатами. «С целым легионом киргизов, татар, черкесов, турок, с лишённым трона султаном, три года дежурившим в передней князя, с пашой-отступником, македонским инженером, персидскими послами» — с ними проводил весёлые вечера Потёмкин. Вся эта орава съедала провиант, заготовленный для войска. Армия голодала...
В свою поездку в Петербург в феврале 1791 года Потёмкин отправился, словно бы заранее предчувствуя, что она станет последней. Его встречали так, будто это был Цезарь. По всему пути заготовлены были для него великолепные лошади, сказочные кареты, народ толпами выходил встречать светлейшего, а он только устало пересаживался из коляски в коляску, взмахивал рукой и отворачивался — на него опять нашла пора хандры и отчаяния. Впрочем, на этот раз он уже знал, из-за чего так тяжело у него на душе: на горизонте показался молоденький офицерик, сразу же завладевший сердцем его старой возлюбленной. И она уже больше прислушивалась к свежему тенорку Зубова, чем к сильному, простуженному баритону Потёмкина.
Вместе с московским губернатором навстречу Потёмкину вышли и все судьи в тяжких нарядах и распудренные, а в Лопасне всюду расставили зажжённые дегтярные бочки, чтобы освещать дорогу вельможе.
Москва волновалась и бежала в приёмную князя. Вся знать собиралась к нему и пела дифирамбы. Князь лишь ел блины — настала Масленица — да дёргал бровями. Ему всё это уже давно прискучило.
Потёмкина любили только солдаты да низшие чины. Он не бил солдат, как другие генералы и офицеры, стремился облегчать им службу. Любили его и слуги — он обходился с ними просто и ласково.
А при дворе его любила одна лишь Екатерина. Вся знать ненавидела его, мстя за надменность и талантливость, смекалку и обширный ум. Никогда ещё не было заурядных людей, которые превозносили бы талант и ум. Заслонить, закрыть своей фигурой мощную фигуру светлейшего никому не было дано. И только «маленький, чёрненький», уже быстро возвышавшийся в глазах Екатерины, спокойно ждал своего предшественника. Он задумал погубить этого гиганта, чтобы стать вровень с ним или даже превзойти его...
Петербург пышно встретил героя турецкой войны. И по-прежнему главным голосом в международных делах был голос Потёмкина, но уже слышалось глухое недовольство Екатерины, подстрекаемой Зубовым.
Последняя вспышка роскоши и изысканности проявилась в Потёмкине, когда он дал великолепный праздник в Таврическом дворце, вновь подаренном ему Екатериной. Это был такой же сказочный вечер, как и всё путешествие Екатерины в Крым.
Слегка подпортили это празднество лишь порывы народа, которому князь решил сделать подарок: на площади, образовавшейся от снесения домов и заборов до самой Невы, расставлены были закуски, медовый сбитень, пиво, квас, развешаны подарки — шляпы, кушаки, сапоги. Народ не выдержал соблазна, кинулся заранее на всё это бесплатное, и полиции пришлось очищать площадь под громкие крики избиваемых...
Всю свою фантазию и богатое воображение вложил князь в устройство этого праздника. Поражали две огромные залы: танцевальная, украшенная зеркалами, вазами, печами из лазурного камня и громадными люстрами — только одного воска для свечей было куплено на семьдесят тысяч рублей, — и следующая за ней зала, превращённая в громадный зимний сад.
Из паросского мрамора была изготовлена статуя Екатерины, во весь рост стоявшая на жертвеннике, драгоценными камнями усыпана была пирамида в саду, где устроили ещё и грот. И везде красовались надписи, посвящённые Екатерине.
Потёмкин пригласил на этот маскарад несколько тысяч гостей. Все они нарядились в различные маски, и пример подал сам хозяин: он надел ярчайший русский алый кафтан, а сверху прикрыл его епанчой, родом плаща из тончайших чёрных кружев. Шляпа светлейшего украшалась бриллиантами так густо, что из-за её тяжести слуга носил за ним этот головной убор.
Праздник надолго запомнился всем петербуржцам — лишь Потёмкин умел так блистать, так соединять азиатскую роскошь с чисто европейской утончённостью.
Гремела музыка, танцевали прелестные пары, два балета и две комедии представлены были взору Екатерины, а роскошный ужин на шестьсот человек поражал изысканностью кушаний и тонкостью вин.
Сам светлейший стоял за стулом императрицы, пока она не настояла, чтобы он сел.
Когда она уезжала, примерно во втором часу ночи, Потёмкин встал на колени и благодарно целовал ей руку, обливая её слезами.
Праздник был великолепен, но Екатерина начала сердиться на Потёмкина. Армия оставалась на юге, всё ещё шли бои, а полководец сидел в столице уже три месяца. Намёками старалась Екатерина выгнать его на юг, но Потёмкин снова был занят любовью и не спешил. Императрица просила Безбородко прогнать Потёмкина, передать ему её пожелания об отъезде, но вице-канцлер взмолился:
— Матушка, помилосердствуй! Он же убьёт меня, как муху!
Екатерина пыталась было направить и Зубова просить Потёмкина побыстрее отъехать на войну. Тот испугался. Она отправилась сама, и мрачный Потёмкин уехал на юг...
Он вёл переговоры с турками, требовал независимости Молдавии, облегчения судьбы Валахии и уступки Анапы на берегу Чёрного моря. Но он уже ничего не мог сделать: и Турция, и вся Европа видели, как истощена Россия, а Турция уже снова выставила армию в двести тысяч человек.
Переговоры продолжались в Яссах, и Потёмкин писал:
«Место сие, наполненное трупами человеческими и животных, более походит на гроб, нежели на обиталище живых. Болезнь меня замучила...»
Из Ясс коляска со светлейшим доехала до первой станции, где готовилась встреча князю. Но он не допустил её и ранним утром выехал дальше.
Проехали лишь несколько вёрст, и Потёмкин остановил карету. Он приказал вынести его на воздух, прилёг на ковёр и положил голову на кожаную подушку. Через несколько минут его не стало. Конвойный казак положил на его глаза грязные медные пятаки...
Похоронили князя в Херсоне, в склепе под церковью. Но едва умерла императрица, Павел, ставший императором, приказал вырыть гроб, закопать его под тем же склепом так, чтобы и места не было видно, и скрыть могилу светлейшего! Ни одного памятника Потёмкину так и не было поставлено за всё время царствования династии Романовых...
Александр Безбородко
1
ассветы уже стали холодными и промозглыми, и потому с самого раннего утра камердинер Зотов неслышно ходил по кабинету Екатерины, убранному толстыми красивыми персидскими коврами, зажигал спиртовку, на которой государыня всегда варила сама себе кофе в большой серебряной турке, и растапливал камин, вдыхая слабый запах дыма, тотчас уплывавший в комнату.
Екатерина вышла из опочивальни, уже одетая в стёганый шёлковый халат и меховые шлёпанцы, молча кивнула Зотову, и он неслышно удалился.
Она поставила на спиртовку серебряную турку, подождала, пока кофейная пена не поднимется и не соберётся в центре, вылила кофе в большую толстую керамическую кружку и отнесла её на письменный стол.
Императрица устроилась за столом, перебрала лежащие на нём бумаги, провела рукой по остро очиненным перьям и приоткрытой бронзовой чернильнице и невольно поглядела на левую руку, всё ещё забинтованную, но не дававшую о себе знать.
И слёзы сразу невольно покатились из её глаз, так и не успевших свести красноту от вчерашних потоков.
Екатерине сообщили вчера, что князь Потёмкин умер, и от тяжести этого известия она лишилась чувств, лежала в обмороке примерно полчаса, а потом вся вспыхнула от прихлынувшей к голове крови. Роджерсон, её придворный врач, вынужден был открыть жилу и пустить кровь...
И теперь ещё чувствовала Екатерина всю непоправимость известия, и слёзы потоком лились из её глаз.
Но она вздохнула, выбрала перо поострее и начала письмо к Гримму.
«Вчерашним днём, — медленно вывела она, — меня ударило, как обухом но голове. Мой ученик, мой друг, можно сказать, идол, князь Потёмкин Таврический скончался. О, Боже мой! Вот теперь я истинно мадам ла Руссурс (сама себе помощница — так звал её муж, Пётр Третий, при малейших неприятностях прибегавший к её советам и помощи, которого не пощадили клевреты Екатерины). Снова мне надо дрессировать себе людей!»
Всем и каждому повторяла она одно и то же:
— Кем заменить такого человека? Я и все мы теперь как улитки, которые боятся высунуть голову из своей скорлупы...
И Екатерина старательно писала Гримму о своём большом горе, о великом человеке, который всю свою жизнь положил на служение ей, императрице, и отечеству. Она жаловалась и жаловалась, понимая, что лишь бумаге может она доверить своё безутешное чувство.
Но вместе с тем она уже соображала, как завершить дела князя и прежде всего кого отправить на Ясский конгресс, где шла речь о заключении мира с Турцией после кровопролитной, такой яростной войны. Нет, так, как Потёмкин, никто не проведёт переговоры. Только светлейший князь мог нарушить их ход каким-нибудь остроумным замечанием, только он мог красноречиво рассуждать о пользе и вреде для двух государств той или иной статьи договора. Так, как Потёмкин, никто не сумеет устроить праздники и пиры для участников переговоров, никто не сможет так склонить их к российской выгоде. Нет, положительно князя заменить некем. В Коллегии иностранных дел сидит толстый, тупой и неповоротливый Остерман, которому, кроме своих выгод, ни до чего нет дела, а все вопросы он может задать лишь через своих помощников, благо они у него есть, и лучший из них — вице-канцлер Безбородко. Но и ему не могла доверить Екатерина эти переговоры, могущие обернуться для России и большими выгодами, и крупными потерями. Нет, никто, кроме её любимца, кроме светлейшего, не может провести эти переговоры так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы...
Она писала долго, постепенно увлекаясь, и уже проглядывали её сухие глаза, и мокрый платок был отодвинут в сторону и скоро упал на пол, где его никто не подобрал. Она вошла в свой обычный рабочий ритм и теперь уже думала практически и обстоятельно, как быть без Потёмкина, кому доверить Черноморский флот, его главное учреждение, кому проехать по всем границам с Турцией, а главное, кому быть на переговорах с турками...
К девяти, когда она уже вовсе успокоилась и слегка позавтракала, в приёмной уже сидели её секретари, сановники и генералы, ждущие указаний.
Раньше всех явился Александр Андреевич Безбородко в своём мешковатом кафтане, в тупоносых башмаках и толстых чулках, которые никак не держались на его неуклюжих полных икрах. Как ни старался камердинер Александра Андреевича удержать чулки, подвязав их под коленками большими подвязками, да ещё и закрепив булавками, чулки всё равно съезжали гармошкой и позорили своего хозяина.
Екатерина всегда глядела на его чулки, не желавшие держаться указанных им границ, и скрывала улыбку, зная, что голова у Безбородко не пустой чердак, где мебели негусто, а светлая, могущая придумать очень важные вещи. Сейчас она даже не обратила внимания на его непокорные чулки, лишь подняла голову, и слёзы снова застлали её взгляд.
— Григорий Александрович, можно сказать, сам себя убил, — проговорил Безбородко едва слышным голосом. — Что же это, в самые холодные ночи приказывал открывать все окна в доме, да ещё кропильницу из рук не выпускал и всё время прыскал из неё себе на голову холодной водой...
— Знаю, Александр Андреич, не берёг он себя, для меня и для отечества все силы свои направлял, но и мы его не уберегли...
Безбородко склонил голову, делая вид, что отирает слёзы, а сам в это время уже доставал из бумажного конверта и раскладывал перед Екатериной самонужнейшие, не терпящие отлагательства бумаги.
— Теперь у нас нет никого по Коллегии иностранных дел, — произнесла Екатерина, — придётся тебе взять на себя этакую обузу...
— Тяжеленько будет, — бодро сказал Безбородко, — да ведь для тебя, матушка, никакой труд не тяжёл. А вот и дело первое будет по коллегии — закончить разговоры с турками, что князь начал. Боюсь, надобно мне будет туда поехать, разве что кого другого определите...
— Да уж кого другого? Конечно, тебе и придётся, Александр Андреевич, взять на себя это дело. Просмотри всё, что князь оставил, какие пометки, какие словечки, и действуй так, чтобы и нам выгода, и Европе не в обиду...
Безбородко собрал свои бумаги, сложил их в тоненький кожаный портфельчик и грузно вышел из кабинета.
В голове его вертелась одна и та же мысль: наконец-то, наконец-то он станет действовать сам, без подсказки Потёмкина, без того, чтобы отсылать ему на апробацию[37] все бумаги. А то было так: вышлет бумаги Безбородко — а императрица требовала, чтобы без совета с князем ни одно дело не решалось, — и ждёт месяцами ответа. Князь когда ответит, а когда просто забудет сообщить свои советы. Вот и промедление, вот и затор. А уж теперь он, Безбородко, всё по Иностранной коллегии сам решать будет, в одиночку, никому важных бумаг не доверит...
Он потирал руки: очень удачно смерть Потёмкину вышла, очень это на руку вице-канцлеру Безбородко.
Александр Андреевич заехал на минуту в свой великолепный дворец, подаренный ему императрицей, и приказал подавать свой обычный пятничный наряд — теперь до утра понедельника он был свободен и мог делать всё, что угодно, а уж сегодня он так веселился, так гордился и радовался, что не мог пропустить свою обычную недельную забаву. Простой синий кафтан без всяких знаков отличия, круглый картуз без козырька — и вот уже не узнать вице-канцлера государства в этом неуклюжем рабочем человеке. Он поехал в маскарад француза Лиона, где до утра веселилось простонародье, вытаптывал неуклюжие па кадрили и всматривался в хохотушек из плебейства, прыгавших и скакавших под звуки весёлой зажигательной музыки. А потом, уединившись с какой-нибудь наиболее шаловливой из этих хохотушек, отдавался самому грубому разврату.
Неизменные сто рублей в кармане давали ему возможность познакомиться с самыми нечистыми и дешёвыми притонами, где ждало его ни с чем не сравнимое удовольствие. Здесь, в окружении пьянчуг в грязных отрепьях, чувствовал он себя так весело и свободно, как никогда не бывало с ним во дворцах и на балах знати. Там он вечно ощущал себя стеснённо, напряжённо вслушивался в каждое слово, чтобы ответить, как полагается, оглядывал свой расшитый бриллиантами придворный наряд. А тут откуда что бралось! Блестки остроумия, непритязательные шутки, непристойности и грубые жесты — всё вдруг выпирало из Безбородко, делало его развязным, свободным, откровенно пошлым.
Теперь же ещё и внутреннее удовлетворение заставило его утонуть в грубом и грязном разврате и похваляться в душе своей сообразительностью и семимильными шагами к самым высоким вершинам власти в России.
Можно подумать, что свои страстные порывы Безбородко не имел возможности утолять дома, чтобы не шататься по грязным кабакам и публичным домам. О нет, во дворце, подаренном ему императрицей, его ждал целый гарем: смазливые молоденькие итальянки, грубоватые знойные гречанки, попадались даже персиянки, а уж русские девки менялись каждый месяц.
Долгое время вроде бы хозяйкой в его загородном доме была танцовщица Каратыгина. Она разыгрывала эту роль, встречая гостей Безбородко — иностранных послов с их неофициальными дамами, сановников и вельмож, ищущих острых ощущений и сбегавших от нудной домашней рутины. Как ни старался Безбородко походить на своего покровителя Потёмкина по размаху и роскоши своих весёлых праздников, но конечно же уступал ему в богатстве воображения и изысканности таких пирушек. Зато устроил Безбородко коварную забаву для своих гостей: в его честь, в честь его гостей палили из пушек местного гарнизона. Сама Екатерина разрешила ему воспользоваться этой честью — Безбородко и пользовался ею. Частенько наведывался на эту загородную роскошную дачу придворный медик Роджерсон, и Безбородко после каждого из его рецептов приказывал стрелять. Разумеется, обо всём этом знала Екатерина, но только молча улыбалась странной прихоти своего фактотума[38].
Каратыгина родила Безбородко дочь, и папаша не оставлял девочку вниманием и деньгами. Когда девочка подросла, Безбородко выдал её замуж за статского советника, богато одарив приданым — домом в Петербурге, а также имением, приносившим восемьдесят тысяч годового дохода.
Господин Рубан пользовался полным доверием Безбородко в его сношениях с гаремом. Он сопровождал в Москву влиятельную одалиску Марию Грекову, которую Безбородко отправил в имение под столицей, а также поставлял своему хозяину молоденьких девиц для сераля. Это не мешало тому иметь также постоянных любовниц, заведовавших его домом, его сердцем и опустошавшим его кошелёк.
Одно время Безбородко почти буквально осыпал золотом актрису Сандунову, но последняя нашла себе другого богатого покровителя. А от итальянской певицы Давиа Безбородко и сам не знал, как избавиться. Эта хваткая девица получала от Безбородко восемь тысяч рублей в месяц, но изменяла ему с каждым, кто входил в дом. Безбородко попробовал было выселить её из дома, который он снимал для неё, но скандальная особа устроила такой переполох, что Безбородко был вынужден обратиться к императрице с просьбой выслать скандалистку из России. И Екатерина помогла ему в этом.
Более того, она наградила орденом Святого Владимира настоятеля гарема Безбородко — Рубана. Какие заслуги мог иметь этот ничтожный человек, кроме того, что подбирал во всех частях света молоденьких и развратных кандидаток в сераль вице-канцлера?
Весь Петербург знал об этих проделках Безбородко, все знали и потешались. Впрочем, нравы были таковы, что каждый второй сановник вёл себя точно таким же образом. Пример подавала сама Екатерина, с годами набиравшая в свои фавориты всё более молоденьких мальчиков...
Императрица ничего не имела против сераля Безбородко и даже только улыбнулась, когда Остерман, формальный начальник Безбородко по Коллегии иностранных дел, упрекнул при всём совете своего подчинённого в том, что постоянные оргии с красавицами не дают ему возможности работать лучше.
Безбородко лишь пожал плечами и скромно сказал, что от девок легко отделаться, тогда как от законной жены это сделать не так просто.
Это был намёк на жену Остермана, от которой тот не знал, куда деваться, хотя вся голова его уже была в ветвистых рогах.
— Но красавицы так дорого обходятся! — выкрикнул было Остерман.
— Не дороже, чем жена, — спокойно ответил Безбородко.
Екатерина только улыбалась, слушая эту перепалку...
Но даже официальные любовницы не устраивали Безбородко. Он умудрялся усугублять свой разврат самым недостойным образом.
Но как ни странно, никогда, при всех своих выходках, не представал Безбородко перед императрицей в неподобающем виде. Если его внезапно разыскивали в субботу или воскресенье по срочному делу, слуги находили его мертвецки пьяным в каком-нибудь из грязных притонов, привозили домой и поливали холодной водой, потом Безбородко приказывал пустить себе кровь из обеих рук. После этого голова его была совершенно трезва, и он был в состоянии рассуждать на все темы, которые могла затронуть императрица. Так что никогда Екатерина и представить себе не могла, как выглядел бы Безбородко после двухдневного пьянства и посещения грязных кабаков.
За то и ценила она своего вице-канцлера, что все её приказания выполнял он чётко и толково, а его память служила ей нередко и прекрасной опорой. А зачастую Безбородко выдвигал такие проекты и идеи, за которые императрица благодарила своего фактотума деньгами, орденами, поместьями, крепостными крестьянами.
Впрочем, память и прекрасное знание русской грамматики позволили Безбородко сделать такую баснословную карьеру, о которой не могли и мечтать сыновья влиятельных русских дворян. Их, этих сынков, никогда ничему не учили, считали, что сам род позволит им подняться по служебной лестнице. И лишь потом, уже в конце века, русские бояре увидели, как много дивидендов приносят знания, и спешно начали отправлять своих отпрысков за границу, чтобы научить их не только политесам, но и кое-чему полезному. Но теперь, когда Екатерина стояла на престоле, ещё не было развито это стремление к знаниям, к эрудиции, и императрице приходилось случайно вытаскивать нужных людей. Так было и с Безбородко.
Его рекомендовал Екатерине в качестве секретаря князь Румянцев-Задунайский, когда императрица обратила внимание, что донесения, исходящие из его канцелярии, составлены изящно, чётко и ясно рассказывают о сути предмета.
Вместе с Завадовским, сумевшим обольстить Екатерину и короткое время бывшим в фаворе, приехал в столицу и Безбородко, неотёсанный, неуклюжий малый, обладавший феноменальной памятью и изумительным знанием русской грамматики, хотя по-русски он говорил с тем малороссийским неисправимым акцентом, над которым смеялись все, кто мало-мальски слышал этого секретаря.
Долгое время и сам Безбородко не был известен Екатерине — он работал под началом опытных секретарей, и никто не собирался представлять его императрице. Случилось это внезапно, вдруг.
Масленица в семьдесят пятом году была особенно праздничной, отличалась множеством игр и забав, всевозможных гуляний и развлечений. Все секретари Екатерины воспользовались перерывом в работе и исчезли на всё время праздника. Остался один лишь Безбородко. Ему некуда было пойти, он ещё не успел завести в Петербурге нужные знакомства и потому продолжал и в дни праздника сидеть в канцелярии и делать выписки, нужные секретарям, которым доверяла Екатерина и которые пользовались её вниманием.
В то утро Екатерина завтракала одна, что случалось крайне редко, потому что есть в одиночестве царица не любила, за исключением первой утренней чашки кофе. Бесшумно сновали камердинеры, слуги в белых перчатках вносили одно за другим праздничные масленичные блюда. Последними внесли две большие тарелки, на которых стопкой были сложены белые красивые настоящие русские блины.
Екатерина села за стол, надкусила первый блин, обмакнув его в тарелку с густейшей сметаной, проглотила первый кусок и безмерно удивилась — блины были ещё горячими, источали прекрасный аромат, а мёд, икра и растопленное масло создавали неповторимый натюрморт.
— Жалко, что никого нет, чтобы оценить такую вкусноту, — сказала Екатерина и велела посмотреть, есть ли кто из секретарей на месте.
Камердинер Зотов тихонько заметил, что в приёмной нет никого, а в секретарской сидит только один, новичок, из хохлов.
— Хохол? — переспросила Екатерина. — Но он тоже, верно, любит блины?
И Зотов, не дожидаясь дальнейших указаний, пошёл за «секретарём».
Екатерина оглядела неуклюжего хохла, с поклоном остановившегося на пороге столовой, обратила внимание на его толстые ноги с плохо натянутыми чулками, на его толстогубый рот и жестом пригласила за стол.
Ему тут же поставили прибор. Екатерина ласково улыбнулась и велела не стесняться.
— Блины вкусные, — сказала она, — отведайте, вам понравятся.
И сама принялась за блины.
Хохла не надо было просить дважды. Он свернул первый, лежащий на самом верху стопки, румяный блин конвертиком, ткнул его в мёд и потащил в большой красногубый рот. Тонкая ниточка мёда протянулась вслед за блином.
Он смачно облизнул эту ниточку, откусил сразу половину блина, и лицо его просияло.
Екатерина молча наблюдала, как ест хохол. Его аппетит заразил и её, она тоже свёртывала конвертиком блин, макала его в мёд и следила, когда порвётся тонкая ниточка мёда, тянущегося за блином.
«Секретарь» ел и ел, и лицо его сияло блаженством...
Екатерине всегда было приятно, если возле неё было хоть одно довольное, счастливое лицо. Хохол ел, откусывая зараз половину блина, и глаза его, большие и чёрные, словно бы замаслились, сделались уже, тонкими щёлочками выглядывали между толстых круглых щёк.
— И давно вы у нас? — спросила Екатерина, всё ещё следя, как вкусно и обильно ел хохол.
— С неделю, — едва ворочая языком в набитом рту, ответил он.
— И чем заняли вас мои секретари?
— Законами, — всё так же с набитым ртом ответил хохол.
— А-а, — протянула Екатерина и уже хотела было встать из-за стола, но подумала, что такой аппетит надо поощрить, и, чтобы хоть что-то спросить, промолвила: — И закон о маетностях[39] в Малороссии уже попадался вам?
Хохол прожевал, вытер губы салфеткой и проговорил закон о маетностях слово в слово.
Екатерина изумилась. Она бы и по «Книге законов» не смогла прочесть этот текст так, как пробарабанил его хохол.
— А точно вы сказали? — спросила она.
— Можно проверить, — приятным баритоном ответил хохол, — страница шестьдесят пять во втором томе «Книги законов»...
Екатерина мигнула Зотову, и он почтительно наклонил к ней голову.
— Принеси, — коротко бросила она, и Зотов бесшумно исчез.
«Книга законов», которой пользовалась Екатерина, была старая, потрёпанная, с обтрёпанной обложкой, но императрица быстро пролистнула её, нашла указанную хохлом страницу и заложила её пальцем.
— А ну-ка повторите, как вы сказали, — велела она, и «секретарь», нимало не смутившись, снова прочёл статью закона, не ошибаясь ни в одной точке.
Екатерина следила за тем, что он говорил, по книге. Всё было верно, хохол точно повторил статью закона так, как она была напечатана.
Она решила экзаменовать его: вдруг эта статья была единственной, что он знал наизусть? Она пустилась спрашивать его о других статьях, открывая книгу на той или другой статье и водя пальцем по тексту. Хохол наизусть шпарил статьи одну за другой...
— Да ты просто клад, — восхитилась императрица, — такая же память, как у моего воспитанника Потёмкина... Кстати, как тебя зовут?
— Александр, батюшка мой Андрей — вот и выходит, что я Александр Андреевич Безбородко...
— А что, фамилия такая или казус какой был? — снова спросила императрица.
Час от часу хохол нравился ей всё больше и больше.
— А предки мои, Ксенжницкие, были люди воинственные. Прапрадеду снесли саблей подбородок, его и прозвали Безбородкой, а потом уж он передал нам свою фамилию...
— Учился где? — продолжала допрашивать его императрица.
— Закончил петербургский кадетский корпус, затем учился в киевской академии, состоял на низших должностях в Малороссии. И вот князь Румянцев взял меня в свою канцелярию: считалось, что я хорошо умею составлять всякие официальные бумаги.
— Так это ты донесения Румянцева составлял? — вновь спросила императрица.
Хохол только еле заметно кивнул головой.
— Значит, так, — подытожила разговор Екатерина, — будешь разбирать прошения, что ко мне направляются. Тысячи просьб, всех упомнить надобно, кто и что просит. Каждый день будешь докладывать мне и писать на них ответы...
Безбородко вскочил, начал низко кланяться, бормоча благодарности милостивой императрице, ввернул несколько подходящих комплиментов о добром сердце и светлом уме и заверил, что со всем усердием будет стараться оправдать оказанное ему доверие...
Безбородко не сказал императрице, что уже в действующей армии Румянцева занимал он положение не слишком низкое.
Уже позже, рассказывая об этом периоде своей жизни, он писал:
«Командуя сперва Малороссийским и Нежинским полком, а потом, имея под начальством Дубенский, Миргородский и Левенский полки, находился в походах на Буге и между Буга и Днестра. По назначении графа Румянцева к предводительству первою армией переведён туда и я, и, будучи при нём безотлучно, находился в сражениях 4 июня, не доходя реки Ларги, 5-го при атаке турками авангарда правого крыла, 7-го в баталии при Ларге, где я, по собственной моей охоте, был при передовых корпусах, 21-го — при славной кагульской баталии. А 1773 года за Дунаем и 18 июля при штурме наружного силистрийского ретраншемента[40]».
Уже тогда вверил ему Румянцев всю переписку и особенно многие секретные и публичные дела и комиссии, а при переговорах с турками при заключении Кучук-Кайнарджийского мира на него была возложена особая забота о драгоценных вещах и бриллиантах, предназначенных для подарков турецким уполномоченным.
Посылая Екатерине Безбородко, Румянцев так отрекомендовал своего протеже:
— Представляю вашему величеству алмаз в коре — ваш ум даст ему цену.
Так и случилось, что Екатерина оценила вначале способности Безбородко, а потом, когда он доставлял ей челобитные и чётко знал, кто, когда и о чём просит императрицу, она отдала должное его работоспособности и прекрасному знанию формального официального языка, что позволяло ему отвечать на челобитные просто, быстро и по существу.
Весьма доволен был хохол своим новым положением. Отцу он писал, что «кроме выгод и почестей, с оною должностью соединённых, и труда, по оной с силами соразмерного, образ особо ласковых и милостивых поступков государыни место сие делает мне приятным».
Но очень скоро увидел Безбородко, что его образование крайне недостаточно. Весь двор говорил по-французски, а он не понимал в этом языке ни слова.
Безбородко засел за учебники и словари императрицы. В два года он одолел французский, потом изрядно выучился немецкому, а затем и итальянскому языку. Его феноменальная память сделала изучение этих языков довольно лёгким.
Но всю свою жизнь, говоря на многих языках, не мог Безбородко разговаривать на русском без своего малороссийского акцента, что порой делало его смешным в глазах великосветского общества.
Однако сколько бы ни трудился Безбородко на службе императрицы, ему не пришлось бы рассчитывать на многое, если бы не дружба и покровительство Петра Васильевича Завадовского.
Они вместе приехали из Малороссии, но Завадовский сумел понравиться Екатерине не только своей быстротой мышления и анализом обстановки, в которой находилась Россия, но и своей внешностью. Был он всего на десять лет моложе императрицы, но выглядел очень свежо и бодро. Высокий, плечистый, с великолепной копной вьющихся каштановых волос, яркими синими глазами и полными чувственными губами, он сразу же обратил на себя внимание Екатерины. В принципе на это и рассчитывал фельдмаршал Румянцев, представив Екатерине этого могучего богатыря с сильным умом и прекрасными дарованиями. Всегда и везде шла борьба за это лакомое местечко — быть фаворитом. Это означало власть, деньги, могущество. И все партии, стоящие возле Екатерины, постоянно боролись за то, чтобы провести своего человека в спальню императрицы.
Завадовский в свои тридцать пять лет уже был начальником тайной, секретной канцелярии Румянцева, ему поручал фельдмаршал самые щекотливые дела. После того как Завадовский стал наиболее доверенным человеком фельдмаршала, заведующего всей Малороссией, решился Румянцев выставить его кандидатуру в фавориты. И не ошибся...
Но Завадовский, став фаворитом Екатерины, не утратил своего дружеского расположения к Безбородко. Он часто приходил в комнату секретаря, давал ему дружеские советы, помогал деньгами. Теперь у Завидовского водились деньги — в первый же день своего фавора он нашёл в своём столе в комнате фаворитов сто тысяч на обзаведение, расшитый золотом мундир генерал-адъютанта и роскошную обстановку со множеством слуг и великолепных вещей. И ему надо было поделиться с кем-то своими успехами.
Безбородко и стал таким наперсником Завадовского.
Но Пётр Васильевич понимал, что ему необходимы и люди из окружения императрицы, которым он мог бы доверять. И он постоянно упоминал Безбородко при Екатерине, расхваливая его таланты и способности.
Положение Безбородко при Екатерине укреплялось всё более и более.
Но оглядевшись, укрепившись, Безбородко понял, что необходимо поддержать, упрочить себя ещё и денежными средствами. Одни лишь придворные костюмы стоили бешеных денег, а надо было их шить и приобретать, чтобы не выбиваться из блестящей придворной толпы.
Он начал с того, что нижайше просил императрицу закрепить за ним те маетности, которыми он пока что владел в Малороссии. Когда он там служил, за ним временно были закреплены несколько деревень, с которых он получал доход. Но отъехав в Петербург, он испугался возможности отнятия у него этих маетностей для передачи другому, служившему там.
Своё прошение он составил так просто и красиво, что Екатерина не задумываясь подписала его. Отныне его деревни в Малороссии становились наследственными и его собственными.
Теперь Безбородко хотел прихватить и ещё больше, отняв земли у магистрата и у местных, малороссийских помещиков. И опять Екатерина подписала ему все бумаги.
Но все эти хлопоты и секретарские обязанности Безбородко оставляли ему ещё массу свободного времени. И секретарь Екатерины занялся, кроме того, литературным трудом. Он сочинил предлинную «Картину, или Краткое известие о российских с татарами войнах и делах, начавшихся в половине десятого века и почти беспрерывно чрез восемьсот лет продолжающихся».
А потом Безбородко взялся за «Летопись Малыя России».
Но главным его трудом в первый же год его приближения к императрице была «Хронологическая таблица замечательнейших событий царствования Екатерины II».
Ясно, что он хотел этим трудом польстить самолюбию императрицы, перечислив все её деяния.
Он представил это сочинение Екатерине между прочим, среди разных других бумаг с челобитными. Императрица не только крайне удивилась и была польщена, но и указала Безбородко на пробелы в повествовании: ей показалось, что не отмечен её труд по работам на Двине в Риге, а это было для неё не безделицей, потому что она уделяла этим работам много внимания.
Безбородко восхищённо согласился, вставил в своё сочинение новую главу — именно об этом периоде царствования императрицы — и получил от Екатерины полное одобрение и большую награду.
Екатерина даже написала своему корреспонденту Гримму об этом труде Безбородко и хвастливо спрашивала его по поводу всех её деяний, перечисленных в работе её секретаря: «Ну, милостивый государь, как вы нами довольны? Не были ли мы ленивы?»
Из этого видно, как оценивала императрица работу Безбородко. Но эти похвалы ещё не давали секретарю возможности жить на широкую ногу. У него всё ещё не было достаточного запаса денег, и он решил попробовать себя в деле, которое, по слухам, приносило много дохода. Он начал заниматься винокурением.
«Прямая надобность, — писал сам Безбородко родным по поводу своего нового дела, — убеждает браться за подобные промыслы, ибо и теперь то же скажу, что служба наша приятна и видна, но не скоро полезна бывает, а представлять у двора приличную функции фигуру довольно надобно иждивения в таком месте, где что шаг ступить, то и платить надобно.
Впрочем, я не могу довольно нахвалиться своим пребыванием здесь. Её императорское величество от дня в день умножает ко мне свою доверенность. Для собственного вашего знания скажу, дабы не причли сего в самохвальство, что меня вся публика и весь двор видит яко первого её секретаря, потому что чрез мои руки идут дела: сенатские, Синода, иностранных дел, не выключая и самых секретнейших, адмиралтейские, учреждения наместничеств по новому образцу, да и большая часть дел. Отзывами своими неоднократно всем знатным и приближённым изразить изволила своё отменное ко мне благоволение и уважение к трудам моим.
Хотя я ни малого сомнения не имею, что и самого существенного воздаяния от щедрот её ожидать должен, ино и такое милостивое в рассуждении меня обращение служит величайшим для меня одобрением и утешением».
Однако щедроты пролились на Безбородко только через три года его пребывания при дворе. В январе 1779 года императрица пожаловала ему чин бригадира, а через три месяца подарила ему тысячу двести двадцать две души в Белоруссии.
Теперь Безбородко уже не мог жаловаться на свою бедность...
В понедельник свеженький, как огурчик, приступил Безбородко к формированию своего поезда в Яссы для заключения мирного договора с Турцией.
Поезд был роскошен, едва уступал императорскому. Было тут всё: и половина гарема, и царские подарки для турецких уполномоченных на переговорах, и золотая посуда, и многочисленная свита, и целая кибитка нарядов и башмаков для самого Безбородко.
27 октября 1792 года Безбородко выехал на юг.
2
Во всём, что теперь делал, во что вмешивался и чем руководствовался Безбородко, видно было его неутолимое стремление во всём заменить великого человека — Потёмкина. В душе он ненавидел Потёмкина, при его жизни не раз жаловался, что все дела, поступающие на рассмотрение к тому, либо месяцами не рассматриваются, либо вообще не принимаются к обсуждению. Ответы Потёмкина всегда или долго задерживаются или вообще не присылаются, хотя Безбородко как первоприсутствующий в Иностранной коллегии обязан по распоряжению императрицы прежде всего давать Потёмкину все бумаги для ознакомления и решения.
Но это в душе, и то в минуты самого сильного расстройства духа. А на самом деле, в действительности Безбородко заискивал перед всесильным фаворитом, сохранившим всё своё влияние на императрицу даже после того, как был отставлен от её спальни, старался угодить Потёмкину и до дрожи в коленках завидовал ему.
И теперь после смерти светлейшего Безбородко вознамерился прибрать к рукам всё влияние и тот престиж, которым пользовался Потёмкин.
Роскошные пиры у Безбородко собирали в Яссах всю знатную часть переговорщиков. Правда, у него не было возможности одаривать своих гостей бриллиантами, как это часто проделывал Потёмкин, но он старался пышностью и комфортом воспроизводить те пиршества, что задавал светлейший. Слишком свежи ещё были в памяти все сумасбродства князя, все его выходки, а главное — его умение сочетать роскошь с изысканностью и изяществом.
Безбородко не обладал этим умением фельдмаршала, и зачастую его парадные обеды превращались лишь в перечень изысканных блюд, дорогих фруктов и привозных деликатесов, но подавались они лакеями зачастую в грязных белых перчатках или с оторванными пуговицами на ливреях.
Словом, Безбородко хотел, стремился походить на светлейшего, чтобы и государыня поняла, что без него, Безбородко, так же не обойтись, как было не обойтись без Потёмкина. Но все его мечтания, все его старания пошли прахом...
А между тем Потёмкин сделал для Безбородко больше, чем все его остальные покровители. Хитрый хохол вовремя заметил восходящую звезду светлейшего, сумел угодить ему несколькими услугами, и Потёмкин стал его могущественным покровителем. Ушёл Завадовский, которому обязан был Безбородко своими успехами, но Потёмкин, заменивший его, явился для Безбородко поистине кладезем. Князь не только расхваливал фактотума Екатерины, но и отмечал все его достоинства, быстроту в делах и, главное, недюжинный ум. Глазами Потёмкина смотрела на Безбородко и императрица. Но и сам Безбородко старался заслужить ещё большее благоволение императрицы.
«Никто из государственных министров, — писал о нём Гельбиг, — не мог даже в труднейших случаях и по какой бы то ни было отрасли государственного управления представить государыне такого ясного доклада, как Безбородко. Одним из главнейших его дарований было искусство в русском слоге. Когда императрица давала ему приказание написать указ, письмо или что-либо подобное, то он уходил в приёмную, и, по расчёту самой большой краткости времени, возвращался, и приносил сочинение, написанное с таким изяществом, что не оставалось желать ничего лучшего».
Маркиз де Палеро оставил заметку, также характеризующую Безбородко первых лет приближения к императрице:
«Чтобы дать вам понятие о новой должности, на которую назначен Безбородко, а также уяснить ход дел в этой стране, считаю нелишним заметить, что по принятому в здешнем правлении порядку никто, кроме чиновников, имеющих право представить доклад, не получает частных аудиенций у царицы. Её величество как государыня имеет придворный штат, состоящий из генерал-адъютантов, флигель-адъютантов, фрейлин, статс-дам, камер-юнкеров и камергеров. Как частное лицо она имеет общество, состоящее из отборных людей страны, которые собираются во дворец, известный под именем Эрмитажа.
Между тем вышеприведённый этикет так строго соблюдается, что из всех лиц, имеющих к ней доступ, никто не смеет говорить с ней о каком-либо деле, и все, от первого до последнего в империи, должны ограничиваться ходатайством о своих интересах у начальников разных ведомств или письменно обращаться к самой императрице.
Здешний обычай умножает до невероятности число писем, ежедневно получаемых на имя государыни. Но и это ещё не всё. Здесь не существует совета для принятия прошений и приём формальных просьб и писем соединяется в одних руках.
Роспись чинов двора в месяцеслове указывает имена и число секретарей, исполняющих это почётное поручение. Я со своей стороны скажу только, что если эти господа имеют много работы, то пользуются, в воздаяние своих трудов, большим уважением.
Однако же из числа лиц, занимающих такие важные места, никто, сколько мне известно, не докладывает дел непосредственно государыне, кроме г. Безбородки. Независимо от счастливой памяти, значительно облегчающей его собственный труд, а также труд тех, кто с ним работает, он, говорят, обладает в высшей степени даром находить средства для благополучного исхода самых щекотливых дел.
Этими двумя качествами он до такой степени возвысился во мнении Екатерины II, что в ежедневных беседах с ним эта государыня говорит ему обо всём и открывает ему возможность иметь влияние на всё...»
Тем не менее другие современники Безбородко указывали на то, что ему легко было блеснуть там, где русские сановники не имели ни малейшего понятия о русском языке. Но кажется, что эти замечания несколько несправедливы: возвыситься до степени государственного ума не могло помочь Безбородко лишь одно знание языка. Тут надо было иметь ум изворотливый, изощрённый, потому что и сама Екатерина, не блистая знанием русского языка, была государыней светлого ума и смелой политики.
«При острой памяти и некотором знании латинского и русского языков Безбородке нетрудно было отличиться сочинением указов там, где бывшие при государыне вельможи, кроме князя Потёмкина, не знали русского правописания, — так пишет один из сослуживцев Безбородко. — Материя для указа была обыкновенно обрабатываема в Сенате или других департаментах основательно и с присоединением к оной законов и обстоятельств. Стоило только сократить на записке и несколько поглаже написать. Часто надобно было одеть эти записки в указную форму. Конечно, не довольно было киевского и бурсацкого учения для успешного отправления государственных бумаг: потребна была память и острота ума, коими Безбородко был щедро награждён и при помощи которых скоро хорошо понял весь круг государственного управления...»
Однако были при Екатерине и другие секретари, и никто из них не возвысился так быстро и не так взлетел высоко. Просто те лишь облачали идеи и мысли Екатерины в удобоваримую форму, не выходя за круг канцелярской работы. Только твёрдое знание русского правописания было для них главным требованием. Безбородко же вышел за этот канцелярский круг, он сам предлагал Екатерине идеи и мысли и этим привлёк её на свою сторону, когда она разглядела в нём ум государственный и стала допускать к докладу одного лишь хохла...
Сам же Безбородко в докладной записке Павлу Первому так говорил о своём возвышении у трона:
«По прибытии в Москву для мирного торжества угодно было блаженной и вечной славы, достойной памяти государыне, родительнице Вашей, взять меня к себе к особе её для принятия прошений и исправления прочих дел. В самое короткое время имел я счастие приобрести высочайшую её доверенность до такой степени, что мне поручены были собственные её бумаги, и вскоре на деле учинился я первым её секретарём, имея на себе большую часть государственных дел...»
Даже княгиня Дашкова, неприятельница Безбородко, обыкновенно называла его первым секретарём государыни.
Первым большим шагом в возвышении Безбородко было причисление его к Коллегии иностранных дел. Екатерина в это время продвигала свой проект, известный в истории как «Вооружённый морской нейтралитет». Безбородко много помогал императрице в оформлении этого проекта и выпуске его в мир.
Вооружённый нейтралитет был уже несколько лет главной заботой Екатерины. Она хотела, чтобы все цивилизованные государства Европы объединились в союз для защиты нейтрального морского флага. Это больно ударило по престижу главной морской державы — Великобритании, но дипломаты этого государства сначала и не поняли, какую скрытую угрозу таит в себе вооружённый нейтралитет именно для их страны. Во всяком случае, английский посланник Гаррис теперь искал случая поговорить с Безбородко и узнать обо всём этом проекте его частное мнение.
Гаррис писал лорду Стартману, занимавшемуся в то время дипломатическими делами:
«Единственный человек, от кого я мог надеяться получить некоторую выгоду, был частный секретарь императрицы, и то только потому, что он человек честный и не заражён предрассудками, и с ним одним, кроме двух вышеупомянутых лиц (Потёмкина и графа Панина), императрица рассуждает об иностранных делах. Безбородко ежедневно возвышается в её уважении, и я вчера отправился к нему утром с целью распространиться о том, что я уже говорил недели две назад, и тем поставить его в возможность, при разговоре с государыней, сообщить ей верные и точные сведения...»
Всего через два месяца после назначения Безбородко в Коллегию иностранных дел уполномоченным императрица велела ему присутствовать на заседаниях секретной экспедиции и, кроме того, доверила его наблюдению и точному ведению департамент почтовых дел.
А надо сказать, что в то время этот департамент подлежал ведению Коллегии иностранных дел, и Безбородко сделал многое для упорядочения дел в нём, по переводу этого департамента в управление внутренних дел, по безупречной перевозке и пересылке почтовых отправлений.
Назначенный уполномоченным в коллегию, Безбородко скоро стал ведать почти всеми дипломатическими делами. Даже иностранцы, находившиеся с дипломатическими миссиями в Петербурге, признавали, что Безбородко — единственный человек, с кем можно говорить о делах серьёзно, а граф Остерман, числящийся канцлером, — «простой министр», передающий все свои мысли императрице только через Безбородко. Потому Остерман и не принимал участия в заключении тех трактатов и договоров, которые тщательно создавал Безбородко.
«Полномочный по всем негоциациям[41]» — так определила статус Безбородко в Коллегии иностранных дел сама Екатерина и работала лишь с ним.
Несколько конвенций по вооружённому нейтралитету были заключены именно по инициативе и деятельному участию в этом сложном деле Безбородко. Многое сделал он и для заключения торгового договора с Данией.
Екатерина ценила Безбородко за деятельный, расторопный ум, поручала ему самые разнообразные дела. Зато молодой двор относился к новому всемогущему человеку с большим подозрением и даже презрением, Павел откровенно высказывался о вельможе. В 1788 году, разговаривая с герцогом Тосканским, великий князь разгорячился и стал откровенно высказывать убеждение, что ему известно, кто и какие взятки берёт с иностранных министров при русском дворе:
— Я знаю и могу даже назвать их имена. Это князь Потёмкин, секретарь императрицы Безбородко, Бакунин, оба графа Воронцовы, Семён и Александр, и Морков, который теперь министром в Голландии. Я вам их назвал. Пускай они знают, что мне известно, что они за люди. Как только у меня будет власть, я их высеку, уничтожу и выгоню...
Великий князь Павел конечно же нисколько не ошибался в своих суждениях. Все эти люди, которых он называл, брали взятки в таких суммах, в таких количествах, которые были неведомы при прошлом царствовании. Однако Екатерина закрывала на это глаза, хотя и знала об этих злоупотреблениях. Ей было известно, что Безбородко постоянно берёт деньги у польских магнатов — те собирали их в складчину, чтобы заискивать у Безбородко и добиться использования его влияния на польские интересы. Правда, это нисколько не могло помочь Польше, потому что Безбородко не только не отстаивал польские интересы, но даже сам советовал Екатерине воспользоваться обстановкой и урвать куски Польши в пользу России. Он надеялся и в Польше получить квадратные километры поместий, земель, тысячи крепостных крестьян — словом, обогатиться за счёт раздела Польши.
И тем не менее он брал деньги и польских магнатов, обещая им употребить всё своё влияние на их пользу.
Императрица не замечала этого противоречия в действиях Безбородко, но он и сам старался быть как можно более осторожным, чтобы никто не мог обвинить его в злоупотреблении своей властью. И всё же он успевал брать, где только мог. Кто бы ни обращался с прошениями к Екатерине и ни просил первого секретаря помочь замолвить словечко, тот знал, что надобно провести его по золотой дорожке. Русская пословица «Сухая ложка рот дерёт» тут как нельзя более приходилась кстати. В самое короткое время Безбородко стал одним из богатейших людей страны.
Раз оценив дарования и ум Безбородко, Екатерина уже больше не ревизовала своих взглядов. Она считала, что ко всякому делу можно приставить этого хохла и везде он будет нужен и полезен.
Обнаружилось расстройство в финансовых и иных делах императорских театров. Екатерина поручила Безбородко разобраться в этом и дала ему неограниченные возможности. Как ни странно, такому далёкому от искусства человеку, как Безбородко, удалось справиться с этой задачей блестяще. Он выгнал неугодных людей, схватил за руку расхитителей императорских средств, выдаваемых на театры, укомплектовал штат актёров и актрис. Словом, применяя свою тактику чистки и улучшения, Безбородко навёл порядок и в этом деле.
Екатерина сама возложила на него орден Святого Владимира, желая показать свою милость к этому человеку перед всем светом.
Не успел ещё Безбородко разобраться с императорскими театрами, как императрица нашла для него другое, чрезвычайно важное поручение.
Екатерина затевала множество разных предприятий, где война была одним из главных. Расходы превышали доходы, государственная казна истощилась. Дефицит государственных доходов Екатерина сумела покрыть с помощью выпуска бумажных денег, ассигнаций, однако они уже к 1782 году стали цениться дёшево, покупали их неохотно, и необходимо было изыскивать другие, более разумные средства для погашения государственного дефицита.
Безбородко был поставлен во главе особой комиссии, которая и должна была справиться с этой проблемой.
Вот как он сам рассказывает об этом времени:
«По делу, касающемуся до умножения государственных доходов, моя заслуга не в одном только том состояла, что все пристали к плану моему о Малороссии, из которого были уже заимствованы правила и для прочих губерний, на особом основании бывших. Все другие средства никто на себя взять не может, чтобы я в них не участвовал. О крестьянах казённого ведомства мы с г. генерал-прокурором первые условились. Прибавка сбора за рекрут с купцов и на гербовую бумагу мною предложена. Я сам сочинял доклад, поверял ведомости, трудился над ними всех более. По сему уже одному труды мои в сём деле были не меньше моих товарищей. А план о малороссийских доходах был собственное моё дело, в котором никто не имел участия...»
Надо, правда, сказать, что все придумывания Безбородко по финансовой части ничего не принесли казне, и Екатерина продолжила выпуск бумажных денег, хоть и клялась больше этим не заниматься.
Впрочем, государственный дефицит можно было сократить хотя бы экономией расходов на двор и фаворитов императрицы, ударами по ворам, без стеснения залезавшим в государственный карман. Но этих мер как раз и не предлагал Безбородко, потому что главным расхитителем государственной казны был самый могущественный человек в стране — Потёмкин. Тягаться с ним никто бы не решился, не осмелился и Безбородко,
Так и закрылась эта комиссия, ничем не кончившись. Но Екатерине опять показалось, что Безбородко сделал тут многое, и она снова одарила его и крестьянами, и землями.
Но для Безбородко здесь же нашлось другое, новое дело. Екатерина ещё в 1776 году читала в записке Безбородко, специально поданной им государыне, что давным-давно назрела необходимость присоединения к России Крымского полуострова. С тех пор все татарские дела, вплоть до переселения татар в Россию, уже были в руках у Безбородко, и он изыскивал меры для решения этого вопроса. Он связывался с русским послом в Константинополе Булгаковым, выясняя отношение Турции к идее присоединения Крыма.
Эта идея понравилась Екатерине, и она повелела Потёмкину осуществить её. Потёмкин взялся за дело горячо, распропагандировал русскую партию при Шагин-Гирее в Крыму, а когда при заварушке Шагин-Гирей был избран ханом татар Крыма, светлейший попросту посоветовал ему обрести русское подданство и милость русской императрицы. За Крым Шагин-Гирею, вывезенному в Калугу, было уплачено, и русские войска вошли в Крым без единого выстрела.
Манифестом от 8 апреля 1783 года Екатерина возвестила миру о присоединении Крыма к России, и Европа не посмела протестовать против этой акции. Вынуждена была согласиться с этим и Турция своим трактатом от 28 декабря того же года. Она признала присоединение к России не только Крыма, но и татарских земель по берегу Чёрного моря и прикубанских степей.
Но и двор, и все приближённые Екатерины сразу забыли, кто первым подал мысль о Крыме. Хвалили Потёмкина, славили императрицу, а о Безбородко никто и не вспомнил. Однако его забытые идеи и мысли сделали его ещё более влиятельным и приближённым к императрице, так что она, в числе двенадцати лиц своей свиты, забрала его с собой в Фридрихсгам, где состоялось свидание со шведским королём Густавом Третьим. Одно это показывает, как укрепился престиж Безбородко и как уже привыкла государыня не обходиться нигде без него, его памяти, ума и способности легко решать самые щекотливые дела.
Тем не менее нельзя сказать, чтобы возвышение и утверждение Безбородко было несложным и беспрепятственным. Интриги, которыми и всегда кишел двор, касались и его коренастой неуклюжей фигуры. Особенно досталось ему от молоденького фаворита Екатерины Мамонова.
Трудно было бы отыскать источник неприязненного отношения Дмитриева-Мамонова к Безбородко, если бы не вспомнилась поездка императрицы в Крым и представление Безбородко двору двух своих родственников — Милорадовича и Миклашевского. Этим не совсем чистым приёмом Безбородко старался укрепить своё положение, если бы государыня обратила свои милости на одного из этих красавцев. Екатерине красавцы понравились, но она вынуждена была уступить Мамонову, дико взревновавшему её во время этого свидания. Красавцы в фавориты не прошли, хотя Екатерина и обратила на них своё благосклонное внимание, и Мамонов мстил Безбородко за эту подстроенную встречу.
Кое-кто из современников исподтишка наблюдал эту неприязнь фаворита к секретарю-докладчику, хотя сам Безбородко усиленно искал покровительства Мамонова.
Фаворит непременно сидел в кабинете государыни, когда решались важные государственные дела. Однажды Екатерина прочла прошение о награждении одного кавалергардского капрала и решила, что лучше всего справится с таким делом Безбородко: он знает законы и прецеденты.
— Как, кто?! — воскликнул Мамонов. — Я вам уже сто раз сказывал и теперь подтверждаю, что я с Безбородко не только никакого дела иметь, но и говорить не хочу. Нет ничего смешнее, как отдавать ему дела, его рассмотрению не подлежащие. Не угодно ли вам, надев на него шишак и обрядив в кавалергардское платье, пожаловать его шефом сего корпуса? Очень кстати! Однако же и в подобное время я кланяться ему не намерен. Я знаю, кто я таков, а он — такой-сякой... Я лучше пойду в отставку!
Такие слова для Екатерины были как нож в сердце. Как, в отставку, из её спальни, от её любимых утех?
— Ну-ну, на что же сердиться, — пробовала она урезонить своего молоденького любовника.
Но Мамонов продолжал твердить своё. Едва Екатерина пожелала перечислить заслуги и достоинства Безбородко, как фаворит опять вскричал:
— Хотел я наплевать на его достоинства, на него самого и на всю его злодейскую шайку!..
Императрица покорилась. Она отобрала у Безбородко все бумаги, всю ночь проплакала, но примирение произошло лишь три дня спустя. Екатерина сильно страдала от этого, но проститься с Безбородко не смогла.
Нечего и говорить, как страдал от этого сам Безбородко. Молоденький офицер из караульни, попавший по случаю в императорскую спальню, разом зачёркивал все его труды и заслуги. Он старался входить с докладом к императрице тогда, когда там не было фаворита, а если Мамонов сидел у стола Екатерины, Безбородко откашливался, подавал бумаги и сипел, что с его голосом что-то случилось и он просто оставит бумаги, чтобы императрица сама прочла их...
Угнетало и Екатерину такое недружественное отношение своего любимца к умному государственному человеку. Однажды, получив письмо от Потёмкина, Екатерина сказала фавориту:
— Ты видишь, что князь пишет Александру Андреевичу дружески. Это неправда, чтобы секретари были злобны князю. Как бы то ни было, а князь уважает их как людей умных, государству полезных и мне необходимых. Отчего же тебе не так вести себя?..
Мамонов был ставленником Потёмкина, слушался его во всём, и слово светлейшего на этот раз прекратило размолвку между чтецом-докладчиком и молоденьким фаворитом. Теперь Безбородко уже не боялся дерзких выходок с его стороны.
Тем не менее фаворит потихоньку продолжал чернить и Безбородко, и его друзей и сотрудников, графа Воронцова и Завадовского. Последнему он не мог простить его недолгого фавора...
Екатерина продолжала ценить своего усердного помощника. В то время, когда он занял пост «полномочного по всем негоциациям», оттеснив полное ничтожество графа Остермана, только числящегося канцлером, но не имеющего ни дарований, ни способностей пробиться в драгоценные сотрудники императрицы, она произвела Безбородко в тайные советники. Кроме того, ему было пожаловано три тысячи душ в Малороссии, шесть тысяч рублей жалованья в год да ещё по пятьсот рублей в месяц на стол.
А австрийский император Иосиф произвёл Безбородко в графы Священной Римской империи. По этому поводу Екатерина написала Безбородко:
«Труды и рвение привлекают отличие. Император даёт тебе графское достоинство. Не уменьшится твоё усердие ко мне. Сие говорит императрица. Екатерина же тебе дружески советует и просит не лениться и не спесивиться...»
Диплом на графское достоинство, подписанный Иосифом, заключал в себе следующие слова:
«Безбородко во всех должностях и чинах усердием своим к славе и благу отечества, к исполнению намерений своей монархини, к утверждению доброго согласия с державами, дружеством и союзом с российскою монархией связанными, верным своим радением и разными достославными подвигами получил многие отличные знаки государевой милости и своими почётными свойствами украсил себя и род свой и чрез то приобрёл и наше отменное благоволение».
Графское достоинство было распространено и на брата Безбородко, бригадира Илью Андреевича, и их потомство, и притом так, что «яко они уже от четвёртого колена с отцовской и матерней стороны природные были графы и графини Священной Римской империи».
Но и это возвышение было встречено всем петербургским обществом с насмешкой и остротами. Безбородко не любили в обществе за его неумение слыть остряком и весельчаком, терпеть не могли его мрачный и угрюмый вид на всех званых вечерах, смеялись над его спущенными чулками и неуклюжими кафтанами, а более всего над его невыносимым и смешным для русского уха малороссийским акцентом.
Мало того, видные люди общества представили пасквильный рисунок с сатирической подписью под ним. Новоиспечённый граф был изображён в самом оскорбительном и унизительном виде.
Безбородко пожаловался Екатерине. А поскольку в рисунке была затронута и императрица, то Екатерина велела разыскать авторов и сурово наказать их. Авторами оказались весьма знатные люди — баронесса Эльмпт, фрейлина государыни, граф Бутурлин, адъютант Потёмкина, его сестра Дивова.
Наказание было суровым. Баронессу высекли в присутствии гофмейстерины и отослали к отцу в Лифляндию, Бутурлина отставили от службы и отправили в ссылку с запрещением бывать в местах пребывания императрицы, а Дивова вместе с мужем, ни в чём не повинным, была выслана из столицы.
Тем не менее всё петербургское общество встречало Безбородко презрительными взглядами и скрытыми насмешками. Положение изменилось, когда сама государыня пригласила его постоянно бывать на её частных приёмах вечерами в знаменитом Эрмитаже. Теперь у Безбородко не было отбоя от просителей, теперь ему кланялись все сколько-нибудь знатные люди в государстве — поближе к приближённому, и может, достанется милостей, наград, денег, чинов. Таково было русское общество восемнадцатого века!
Многочисленные должности и поручения императрицы почти не оставляли Александру Андреевичу свободного времени, однако он умудрялся не упускать возможности кутить самым пошлым образом в свободные от присутствия дни. Но с начала недели он снова был в отличной форме, являлся с докладами к императрице самым точным манером.
Екатерина постоянно интересовалась почтовым ведомством, которое было поручено Безбородко. За образец для устройства почтовой связи он взял французскую почту и приводил в порядок все системы почтовой связи. Были открыты многочисленные почтамты, что сделало более удобными сообщения по стране, устроены почтовые станции не далее, как в пятнадцати-двадцати пяти вёрстах друг от друга, проложены новые, наиболее короткие и спокойные дороги, а почта была разделена на лёгкую и тяжёлую, а правила о подорожных установлены твёрдые и легко контролируемые. Но несмотря на все эти меры, почтовое дело оставалось в России всё ещё далеко не идеальным. Екатерина сердилась и выговаривала Безбородко, но дальше этого не шла — слишком уж тяжело было превращать Россию в цивилизованную страну, и императрица отлично понимала это. Однако меры, предпринятые Безбородко, подвинули вперёд почтовое ведомство, и с тех пор почта начала приходить аккуратно и быстро. Но зато императрица заметила, что главным препятствием в России, в том числе и для становления почтового дела, остаются дороги. Обширные пространства страны, множественные болота, леса, горы — всё это составляло непреодолимые препятствия для развития дорожной сети. Ив 1786 году Екатерина назначила Безбородко членом «комиссии о дорогах в государстве».
Почти одновременно она ввела его в Государственный совет при императрице.
Генеральные планы по строительству дорог были представлены Екатерине только спустя десять лет после учреждения дорожной комиссии, но в эти годы многое сделал Безбородко для усовершенствования и нового дорожного строительства. Конечно, речь шла пока что лишь о европейской части государства, потому что необозримые просторы Сибири не давали даже и думать об устройстве там сносных дорог.
Став членом Совета, Безбородко теперь ещё чаще стал докладывать Екатерине о всяческого рода делах, и в том же году императрица пожаловала ему титул гофмейстера. А когда она собралась в Крым, то распорядителем определила быть тому же Безбородко.
На всю поездку было выделено три миллиона рублей, но хватило их на одну только половину, и Безбородко изощрялся, как мог, чтобы сэкономить государственные деньги. И всё-таки он был не в силах напрямую сказать Екатерине, что главный растратчик денег в государстве — это она и её двор, жившие в исключительной роскоши и пышности.
Безбородко старался, чтобы на остановках, где императрица должна была ночевать со всей своей свитой, всё было предельно просто: обыкновенная мебель, дешёвые дворцы, наскоро строенные в честь прибытия императорского поезда. Однако он не мог ручаться, что все эти буфеты и серванты, сервизы и столовые приборы тотчас не разворует челядь да и сами руководители этих стоянок, потому что они знали, что всё это лишь на один день.
Воровство было постыдным и повальным. Воровали все — от простой кухарки до князя и вельможи. Оттого и не хватило денег на поездку императрицы. Но Екатерина, не скупясь, позволила взять ещё три миллиона из государственной и так уже тощей казны, чтобы прибыть обратно в Петербург.
Поддаваясь всеобщему влиянию, и Безбородко теперь не скупился в тратах на самого себя. Даже киевскому генерал-губернатору фельдмаршалу Румянцеву писал он об удобствах для себя:
«Что касается меня, то я совершенно полагаюсь на милостивое Вашего сиятельства распоряжение. Но осмеливаюсь донести, что по качеству министра иностранных дел нельзя мне обойтись без некоторого рода репрезентации. Следственно, хотя я и предпочту не ближний дом, но некоторый немного пообширнее и выгоднее...»
Самому же Румянцеву он указал экономить на всём, так что к приезду императрицы Киев даже не был украшен. Но когда Екатерина выразила недовольство и послала Мамонова высказать это фельдмаршалу, грубоватый и прямолинейный вояка ответил ему, что он, Румянцев, привык брать города, а не украшать их. Это надо было передать императрице.
Безбородко не оставлял надежды приобрести себе ещё и более почтительных покровителей. И в Нежине, где он принимал императрицу в своём имении, он представил ей уже известных Милорадовича и Миклашевского. Мало того что императрица, обратив на них внимание, благодарила Безбородко за достойный приём, она ещё и удостоилась жестокой сцены ревности со стороны своего фаворита Мамонова. Впрочем, и будущий фаворит Зубов тоже ненавидел Безбородко именно из-за этого знакомства императрицы с его красавцами-родственниками...
Александр Андреевич был едва ли не главным распорядителем всего путешествия. Основной силой был, конечно, Потёмкин, но любая мелочь касалась Безбородко. Он привёз в Канев польского короля Станислава Понятовского, он присутствовал на всех встречах императрицы с Иосифом Вторым и обсуждал с ним все пункты союзного договора Австрии и России. И большая часть указов, подписанных рукой Екатерины за время полугодового путешествия, была писана рукой самого Безбородко.
Даже Завадовский писал графу Семёну Романовичу Воронцову:
«Князь Потёмкин верховный в делах. Граф Александр Андреевич по нём и в услугах его. Я называю две силы, всё двигающие...»
Екатерина являла всё новые милости своему фактотуму. Она заехала к нему в гости в слободу Анновку, а потом подарила в Москве дом бывшего канцлера графа Бестужева-Рюмина. Дом был уже старый, и императрица приказала перестроить его по указанному Безбородко плану на казённый счёт.
Но международные дела, которыми ведал Безбородко, становились всё тревожнее и тревожнее. Пруссия строила козни, стравливая Россию с кем только возможно, Франция и Англия вооружались, а Турция прямо готовилась к войне с Россией. Во всяком случае, Безбородко прекрасно понимал, что такое вызывающее путешествие Екатерины в Крым не может не кончиться войной...
Война уже закончилась, Потёмкин умер, и теперь Безбородко представлял Россию на Ясской конференции, где решалась судьба завоеваний северной страны.
Безбородко изворачивался, как мог: задавал пиры, подобные потёмкинским, приглашая участников переговоров на них, заваливал турецких переговорщиков драгоценными подарками и бриллиантами. Но турецкие уполномоченные были неподатливы, потому что чувствовали поддержку Франции и Польши, а также Швеции.
Ничего не мог добиться Безбородко на этой конференции. Кровопролитная жестокая война теперь обратилась в пустое дело. Единственное достижение — державы Европы согласились признать за Россией присоединение Крыма и прикубанских степей. Но это уже не нужно было стране, она завоевала это признание и без кровавой войны.
Словом, ничего не мог выторговать Безбородко на переговорах в Яссах. Только и всего, что мир был заключён.
3
В самом радужном настроении возвращался Александр Андреевич Безбородко из Ясс в Петербург. Не замечал сломанной оси в своём поезде, терпеливо ждал на остановках продолжения пути, не обращал внимания на мокрядь и хмарь начинающейся весны, даже со своими одалисками разговаривал оживлённо и доброжелательно. Они сопровождали его в эту далёкую даль, развлекали и веселили его, и теперь после всех хлопот, после интриг и заигрываний с иностранными послами, присутствовавшими на переговорах, он отдыхал душой, весь растворяясь в ожидании своего нового триумфа. Безбородко вёз уже второй мирный договор, заключённый всецело им, советами и указаниями императрицы доведённый до окончательной редакции. Он до сих пор помнил наизусть статьи Верельского мира, которые он сочинял под конец шведской войны:
«1. Чтобы мир, спокойствие, доброе согласие, и дружба пребывали вечно на твёрдой земле и на водах, и потому все действия всех прекращены быть имеют.
2. Границы обеих держав имеют навсегда остаться, как оные, по силе Абовского договора — по разрыву до начала настоящей войны были.
3. Вследствие того войска долженствуют выведены быть каждою из воюющих держав, буде имеются в стороне другой, в полагаемый тому срок.
4. Пленники разменяны и отпущены должны быть без выкупа и расчёта за их содержание, а каждый только свои собственные долги частным людям заплатить обязан.
5. Артикул Абовского договора о салюте между кораблями и судами взаимными свято исполняем быть должен.
6. Ратификации государские в течение двух недель, или скорее, разменяны должны быть».
Безбородко писал этот договор даже не под диктовку Екатерины — теперь, став дипломатом, он прекрасно знал язык международных трактатов.
Да, Верельский мир был заключён именно им. И этот, Ясский мир тоже дело его рук. И он безмерно гордился тем, что преодолел все препятствия, все препоны и везёт государыне свиток договора с печатями и подписями турецких уполномоченных. Ещё будут ратифицировать его, ещё и Турция пришлёт подписанный султаном пакт, но дело сделано, война окончена, мир заключён.
Две войны сразу — на севере и на юге. И в окончании обеих он, Безбородко, принимал такое деятельное участие.
Впрочем, были и за ним промашки. Две записки Безбородко, поданные им императрице, заключали в себе мысль, что заключить мир с Швецией и Турцией возможно только при посредстве прусского короля. Причиной этого было бедственное положение России, о котором он и говорил Екатерине.
«Наш интерес теперь в том состоит, — писал он, — чтобы сделать мир хотя несколько честный, ибо уже много лет нельзя продолжать войну. От неурожая хлебного и от возвышения цен и от худой экономии в войсках так возросли расходы, что нам нынешний год на войну станет с лишком тридцать миллионов и, чтобы быть в состоянии протянуть будущую кампанию, дошло дело до наложения новых податей...»
Екатерина возмутилась. Она терпеть не могла прусского короля, и у неё были свои причины не звать его в посредники, а кроме того, сразу же открылось через агентов, что Пруссия предложила Турции оборонительный союз с гарантией целостности её владений за Дунаем и готова была выступить против России, пока Порта не вернёт все отвоёванные у неё русскими войсками земли, да предложила ещё присоединить к заключению мирного договора Польшу и Швецию.
Безбородко притих, не говорил больше о Берлине, но затеял приблизить Англию, заключив с нею трактаты. Но и эта его придумка потерпела неудачу.
Зато двумя своими мирными договорами Безбородко сразу поднял свой престиж и сейчас думал только о том, что дорога ему теперь открыта, не заслоняет её такой великан, как Потёмкин, у которого приходилось спрашивать совета по любому поводу. Безбородко склонялся перед могуществом светлейшего, но тихо радовался, что отныне его дела по Коллегии иностранных дел не может оспаривать никто, кроме самой императрицы.
Заключив Верельский мир, Безбородко с ехидцей указывал на турецкую войну:
— Мы своё кончили, пусть князь Потёмкин своё кончит...
А вот и оказалось, что за князя Потёмкина пришлось кончать дело миром с Турцией самому Безбородко.
Описывая торжество по случаю завершения шведской войны и награды ему за труды по ней, он испытывал чрезвычайную радость:
«Милость, мне тут сделанная, тем знаменитее, что никто почти из генералов-поручиков в генерал-аншефский чин не поступал менее двенадцати или пятнадцати лет, вместо того, что я получаю оный, быв в прежнем только пять с половиною лет, приобретая над многими старшинство и вступая, так сказать, уже на последнюю ступень статской службы. При том ласкательна была для меня честь, что из всех министров совета трое нас только были, которых имена читаны в росписи публично, с трона, в день большой аудиенции, а именно: граф Иван Григорьевич Чернышев, получивший тут крест и звезду бриллиантовые ордена Святого Андрея Первозванного, Николай Иванович Салтыков, пожалованный графом, и я. Прочие наши сотоварищи получили от её величества, по возвращении уже во внутренние покои, табакерки богатые с портретами».
При всём том Безбородко ясно отдавал себе отчёт и прямо писал государыне, насколько тяжело внутреннее положение страны.
«Что война с Портою, и ныне продолжающаяся, и другая, недавно со шведским королём оконченная, привела государство в большое истощение как и людьми, так и деньгами — в том не может быть ни малейшего сомнения. Число рекрут, в течение десяти лет взятых из всяких состояний народных, простирается до 400 000 человек. Что же касается денег, то недостаток в них так велик, что и самые налоги не могут удовлетворить нуждам нашим. Вексельный курс с начала турецкой войны и до сих пор упадать продолжает. Займы внешние от часа к часу становятся затруднительнее. В таком положении неможно не признаться, чтоб не было опасно и бедственно отваживаться на новую войну, прибавляя против себя столь сильных неприятелей, каковы король прусский и его союзники.
Мы не имеем союзников...»
Он писал это в тот момент, когда Екатерина всё ещё размахивала флагом со словами похода на Константинополь. Но князь Потёмкин умер, и некому теперь было снова втравливать Россию в затяжную кровопролитную войну с Портой.
Льстил себя надеждой Безбородко, что отныне внешние отношения распутаются, что императрица обратит внимание на бедственное положение страны и не будет ввязываться ни в какие военные авантюры.
Словом, едучи домой, Безбородко был полон самых смелых планов и радостных перспектив. Недаром же Растопчин писал в Лондон графу Семёну Воронцову:
«Вы справедливо говорите, что граф Безбородко покрыл себя славою. Препятствия, которые должен был он преодолеть, отсутствие самых необходимых средств для переговоров с турками, известные свойства их уполномоченных — всё было соединено, чтобы выставить в ярком свете его дарования. Чем более я смотрю на его труды, тем более удивляюсь его гению. Для успеха в самом трудном деле ему стоит только приняться за работу. Он оказал России самую важную услугу, какую только можно было сделать...»
Грела Безбородко и мысль, что императрица распорядилась выдать ему пятьдесят тысяч рублей и издала указ о награждении его орденом Святого Андрея Первозванного. Подсчитывал он в уме и все подарки, сделанные ему от имени Порты, а подарки были царские и стоили баснословно дорого. Один лишь бриллиантовый перстень встал в двадцать пять тысяч, да драгоценная табакерка тянула тысяч на восемь, да семь тысяч стоили драгоценные часы. Турки расщедрились, и в своём поезде Безбородко вёз в Петербург великолепного скакуна в богатом уборе, расшитую шелками палатку-шатёр, салоникский шерстяной ковёр и почти тридцать пять пудов кофе, множество индийского и менского бальзама, без счета табаку, мыла, губок и кальянов да ещё двадцать четыре куска замечательных шёлковых тканей и кашемировые шали.
Складывал в уме Безбородко и доходы со своих соляных варниц в Крыму, уступленных ему Потёмкиным, и от обилия винокурен, и от тысяч квадратных вёрст имений, дававших баснословную прибыль. Примерно на сто пятьдесят тысяч в год мог рассчитывать бывший бедняк, не имевший приличных чулок.
Эти мысли о деньгах, о богатстве грели Александра Андреевича всю дорогу, и даже его бешеные траты на своих любовниц, на девок и гарем не делали бреши в доходах вице-канцлера.
Хоть и снаряжался Безбородко усиленно для поездки в Яссы, но сразу же стал жаловаться, что денег не хватает, и ему дополнительно высылали громадные суммы, в которых он никому не давал отчёта.
Правда, в последние дни у Безбородко появились заботы именно на этом фронте. Наследник Потёмкина обвинил Александра Андреевича в том, что он, подбирая подряды на поставки в армию, взял себе подряд на поставку вина для солдат. Никто и никогда того вина не видел, утверждал наследник Потёмкина.
Безбородко отговаривался тем, что он всегда делал умную и честную коммерцию, но след на его имени остался, хоть и не дошло дело до суда.
Но все эти мелочные заботы не омрачали радужного настроя Безбородко.
Захватив с собой в Петербург своего родственника Милорадовича, он и вовсе думал укрепить свою и без того крепкую карьеру. Он уже представлял Екатерине этого своего родственника, и она милостиво обошлась с ним. «Возможно, на этот раз она будет ещё милостивее и возьмёт моего человека себе в секретари, а потом, может, и в фавориты», — размышлял Безбородко. И тут, казалось, светит ему звезда и, вероятно, достанется удача. А что императрица, как и прежде, благоволит к нему, доказывалось её просьбой как можно быстрее возвращаться в Петербург, чтобы начать переговоры с польскими уполномоченными. Александр Андреевич сразу же начал придумывать ходы и выходы, как быть с этими уполномоченными, чтобы и русские интересы соблюсти, и польских панов, которые всё время подносили ему подарки, не обидеть. Придётся виться ужом, ну да ему не привыкать...
Тёмная тучка находила на радужное настроение Безбородко только тогда, когда он вспоминал о Зубове. Он находил его вовсе не опасным, определял как мальчика, умом недальнего, поведения приличного, но в письмах друзьям и родным притворялся, что ему нет дела до этого мальчика, что ему просто всё равно. А в душе он знал, как может вредить ему такой мальчик. Он всё ещё не забывал ссор с прежним фаворитом Мамоновым и соображал, как ему вести себя с новым государственным человеком.
Очень удивлялся Безбородко, когда Зубов вмешивался в переговоры с турками. Иногда письма ему диктовала Екатерина, иногда он передавал её указания в своих письмах, и всегда за его словами скрывались гонор и спесивость. И горько было Безбородко, что какой-то мальчишка, выходец из караула, всего-навсего поручик, не имеющий ни заслуг перед отечеством, ни сколько-нибудь старательной службы, указывает ему, прошедшему все тонкости дипломатической работы, как поступать. Но делать было нечего, диктовала Екатерина, и она же нахваливала Безбородко этого мальчишку. Вице-канцлер усмехался в душе: ей шестьдесят три, ему двадцать три — сорок лет разницы! Но он никогда не позволил себе ни в одном из писем, ни в речах, ни в репликах осудить любовные игры Екатерины. Он и сам был грешен, брал себе в наложницы всё более молоденьких девушек, почти девочек, менял их, выкидывал, если не нравились. Так что не ему было осуждать страсть стареющей женщины к молоденькому офицерику.
Но всерьёз Зубова он не принимал. И сильно ошибся...
Уезжая в Яссы, Безбородко оставил некоторые дела Трощинскому, а остальные Екатерина приказала отдать Зубову. И теперь Безбородко грызли сомнения, как всё повернётся. В том, что его отметят и наговорят много благодарственных слов, он не сомневался, но интриги двора, новые веяния и новые советники императрицы могут сильно повредить ему. Но он отмахивался от этих мыслей и ставил себе в пример князя Потёмкина: восемнадцать лет был тот преданным другом и соратником Екатерины, хоть уже и не входил в её спальню. И в своём случае Безбородко надеялся на ум и трезвый взгляд императрицы на людей.
И тоже сильно ошибался...
Не снимая зимней шубы, приказав своему поезду ехать к дому, Безбородко пересел в лёгкую карету и помчался во дворец. Конечно, он не думал, что его приём будет похож на приёмы Потёмкина, что ему поставят триумфальную арку, но что примут его всё-таки торжественно и тепло — в этом он не сомневался.
Однако во дворце всё было тихо, никто не встретил Александра Андреевича на крыльце, только лакеи подскочили, чтобы снять с него шубу.
В приёмной у императрицы никого не было, кроме старой немки-кормилицы Екатерины, которая вязала бесконечную шаль парой старых стёртых спиц.
Она моргнула, старательно прищуриваясь и всё равно ничего не видя, и опять склонилась над своим бесконечным вязаньем.
Из-за высоченной дубовой резной двери кабинета императрицы неслышно выскользнул камердинер Зотов, прижимая спиной створку двери, и, увидев Безбородко, сразу подскочил к нему.
— Спрашивали, уж который раз спрашивали, — ласково, любезно и несколько суетливо раскланялся он с Александром Андреевичем и пригласил его к запертой двери кабинета. — Момент.
Зотов исчез за дверью, тотчас вернулся и широко распахнул перед Безбородко створки дверей.
Александр Андреевич вынул из внутреннего кармана камзола свиток с договором и вытянул руки, бережно и трепетно неся большой свиток, запечатанный крупными сургучными печатями на шпагатах.
Екатерина увидела своего вице-канцлера, схватила палку, что стояла возле стола, опираясь на неё, тяжело поднялась со стула и побрела навстречу старому служаке.
— Александр Андреич, заждалась уж я, — выговорила она, подошла к Безбородко и троекратно поцеловала его в щеки. — Что-то долго не ехал...
Безбородко с низким поклоном передал ей свиток, и Екатерина поковыляла к столу, держа документ за шпагатные шнурки.
Она уселась за стол, полюбовалась на свёрнутые листы бумаги и принялась распечатывать долгожданный свиток.
— Надеюсь, — лукаво сказала она, — тут есть письмо, пусть и на арабской вязи, да всё не пустая бумага...
Безбородко обратил глаза к носкам своих квадратных башмаков с тяжёлыми пряжками и промолчал. Они оба знали, о чём идёт речь...
Однажды Екатерина поручила Безбородко составить новый закон, а у него всё не доходили руки сочинить текст этого закона. В понедельник, после трёх дней загула, он явился к императрице, и первым делом она спросила его о законе.
Как ни в чём не бывало Безбородко вынул из кармана бумагу, развернул её и начать читать, кругло — с изящными словесными оборотами.
Екатерина слушала и одобрительно кивала головой.
— Хорош, — сказала она, — молодец ты, Александр Андреевич, можешь, когда хочешь, писать изящно и толково.
Безбородко поторопился было засунуть бумагу снова в карман, но Екатерина протянула руку:
— Дай мне, на досуге просмотрю ещё раз...
И тут Безбородко упал на колени.
— Матушка-государыня, прости ты меня, раба беспутного! — завопил он, протягивая императрице совершенно чистый лист бумаги, с которого только что читал.
Екатерина обомлела.
— Так здесь ничего нет?
— Прости, государыня, прости, снеси головушку мою беспутную, не успел я закон сочинить...
— А сочинил хорошо, — улыбнулась Екатерина, — к вечеру чтоб начисто перебелил...
Безбородко уткнулся головой в пол, всем своим видом показывая, как он раскаивается.
— Ладно, ладно, — поспешила простить его Екатерина, — коли умеешь так импровизировать, значит, и на бумаге будет хорошо...
Он вылетел тогда из кабинета красный и потный, быстренько засел за сочинение закона и уже к обеду принёс его императрице...
Екатерина развязала свиток, развернула длинный лист, всмотрелась в арабскую вязь и русский перевод договора с Портой, потом отложила его на край стола.
— Ну, за службу спасибо, Александр Андреевич, — сказала она, — как ратификуем, так и праздновать будем. Я, чаю, не раньше осени отмечать станем...
Безбородко с удивлением слушал императрицу. Да, она наградила его, отвалила целых пятьдесят тысяч и самый высший в России орден. Но он ждал не такой холодной похвалы, ожидал отметки его трудов чем-либо существенным, нежели это императорское спасибо.
— Да, — продолжила императрица, — раз уж с завтрашнего дня начнёшь дела выправлять, завтра же и сочини указ мой императорский. Надобно отличить умного человека. Надобен указ о производстве Платона Александровича Зубова в генерал-поручики и генерал-адъютанты...
Безбородко молча слушал, ничем не выдавая своего удивления, возмущения и гнева. Как, этому мальчишке, поручику из караульной службы? Но, видно, ничем помешать этому он, Безбородко, уже не может, потому и следует молчать и выполнять волю императрицы.
С тем и отпустила Екатерина Безбородко...
Он приехал домой задумчивый и безмолвный. Его многочисленные слуги принялись стаскивать с него дорожное платье, облачать в широченный, как у Потёмкина, бархатный халат, направлять в мыльню, где девки растёрли докрасна уже расплывшееся тело патрона.
Слуг и просто людей, прижившихся в доме, у Безбородко было множество. Он смотрел на них как на необходимую мебель и давно смирился с тем, что посыльных было несколько, лакеев при столе ещё больше, а уж слуг в приёмной зале и кабинете и того больше. Но он не гнал их, ему было приятно, что его окружает масса людей, каждого он мог послать за чем угодно, и каждый льстиво говорил ему слова благодарности.
Может быть, именно потому, чтобы услышать эти льстивые слова, и помогал Безбородко своим землякам. В доме постоянно толклись десятки его односельчан или однокашников, и всем им Александр Андреевич старался достать или место, или хорошую службу.
Много сказок ходило по этому поводу среди петербургского общества. Однажды приехал к Безбородко его одноземелец и несколько часов ждал в приёмной зале. От нечего делать этот ещё не протеже, но надеявшийся им стать обратил внимание на мух, летавших в зале. Погнался за одной, тщетно хлопал ладонями, чтобы убить, но муха оказалась упрямой и не хотела сдаваться. Бегал-бегал одноземелец по зале, уронил вазу из дорогого китайского фарфора, разбив её вдребезги, но настиг-таки вражину и, хлопнув по ней своей большой шапкой, свалил заодно и ещё какие-то безделушки, стоявшие на столах. Убил муху и обомлел — наделал столько беспорядка, кавардака в приёмной зале большого сановника, что думал уже потихоньку удрать, даже не увидев своего благодетеля.
— Что, поймал? — раздался голос за его спиной.
Смущённый и растерянный хохол увидел Безбородко в расшитом золотом кафтане, в тупоносых башмаках с пряжками, в шёлковых чулках, подвязанных большими бантами, и едва не свалился ему под ноги.
— Ну, так теперь будем думать, как поймать место, — благодушно улыбнулся Безбородко.
И поймал хорошенькое местечко для своего земляка.
Потому и тянулись в дом к Безбородко десятки его соотечественников.
Впрочем, на его доброту не могли пожаловаться и видные писатели того времени. Сам Безбородко, оставаясь на государственной службе, не писал литературных произведений, хотя даже Екатерина увлекалась сочинениями. Но он оказывал большую поддержку литераторам. Он свёл дружбу с поэтом и прозаиком, переводчиком и критиком Николаем Александровичем Львовым, а тот ввёл к нему в дом и других писателей — Державина, Хемницера, Новикова, Фонвизина, Радищева и Капниста. Всем им Безбородко оказывал материальную поддержку, потому что ещё не знали в восемнадцатом веке, что литератор может существовать за счёт авторского гонорара, печатаясь в различных изданиях. Эти писатели и печатались, но никогда не получали гонораров, только подарки или милости императрицы да деньги таких доброхотов, как Безбородко.
Державин даже называл Безбородко своим «ангелом-благотворителем» и считал его «единственным, милостивейшим, особенным благодетелем и покровителем».
Впрочем, это мнение не мешало Державину покалывать Безбородко в своих стихах. Он грубовато задел его в оде «На счастье» и в оде «Вельможа», в которой резко отзывался о сибаритстве нынешних вельмож, их недоступности и невнимательности к талантам.
Безбородко многим помог известному масону Новикову. Когда была запрещена «книжная лавка» Новикова, за ходатайством он обратился к Безбородко. И Екатерина по слову последнего дозволила Новикову снова производить продажу книг.
Пытался помочь Безбородко и Радищеву, но Екатерина считала этого писателя вреднее и опаснее Пугачёва, и заступничество Александра Андреевича не имело успеха.
Словом, где мог и кому мог, помогал Безбородко. Но ему никто не сумел помочь, когда наступили для него чёрные дни. Он по-прежнему ездил во дворец и, как прежде, составлял для Екатерины доклады. Но что это были за дела, к которым был приставлен теперь бывший всемогущий первый секретарь государыни! Челобитные, прошения об отставках, просьбы о наградах и милостях — Безбородко сам называл их делами мелкими, ничтожными.
До отъезда в Яссы Безбородко все дела по Иностранной коллегии поручил Моркову. А тот перебежал к Зубову, и все важнейшие документы, все трактаты и договоры с державами были теперь в его руках. Зато в короткий срок Морков стал графом и владельцем четырёх тысяч крестьянских душ.
Когда бы ни являлся Безбородко к государыне, в её кабинете уже сидел могущественный советник Зубов, его слово было первым и принималось императрицей милостиво.
Объясняя положение Безбородко при Екатерине в этот момент, Завадовский писал графу Воронцову в Лондон:
«Безбородко, разжигаясь честолюбием, равно и легкомысленностью захватить весь кредит, когда не стало князя, кинулся в Яссы. При отъезде, из трусости врождённой, поручил внутренний портфель Зубову, а внешний — Моркову. Последнего разумел себе первым другом, а у первого думал найти там связь.
Возвратившемуся после мира в голубой ленте, при первой встрече, дано было почувствовать, что дела уже не в его руках.
Итак, с тех пор без изъятия Зубов управляет всеми внутренними делами, Моркова имея под собою для письма иностранного. Ни один из фаворитов, даже сам всемогущий князь Потёмкин, не имел столько обширной сферы, ибо владычество его простиралось на один только департамент, а к настоящему все придвинуты...
Александра Андреевича роль препостыднейшая. Всяк на его месте, стяжавши доходу 150 тысяч, удалился бы, но он ещё пресмыкается в чаянии себе лучшего, а наипаче корыстного, не имея духа на шаг пристойный. Низким терпением и гибкостью спины многие дождались погоды. Он последует этому правилу. Разве вытолкают взашей. Без того не уклонимся, чужд быв нравственных побуждений...»
Зубов знал о Милорадовиче, которого приютил в своём доме Безбородко в своих видах, и потому ненавидел старого секретаря со всем пылом молодости. И борьба складывалась не в пользу старика.
«Когда я, из единого, конечно, усердия к отечеству, напросился на поездку в армию, — жаловался Безбородко в письме своему другу, — и я тогда думал, что моя отлучка даст повод к разделению дел многочисленных и силы человеческие, паче же в моих летах и здоровье, превышающих, то был спокоен, полагая, что успех моей кампании даст мне повод поставить себя так, что, ежели угодно, я буду отправлять только самые важнейшие дела и найду для себя превеликое облегчение, сходное с чином, с состоянием и службою моими...
Но что нашёл я? Нашёл я идею сделать из Зубова, в глазах публики, делового человека. Хотели, чтобы я по делам с ним сносился, намекали, чтоб я с ним о том, о другом поговорил, то есть чтобы я пошёл к нему. Но Вы знаете, что я и к покойному (Потёмкину) не учащал, даже и тогда, когда обстоятельства нас в полное согласие привели. Вышло после на поверку, что вся дрянь, как-то: сенатские доклады, частные дела — словом сказать, всё неприятное, заботы требующее и ни чести, ни славы за собою не влекущее, на меня взвалено, а, например, дела нынешние польские, которые имеют связанные с собою распоряжения по армиям, достались Зубову. Много я потерпел неприятностей, борясь с сею конфузией, и много надобно было выдержать баталий, чтоб хотя дело исправить, не зная ещё, как кончится...»
Жалобы его были справедливы, но никто не мог помочь горю. Зубов вершил теперь все дела, а на него императрица смотрела как на настоящего гения, способного решить любую задачу.
Безбородко спорил с временщиком, старался показать Екатерине, что этот молодой человек не обладает ни способностями к государственным делам, ни силой ума. Но как говорят, ночная кукушка всегда перекукует дневную. Так произошло и в этом случае. Императрица стала скучать на докладах Безбородко, отстраняла его от себя, как только могла...
При таких обстоятельствах Безбородко ничего не оставалось делать, как выяснить точно свою роль и значение при государыне, и он написал ей обширную записку, озаглавив её «К собственному Вашего императорского величества прочтению».
Длинная и красивая получилась записка. Он напоминал в ней Екатерине, что был при ней неотлучно восемнадцать лет, что всегда шёл путём правым и был вполне откровенным и всякие на его счёт порицания лишь — клевета, завистью и злостью на него воздвигнутая.
Напомнил он императрице и свои труды по заключению Ясского мира:
«По возвращении моём я и паче удостоверился, что подвиг мой был Вам угоден. Ваше величество желали, чтобы я паки за дела принялся, требовали, чтоб я точно на том же основании, как и прежде, чтобы, не обинуясь, о всём представлял Вам и сказывал откровенно мои мысли. Сему монаршему изречению повиновался я и по долгу подданного, и по долгу благодарности. Доклады мои представлял Вам скороспешно и точно. Если мне казалось, что мои представления не в том уже виде и цене принимались, как прежде я был осчастливлен, то по крайней мере служило мне утешением, что я исполнял перед Вами мою обязанность и что дела, о которых я писал или говорил, производимые в исполнение, приносили свою пользу.
Не могу, однако, скрыть перед Вашим величеством, что вдруг нашёлся я в сфере дел, так тесно ограниченной, что я предаюсь на собственное Ваше правосудие: сходствует ли оно и с степенью, от Вас пожалованною, и с доверенностью, каковою я прежде удостоен был? А сие и заставило меня от всяких дел уклоняться...
Всемилостивейшая государыня! Если служба моя Вам уже неугодна и ежели, по несчастью, лишился я доверенности Вашей, которую вяще последним моим подвигом заслужить уповал, то, повинуясь достодолжной воле Вашей, готов от всего удалиться, но если я не навлёк на себя такого неблаговоления, то льщу себя, что сильным Вашим заступлением охранён буду от всякого унижения, что, будучи членом совета Вашего и вторым в иностранном департаменте, имея под моим начальством департамент почт и нося при том на себе один из знатных чинов двора Вашего, не буду я обязан принятием прошений и тому подобными делами, которыми я ни службе Вашей пользы, ни Вам угодности сделать не в состоянии. Готов я, впрочем, всякое трудное и важное препоручение Ваше исправлять, не щадя ни трудов моих, ниже самого себя...»
Безбородко передал записку Екатерине через камердинера Зотова, с которым сохранил самые дружеские отношения. Екатерина с вниманием перечитала записку старого секретаря, задумалась, долго сидела, подперев голову руками, а затем написала Безбородко ответ на его записку на трёх страницах.
Опять-таки Зотов передал ответ Екатерины Безбородко, и он уехал домой, долго изучал его и пришёл к выводу, что появляться при дворе уже нежелательно.
Государыня не решилась обидеть старого служаку, и ответ её был вежлив, милостив, но твёрд.
В своём «Дневнике» секретарь Екатерины Храповицкий так характеризует этот отзыв императрицы:
«Граф Безбородко дал мне прочитать упомянутый на записку его собственноручный её величества ответ. В нём изображено: ласка, похвала службе и усердие. Писано в оправдание против графской записки со включением следующего: Все дела Вам открыты. Польский сейм отправляется публично, и ответы Сиверсу или у Вас заготовляются, или Вам и вице-канцлеру показываются, и я, при подписании, всегда спрашиваю. Но что сама пишу, в том отчётом не обязана. Вы сами говорили о слабости здоровья своего и от некоторых дел отклонялись, челобитчиковыми же делами, думаю, никто не занимается, ибо все просьбы присылаются ко мне через почтамт, как и всем известно. Конечно, тем временем, когда Вы не столь много обременены делами, то можете иметь время смотреть, чтоб исполнялись мои повеления...»
Очень правильно оценил ответ императрицы сам Безбородко. Понял он, что после такого отзыва не сможет больше оставаться у дел, и решил ехать в Москву — прибежище всех опальных вельмож.
Там, в Москве, Екатерина подарила ему бывший дом графа Бестужева-Рюмина и велела перестроить и обновить его на казённый счёт. Безбородко нашёл, что ему нужно самолично взглянуть на достройку дома, и уехал, даже не испросив дозволения императрицы.
Впрочем, Екатерина теперь и не ждала с докладами своего старого секретаря, она ограничивалась тем, что говорил ей Зубов при подсказке Моркова. Всё больше и больше захватывал власть молодой офицер, взятый Екатериной прямо из караульни в свою спальню.
4
Он разогнал свою многочисленную челядь, раздал в хорошие руки девушек из гарема, остался лишь с дряхлым камердинером да мальчиком на побегушках. Он затворился в старом московском доме, выходя на свет только затем, чтобы пообедать да спросить о перестройках в новом огромном дворце. «А на что теперь тот дворец? » — с горечью думал он и снова затворялся в тёмной комнате, вспоминая обо всём, что сделал для Екатерины и её царствования, и сетуя на то, что благодарность не входит в число добродетелей монархов.
Его приглашали на балы и парадные обеды, вельможи и сановники старой столицы ездили к нему на приём, но он никого не хотел видеть, никого не принимал, никуда не ездил, а только страдал по оставленной столице и по своему посту первого секретаря императрицы.
В тёмной комнате, освещённой лишь лампадами от икон, сидел он на несобранной постели, склонив голову почти к ногам, и стонал от душевной боли и горечи неудач.
Безбородко никогда не болел, не знал, что такое душевная боль, и потому положение его было самым трагическим. Он издавал стоны и плакал, закрывая лицо подушкой, снова и снова вызывая свои обиды и свою ненависть.
Он и в самом деле заболел. Лихорадка бросила его в жар, и его бред был похож на бесконечный спор самого Безбородко с государыней и Зубовым.
Теперь некому было помочь ему. Раньше, все эти долгие восемнадцать лет, от всех невзгод, оговоров и наветов его спасал Потёмкин. Одним своим появлением он заставлял замолкать самые злобные рты, заслонял своей фигурой Безбородко от гнева императрицы, от интриг врагов. Сам Безбородко считал, что сможет противостоять врагам, как это делал Потёмкин, но у него не хватило сил, не хватило мужества противостоять лишь одному-единственному, но зато самому могущественному человеку — фавориту...
И вновь и вновь в бреду он спорил и спорил, умолял и умолял, просил и плакал.
Старый камердинер носил ему холодное питьё, призывал тамошнего доктора, слушавшего пульс больного и заглядывавшего ему в рот, но ничего не прописывающего, кроме тёплого питья и тёплых компрессов.
Не понимал доктор, что для лечения Безбородко нужны совсем другие средства — двор, интриги, доклады государыне. Только это и могло вылечить Александра Андреевича.
Две недели спорил в бреду со всеми своими врагами Безбородко, а на пятнадцатый день встал, шатаясь на ослабевших ногах, и приказал заложить карету.
Через два дня он уже был в Петербурге...
Императрица приняла его довольно милостиво и тотчас поручила заниматься назначением наград за Ясский мир.
И Безбородко выздоровел так, что не мог и понять, как можно было ему болеть, как можно было так страдать и терзаться. Екатерина назначила ему большой удел.
«Мой удел довольно огромен, — писал он по этому поводу Семёну Воронцову в Лондон, — кроме того, число душ по делающейся ныне ревизии гораздо превосходит в росписи назначенное, ибо с чиншевою шляхтою и жидами почти семь тысяч составляют. Доход показан хороший, около сорока тысяч рублей, да в 205 вёрстах от Киева».
Впрочем, такой удел достался не только Безбородко. Сам же он и говорил об этом:
«Моркову досталось имение очень хорошее, особливо лесами и мельницами. Но он весьма зол, что не дали ему просимых 4800 душ, ниже в Курляндии огромных деревень. Надобно знать, что государыня первоначально определила мне то же, что вице-канцлеру, только 3500 душ, а Моркову — 2300. Надобны были графу Зубову большие усилия, чтоб тут доставить перемену. Всего имений роздано 110 000 душ. Редко кому из государей удаётся в один день подарить капитал одиннадцати миллионов... Я весьма доволен своим жребием...»
И очень удовлетворён он был, когда в день празднования мира за его службу в заключении мира объявлено было, что ему всемилостивейше жалуется похвальная грамота да масленичная ветвь, да притом деревня. Ветвь оценивалась в двадцать пять тысяч рублей и предназначалась для ношения на шляпе...
Но всё это не привело Безбородко в восторг. Государыня была к нему заметно холодна, и его враги поняли, что он «уже не в силе».
Правда, за Безбородко оставались дела турецкие, поскольку он «лучше их знал и вёл по ним переписку», да иногда императрица вызывала его к себе по делам польским. В остальном Екатерина старалась заменить его деловое участие в жизни двора некими внешними отличиями. Так, она приставила его шафером к Александру на его свадьбе с немецкой принцессой. Шафером у невесты был брат Александра — Константин Павлович.
Это очень польстило Безбородко и почти вылечило его от хандры и лихорадки, но отношения с Зубовым становились всё напряжённее.
И снова жаловался Безбородко на фаворита:
«Собственно, обращением со мною государыни и её доверенностью я весьма должен быть доволен, но вообще, сколько она привыкла менажировать близких своих, как ко мне, конечно, лучше не расположена. Из сего выходит, что я, видя, как наш универсальный министр (граф Зубов) многое на себя исключительно захватывает, когда уклоняются от дел, то она жалуется, что от неё устраняются, не хотят ей пособить и проч. Я все способы употреблял, чтобы для самой службы быть сколько возможно в тесном согласии, но по скрытности сего юного человека, при внушениях многих его близких, кроме самой наружности, и не мог этого достигнуть. Теперь, когда дело доходит до развязки, готовят предуверить публику и внушениями и награждениями, что он всё то сделал, что в другой раз дела поворотил в пользу и славу государства. Бог с ним. Я не завидую и уверен, что в публике точнее знают...»
Лишь одни польские дела и находились ещё в ведении Безбородко. Он послал виленскому губернатору князю Репнину наставительное письмо, в котором объяснял причины третьего раздела Польши. Особенно настаивал Безбородко на том, что молодое поколение Полыни охвачено той же заразой, что и революционная Франция, а поскольку язык и обычаи у Польши с Россией почти едины, то зараза может распространиться и в Российском государстве, а вольность крестьян Польши примут за пример и русские крестьяне, что может вызвать бунт и смуту в среде крепостного крестьянства. И потому «сочтено у нас, что, поставив сию землю однажды вверх дном, ниспровергнув её правление и отняв почти всю оружием, заставим и других поневоле с нами соображаться...»
Но и в польских делах Зубов уже потеснил хохла. Безбородко пришлось покориться. Когда он работал с Екатериной, Зубов сидел рядом с императрицей и вставлял комментарии, не столько деловые, сколько дерзкие и направленные прямо на подрыв престижа Безбородко. Хохол собирал бумаги молча и отчуждённо, складывал их в свою знаменитую папку для докладов и почтительно откланивался. Екатерина понимала ситуацию, извинялась перед Безбородко, и мир бывал восстановлен. Но ненадолго. Снова приходилось Безбородко выслушивать дерзкие и сумбурные реплики Зубова, снова он стремился уйти, и вмешательство Екатерины уже ни к чему не приводило. Да, ему пришлось покориться. Он пошёл к фавориту, засел с ним за бумаги, учил его, работал с ним так, как прежде работал с Екатериной, но и это ни к чему не привело. Зубов был зол на Безбородко из-за Милорадовича, и эту ненависть ничем нельзя было успокоить.
Александр Андреевич уже подумывал об отставке, хотел было снова ехать в Москву, но желанный раздел Польши, где и ему выдалась бы богатая часть землями и крестьянами, заставлял его всё терпеть, сдерживаться и кланяться, низко кланяться молоденькому офицерику, дерзкому и наглому.
Но и тут, после раздела Польши, Безбородко ждало сильное разочарование. Самые жирные куски достались не ему, столько сил положившему для осуществления этого проекта, а Зубову, Моркову и их клевретам. Своему фавориту желала императрица приписать все заслуги по этому предприятию. И Безбородко выходил из себя от злобы: ведь это он посоветовал привлечь старика Румянцева к руководству всем делом, это он вытащил Суворова из его глухой деревни, чтобы взять Варшаву, утопить её в крови и навсегда раздавить Польшу.
Однако и то, что получил Безбородко за участие в польских делах, казалось придворным сплетникам слишком большой долей. Снова пожаловала ему Екатерина пятьдесят тысяч рублей единовременно да ещё десять тысяч рублей годовой пенсии пожизненно. Так и сказано было в этом указе:
«В изъявление отличного моего благоволения к усердной его службе и ревностным трудам в исправлении разных дел и должностей, по особой доверенности на него возлагаемых, способствующих пользе государства и приращению доходов...»
Тем не менее дел у Безбородко становилось всё меньше и меньше. Дошло до того, что он составил для Екатерины записку по персидским делам, проектом которых был занят фаворит. Это показывало ту степень приниженности, в которую теперь облекли Безбородко.
«Час от часу труднее становится делать дела, — писал он в это время, в начале 1795 года, — и моё положение было бы весьма неприятно, если бы я не принял систему удаляться от всего, кроме того, чем меня уже насильно обременить хотят... Все дела, наипаче внутренние, захвачены сим новым и всемочным господином (Зубовым). Кроме иностранных дел не видал я уже с полгода ни одной реляции ни графа Румянцева, ни Суворова, ни князя Репнина, хотя воля государыни и теперь есть, чтобы я был в связи (дел), и хотя она, меня трактуя изрядно, часто оказывает желание, чтобы я и по другим делам трудился. Как-то при распоряжениях губернии Минской она мне точно поручила виды их начертить по разности того края и по сравнению с малороссийскими губерниями».
Но оказалось, что все ведомости и бумаги по таким делам находятся у Зубова, и фаворит не собирался отдавать их Безбородко. Пришлось сказать об этом Екатерине. Она только посмеялась, рассыпалась комплиментами по адресу Зубова и утешила своего старого секретаря, заверив его, что всё будет сделано к удовольствию всех заинтересованных лиц. Никому не позволяла императрица чернить действия своего фаворита...
Рвался Безбородко в отставку, стремился в Москву, но теперь его задерживали лишь пожалованные Екатериной души в Польше — он хотел, чтобы деревни были не дрянные, а полезные, чтобы имения были богатые. Упустить свою выгоду он не желал, даже и за счёт уязвлённого самолюбия. Он не упустил своё — в августе 1795 года он получил четыре тысячи девятьсот восемьдесят одну душу в Брацлавской губернии.
Вот теперь Безбородко уже мог бы жить человеком, свободным от всяких обязанностей. Но давний червяк честолюбия заставлял его всё больше и больше склоняться перед Зубовым, ездить с докладами к императрице, хотя у него часто и не было повода являться перед ней, так как он не имел сообщить ничего особенного. Настолько ничего, что, отличаясь особым доброжелательством ко всему внешнему, он принуждал своих людей запрягать карету и пустую подавать её к императорскому крыльцу; пусть-де все видят, что Безбородко снова у государыни, что есть у него ещё дела с нею и он имеет ещё вес в обществе.
Екатерина иногда поручала ему дела мелочные, чтобы только не обидеть старого слугу престола. Заёмные деньги похитил кассир из банка — и Екатерина велела Безбородко исследовать это дело. Морщась и мучаясь от ничтожности существа дела, Безбородко всё-таки довёл исследование до конца, отыскал пропавшие деньги, но не получил от окончания этого следствия ни чина, ни славы.
Нередко Безбородко появлялся в кабинете Екатерины, и она, делая жест, принимала его, но ничего серьёзного не мог доложить ей старый слуга, а вынимал из кармана и читал стихи своего молодого племянника Кочубея.
Этот внешний ритуал строго соблюдала и сама Екатерина, не наложившая опалу на своего фактотума, но уже и не поручавшая ему больших дел, и Безбородко, всё ещё не снимавший с лица маску важности и причастности к большим событиям.
Правда, в конце жизни императрицы ему пришлось-таки выполнить трудную работу.
Шведский король Густав Четвёртый приехал в Петербург, чтобы договориться о бракосочетании с внучкой Екатерины Александрой Павловной. Императрица поручила заниматься брачным договором Зубову и Моркову. Легкомысленно сочтя пункт о вероисповедании несущественным, они уверили Екатерину, что шведский король со всем согласен. А этот пункт был одним из больных мест Густава — он не согласился на то, чтобы его невеста осталась в православии и сохранила льготу везти с собой в Швецию своих священников.
На бал, где Екатерина дожидалась Густава, шведский король не приехал, поскольку был недоволен пунктами договора.
Екатерина послала Безбородко к королю, чтобы уладить дело. Но и старому слуге трона не удалось уговорить шведского короля. Он вернулся, ликуя в душе, что такое важное дело, порученное Зубову и Моркову, провалилось.
Низко поклонившись, он изложил все обстоятельства Екатерине.
Грузная, расплывшаяся Екатерина, тяжело опираясь на палку, поднялась из кресла, замахнулась палкой и дважды ударила Моркова. Он, обливаясь кровью, упал на ковёр у её ног. Его тут же унесли.
Екатерина сбросила с себя царскую мантию, рот её перекосился, и она рухнула бы рядом с Морковым, если бы её, обеспамятевшую, не подхватили сановники...
С этого дня здоровье императрицы покатилось под откос, как карета без коней и ямщиков. Безбородко наведывался во дворец ежедневно, справлялся о здоровье государыни, пытался найти какой-нибудь предлог, чтобы увидеть её, но Зубов запретил кому бы то ни было заходить в кабинет императрицы.
Безбородко давным-давно знал о желании Екатерины возвести на престол внука Александра, минуя сына Павла, знал, где лежат подготовленные бумаги, и радовался, что ещё со времени свадьбы Александра вошёл к нему в доверие. Он заезжал во дворец к молодой чете, разговаривал о делах, знакомил кандидата в цари с положением дел в стране.
Одновременно он старался завязать связи и с двором великого князя Павла. Друг Безбородко, Растопчин, постоянно рассказывал ему о свойствах характера Павла, о его ненависти ко всем клевретам Екатерины и особенно к Зубову, позволявшему себе непристойные выходки по отношению к наследнику.
И с той стороны, и с этой старался обезопасить себя Безбородко. Если царём станет Александр, Безбородко окажется ему полезным, если же Павел вступит на трон, то и тут Растопчин поможет другу поменять мнение нового императора о нём. Всё время помнил Александр Андреевич те слова, которые сказал о нём тосканскому герцогу Павел, наследник Екатерины: буде взойдёт он на престол, сразу высечет его и нескольких других сановников и уничтожит...
Но судьба оказалась милостива к Безбородко. Второе чудо произошло с ним в день смерти Екатерины. Первым чудом он считал завтрак с императрицей в день Масленицы и вкусные блины, которые и помогли ему завоевать её доверие и благорасположение...
Растопчин сообщил Безбородко, что едет в Гатчину, чтобы привезти Павла к смертному ложу матери. Безбородко поспешил во дворец.
Страшную картину смерти великой государыни застал он там. В большой комнате лежала на полу, на кожаном матраце, сама Екатерина — её не смогли дотащить до кровати: слишком тяжела была она к своему концу.
На коленях возле ложа Екатерины стоял доктор Роджерсон, слушал пульс, приказывал отирать выступавшую на губах императрицы пену и держать бьющееся в корчах тело.
Тело Екатерины то выгибалось дугой, то падало без сил на матрац. Служанки вытирали пузырящуюся на её губах пену, красное лицо императрицы пылало, а глаза закатились.
На коленях перед императрицей также стоял Платон Зубов, и слёзы текли по его пухлым гладким щекам. Вся его судьба рушилась, он отчётливо понимал это, и Безбородко не без злорадства наблюдал за падением ещё вчера всесильного министра всех дел.
В комнату, битком набитую сановниками, членами Сената и Государственного совета, протиснулись Александр и Константин, внуки Екатерины. Безбородко постарался придвинуться к ним поближе и прошептать слова соболезнования. Екатерина всё билась в предсмертной агонии, и лица всех присутствовавших становились мокрыми от этого зрелища всесильной императрицы, так страшно расстающейся с жизнью...
Вместе с Растопчиным вошёл в комнату и Павел. Он сразу же бросился на колени перед матерью и поцеловал её в лоб. Слёзы заструились по его щекам. Хоть и ненавидел он мать, но при виде её страданий, её конвульсий не мог удержаться и зарыдал.
Безбородко всё время наблюдал за Павлом, стараясь протесниться к нему. Платон Зубов вскочил на ноги, упал перед поднявшимся Павлом и прижался щеками к его военным ботфортам, обливая их слезами.
— Простите меня, ваше высочество, — бормотал он, — простите меня великодушно!..
Павел чуть не отбросил его ногой, но вежливо сказал:
— Бог вас простит, а верных слуг моей матушки и я не обижу...
Зубов встал на ноги, шатаясь, и тут же полетел на пол в беспамятстве. Его унесли.
Доктор Роджерсон тоже встал и сообщил будущему императору:
— Удар был в голову и смертелен. Она больше не поднимется...
И Павел принялся распоряжаться. Он приказал великим князьям Александру и Константину опечатать все бумаги, находящиеся в кабинете Зубова, а сам поманил пальцем Безбородко:
— Мы с вами разберём бумаги моей матушки...
Екатерина ещё билась в корчах, а Павел вместе с Безбородко уже направился в её кабинет.
Здесь было тепло, горячий воздух шёл от затопленного камина.
Павел молча взглянул на Безбородко, и тот сразу вытащил из ящика бюро императрицы несколько пакетов. Павел уселся за овальный столик поближе к камину.
Безбородко придвинул к Павлу пакет, обвязанный чёрной ленточкой, с надписью: «Вскрыть после моей смерти в Сенате».
— Прочтите, — бормотнул Безбородко и отошёл к большому окну. — Холодно теперь, хорошо хоть, камин затоплен... — сказал он.
Он стоял у окна долго, слышал, как рвётся ленточка под руками Павла, как шелестит плотная бумага пакета, как воцаряется длительное молчание.
Павел читал завещание своей матери. Да, так и есть, она отказывала ему в троне, она призывала на трон своего внука, сына Павла, Александра. А Сенату велела выполнить её завещание по всей форме.
Она отняла трон у отца, она лишила трона его, Павла, и теперь ещё, за гробом, грозит отнять трон у него и передать его Александру...
Руки у него задрожали, он взглянул в сторону Безбородко и увидел, что от окна его взгляд так и не отрывался.
Павел бросил бумагу в камин, потом швырнул туда пакет, а затем и разорванную ленточку.
Безбородко всё не поворачивался.
Черной лентой закрутилась бумага завещания, скорчился и поплыл чёрными разводами пакет, вспыхнула и исчезла чёрная ленточка.
— Александр Андреевич, — глухим голосом сказал Павел, — пойдёмте туда, взглянем на матушку...
Они вышли вместе и стояли над корчившимся телом Екатерины, утопая в слезах.
Только поздней ночью в последний раз выгнулось дугой и опало тело Екатерины, затих тот предсмертный хрип, что пугал всех во дворце.
Безбородко повернулся к Павлу и тихонько сказал:
— Поздравляю вас императором!
Павел дико взглянул на него, отвернулся и сразу принялся распоряжаться. Дворец заполонили голштинские солдаты, началось новое царствование.
Безбородко не пил, не ел, не ложился отдыхать более тридцати часов. Его терзала неизвестность. Что будет с ним, первейшим секретарём покойной государыни, выполнит ли Павел своё обещание стереть его с лица земли? Он заливался слезами, глядя на тело императрицы, которое уже обряжали в погребальные одежды, вспоминал всё то добро, что она ему сделала, и молился в отчаянии — что принесёт ему новое царствование, что сотворит с ним новый император?
Однако Павел сразу после кончины матери подошёл к Безбородко и велел ему заготовить манифест о его, Павла, восшествии на престол. Счастливый этим поручением, Безбородко кинулся к письменному столу и мгновенно составил манифест о кончине императрицы и вступлении на престол России нового императора.
Когда через самое короткое время он принёс его Павлу, тот поднял голову, быстро пробежал текст глазами, а потом спросил у Безбородко:
— Может, есть какие-то неотложные дела, требующие решения? К пяти подходите ко мне, приносите спешные бумаги...
И Безбородко чуть не запрыгал от радости: значит, не отставлен, значит, в своём прежнем качестве будет он нужен новому повелителю — и с досадой подумал, что ещё час назад он хотел уходить в отставку: у него двести пятьдесят тысяч годового дохода, у него великолепный дворец в Москве, несколько домов в Петербурге, да и кроме того, он стар и болен.
Он даже говорил об этом с Растопчиным и просил заступиться за него, только чтобы не быть посрамлённым, выйти в отставку с честью...
А теперь какая уж отставка!
Он забежал в свой кабинет во дворце, быстро пересмотрел все бумаги и выбрал наиболее подходящие.
Сложив эти пакеты в свой неизменный портфель с надписью «К докладу», он перекрестился, прошептал молитву и пошёл к Павлу делать свою карьеру заново.
Он вошёл первым с докладом к новому императору. Подавая ему пакеты, Безбородко сразу же называл автора письма, рассказывал, кто таков и почему пишет, хотя он и не открывал пакеты.
Павел удивился. Тогда Безбородко пояснил, что это не первый пакет, были ещё письма от такого-то числа такого-то месяца и года и о чём там говорилось.
И так по каждому пакету. Он всё помнил, он объяснил, когда и как был получен пакет и какие меры принимались по письму. Пока что в этой стопке не было пакетов из иностранного ведомства, го Безбородко тихонько напомнил, что может быть прислано, по каким вопросам и как надобно отвечать.
Павел был поражён осведомлённостью Безбородко, его расторопностью и феноменальной памятью.
— Да это клад! — воскликнул он при Растопчине в адрес вышедшего Безбородко.
Растопчин лишь вздохнул: умела императрица выбирать себе сотрудников, а такого, как Безбородко, только поискать.
Награды посыпались на Безбородко, как из рога изобилия. Через три дня после смерти Екатерины Павел возвёл его в действительные тайные советники первого класса. Это был самый высокий чин по статской службе, он соответствовал чину фельдмаршала в армии, и награждались этим чином очень редко.
И работу задал новый император Безбородко по его силам и способностям. Он заставил его руководить финансовым комитетом, учреждённым ещё Екатериной в последние месяцы её жизни, а затем поручил дипломатическую переписку с Мальтийским орденом, гроссмейстером которого считался сам русский император. Отделение этого ордена было создано и в России, и Безбородко был прислан большой мальтийский крест, осыпанный бриллиантами.
Даже новый год не исчерпал всех милостей новоиспечённого царя. На второй день нового года Павел подарил Безбородко бриллиантовый крест и звезду и возложил на него орден Святого Андрея Первозванного.
Заслуг пока ещё не было — значит, государь отдаривал Безбородко за ту услугу, которую оказал ему хохол при вступлении на престол...
Дворцовые сплетники зашептались, что Безбородко теперь первый министр, что государь к нему чрезмерно благорасположен и всем его представлениям внемлет чрезвычайно.
Но зная дворцовые нравы, хоть сам никогда не затевал интриг, Безбородко начал искать расположение лиц, приближённых к новому императору. Растопчин уже был его надёжным другом, но Безбородко заручился ещё содействием Кутайсова, любимого лакея Павла, и его любовницы Нелидовой. Способ приобрести расположение таких людей у Безбородко был единственный. Пользуясь своей феноменальной памятью, он точно знал даты рождения и именин этих людей и всегда спешил поздравить их и сделать богатые подарки.
Безбородко сразу увидел неровный, капризный нрав нового государя. При Екатерине ему служилось легко. Доклады нужно было представлять государыне лишь к десяти часам утра, а всё остальное время он был свободен.
Павел же завёл дисциплину похуже армейской. С пяти утра он начинал принимать своих министров, советников, армейских начальников. И первым должен был приходить Безбородко, да ещё и ждать вызова к государю в любое время суток.
Он слёзно жаловался на такое заведение своему другу:
«Ваше сиятельство всегда от меня слышали, что я хотел удалиться от первого места в нашей коллегии. С сими мыслями был и при вступлении на престол его величества. Я обещал посвятить себя на услуги его. На другой день угодно было ему предложить мне канцлерское место, вместо которого я представил просто о возведении меня в первый класс, прося его величество, что он Остермана именовал канцлером. Но граф Остерман по привычке своей первую роль играть искал, а тут вышли недоразумения, кои невинным образом старику не в лучшее обратились. Словом, что я против воли моей и в крайнюю тягость очутился первоприсутствующим в коллегии, а вижу, что скоро принуждён буду с титулом тем же учиниться. Сколько я ни желаю заслужить милости государевы, но признаюсь, что мне прискорбно, что сие удаляет от моего вида жить покойно в Москве...»
Пока что Павел благоволил к Безбородко. Император пожаловал ему звание сенатора, но с условием, чтобы он присутствовал на заседаниях, когда только будет свободен от других дел. Безбородко воспользовался этой льготой и ни разу не пришёл на заседания Сената.
Теперь он занимался торговой конвенцией с Англией и добился того, что она наконец была подписана.
Ко дню коронации Павла Безбородко уже был настолько близок к императору, что ехал в Москву в одной карете с ним, а прибыв в старую столицу, пригласил его на жительство в свой недавно отстроенный дворец. По этому случаю император пожаловал ему свой портрет на голубой ленте, весь усыпанный бриллиантами, а императрица — драгоценный перстень со своим портретом.
На коронации Безбородко подавал митрополитам корону, а они потом возложили её на голову Павла. По случаю милостей царя Безбородко даже написал:
«Что до меня касается, то милости в сём случае на меня от его величества столь избыточно пролились, что я признаюсь в своём смущении, ибо они превосходят всякую меру...»
А в письме к матери он радуется:
«По крайней усталости, в которую привели меня заботы как по приготовлениям, так и в самый праздник, не в состоянии я был писать и уведомить Вас о всех тех милостях и щедротах, которыми государю было угодно взыскать весь дом наш. Учинённым с трона в Грановитой палате провозглашением о сделанных по сему случаю разным особам награждениях, пожалована мне в Орловской губернии в потомственное владение вотчина дмитровская, по духовной покойного князя Кантемира записанная блаженной памяти государыне императрице Екатерине, в которой десять тысяч душ с лишком, и тридцать тысяч десятин в Воронежской губернии, по реке Битюгу.
Когда я пришёл на трон для принесения всеподданнейшей благодарности, то был поражён новым и всякую меру превосходящим знаком монаршего благоволения, о котором я ещё предварён не был. Тут прочтён был указ Сената, коим его величество возводит меня в княжеское состояние российской империи, достоинство, присвоя мне титул «светлости» и жалуя, сверх того, ещё шесть тысяч душ в потомственное владение в тех местах, где я сам выберу».
Милости государя пролились и на родичей Безбородко — ордена, земли, души, чины...
Кстати сказать, до Безбородко титулами русских «светлейших» обладали лишь два человека — Меньшиков и Кантемир. Потёмкин и Зубов имели такие титулы, но это были князья Священной Римской империи.
Сам Безбородко чувствовал, что был награждаем не за какие-то особенные подвиги, и немало смущался своим положением, но старался доставить чины и звания не только своим родичам, но и совершенно посторонним людям.
Растопчин, пользовавшийся неизменной дружбой Безбородко, писал об этом в одном из своих писем:
«По просьбам негодяев, его окружающих, он выхлопотал чин тайного советника некоему мерзавцу да великолепное имение в 850 душ и орден Святой Екатерины своей любовнице Л., совершенно распутной женщине, а муж её получил орден Святого Александра Невского».
Наконец и сам Безбородко удостоился чести, о которой он мечтал всю жизнь, но предпочитал не упоминать об этом нигде — он стал канцлером.
Но он не без оснований опасался, что придворная жизнь с её интригами и сплетнями приведёт к тому, что незаслуженно полученные милости будут на все корки раскритикованы придворной камарильей и что расположение императора не вечно и когда-нибудь кончится. Он чувствовал эту зыбкую почву под ногами и не раз собирался уехать в Москву, чтобы дожить до старости в покое и довольстве, тем более что теперь он был богатейшим человеком в России и мог позволить себе это. Но какая-то особая сила, тяга не давали ему бросить все свои должности и чины, позаботиться о своём здоровье и подумать о себе.
Безбородко сопровождал императора в его поездке в Литву, потом был спутником государя в поездке в Ярославль, где устраивал все остановки, как и прежде, в бытность Екатерины в Крыму.
Он надеялся получить отставку, но это было делом непростым, особенно после тех милостей, которыми осыпал его Павел. Избрал он для этого окольный путь — обратился с письмом к самому близкому к государю человеку, Петру Васильевичу Лопухину: его жена была в то время возлюбленной Павла. Длинное и слёзное письмо Безбородко заканчивалось обращением просить государя отпустить его за границу для лечения.
Но это ему не удалось. Теперь он занимался приготовлениями к свадьбе Александры Павловны и эрцгерцога Австрийского, палатина Венгерского, и когда обручение состоялось, он получил сто тысяч рублей. Но зачем были нужны ему эти деньги, и дворцы, и имения, если он уже кашлял кровью, страдал одышкой, а в груди была непрерывная боль и жар?
Государь видел больного Безбородко, явившегося на обручение Александры, и повелел отпустить его лечиться за границу. Но Безбородко уже не смог ехать. Его разбил паралич, он потерял свою замечательную память, и только с трудом мог произнести несколько отдельных слов.
Его с большой пышностью похоронили на кладбище Александро-Невской лавры.
Александр Ланской
1
« России замечается по временам род междуцарствия в делах, которое совпадает со смещением одного фаворита и появлением нового. Это событие затмевает все другие. Оно сосредоточивает на себе все интересы и направляет их в одну сторону. Даже министры, на которых отзывается это общее настроение, приостанавливают дела, пока окончательный выбор временщика не приведёт всех опять в нормальное состояние и не придаст правительственной машине её обычный ход».
Это писал посланник Корберон в своей депеше французскому правительству ещё в сентябре 1778 года. И он верно подметил то, как фаворитизм влиял на государственные дела. Однако не стоит думать, что фавориты были только у Екатерины Второй. Разве Людовик Четырнадцатый не женился тайно на госпоже де Ментенон, а Людовик Пятнадцатый не отдал власть в руки хорошенькой маркизы Помпадур? Фавориты всегда были да, наверное, и будут при дворах монархов, чья власть ничем не ограничена, самодержавна и где любой каприз венценосного человека возводится в закон.
Анна Иоанновна наделила своего любимца Бирона неограниченной властью, Елизавета тайком вышла замуж за малороссийского певца придворной капеллы Разумовского. А до Разумовского в её фаворитах ходил простой солдат Шубин, и лишь в конце царствования она избрала просвещённого и образованного Ивана Шувалова.
Словом, нельзя сказать, что Екатерина была выродком среди государей, приведшим во дворец множество ничтожных людей, отличавшихся только высоким ростом и крепким телосложением. Нет, она лишь следовала всеобщей европейской традиции, которая в восемнадцатом веке развращала и сотрясала устои нравственности.
Но на то и Великой была Екатерина, что из этой традиции она сделала нечто большее. Её размах в том и заключался, что она не ограничивалась одним-двумя фаворитами, их были десятки. Но Екатерина была женщиной, и как всякой женщине, ей хотелось прислониться к сильному мужскому плечу, переложить часть государственных забот на это плечо — она подпирала свою женскую власть мужской поддержкой. И требовала, не просила — требовала активного участия в государственных делах, превращая таким образом фаворитов в нечто вроде государственного механизма.
При Анне и Елизавете фавориты были не больше, чем капризы этих женщин. При Екатерине фаворитизм превратился в государственное учреждение.
Десять из фаворитов занимали своё положение во дворце совершенно официально. С 1762 года по 1772 год таким фаворитом был Григорий Орлов, про которого Екатерина говорила: «Сей бы и до смерти остался, кабы сам не скучал». Его сменил Васильчиков, остававшийся на этом посту с 1772 года по 1774-й. Наиболее длительной была связь Екатерины с Потёмкиным, хотя в апартаментах государыни он жил лишь с 1774-й по 1776 год, но и после ухода из опочивальни Екатерины продолжал быть не только её лучшим другом, но и фактическим правителем России до самой своей смерти.
Потёмкину наследовал Завадовский, пробывший в этом качестве лишь один год. В 1777 году Потёмкин изгнал этого фаворита из дворца, опасаясь его ума и влияния. Почти год был в положении фаворита серб Зорич, основавший потом в Шклове школу для солдатских детей. Позже она была переведена в Петербург и стала первой военной гимназией.
Два года держался в своей должности Корсаков — с 1778-го по 1780-й. Четыре года, до самой своей смерти, Ланской был любимейшим фаворитом Екатерины.
Только год подвизался в этой роли Ермолов. Его сменил Дмитриев-Мамонов — с 1788 года до 1789-го.
Последним фаворитом Екатерины был молодой, двадцатидвухлетний Платон Зубов, который уже никому не отдал своё тёплое местечко. Он находился при государыне с 1789 года по 1796 год.
Фаворитизм стоил России очень дорого. Лишь десяти официальным фаворитам Екатерина заплатила девяносто два миллиона пятьсот тысяч золотых рублей.
Дороже всех ей обошёлся Потёмкин, получивший от императрицы более пятидесяти миллионов, за ним идут расходы на Орловых, обошедшихся казне в семнадцать миллионов рублей. Зубов сумел нахватать за свои семь лет более восьми с половиной миллионов.
Мало кто действительно послужил России, разве что князь Потёмкин, присоединивший Крым и Прикубанье. Остальные только набивали свои карманы, беззастенчиво пользуясь добрым расположением императрицы.
Но среди этого сонмища рвачей, хапальщиков и любителей поживиться был один человек, который вернул казне всё, что было на него потрачено, вплоть до бриллиантовых пуговиц и золотых табакерок.
Единственный среди этой толпы — Александр Ланской...
Тот же Корберон писал из Петербурга графу Верженну:
«Новый фаворит Корсак (таково, по-видимому, первоначальное имя этого лица) только что произведён в камергеры. Он получил 150 тысяч рублей, и время его возвышения, которое вряд ли будет продолжительным, будет по крайней мере блестящим для него и разорительным для государства. Эти бедствия, от которых страдает вся Россия, повторяются очень часто и вызывают ропот и недовольство в обществе, что могло бы иметь опасные последствия, если бы Екатерина II не была сильнее и предусмотрительнее всех, кто её окружает. Все ропщут глухо, но она продолжает царствовать, и в силе её духа — её спасение. На днях в одном русском семействе вычисляли, что стоил фаворитизм в настоящее царствование — общий итог достиг 43 миллионов рублей...»
А впереди ещё были фавориты, содержание которых обошлось в миллионы.
И лишь один из фаворитов, Александр Ланской, получивший за четыре года от императрицы семь миллионов двести шестьдесят тысяч рублей, множество драгоценностей, коллекции картин и камней, за два дня до своей смерти написал завещание, в котором отказывал всё своё имущество, подаренное Екатериной, государству. Ни один из других фаворитов не вернул казне ни копейки. А ведь Васильчиков за неполных два года отхватил сто тысяч серебром, пятьдесят тысяч золотыми вещами, дом с полной обстановкой по цене в сто тысяч, сервиз в пятьсот тысяч да ещё годовой пенсии двадцать тысяч и деревень с крепостными крестьянами — семь тысяч душ.
Год жизни Завадовского во дворце стоил Екатерине шесть тысяч душ в Малороссии, две тысячи душ в Польше, тысячу восемьсот душ в русских губерниях да ещё на восемьдесят тысяч рублей драгоценностями, сто пятьдесят тысяч при входе в апартаменты фаворита, тридцать тысяч на сервиз и десять тысяч рублей на пожизненную пенсию.
Нечего и говорить, каких расходов стоили все остальные фавориты.
И только Ланской возвратил государству все свои драгоценности, всех своих крестьян, даже бриллиантовые и перламутровые пуговицы со своих мундиров...
Кто же был такой этот бескорыстный молодой человек, явно выбивавшийся из общества, в котором жил, общества, для которого высшим мерилом жизни было богатство, деньги, имения, деревни с рабами?
Александр Ланской родился в семье мелкопоместного дворянина Дмитрия Артемьевича Ланского в Смоленской губернии, где семья едва сводила концы с концами в своём крохотном имении. С самого детства Александр, как и его брат Яков, были записаны в гвардию, и, пока они росли, им набирались чины по армейской службе, которую они и в глаза не видели.
Едва Александру исполнилось восемнадцать лет, как родитель отправил его в Петербург для несения военной службы. Воспитание Александр получил чисто провинциальное, небогатое, лишь хорошо говорил и писал по-французски.
В кавалергардском полку, куда прибыл Ланской для прохождения службы, к нему отнеслись очень хорошо. Высокий, красивый, он никогда не был надменен, дружил с товарищами по полку и при помощи высоких покровителей, одним из которых был граф Толстой, петербургский обер-полицмейстер, быстро продвинулся по служебной лестнице. Через полтора года он уже был капитаном полка. Честный, открытый, доброжелательный и трудолюбивый, Ланской усвоил те нормы нравственного порядка, которые всю жизнь проповедовал его отец. И потому он чуждался весёлых пирушек с полковыми товарищами, не знакомился с женщинами лёгкого поведения. Но он и не осуждал кавалергардов, в дружеском кругу рассказывающих о своих победах и пьяных оргиях..
В свои двадцать лет Ланской ещё не был влюблён, а только осторожно осматривался по сторонам, разыскивая ту, которой можно было бы отдать своё сердце.
Но увидел он не девушку семнадцати лет, не свою ровесницу, а императрицу Екатерину. И сразу упало его сердце. Ей уже было пятьдесят, ему едва за двадцать. Но она засияла перед ним лучезарной звездой, и больше уже никого он не хотел видеть.
Случайная встреча, случайное, издалека, знакомство. Но Екатерина запала в сердце, её величавость, её милостивое лицо он не мог забыть.
В кавалергардском полку, где он служил, было несколько красавцев, искавших встречи с императрицей и бросавших слишком смелые взгляды на императорский дворец. Большая честь, а главное, фортуна, богатство привлекали их. Почему бы не сбыться мечтам о славе и роскоши, почему бы не обратить внимание императрицы на свою красивую фигуру? Но и шепотки таких красавцев раздражали и смущали Ланского. Нет, не о деньгах и орденах грезил он, когда впервые увидел Екатерину. Он думал о том, как он стал бы любить её. И каких только прозвищ не давал он ей в своих мечтах, какими ласковыми словами не называл!
Издали, в роскошных парадных одеждах, в парче и золоте, она казалась такой обольстительной, такой красивой — таких женщин ещё не видел юный кавалергард. И он мечтал о ней днём и ночью, похудел, запали его огромные голубые глаза, потускнели его коралловые губы. Он жил любовью к этой женщине, которую видел лишь издали, на дворцовых парадах да в моменты выезда императорской кареты. Он любил фею — такой представала ему Екатерина в его мыслях.
Он всё ещё не был представлен ко двору и приставал к своему покровителю, другу юности отца, графу Толстому, чтобы тот, наконец, привёл его во дворец и представил Екатерине...
Вблизи императрица показалась Ланскому ещё более ослепительной. Она уже располнела, второй подбородок круглил её овальное лицо, но голубые глаза горели огнём и энергией, а роскошные каштановые волосы, которые она никогда не пудрила по моде тех лет, были забраны в высокую причёску, украшенную маленькой диадемой, и открывали высокий и широкий лоб. На этот парадный большой приём во дворце она надела простое платье, сшитое по русской моде, без громоздких фижм, а двойные рукава открывали взгляду её полные белые руки.
Александр только смотрел и смотрел на владычицу его мечтаний, ничего не видел вокруг и ничего не понимал.
Граф Толстой с низким поклоном приблизился к императрице и стал представлять ей Ланского. Он больше говорил о его добросовестной службе, о его усердии и стараниях на благо отечества.
Ланской стоял рядом и лишь краснел, ничего не произнося.
Екатерина ласково улыбнулась молодому кавалергарду. Он сразу понравился ей. Высокий, стройный, с несколько женственным лицом, он выделялся из всей придворной толпы.
Граф Толстой отговорил своё, просил ещё милости к своему протеже и, откланявшись, ушёл в угол.
Никто из них не произнёс ни слова: ни Екатерина, молча рассматривающая Ланского, ни Александр, также молча пожиравший её своими полными грусти и тоски глазами.
Наконец кто-то отодвинул Ланского плечом, и он низко поклонился своей богине.
Прошло несколько дней, а Александр всё ещё переживал свою неудачу во время приёма. Он плакал по ночам в подушку, но всё время сиял перед ним лик его прекрасной любви.
Курьер передал Ланскому указ императрицы о возведении его в чин флигель-адъютанта, а также десять тысяч рублей, как объявлено было в указе, на обзаведение.
Но на этом всё и закончилось. Больше Ланского не звали во дворец, больше он не бывал ни на одном приёме, и снова потекла его рутинная служба, к которой он охладевал всё более.
Екатерине очень понравился молоденький кавалергард, но во дворце, в апартаментах, жил всё ещё любимый ею Корсаков, от пения которого она нередко истекала слезами. Куда бы пришёл этот мальчик, если Корсаков тут и постоянно устраивает ей сцены ревности и обиды?
Теперь уже Ланской знал всё о жизни во дворце. Знал, что Потёмкин, бывший фаворит, ныне руководит всеми поступками Екатерины, его влияние на императрицу не сравнимо ни с чем.
И он пошёл к Потёмкину, признался ему в своей безответной любви и страсти и просил помочь ему.
Это был очень смелый поступок со стороны Ланского. Потёмкин мог просто выгнать молодого офицера, испортить ему служебные отношения, да и кто поручился бы, что Потёмкин возьмёт Ланского под своё крыло?
Однако Потёмкин оказался понятливым и великодушным. Он взял Ланского из полка, сделал его своим адъютантом и в течение полугода руководил его придворным образованием.
А вскоре подоспело событие, которое открыло Ланскому двери в сердце императрицы. Екатерина застала своего любовника в постели графини Брюс, её наперсницы и подруги. Она не стала отчаиваться, просто выслала обоих в Москву, в опальное место. Там Корсаков и прожил до преклонных лет.
Императрица поспешила поделиться своим огорчением с Потёмкиным, от которого у неё не было тайн. Вместо того чтобы лечить разбитое сердце Екатерины, Потёмкин привёз во дворец Ланского.
На этот раз Ланской спокойно отнёсся к своему пребыванию на среднем приёме императрицы. Он, усвоив уроки, преподанные ему Потёмкиным, сдержанно осмотрелся и, заметив укромный уголок, направился к нему. Опершись на изразцовую печь, он рассматривал людей, собравшихся на средний приём Екатерины. Здесь была вся знать государства, первые лица армии и гвардии, иностранные министры, статс-дамы и молоденькие красивые фрейлины. «Как, — думал он, — как мог Корсаков соблазниться какой-то статс-дамой? Разве не ослепительна Екатерина, разве не затмевает она одним своим видом всех женщин в этой зале? »
Екатерина снова была в простом русском платье, вышитом цветным шёлком, и его разрезные двойные рукава позволяли видеть круглые полные руки ослепительной белизны.
Она сидела в большом мягком кресле, поставленном на невысокий постамент, и ласково говорила какие-то слова всем, кто подходил к ней.
Правый передний зуб у неё давно выпал, и оттого во рту была чёрная дыра, но Екатерина нисколько не смущалась этим и улыбалась придворным. Ей было уже за пятьдесят, но она всё ещё была ослепительна и обольстительна, и её улыбка заставляла улыбаться и всех, кто к ней подходил.
Ланской увидел, как подошёл к Екатерине Потёмкин, взгромоздился на ступеньку постамента и принялся что-то шептать ей прямо в ухо. Откинув голову с пышной причёской, украшенной жемчужными нитями, она с явным удовольствием слушала своего друга.
Слушала, а потом отыскала Ланского в толпе взглядом.
Она помнила, как два года назад Толстой представил ей этого молодого кавалергарда, вспомнила, что и тогда уже была удивлена его необычной внешностью. Теперь, через эти два года, он возмужал, плечи его раздались и были крутыми и сильными, лосины крепко обтягивали длинные ноги, а бёдра стали объёмными и хорошо развитыми.
А лицо... Ни у кого не видела Екатерина такого ослепительного цвета кожи. На белизне щёк проступал нежный румянец. Губы, небольшие и полные, сверкали, будто кораллы. Брови были чёрные и выгибались такими правильными дугами, словно это были брови девушки.
А глаза... Огромные, голубые, они скрывались под тёмной тенью длиннющих ресниц, но взгляд был глубок, и в нём чувствовалась какая-то затаённая печаль, тоска, как будто этот молодой человек провидел свою горькую судьбу.
Эта печаль разливалась по всему его женственно-нежному и мягкому лицу, обрамленному завитками белокурых волос, спускавшихся до плеч.
Словно тонкая игла уколола Екатерину в сердце. Этот мальчик был так хорош, так свеж и наивен, что она невольно ощутила свои пятьдесят четыре года рядом с его молодостью и красотой.
Но Потёмкин говорил ей, что мальчик влюблён именно в неё, императрицу, что он сгорает от страсти, но боится и взглядом обеспокоить свою великую государыню, он честен, смел, скромен, и как же умирает он от желания стать поближе к императрице! Но застенчивость удерживает его от нескромных взглядов и жестов.
Екатерина встала со своего кресла, медленно обошла всю гостиную, сказала несколько милостивых слов собравшимся и отдельным вельможам и так же медленно направилась в игральную комнату, где были расположены столики с зелёным сукном.
Её обычные партнёры по картам уже сошлись возле одного из них, и императрица неторопливо уселась за стол.
Потёмкин с Ланским также вошли в эту комнату и остановились у соседнего столика, никем не занятого.
Императрица очень любила Эрмитаж, и было за что сделать его желанным местом пребывания. Граф Хорд так описывал Эрмитаж в пору царствования Екатерины:
«Он занимает целое крыло императорского дворца и состоит из картинной галереи, двух больших комнат для карточной игры и ещё одной, где ужинают «по-семейному». Рядом с этими комнатами находится зимний сад, крытый и хорошо освещённый. Там гуляют среди деревьев и многочисленных горшков с цветами. Там летают и поют разнообразные птицы, главным образом канарейки.
Нагревается сад подземными печами, и, несмотря на суровый климат, в нём всегда царствует приятная температура.
Но этот столь прелестный апартамент становится ещё лучше от царящей здесь свободы. Все чувствуют себя непринуждённо — императрицей изгнан отсюда всякий этикет. Тут гуляют, играют, поют, каждый делает, что ему нравится. Картинная галерея изобилует первоклассными шедеврами...»
Ланской со страхом и некоторым смущением оглядывался по сторонам, но всё его внимание было поглощено созерцанием Екатерины. Вместе с Потёмкиным он присел за соседний с игральным столик и смотрел и смотрел на свою богиню, лишь изредка оборачиваясь к присутствующим.
Екатерина играла с большим старанием и увлечением, изредка бросая несколько слов и внимательно глядя в карты.
Ланской машинально взял мелок, лежащий на краю столика, вгляделся в профиль императрицы, сидящей к нему боком, и начал рисовать на зелёном сукне игрального столика.
Потёмкин изредка взглядывал на своего протеже, а потом заинтересовался и его рисунком.
Тонкий нос, яркие полные губы, хороший подбородок, чуть-чуть не похожий на двойной подбородок действительной императрицы, широкий благородный лоб, красивые волосы, зачёсанные назад и украшенные жемчужными нитями, высокий пышный воротник...
Игра закончилась скоро — императрица никогда не нарушала своего режима. В десять часов она уже отправлялась ко сну. Потёмкин подошёл к ней.
— Погляди-ка, матушка, — фамильярно потянул он её за рукав.
Екатерина подошла к столику, за которым сидел Ланской, — он сразу вскочил, заливаясь краской от стыда и смущения, — разглядела рисунок мелом.
— А похожа, — удивлённо сказала она.
И все вельможи, находящиеся рядом, наперебой стали хвалить рисунок.
Екатерина милостиво подала руку Ланскому. Он приник к ней губами, и она ощутила трепетное тепло, идущее от них. И опять взволновалось её сердце. Однако она не подала и виду, только сказала камердинеру Зотову:
— Захар, сохрани рисунок...
Поклонившись всем, она удалилась в свои покои.
2
На другой же день после приёма Ланского коротким приказом вызвали во дворец. Он летел, не чуя под собой ног, заранее представлял, как увидит белое величественное лицо императрицы, готовил слова, которые скажет ей, и замирал от восторга и волнения.
Но императрицу он не увидел. Его принял сухой и длинный старик, придворный доктор Роджерсон, и грубовато велел ему раздеться донага. Он простукивал грудную клетку кавалергарда, мял жилистыми холодными пальцами мышцы на его руках и ногах, особенно внимательно рассматривал детородный орган. Под лупой разглядывал Роджерсон ногти на руках и ногах Ланского, крепко прижимал позвонки на спине, а потом заглядывал в открытый рот и стучал металлической палочкой по белоснежным зубам кандидата в фавориты.
Провозившись с осмотром полных два часа, Роджерсон отпустил Ланского, ни слова не сказав ему о причине столь странного вызова.
Александр шёл домой, на свою квартирку, которую он снимал у вдовы кавалерийского капитана, и мрачно думал о том, что Екатерине он не понравился и даже заступничество Потёмкина ничего не дало ему. И от этого ещё сильнее захотелось увидеть её, лишь взглянуть в её ласковые голубые глаза и молча смотреть и смотреть на неё...
Другой день тоже с самого утра был начат вызовом во дворец. Теперь уже Ланской не спешил — он сомневался и колебался, боялся разочарования вчерашнего дня и всё-таки верил, что увидит императрицу.
Увы, на этот раз за него взялась Марья Саввишна Перекусина, заменившая провинившуюся графиню Брюс.
Она тоже осматривала его, бесцеремонно оглядывала его стройные длинные ноги, оставила обедать у себя и сказала несколько слов, от которых у Ланского загорелись уши.
Но он послушно провёл с Марьей Саввишной три ночи. Эта дама должна была доложить императрице о свойствах нового кандидата в фавориты и выведать его силу в любовных утехах.
Кандидат был настолько наивен и неопытен в постельных делах, что даже Марья Саввишна была удивлена. Она научила его кое-чему, что он обязательно должен был знать во взаимоотношениях с Екатериной, объяснила азы постельной жизни.
Ланской был потрясён — до такой степени просто и без всяких церемоний говорила с ним Марья Саввишна.
Три ночи учёбы закончились, и снова остался Ланской ждать весточки из дворца.
Но и теперь не увидел он императрицу — только Марья Саввишна да камердинер Екатерины Захар Зотов пригласили его на обед. Речи за обедом не шло ни о чём, кроме как о погоде, да ещё о приёмах, да о точном соблюдении всех правил этикета.
Марья Саввишна оставила Ланского у себя до вечера, приготовила для него роскошный бархатный халат и велела выбрать книгу для чтения императрице. Он послушно выполнил все её требования.
Ровно в десять часов вечера Перекусина поднялась и знаком попросила Ланского следовать за ней. Он уже был одет в халат, под которым не было ничего, кроме свежей батистовой рубашки.
Подойдя к двери опочивальни императрицы, Марья Саввишна осторожно постучала и, услышав ответ, растворила громадную резную дверь. Ланской последовал за Перекусиной.
Екатерина уже лежала в постели, рядом на столике горели семь свечей в громоздком бронзовом подсвечнике. Волосы императрицы были на ночь убраны в плоёный тончайший чепчик, ночная рубашка вздувалась воланами и кружевами.
Ланской замер. Он сосредоточенно глядел на императрицу, узнавая и не узнавая знакомое лицо.
Перекусина подвела Ланского к креслу возле кровати под бархатным балдахином и откланялась, бесшумно скользнув в дверь.
Он мял в руках книгу, хотел было сесть в кресло и развернуть том, но Екатерина простым обычным голосом спросила:
— Ну и что же за книжку вы принесли?
И тут он упал на колени перед кроватью и зарылся лицом в шёлк...
Проснувшись по заведённому порядку ровно в шесть утра, Екатерина зажгла свечу и долго всматривалась в лицо Ланского. Он спал на спине, спал тихо, как ребёнок, правильные чёрные дуги его бровей слегка хмурились, коралловые губы раскрылись, и под ними сверкали белоснежные крепкие зубы. Его белокурые кудри рассыпались по подушке, и Екатерине показалось, что ничего в её жизни и не было, что вот этот мальчик пробудил в ней что-то нежное и тонкое. Он был так ласков, ей было с ним так хорошо, как ни с кем из его предшественников. Даже и в этом утреннем свете он был красив, свежесть его лица не испортили ни долгое пребывание в одной постели с нею, ни страстная бурная ночь.
Екатерина тихонько тронула его губы, и он во сне чмокнул её пальцы, потом вздрогнули его чёрные ресницы и открылись глубокие голубые глаза, ещё чуть затуманенные сном.
Она легко, как девочка, вскочила с кровати, подбежала к окну, раздёрнула тяжёлые бархатные портьеры, и серый сумрак наступающего утра разлился по комнате.
В дверь неслышно скользнул камердинер Захар Зотов и подал халат Ланскому. Смущаясь от присутствия чужого человека, Ланской закутался в халат и пошёл за ним. У порога он обернулся. Екатерина стояла у окна и следила, как шёл фаворит, как искренне и стеснённо улыбнулся он ей, поцеловал свою руку и протянул её к ней, словно бы поднося воздушный поцелуй...
Радостное чувство новизны и свежести жизни охватило Екатерину. Она всё ещё стояла у окна, глядела на просыпающийся город, и чувство нежности к людям затопило её всю.
Но кофе уже был готов, бумаги разложены на письменном столе, и она, вздохнув, принялась за работу.
Перья были очинены остро, бумага светилась белизной, семь свечей ярким светом залили кабинет, в который она перешла с чашкой кофе в руке, и опять радостное чувство свежести и новизны жизни охватило её. Она взяла в руки перо...
Ланской шёл вслед за камердинером Зотовым и недоумевал: куда его ведут, зачем? Он вошёл в великолепно обставленную комнату, и тут Зотов обернулся, обвёл её рукой, открыл дверь в соседнюю комнату, также роскошно обставленную, в другую, третью и низко поклонился Ланскому:
— Ваши апартаменты...
На кресле лежал уже разложенный мундир генерал-адъютанта весь в драгоценных золотых расшивках, полный комплект одежды и обуви...
— Государыня высочайше изволила пожаловать вам чин генерал-адъютанта при её собственной особе и выдала сто тысяч на карманные расходы. У вас большой штат слуг, и каждое ваше желание будет выполнено... — сказал камердинер.
Он ещё раз поклонился низко-низко и тихо, как умел только один он, выскользнул за дверь.
Но Ланской не стал рассматривать всё, что было ему подарено. Он зевнул, бросился на большую деревянную кровать, всю в шелках и кружевах и заснул богатырским сном. Его не интересовали все эти вещи, он наслаждался тем, что был со своей любимой целую ночь, и теперь хотел увидеть её во сне...
Покормив своих левреток сахаром и печеньем из объёмистых корзинок, выпив крепчайший кофе со сливками и печеньем, Екатерина уселась в кресло возле окна. Сегодня она, несмотря на остро очиненные перья и аккуратные стопки белой бумаги, не могла писать обычные письма и разговаривать со своими корреспондентами в принятом иронически-шутливом тоне. Она всё думала о своём новом мальчике — Ланском, мысленно примеряла ему генеральский мундир в золоте и с бриллиантовым аграфом, тупоносые лаковые туфли с золотыми пряжками и представляла, как он будет выглядеть среди всей её раззолоченной придворной толпы.
Сегодня она не стала работать и с секретарями, срочных бумаг как будто не было, а другие могут и подождать, пока она не разберётся со своими чувствами. Раньше обычного она перешла в малую уборную, и её удивлённый куафёр Колов старательно причесал её длинные густые великолепные волосы, которыми так играл ночью Ланской.
Екатерина стремилась поскорее перейти в официальную уборную, потому что к её одеванию в ней уже собирались все, кому она была дорога, — дети, внуки, несколько близких друзей вроде Льва Нарышкина, и конечно же туда должен был подойти и Ланской. Если, разумеется, подумалось ей вдруг, он не проспит. Ах, какой славный мальчик, просто ребёнок, как нежен, как неистощим, как искренен! И Екатерина опять погрузилась в воспоминания об этой чудесной ночи...
В малой уборной ей уже принесли простое, свободное и очень открытое платье с длинными разрезными двойными рукавами и её любимые туфли на низком широком каблуке. Давно уже ей пришлось отказаться от высоких каблуков, в которых она так любила щеголять в молодости: болели ноги, и Екатерина боялась, что скоро ей придётся взять в руки палку и подпираться ею.
Она оделась и вышла раньше обычного в официальную уборную. Тут уже бегали Александр и Константин, великие князья и великие сорванцы, тут были князь Репнин и Нарышкин. Екатерина всё смотрела на дверь — ждала, когда придёт её новый фаворит.
Он вошёл несмело, робко, медленно, и она поманила его рукой и оставила стоять возле себя.
И снова умилилась она его виду — красивый, рослый, как прелестно выглядел он в генеральском мундире с бриллиантовым аграфом, и какие стройные ноги были у него в шёлковых чулках и башмаках...
— Представляю вам, друзья... — сказала Екатерина трепетным голосом.
Даже имя его вызывало у неё дрожь — так любила она этого мальчика.
— Представляю вам генерала Ланского, прошу любить и жаловать, — закончила она.
И сразу к Ланскому подошли мальчики — великие князья и стали рассматривать его бриллиантовый аграф и золотую прошивку и задавать кучу детских наивных вопросов.
Императрице принесли чашку со льдом. Екатерина брала куски льда и натирала им свои щёки. Больше никакой косметикой она не пользовалась.
И Ланской тщательно следил, как она это делает. Её белые щёки краснели от холода, и она казалась ему ещё обольстительнее, чем ночью...
Высокая причёска уже давно была закончена, и куафёр покрыл её маленьким тюлевым чепчиком.
Теперь императрица была совершенно готова, и все отправились к столу.
Екатерина рукой показала Ланскому его место — по правую руку от неё. Всё ещё робея и стесняясь, он сел на стул. Его волновало, что плечо Екатерины всё время было рядом, а он не мог его потрогать или поцеловать. Императрица понимала состояние Ланского, и снова в душе её вспыхнула бурная радость. Она продолжала говорить со всеми просто и весело, но постоянно чувствовала взгляд Ланского, и щёки её краснели теперь уже не ото льда, а от внутреннего жара.
Но даже посреди этих чувств, волнуясь и радуясь, она ни на одну минуту не изменила свой режим дня.
После обеда она поговорила с некоторыми из приглашённых и отпустила их, чтобы усесться за пяльцы в малой гостиной — она искусно вышивала, и ей очень хотелось, чтобы её новый избранник был поражён её мастерством.
Ланской сидел рядом с Екатериной, лишь односложно отвечал на предлагаемые ему вопросы и внимательно слушал старика Бецкого, который читал императрице какой-то длинный отрывок из новой французской книжки. Она меняла цвета ниток, откусывала кончик зубами, из которых правый передний уже давно выпал. Иголки так и летали под её рукой, она шила быстро, умело и ловко.
Ланской был действительно удивлён. Великая женщина, великая императрица, и вдруг какой-то гарус, какие-то нитки. Но стежки у Екатерины получались ровные и красивые, и он не преминул похвалить их.
Всё это время он был в большом напряжении — подходили слуги, наклонялись к уху Екатерины, и она шёпотом отдавала приказания, секретари ждали выхода императрицы. Она угадала, что в работе с секретарями ей не придётся пользоваться советами и подсказками Ланского — он ничегошеньки не понимал в государственных делах. «Ничего, — радостно думала Екатерина, — я научу тебя и в этом разбираться...»
Ланской терпеливо выслушивал доклады секретарей, сидел возле императрицы в кабинете, но не вмешивался ни в какие разговоры. Он молчал, когда дело не касалось его.
Он терпеливо ждал, когда Екатерина закончит работу. Он не покидал кабинета, он не оставлял императрицу ни на одну минуту, но ему уже было скучно, и он только рассматривал её и ждал, когда она обратит на него внимание, А она искоса следила за фаворитом, отмечала, что ему скучно, а когда он оживлялся, словно бы изучала характер человека; который будет составлять её ближайшее окружение на протяжении нескольких лет.
Наконец Екатерина отправила всех своих секретарей и должностных лиц, приходивших к ней с докладами, и повернулась к Ланскому.
— Наш рабочий день закончен, — весело сказала она, — теперь мы будем развлекаться.
Ярким румянцем вспыхнуло лицо Ланского — она наконец-то перестала заниматься другими людьми и обратила свой взор на него. А её ласковый милостивый взор теперь составлял всё счастье его жизни.
Длинная стеклянная галерея, ведущая из Зимнего дворца в Эрмитаж, позволила им немного побыть наедине. Ланской подал руку императрице, она радостно оперлась на неё, и он успел коснуться губами её щеки.
Она отстранилась и укоризненно посмотрела на него.
— Никто не должен забываться, — сказала она, — ведь на нас устремлены все глаза. И нормы морали должны быть соблюдены. Там, у себя, делайте, что угодно, а здесь, на людях, ведите себя прилично, но и весело, не кукситесь...
Ланской лишь посмеялся в ответ на эту тираду.
— И весь день я не смогу поцеловать тебя? Ведь весь день с тобой целая свора людей. А я хочу любить тебя и целовать каждую минуту, каждую секунду...
Она засмеялась, но в следующее мгновение стала серьёзной и чопорно проследовала по галерее в Эрмитаж.
Огромные стеклянные шкафы-витрины окружили их на выходе из галереи. Там были уложены богатейшие коллекции самых разных вещей, — старинных монет, фарфоровых кукол, антикварных часов.
Ланской подошёл к одному из шкафов — в нём были разложены старинные монеты. Он внимательно рассмотрел их.
— Это киевская? — спросил он императрицу.
Она молча кивнула головой.
— Отец собирал монеты, но у него их всего ничего, а тут...
Ланской восхищённо оглядел большой шкаф-витрину с разложенными на бархатных подушечках тёмными монетами.
Екатерина открыла шкаф, переложила из одного отделения в другое несколько монет, затем огляделась в поисках лакея. Захар Зотов уже был в нескольких шагах от неё.
— Захар! — окликнула императрица камердинера. — Эта коллекция подарена мною генералу Ланскому. Распорядись, чтобы её сию минуту переставили в апартаменты генерала...
Ланской с изумлением глядел на Екатерину.
— Зачем? — растерянно пробормотал он. — Как можно, такую богатую коллекцию, мне одному? Зачем, мне не нужно...
— Думаешь, мне чего-то жаль для тебя? — усмехнулась Екатерина. — И потом, стоит тут, пылится, только и всего, что кто-то пройдёт рядом. А ты будешь рассматривать каждую монету, определять её возраст, узнавать её историю. Разве для этого не стоит отдать её тебе?
Он упрямо покачал головой.
— Мне не надо ничего дарить. Разве затем я добился, чтобы ты обратила на меня внимание, разве не ты самая главная ценность для меня? Не нужны мне ни генеральский мундир, ни этот аграф, ни эти роскошные апартаменты — ничего мне не нужно, лишь бы смотреть на тебя, любоваться тобой, наблюдать, как ты работаешь, какие у тебя руки и губы... Я люблю тебя, — закончил он шёпотом, — пойдём к тебе, оставим всех этих людей, будем только вдвоём...
Она также шёпотом сказала:
— Нельзя. Они собрались ради меня, они столько времени меня ждали, негоже отказывать им в праве видеть меня раз в неделю...
Екатерина повернулась к большому бильярду, обтянутому зелёным сукном, взяла в руки длинную палку — кий и ударила концом его по бильярдному шару. Он закатился в лузу.
Она ударила ещё несколько раз, а потом повела Ланского в маленькую мастерскую, примыкающую к Эрмитажу, и показала ему, как вытачивать камеи из слоновой кости.
— О, этому я быстро научусь! — воскликнул Ланской.
Действительно, очень скоро он прекрасно стал обтачивать слоновую кость и делал из неё великолепные камеи, которые не стыдно было носить даже императрице.
Когда они вошли в парадную залу для приёмов, Ланской сразу заметил зелёное сукно игрального столика, закрытое стеклом и оправленное в тоненькую золотую рамку. Профиль Екатерины, нарисованный им мелком на зелёном сукне стола, висел на стене.
Екатерина молча взглянула на фаворита — он покраснел, увидев свою работу на стене. Императрица перевела взгляд на столик — на нём лежала стопка плотной белой бумаги, а сбоку — толстые цветные карандаши.
Она села играть со своими постоянными партнёрами, а фаворит остался за столиком и принялся рисовать профили всех, кто находился в зале.
Но больше всего он рисовал профили Екатерины. Они были настолько хороши, что один из них она отобрала для чеканки на монетах...
На глазах у всех, удаляясь в свои покои после игры, Екатерина пригласила с собой Ланского. Теперь уже ни для кого не было секретом, что императрица завела себе нового фаворита.
Скоро и весь двор узнал характер и нрав очередного сердечного друга Екатерины. Удивлялись его мягкости, его терпеливому вниманию, его неуклонной вежливости и странному при этом дворе бескорыстию. Сколько ни старались вельможи Екатерины вовлечь его в дворцовые игры — бесконечные интриги, — он не поддавался им и никогда не участвовал ни в каких хитросплетениях, имевших целью погубить кого-то из придворных, испортить кому-то карьеру или сломать судьбу. Очень вежливо, тихим голосом он отказывал приходившим к нему интриганам, никогда не передавал Екатерине никаких сплетен, о которых жужжали ему в уши придворные льстецы и хитрованы, никогда не просил у неё ничего для себя, своих друзей или своих родных.
Шло это от беспечности, легкомыслия либо отсутствия хитрости — кто знает. Но даже Павел, ненавидевший всех фаворитов своей матери, проникся к Ланскому уважением, и это уважение передавалось и всему двору. Это был единственный фаворит, кому не нужны были высокие звания и награды, поместья и деньги. Ему была нужна лишь она, Екатерина, он просто, со всей силой молодой страсти любил эту старую женщину, сохранившую остатки своей красоты...
Он не просил, отказывался от всего, но Екатерина одаривала и одаривала его без счета, и в короткий срок он оказался самым богатым человеком при русском дворе, но он только усмехался, когда ему напоминали об этом. Блеск и мишура двора не заставляли слепнуть его глаза.
Лишь знания, книги, история привлекали Ланского. Вместе с Екатериной он разбирал старые монастырские книги, древние летописи, ему была интересна история России, и он собирал старину, прежние знания, запечатлённые в монастырских хрониках и княжеских сказаниях. Ему было любопытно знать, читать, и в короткий срок он стал самым усердным учеником своей пожилой любви.
3
«Никогда уж не ожидала, чтобы моё письмо к естествоиспытателю попало в число образцовых произведений. Правда, генерал Ланской говорил мне, что оно прелестно. Но ведь молодой человек, как бы тактичен он ни был, легко увлекается, а особенно если имеет такую горячую душу, как он...
Чтобы Вы могли составить себе понятие об этом молодом человеке, надо Вам передать, что сказал о нём князь Орлов одному из своих друзей: «Увидите, какого человека она из него сделает!»
Он всё поглощает с жадностью! Он начал с того, что проглотил всех поэтов с их поэмами в одну зиму. А в другую — нескольких историков. Романы нам прискучили, и мы пристрастились к Альгаротти (итальянский философ) с братиею. Не изучая ничего, мы будем иметь бесчисленные познания и находить удовольствие в общении со всем, что есть лучшего и просвещённого. Кроме того, мы строим и сажаем. К тому же мы благотворительны, веселы, честны и исполнены кротости...»
Так писала о Ланском ещё в начале их романа Екатерина. У неё действительно был дар образовывать тех молодых людей, что попадали в её спальню и потом на государственный Олимп. Ланской, как и большинство молодых кавалергардов того времени, был образован не больше и не меньше, и Екатерина с жаром взялась восполнять недостатки его образования. Она достигла многого, Ланской даже вступил в переписку с западными литераторами. Правда, однако, и то, что почти все эти письма написаны рукой самой императрицы, и Ланской гордился тем, каков у него секретарь.
«Этот секретарь, как Вы знаете, — писал он в одном из писем, — личность очень добрая и мягкая, и я очень рад мимоходом похвалить его, тем более что он довольно точно исполняет свою обязанность — усерден, расторопен, весел, вообще добрый малый — служит мне безвозмездно своим пером и часто советом больше, чем мне надо».
Из всего этого видно, что личная жизнь Екатерины теперь наполнилась желанием образовать Ланского, сделать из него достойного её сподвижника. Тем не менее участвовать в государственных делах Ланской не имел никакой охоты, потому что знал, какие интриги и узлы завязываются именно из-за этих дел. И хотя он присутствовал на утренних приёмах Екатерины, когда и решались все вопросы внешней и внутренней политики, но чаще всего даже не вмешивался в разговор сановников с императрицей, а если и вмешивался, то лишь кивком головы или односложным словом. И это утвердило за ним репутацию тактичного и умного человека.
И ещё одно качество заставляло уважать в Ланском необычного человека. Мало того что он никогда ничего не просил у императрицы, он никогда не заботился о том, чтобы его родичи воспользовались его положением и набили карманы.
Впрочем, родня Ланского отнеслась к возвышению фаворита очень неодобрительно, и это была, пожалуй, единственная в России семья, которая не пользовалась его положением. Отец постоянно писал сыну письма, в которых ругательски ругал его за то, что он оставил честную службу и подался на путь, который доставляет ему, отцу, множество огорчений. Ланской лишь иногда показывал эти письма Екатерине, и императрица чувствовала укол в самое сердце. Ни один из фаворитов ещё не был так бескорыстен, а их семьи всегда стремились угодить царице, потому что это обещало деньги, поместья, имения, возвышение в свете.
Однако даже императрица старалась задобрить родственников Ланского: она устроила на казённый счёт поездку за границу двум его младшим братьям, чтобы пополнить их образование лекциями в лучших университетах Европы. Ланской только пожал плечами: он знал своих братьев и вовсе не хотел делать для них что-либо.
И в самом деле, императрица была вынуждена вмешаться в дело этих братьев и просить французское правительство посадить в тюрьму одного из них, чтобы разлучить с пошлой и продажной женщиной, с которой тот спутался. Что и было сделано. Но даже этот арест не остановил сумасбродств братьев Ланского, и Екатерина каждый раз должна была вмешиваться, чтобы сдержать поток безумств. Ланской снова пожимал плечами и советовал Екатерине оставить его братьев на произвол судьбы.
Но Екатерина, несмотря на возражения фаворита, всё-таки осыпала подарками и его самого, и всю его семью. Отец Ланского обычно возвращал подарки императрице, не желая пользоваться позорным положением сына. И Екатерина терпеливо сносила эти обиды. Зато самому Ланскому она передала денег, поместий и драгоценностей на огромную сумму в семь миллионов рублей...
Уже через два года она поняла, что Ланскому всё это не надо, ему нужна была лишь она, Екатерина, лишь её он любил и старался быть не только преданным ей, но и её верным возлюбленным.
Никогда ещё Екатерине не приходилось иметь дело с такой чистотой помыслов, с такой преданностью и верностью ей. Правда, она стерегла его, как султан стережёт свою любимую одалиску. Никуда из дворца он не должен был отлучаться иначе, как в сопровождении своей августейшей возлюбленной, ни от кого не получать никаких приглашений, никогда не пользоваться визитами. Он был прикован золотой цепью к её ноге, он сидел в золотой клетке, вход в которую строго стерегли, но удивительно, что он был доволен своим положением — его влюблённость ещё не прошла, и ему достаточно было одной Екатерины вместо всего света...
Ланской старался входить во все заботы Екатерины, которые касались только её, её сына и внуков. Он был озабочен тем, что Екатерина до сих пор не нашла воспитателя для своих внуков Александра и Константина, которые уже вышли из семилетнего возраста. Вместе с нею он пересматривал списки кандидатов в воспитатели, вместе с нею отбрасывал их одного за другим.
И вдруг он получил письмо.
Его братьям тоже потребовался ментор, и, посоветовавшись с Рибопьером, иностранным членом Российской академии наук, Ланской рекомендовал по его совету братьям Фредерика Сезара де Лагарпа. Это была личность, известная в Европе своими республиканскими взглядами, непримиримым характером и неспособностью выдержать придирки своего швейцарского правительства.
Лагарп мечтал отправиться в Америку, чтобы создать общество, не испытывающее принуждения. Рибопьер посоветовал ему податься не в Америку, а в Россию. Странный выбор: республиканец должен отправиться в страну рабства и крепостничества. Но Рибопьер, бывший товарищ Лагарпа по учёбе, настойчиво советовал ему ехать в Россию и взяться за воспитание великих князей, которые в будущем станут управлять Россией и смогут перенять у Лагарпа его республиканские идеи. Это было заманчиво и фантастично...
Лагарп согласился взять под своё крыло братьев Ланского и вместе с ними приехать в Россию, но когда он встретился с ними, когда побыл в их обществе, то сильно пожалел о своём решении. Братья Ланского оказались полными неучами, а их наглость, чванство и глупость превосходили всё, что только можно было придумать. Он был поражён и высмеял братьев. Свои приключения с ними он описал так своеобразно и смешно в письме к Рибопьеру, что тот не удержался и показал это письмо самому Ланскому. Тот тоже хохотал над письмом, удивлялся уму и самоиронии Лагарпа и решил отнести письмо Екатерине.
— Вот воспитатель, достойный великих князей, — сказал Ланской Екатерине. — Никто в России не обладает таким ярким умом и такими познаниями...
Екатерина читала письмо придирчиво и строго. И мысли уже зароились в её голове: воспитатель великих князей будет поборником справедливости и свободы, республиканец внушит им уважение к человеческой личности и поможет стать честными и открытыми монархами, и ей ли, другу философов, отказываться от такой заманчивой идеи, ей ли не бросить в лицо всей Европе такой поступок...
Ай да Саша! Ай да молодец! И Екатерина дарит своему фавориту ещё одну коллекцию драгоценных камней. Он только молча выражает благодарность, он совершенно лишён жадности и скупости...
И летит Лагарпу в Рим приглашение приехать в Россию, воспитывать великих князей.
Как ни странно, Лагарп принимает это приглашение и в первый же день после приезда получает от Екатерины «Наставление», как растить великих князей, будущих монархов. С помощью Саши Ланского Екатерина разрабатывает как бы программу воспитания Александра и Константина. Прочитав её, Лагарп приходит в восторг. «Дети должны любить животных и растения, учиться ухаживать за ними... Категорически запрещается лгать, каждый случай лжи надлежит наказывать самым строгим образом. Цель воспитания — привить детям любовь к ближнему. Нужно научить разум учеников умению хладнокровно выслушивать чужие мнения, даже резко противоречащие их собственному... Приобретаемые ими знания должны позволить им хорошо понять свои княжеские обязанности. Главное — привить им хорошие нравы и добродетели и дать этим качествам укорениться. Остальное придёт со временем».
Как не восторгаться такой удивительной программой обучения и воспитания! Но пока что Лагарпу предлагается лишь учить их французскому да выводить на прогулки.
Лагарп в бешенстве: разве за этим — быть бонной — приехал он из Рима? Он пишет в совет по воспитанию молодых князей огромное письмо, где излагает свою программу воспитания и возмущается местом и качеством, в каком его вызвали в Россию...
Екатерина вовсе не возмущена. Это право человека — иметь своё мнение: либо ему дают полную свободу в воспитании, либо он укладывает свои пожитки и тут же возвращается в Швейцарию. И на полях записки Лагарпа она ставит своё резюме: «Тот, кто это написал, действительно способен на большее, чем обучение французскому языку».
И Лагарп остаётся в качестве воспитателя великих князей. Екатерина им не нахвалится, а Ланской старается подружиться с великим республиканцем...
Занятия с Екатериной, высокообразованной женщиной своего времени, их совместные изыскания в монастырской библиотеке, быстрые успехи в истории, искусстве и музыке скоро сделали Ланского одним из образованнейших людей своего времени. Теперь Екатерина уже не стеснялась слушать, как говорит он с иностранными послами, какие глубокие познания выказывает он при любом таком разговоре, и она гордилась им, словно мать, воспитавшая такого сына. Вообще в отношении Екатерины к Ланскому было много материнского, мягкого — того, что она не отдала своему сыну Павлу. Но Павел не относился к Ланскому, как ко всем другим фаворитам своей матери, — с ненавистью и недружелюбием. Он ценил мягкость и тактичность фаворита, даже узнавал через него, как идёт воспитание его сыновей, которых Екатерина отобрала у матери и отца в самом раннем возрасте, и Ланской стремился помирить мать с сыном, хотя понимал, что это безнадёжное дело — слишком уж ненавидели друг друга мать и сын, императрица и великий князь. Павел не мог простить ей смерть отца, отрешение его самого от трона, своё бессилие в государственных делах, и особенно ненавидел её бесконечных любовников, разорявших страну...
От своих фаворитов Екатерина требовала — не просила, не настаивала, но твёрдо требовала — участия в политических делах своего времени, как будто хотела ещё и мужской силой подкрепить свои женские указы и манифесты.
Но Ланского она не насиловала в этом отношении, она оставила ему на долю лишь участие в литературных направлениях и скупке произведений искусства да вокальные упражнения своего любимца. Для него она выписала из Италии композитора Сарти и долгими часами выслушивала его бесконечные оратории и кантаты. Музыку она не знала, не любила её, но ради Ланского сидела в музыкальной зале, мучаясь от зевоты и утомления. Только после окончания этих концертов любила она слушать, как Ланской разбирал все исполненные произведения по косточкам, говорил, как они сложены вместе и почему создают такое чарующее впечатление. Значит, не только Екатерина учила Ланского, но и он умел ей втолковать что-то...
Все свои средства, которые давала ему Екатерина, Ланской тратил лишь на приобретение произведений искусства и на пополнение своей библиотеки. Он читал столько, что не было при дворе ни одного человека, который был бы таким знатоком всех книжных новинок и умел бы так объяснить их содержание.
Может быть, именно потому, что Ланской стал завзятым книголюбом, он и дал совет Екатерине, которым она с радостью воспользовалась.
Только что в Россию после многих лет скитаний по заграницам вернулась княгиня Дашкова. Она бывала в домах прославленных философов, часами толковала с Дидро, слушала лекции известных мастеров в университетах Европы вместе с сыном, которому дала незаурядное образование.
И Ланской посоветовал Екатерине назначить эту выдающуюся женщину директором Академии наук. Екатерина вначале засомневалась, но потом оценила полезность совета. Уже много лет Дашкова была словно бы в оппозиции к Екатерине, ворчала, что ничего не получила от переворота 1762 года, что её обошли, что другие встали на её место, когда давали награды за участие в этой революции. Она ворчала и ворчала, и Екатерина была очень недовольна своей бывшей подругой.
Пожалуй, совет был хорош. Во-первых, давно было пора заменить расточительного и бестолкового Домашнева, при котором Академия впала в летаргический сон, а во-вторых, появилась прекрасная возможность заткнуть рот княгине Дашковой крупным куском.
На ближайшем же балу Екатерина отозвала в сторону, далеко от всех, Дашкову и предложила ей стать директором Академии.
Конечно же княгиня рассчитывала получить нечто большее — пост какого-нибудь министра, придворный пост, но Академия! Екатерина не дала ей возможности долго разговаривать.
— Лучше назначьте меня начальницей над своими прачками, — волновалась Дашкова.
Но Екатерина мягко сказала, что лучшего директора Академии она не видит: женщина, образованная и умная, деловая и хозяйственная — нет, никто лучше Дашковой не сможет вывести Академию из тупика.
И она отошла от княгини, а та помчалась домой и, даже не снимая бального платья, принялась строчить письмо с отказом. А потом поехала к Потёмкину и начала жаловаться, что ей предлагают не то место. В заключение она показала ему своё письмо.
Но Потёмкин отреагировал на него совсем не так, как рассчитывала Дашкова, — он просто взял и порвал его на мелкие кусочки.
Взбешённая княгиня поехала домой и снова села писать отказ, всё ещё не раздеваясь.
Но едва она его закончила, как ей принесли указ о назначении, и Дашковой пришлось умолкнуть.
Она начала работу в Академии и так увлеклась, что продвинула несколько проектов, и в частности, создание словаря русского языка. Сразу же наладила она и хозяйственную деятельность Академии. Ланской ликовал: его совет очень помог Екатерине.
Конечно же он старался не упустить ни малейшей возможности, чтобы узнать об Академии, поинтересоваться, как идёт создание словаря, разбирался и в других заботах Дашковой. Но Ланской был очень прямым человеком и терпеть не мог несправедливости, поэтому сразу же завязался конфликт с княгиней.
При академии наметилось издание «Новостей», которые в то время назывались «Ведомостями». За это издание Дашкова просила отвечать князя Барятинского, также отряжённого Екатериной в академию, и газета выходила регулярно.
Свою поездку в Фридрихсгам Екатерина обставила пышно, взяв с собой не только сановников и министров, но и своего фаворита. «Ведомости» регулярно печатали отчёты об этой дипломатической поездке. Однако нигде не промелькнуло ни одного имени, кроме Екатерины и самой Дашковой. Естественно, Ланской возмутился: столько людей окружало императрицу, а по газете получалось, что в её свите была лишь Дашкова.
Он поймал её на одном из балов и спросил, почему в газете упоминается только фамилия Дашковой вслед за Екатериной, как будто всё окружение императрицы состояло из одной княгини.
Дашкова не полезла за словом в карман. Она ответила, что за освещение этой поездки отвечает князь Барятинский и его отчёт как был написан, так и напечатан, а сама Дашкова никаким образом не знала об этой публикации.
Ланской настаивал, что директор академии, которому подчиняется всё, была обязана знать, тем более что освещать такую большую поездку необходимо было со всей осторожностью и вниманием, но Дашкова снова высокомерно противоречила фавориту.
Он ушёл, глубоко уязвлённый этим высокомерием.
Впрочем, как ни странно, он ничего не сказал об этом Екатерине, и императрица не ведала об этом случае. Другой на месте Ланского устроил бы отставку Дашковой или же проявил бы просто немилостивое отношение, но ему были не свойственны интриги и оговоры, и потому только много позже узнала императрица об этом конфликте.
Результаты работы Дашковой разочаровали Екатерину. Она писала о словаре, последние три буквы которого разрабатывала сама Дашкова:
«Труд получился сухим и тощим, и в его нынешнем виде я вижу лишь перечень не вошедших в обиход и не распространённых слов. Что касается меня, уверяю, что из них я не понимаю и половины. Французская академия очистила национальный язык, изъяв из него всё, что там было варварского...»
Дашкова, однако, не обеспокоилась критическим разбором императрицы, а продолжила своё дело — это были первые попытки пересмотреть грамматику русского языка, наметить пути очистки его от варварских выражений, уточнить орфографию и пунктуацию.
Княгиня нашла выход из этой ситуации. Она создала газету «Собеседник друзей русского языка» и просила Екатерину сотрудничать. В типографии академии Дашкова напечатала несколько исторических произведений императрицы и пригласила её к сотрудничеству и в журнале.
Екатерина анонимно, естественно, напечатала в газете несколько небольших весёлых, остроумных рассказов. Но предварительно она показала их Ланскому, и он выправил её стиль, подсказал чисто русские выражения. Грамматические ошибки он также заметил и исправил их.
«Должна вам сказать, что вот уже четыре месяца, — сообщила Екатерина Гримму, — как в Санкт-Петербурге выходит русская газета, где замечания и примечания заставляют иной раз смеяться до слёз. В целом эта газета является забавной смесью всякой всячины...»
Эти четыре года с Ланским были для Екатерины самыми спокойными и счастливыми, и потому она пишет много комедий, которые ставятся на сцене Эрмитажа.
«Вы спрашиваете меня, почему я пишу столько комедий, — писала она Гримму. — Во-первых, потому, что это меня забавляет, во-вторых, потому, что мне хотелось бы содействовать подъёму национального театра, которому из-за нехватки новых пьес уделяется недостаточно внимания. А в-третьих, потому, что полезно немного поругать выдумщиков, которые начинают задирать нос...»
Ланской был в курсе создания всех литературных произведений Екатерины и много помогал ей своим прекрасным знанием русского языка.
Впрочем, уже два года он поддерживал свою живость порошками, которые давал ему доктор Соболевский. Ланской желал быть верным и преданным Екатерине, хотел, чтобы она любила только его, и придумал, сам себе устроил западню. Он стал принимать шпанские мушки.
Все французские короли и знать восемнадцатого века просто не мыслили любовных утех без шпанской мушки. Научное название этого препарата — «стимулятор кантаридес», и действует он на половую систему и особенно на почки. Растёртые в порошок шпанские мушки и принимал Ланской, боясь, что его высокая возлюбленная охладеет к нему из-за недостаточной половой активности.
Ничего не знала об этом Екатерина. Уже четыре года жила она спокойной счастливой жизнью, лишь опасалась, что её молодой возлюбленный может изменить ей, как не раз уже бывало с её фаворитами.
Чтобы ещё сильнее привязать его к себе, она решила венчаться с ним, тем более что родные Ланского осуждали эту порочную связь.
Она только заикнулась об этом Потёмкину. Он не возразил, не ответил ничего, но принял свои меры. Как, она не захотела выйти замуж за него, а пойдёт за какого-то молокососа, которого представил ей он, Потёмкин! Не бывать этому!
4
Каждую весну весь двор отправлялся в Царское Село. У императрицы не было такой же любимой загородной резиденции, как эта. Великолепный дворец, многочисленные флигели, прекрасные конюшни и людские, а главное — огромный тенистый парк с высоченными дубами, липами и вязами, аккуратные линейки аллей, посыпанных толчёным кирпичом, и гигантские цветники, разбитые по всем правилам садовой науки.
Как любила она бродить по тенистым аллеям, срывать едва распустившиеся анютины глазки, любоваться распускающимися розами! В парке было полно мраморных статуй, журчали пенистые фонтаны, а на лужайках бегали малорослые лошадки — пони, к которым уже приучила своих малолетних внуков императрица.
За поздним обедом Александр, сидя рядом с Екатериной, подвинул ей стакан с золотистым напитком.
— Попробуй, зоренька моя, — шепнул он ей в самое ухо, чтобы не слышали все сидящие за столом — сановники и вельможи, внуки, их воспитатель Лагарп, фрейлины.
Екатерина удивлённо взглянула на фаворита. Почему-то показалось ей, что сегодня он выглядит усталым и бледным. Двор переехал лишь вчера, и она ещё не оставалась с ним наедине после переезда.
— Что с тобой, Саша? — затревожилась она.
— Да со мной всё в порядке, а вот попробуй моё изобретение...
Она подняла стакан, посмотрела на свет. Запах был странный, какое-то смешение ананаса, токайского вина и сильный — спирта.
— Отравишь? — улыбнулась она фавориту.
— Силы прибавится, едва попробуешь.
Ланской взял её за руку и подвинул стакан ближе к её губам.
Екатерина отпила глоток и заулыбалась.
— Действительно, вкусно. — Она оглядела Александра. — Сам придумал?
— Только чуть водки, немного токайского и ананасный сок. Мне нравится. А тебе?..
Она ещё отпила и, войдя во вкус, выпила весь стакан до дна.
Щёки её порозовели, и она почувствовала себя бодрой, удачливой и опять счастливо улыбнулась. Всё у неё было: радость от внуков, их шалостей и беготни, радость от извечного женского счастья — её любил, нет — боготворил совсем молодой человек, он давал ей силы жить и работать...
Слегка опьяневшая, Екатерина вышла в сад, опираясь на руку Ланского, и пробежала взглядом по распускающимся цветам и молодой зелени деревьев, уловила свежесть вечереющего дня и вспомнила, что и сегодня здесь не будет темноты — северные ночи уже наступили, и до утра мерцал в окнах сумеречный белесоватый свет.
«Как я счастлива, — подумалось ей, — как хорошо жить на свете, как прекрасен мой генерал Ланской и как я люблю его! Уже и не мыслилось, что встречу такое диво, такую любовь, такую чистоту помыслов. Поскорей надо начать готовиться к венцу. Саша будет рад...»
Они бродили по аллеям, упиваясь свежестью спускающегося белёсого сумрака. Александр держал руку Екатерины в своей руке.
Вдруг она почувствовала, как вздрогнула и чуть опустилась его рука. Она взглянула на него и поразилась: багровым румянцем залилось всё его лицо, а со лба капали крупные капли пота.
Екатерина вырвала руку из его руки, протянула ладонь к его лбу. Он горел.
— Быстро в постель, — приказала она и тут же распорядилась вызвать придворного доктора Вейкарта.
С трудом добрался Ланской до кровати и свалился комком, не имея сил раздеться. Сознание его помутилось.
Екатерина сидела на его постели, смотрела, как раздевают и укладывают это дорогое ей существо под тёплое одеяло, как приносят лёд и кладут его на голову.
Помутневшими глазами посмотрел Александр на Екатерину, и у неё сразу выступили слёзы.
— Всё будет хорошо, — шептала она, наклоняясь и целуя его потный горевший лоб, — сейчас придёт доктор, он осмотрит тебя, и ты скоро поправишься. Ты ведь такой сильный и здоровый...
Она шептала ему нежные слова, успокаивала и с нетерпением ожидала доктора. Екатерина вытирала Ланскому испарину, целовала горящие багровые щёки, приглаживала мокрые завитки белокурых волос и всё шептала и шептала.
Старый обрюзгший доктор Вейкарт не заставил себя ждать. Он вошёл, положил свой саквояжик на столик у окна и обернулся к больному.
— И это доктор? — засмеялся через силу Ланской. — Да у него самого спина круглая, а он её не выпрямил — какой же он после этого доктор?
Вейкарт засопел, присел возле кровати на стул и начал раздевать больного.
— Щекотно, доктор, — снова засмеялся Ланской, — и не щекочите меня своим длинным носом...
Засмеялась и Екатерина. Действительно, Вейкарт так наклонялся к самому сердцу больного, что мог уткнуться в его тело носом. Было очень смешно.
Но Вейкарт не обижался на шутки и издёвки Ланского. Он тщательно осматривал его, слушал, прижавшись к груди, сердце, простукивал спину и грудь.
Уже к концу осмотра Ланской ослабел и лишь обессиленно вздыхал, глядя на доктора.
Вейкарт осмотрел больного, закрыл свой крохотный саквояжик и поднял глаза на Екатерину. Она поняла, что свой диагноз он скажет только ей...
Они вышли в приёмную залу, и Вейкарт обеспокоенно наклонился к императрице. Она ждала слов старого врача, глядя на его посуровевшее лицо.
— У него злокачественная лихорадка, — сказал Вейкарт и, немного помолчав, добавил: — Он от неё умрёт...
Изумлению Екатерины не было предела.
— Доктор, да вы что! — воскликнула она. — Он же так здоров, так молод и обладает такой силой — как может он умереть от какой-то лихорадки?
— Если не верите моему диагнозу, — ощетинился Вейкарт, — пригласите других докторов, пусть они скажут вам, что с генералом Ланским...
— Конечно, я последую вашему совету, — строго проговорила и Екатерина, — но вы лучше знаете Сашу, вы всегда были его доктором, скажите же мне, неужели нет никакой надежды?..
Вейкарт всё ещё был обижен, но уже смягчился, видя, какое горе причинил он императрице своими словами.
— Могу сказать вам только одно: генерал Ланской слишком увлёкся препаратом «стимулятор кантаридес»...
Екатерина удивлённо посмотрела на доктора.
— Как вы сказали, какой стимулятор?
— Разве вы не знали?
— Знала, что он принимал какие-то порошки, но что это был за стимулятор, не представляю...
— Это шпанские мушки...
— А, это... Но ведь не может же быть, чтобы этот порошок вызвал такую болезнь?
Вейкарт почесал свой длинный нос.
— Нет, конечно. Если не злоупотреблять им, он может и не вызывать нежелательных побочных эффектов. Но слишком долгое и частое употребление его способно привести к очень грустным последствиям...
— Но ведь он заболел не от порошков?
— Нет, конечно, нет, но их деятельность в организме снижает степень его сопротивляемости. Таким образом, можно сказать, что организм генерала Ланского очень истощён и может последовать летальный исход...
— Хорошо, доктор, — уже устала от этого спора Екатерина. — Приходите, когда найдёте нужным, найдите все лекарства, необходимые больному, и помогите, помогите...
У неё опять навернулись на глаза слёзы, и Вейкарт поспешил уйти.
Императрица пригласила к постели Ланского и других докторов — придворного врача Роджерсона, именитых знатоков медицины города. Все они в один голос подтвердили диагноз Вейкарта...
Екатерина потребовала поставить у постели Ланского мягкое кресло и не выходила из его комнаты почти две недели.
Она ухаживала за ним так, как заботится самоотверженная и любящая мать: обтирала его уксусом, накладывала на его лоб холодные мокрые полотенца, кормила его бульонами с ложечки и поила горячим грогом. Она не выходила из его комнаты, и врачи уже стали опасаться за её жизнь.
— Поймите, ваше величество, — выговаривал ей Роджерсон, — это заразная болезнь, вы можете заразиться, и отечество пострадает от этого...
— Мне всё равно, — отвечала императрица и продолжала самоотверженно ухаживать за больным.
В редкие минуты, когда он приходил в себя, она старалась ободрить его, говорила ему нежные и ласковые слова, улыбалась, хотя за долгие ночи бессонницы похудела и побледнела.
Однажды Ланской проснулся и увидел склонённое над ним лицо Екатерины.
— Я знаю, — слабо прошептал он, — я умру. Но я счастлив, что я любил такую удивительную женщину, и счастлив, что она любила меня. Ничего в жизни мне не было нужно, только чтобы эта женщина любила меня.
— Саша, помолчи, побереги силы, тебе они нужны, чтобы победить свою болезнь, — сказала она, проведя рукой по его влажному лицу.
— Нет, может быть, у меня больше не будет такой минуты, а я хочу сделать завещание.
Екатерина от удивления откинулась в своём кресле.
— Ты столько для меня, ничтожного, незначительного человека, совершила, столько добра надарила мне, что я теперь самый богатый в России. Но всё, что у меня есть, всё, что ты подарила мне, я хочу завещать России.
Екатерина залилась слезами.
— Но ведь у тебя есть мать, отец, братья, сёстры — разве ты хочешь обделить их?! — воскликнула она.
— Отец и мать никогда не одобряли мою близость с тобой, братья мои пусть сами пробивают себе дорогу, тем более что они наглы, глупы и невежественны, а сёстры выйдут замуж и забудут, что когда-то был у них беспутный брат, любимый самой императрицей...
Он немного передохнул и продолжил:
— Позаботься о том, чтобы моё завещание было исполнено...
Она позаботилась, пригласила тех людей, которые знали, что нужно для оформления завещания по всем правилам, и потом строго наблюдала за тем, чтобы всё имущество Ланского было отдано в казну. Туда попало всё — от миллионов деньгами до бриллиантовых пряжек и коллекций старых монет, библиотеки и перламутровых пуговиц...
25 июня он скончался на руках у Екатерины.
Императрица долго не могла поверить этому — до тех пор, пока не бросила ком земли в могилу Ланского. Его похоронили в парке Царского Села, и Екатерина каждый день приходила на его могилу и плакала долгие часы.
Нервы её не выдержали, и она слегла с воспалением мозга. Врачи опасались ужасного конца, но Екатерина выжила и уже через неделю смогла писать.
«Когда я начинала это письмо, я была исполнена счастья и радости, а мысли мои рождались так быстро, что я не успевала следить за ними, теперь не то, — делится она с Гриммом. — Счастья моего больше нет, и я очень, очень страдаю. Я думала, что я сама умру от невозместимой потери моего лучшего друга неделю назад. Я надеялась, что он станет опорой моей старости. Он старался, пользовался советами, стал разделять мои вкусы. Я воспитывала этого молодого человека, который был признателен, нежен, честен, разделял мои печали, радовался моим радостям. Одним словом, с прискорбием и рыданиями сообщаю Вам, что генерала Ланского больше нет... Комната моя, столь приятная для меня в прошлом, опустела, и я с трудом хожу, подобно тени. Как только вижу человеческое лицо, рыдания лишают меня дара речи. Не могу ни спать, ни есть. Чтение надоедает, а писание выше моих сил.
Не знаю, что станет со мной, но знаю, что никогда в жизни я не была столь несчастна, как с тех пор, как мой лучший и любимейший друг покинул меня. Я открыла ящик стола, обнаружила начатое письмо, написала эти строки, но больше не могу...»
Никакими делами она больше не была способна заниматься. «Со времени смерти господина Ланского она не принимала ни одного из министров и даже никого из своего ближайшего окружения» — так писал об этом периоде английский посол Фитц Герберт.
Все мысли императрицы были лишь об умершем. Она установила в саду погребальную урну и велела написать на ней: «Моему самому дорогому другу».
Уже спустя несколько месяцев она выстроила на месте погребения Ланского церковь и распорядилась, чтобы она служила усыпальницей всей семье Ланских.
Но Александр Ланской остался одинок в своём склепе. Никто из родственников покойного не принял предложения когда-либо присоединиться к нему. В глазах семьи он был покрыт позором. И это тоже единственный случай, когда семья сочла позором милость, оказанную фавориту. Бесчестье Ланского семья смывала потом долгие годы, но в глазах потомков он так и остался фаворитом, любовником Екатерины, хоть и был из всех фаворитов единственным бескорыстным и любящим свою императрицу человеком...
Его брат Яков построил в своём имении церковь, заказал для неё иконы, которые воспроизводили лица всех его родных. И только на картине, изображающей ад, был воспроизведён красавец Александр Ланской, тело которого объято пламенем ада.
Екатерина долго не знала об этой враждебности семьи Ланских, даже написала ласковое письмо матери Александра на следующий же день после его кончины и предложила богатые подарки. Но они были возвращены, а на письмо не последовало ответа...
«Все дела стали со времени смерти Ланского, — писал французский министр в России Кайяр, — в настоящее время все заняты только одной императрицей, здоровье которой вначале внушало большие опасения...»
Через два месяца императрица уже начала принимать своих министров, но лишь для того, чтобы спросить у них «ласково и грустно», всё ли обстоит благополучно. Никаких распоряжений, никаких указов, а комната фаворитов всё ещё стояла пустой. Единственным человеком, чьим обществом пользовалась Екатерина, была сестра Ланского, госпожа Кушелева, весьма ограниченная и не испытывавшая никаких особых чувств к покойному. Но она легко плакала. Едва она видела Екатерину, как слёзы сами собой выкатывались из её глаз и также легко провоцировали императрицу на плач. Так и проводила все свои серые дни императрица, не в силах прогнать любимый образ из своего сердца.
И только тогда, когда через два месяца приехал из южных провинций Потёмкин, она как будто оживилась.
Они появились у неё — Фёдор Орлов, один из братьев Григория Орлова, и сам Григорий Потёмкин — и не стали говорить ни одной фразы. «Они заревели, — как писала сама Екатерина, — я тоже заревела в голос, мы обнялись и только после этого смогли сказать несколько слов...»
Екатерина сильно подозревала Потёмкина в смерти Ланского, но никаких доказательств у неё не было, кроме того, он так же сокрушался о фаворите, как и сама Екатерина, потому что она не раз отписывала ему, что Сашенька любит его как отца родного...
Да и кому же придёт охота лишать стареющую императрицу её последней радости — таков был смысл всех речей Потёмкина. И Екатерина поверила, что он не при чём в истории гибели Ланского, хоть и затаила в душе своё ужасное подозрение.
Но приезд Потёмкина сделал своё дело, императрица ожила и уже стала принимать участие в делах.
Гримму она писала через два месяца после кончины Ланского:
«Признаюсь Вам, что всё это время я была не в состоянии Вам писать, потому что знала, что это заставит страдать нас обоих. Через неделю после того, как я написала Вам последнее письмо в июле, ко мне приехали Фёдор Орлов и князь Потёмкин. До этой минуты я не могла видеть лица человеческого, но эти знали, что нужно делать, — они заревели вместе со мною, и тогда я почувствовала себя с ними легко. Но мне надо ещё немало времени, чтобы оправиться, и в силу чувствительности к своему горю я стала бесчувственной ко всему остальному. Горе моё всё увеличивалось и вспоминалось на каждом шагу и при каждом слове.
Однако не подумайте, чтобы вследствие этого ужасного состояния я пренебрегла хотя бы малейшей вещью, требующей моего внимания.
В самые мучительные минуты ко мне приходили за приказаниями, и я отдавала их толково и разумно, что особенно поражало генерала Салтыкова. Два месяца прошли так, без всякого облегчения. Наконец наступили первые спокойные часы, а потом и дни.
На дворе была уже осень, становилось сыро, пришлось топить дворец в Царском Селе. Все мои пришли от этого в неистовство, и такое сильное, что 5 сентября вечером, не зная, куда преклонить голову, я велела заложить карету и приехала неожиданно и так, что никто не подозревал об этом, в город, где остановилась в Эрмитаже. И вчера я видела всех и все видели меня. В первый раз.
Но по правде сказать, это стоило мне страшного усилия, и когда я вернулась к себе в комнату, то почувствовала такой упадок духа, что всякая другая на моём месте лишилась бы чувств.
Я должна была бы перечитать Ваше последнее письмо, но положительно не в силах этого сделать. Я превратилась в очень грустное существо, которое говорит только отрывочными словами. Всё меня угнетает, а я никогда не любила внушать жалость...»
А ещё через месяц Екатерина снова писала:
«Не думайте, чтоб при всём ужасе моего положения я пренебрегла хотя бы последней мелочью, требовавшей моего внимания. Дела идут своим чередом, ноя, наслаждавшаяся таким большим личным счастьем, теперь лишилась его. Утопаю в слезах и в писании — вот и всё. Если хотите в точности узнать моё состояние, то скажу Вам, что вот уже три месяца, как я не могу утешиться после моей невознаградимой утраты. Единственная перемена к лучшему состоит в том, что я начинаю привыкать к человеческим лицам, но сердце так же истекает кровью, как в первую минуту.
Долг свой я исполняю и стараюсь исполнять хорошо, но скорбь моя велика. Такой я ещё никогда не испытывала в жизни. Вот уже три месяца, что я в этом ужасном состоянии и страдаю адски...»
Но после приезда Потёмкина она появилась перед всем светом, иностранными послами и всеми придворными со своим обыкновенным, приветливым и милым лицом, спокойная и свежая, как до катастрофы.
Прошло ещё несколько месяцев, и в письме к Гримму Екатерина рассуждала уже спокойно: «Я всегда говорила, что этот магнетизм, не излечивающий никого, также никого и не убивает». Так оценивала она свою пройденную любовь.
Через месяц уже всё было на своих местах:
«На душе у меня опять стало спокойно и ясно, потому что с помощью друзей мы сделали над собой усилие. Мы дебютировали комедию, которую все нашли прелестной. И это показывает возвращение весёлости и душевной бодрости. Односложные слова изгнаны, и я не могу пожаловаться на отсутствие вокруг меня людей, преданность и заботы которых неспособны были бы развлечь меня и придать мне новые силы. Но потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть ко всему этому и втянуться...»
Десять месяцев страдала Екатерина, десять месяцев не утихала в ней боль, но навсегда осталась в ней тоска по той неземной любви, которой одарил её Александр Ланской...
Иван Бецкой
1
о длинным переходам, галереям и залам шёл высокий крепкий старик с совершенно седой шевелюрой, огромным орлиным носом и тонкими, крепко сжатыми губами. Гренадеры, стоявшие на часах, почтительно смаргивали, когда он проходил мимо, и кланялись вслед его высокой крепкой спине.
Иван Иванович шёл по дворцу, ни на кого не обращая внимания, даже на гвардейцев, стоящих на часах возле дверей каждой залы. Он скользил глазами, тёмно-серыми и пронзительными, по шедеврам живописи, развешанным на стенах зал, но ни во что не вглядывался с любопытством и вниманием. Следом за ним шёл молодой не то слуга, не то секретарь и нёс большой свиток плотной бумаги.
Иван Иванович проследовал к кабинету императрицы и на мгновение приостановился, бросив взгляд на двух рослых гвардейцев, подпиравших косяки высоких резных дверей. Те почтительно отодвинулись в сторону, искоса провожая взглядами старика.
Здесь его знали все, и всем было известно, что он входит в кабинет или опочивальню Екатерины без всякого доклада и императрица встречает его как родного отца.
Всем во дворце было приказано пропускать Ивана Ивановича к императрице во всякое время дня и ночи без околичностей, а тем более без докладов камердинеров. И все с почтением и некоторым страхом пропускали высокого стройного старика, не осмеливаясь задавать ему вопросы. Так и шёл он по дворцу, величественный и торжественный, а вслед ему неслись шепотки фрейлин и дежурных кавалеров. Уж больно необычен был приём этого старика у императрицы...
Екатерина сидела у своего маленького кабинетного столика и пила свой утренний крепчайший кофе. Тут же, на столике, отдалённом от обширного письменного стола, стояли большие корзинки с утренними булочками, сахаром и печеньем, изящные молочники со взбитыми сливками и огромный кофейник, из которого Екатерина то и дело подливала себе вкусную чёрную жидкость.
Приостановившись перед дверью в кабинет императрицы, Иван Иванович взял у секретаря большой длинный толстый свиток плотной бумаги, кивком велел ждать и отворил дверь.
Екатерина, сидевшая за маленьким кофейным столиком всё ещё в утреннем плоёном чепчике и широком бархатном халате, приветливо приподнялась и подала старику руку. Он чмокнул эту полную белую руку, а она прикоснулась губами к его лбу.
— Садись, Иван Иванович, — пропела Екатерина и жестом руки приказала камердинеру Захару Зотову подать ещё чашку.
Не успел Иван Иванович присесть за столик, как чашка уже стояла перед ним и Екатерина наливала ему кофе.
— С сахаром или как? — спросила она у старика.
— Не пью с сахаром, ты же знаешь, — обидчиво пробормотал старик и принялся размешивать кофе в чашке тонкой серебряной ложечкой.
— А что ж тогда мешаешь? — весело засмеялась Екатерина.
— Да по привычке, когда чай пью, — усмехнулся и старик. — Выдумали эти англичане пить почти бесцветную жидкость, только чуть пахнущую индийским чаем, да ещё заливать её сливками или молоком — и вовсе никакого вкуса нет. А кофе бодрит, ставит на ноги, да и вкус прекрасный...
Он взял печенье, намочил его в чашке, запил глотком кофе и лишь тогда внимательно взглянул в лицо Екатерине.
— Прекрасно выглядишь, — почему-то неодобрительно произнёс он, — и при всех заботах...
— Ой, все бы такие заботы, — опять счастливо засмеялась она, — просто жить хочется, делать дела хочется...
— Одобряю, — ласково проговорил старик, — хуже нет, когда женщина мается от скуки да тоски...
— Ты, я чаю, и мне принёс ещё заботы, — кивнула она на свёрнутый в рулон плотный толстый лист бумаги.
— Да это разве забота, — сморщился старик, — принёс идею показать, не даёт она мне покоя...
— Всё о нём, Воспитательном доме, хлопочешь? — лукаво усмехнулась Екатерина, сделав сразу большой глоток и закусив медовым печеньем.
Возле неё на полу сидели маленькие собаки — левретки, болонки, мопсы — почти с десяток. Она пила кофе и бросала куски печенья и сахара своим любимицам.
Иван Иванович сощурился, пристально посмотрел на большой кусок печенья, кинутый собаке, подхватившей его на лету, и произнёс так, словно говорил это себе, мысленно:
— Забота бастарда[42] — заботиться о таких же бастардах, как он...
Екатерина сразу посерьёзнела.
— Неужели до сих пор мучает эта мысль?
— Да нет, не мучает, а сделать что-то для бастардов необходимо...
— Уж и проект дома принёс? — опять усмехнулась Екатерина.
— Да какой! — обрадовался Иван Иванович повороту разговора.
Он легко вскочил с кушетки, на которой сидел, и на краю маленького стола развернул рулон плотной толстой бумаги. На нём были какие-то чертежи, какие-то крохотные домики, аллеи, густо закрашенные оранжевой краской.
— Иван Иванович, сам видишь, нет у казны денег на твой Воспитательный дом...
— Похожу, пособираю, подкину своих денежек, да и ты что-либо дашь — вот и выстроим в Москве образцовый Воспитательный дом, всей Европе на зависть и удивление...
— Ладно, — смягчилась Екатерина, — мы об этом ещё поговорим. Скажи лучше, как здоровье?
— А что мне сделается? Видишь, я какой, могуч, как дуб...
— Да вроде прибаливать начал? — снова заботливо спросила Екатерина. — Если что, придворного врача Роджерсона вызывай, не стесняйся, а то ведь я тебя знаю, стараешься обходиться своими силами...
— Спасибо, матушка, за заботу, — улыбнулся Иван Иванович, — только ты и позаботишься, а больше и некому...
Она лукаво взглянула на него, словно напоминая о дочери Бецкого, которую недавно взяла в фрейлины, но ничего не сказала. Пусть он думает, что лишь она одна беспокоится о его здоровье.
— Ладно, — посерьёзнела Екатерина, — давай посмотрим, что ты там, в проекте своём, говоришь...
Она взяла несколько страниц предваряющего чертежи предисловия, прочла — она читала быстро, глаза её ещё не подводили, — и, отложив, снова взглянула на Бецкого.
И он точно процитировал отрывок из всего проекта:
«Дать Воспитательному дому место, называемое Гранатный двор с Васильевским садом, подле Москвы-реки, со всею лежащей около казённой земли, и саму землю, и строения, с отдаточной от Адмиралтейства мельницей, что на Яузе, и старую городскую стену употребить в строение...»
— Да ты наизусть весь проект знаешь! — изумилась Екатерина. — Знать, сильно задевает он твоё сердце, раз так о нём печёшься...
— Попечительский совет устроим такой, чтобы и вельможи пеклись о Воспитательном доме, — оживился Бедкой, — чтобы денежки не жалели для сего учреждения...
— Я так думаю, чтоб главным попечителем был ты, Иван Иванович, потому что никто, кроме тебя, не сумеет и деньги собрать для него, и озаботиться по-настоящему...
— С радостью возьмусь, матушка-государыня. — Бецкой поднялся и поднёс к губам руку Екатерины. — А в совет попечителей пригласим и Григория Орлова, и Никиту Ивановича Панина, и Голицына. Ещё есть задумка у меня: пригласить туда Сумарокова и Кокоринова, чтобы мыслили о пользе этого дела. Они сумеют распространить слух о доме да и помогут советом и трудами своими.
— Хорошо думаешь, Иван Иванович. Дай тебе Бог здоровья.
Екатерина поднялась, распахнула двери и выпустила всех своих собак в приёмную. Собаки, радостно рыча и заливисто лая, понеслись по коридорам к выходу на улицу.
Бецкой церемонно откланялся, снова поцеловал руку Екатерины и отправился по своим делам, всё такой же статный, стройный и высокий.
Екатерина задумалась. Как же страдал, видимо, он, если и теперь, по прошествии стольких лет, после смены стольких царствований, до сих пор носит в себе эту боль и обиду — бастард! Сколько лет прошло, а не исчезла, не испарилась под бременем годов эта обида на царя Петра, одним росчерком пера убравшего из его фамилии Трубецкой первые три буквы. Тогда, правда, была такая традиция называть побочных детей урезанными фамилиями, но даже и теперь, когда к ней приходили с просьбой восстановить полностью имя и фамилию, она обращала свои взоры только к традициям Петра и не могла нарушить эту традицию. Уж, казалось бы, Бецкой старинный знакомый и даже, можно сказать, предполагаемый отец, но и ему не смела она восстановить фамилию, не решалась перечить воле Петра Первого...
Печатая шумные шаги по дворцовым переходам и галереям, Бецкой думал о том же. Да, Воспитательный дом — это его дань всем тем побочным и незаконнорождённым детям, от чего страдал он весь свой век, от чего даже и теперь ноет его сердце и вспоминаются все претерпеваемые им обиды из-за трёх букв, урезанных Петром Первым. И даже отец не смог добиться, чтобы потомку вернули прозвание Трубецкой, которое носил он сам и которое при всём своём желании не смог оставить в наследство единственному сыну...
А был отец Бецкого — Иван Юрьевич Трубецкой — последним боярином, кому царь Пётр пожаловал боярскую шапку. Так, последним боярином, он дрался вместе с Петром под Азовом, вместе с ним и с потешными раньше солдатами прибыл и под Нарву в начале нового, восемнадцатого века. Не повезло последнему боярину — слишком уж сильны были шведы, разгромили русских начисто, а в плен захватили столько вельмож и офицеров, что больше всего Пётр жалел именно о них: не хватало бывалых начальников над солдатами, теперь приходилось заново учить офицеров и водить всех в бой...
Натерпелся отец в плену — это было ясно из его немногословных рассказов. Но нашлась добрая женщина, пожалела синеглазого красивого русского боярина Трубецкого, перевезла к себе домой, едва только воинственный король Карл Двенадцатый позволил это сделать, выходила, вылечила и от страшной чахотки, и от боевых ран. И влюбилась — больно уж хороши были глаза у отца Ивана.
Да и женщиной она оказалась непростой — была баронессой и в каком-то колене с какого-то дальнего века была и родственницей давно ушедших в небытие королей Швеции. Словом, родственница множеству шведских семейств, всё ещё чтивших родословные.
Она полюбила русского Ивана Трубецкого, через неё он смог получить от родственников деньги, и немалые, и много лет они жили одной семьёй.
Баронесса Вреде всегда знала, что Трубецкой когда-нибудь вернётся домой, в свою Россию, а ей за ним ехать вовсе не пристало — у него в России жена и дочь. Но, родив Трубецкому сына Ивана, она заранее подготовила Ивана Юрьевича, что воспитать его должен именно он, и что фамилию ему должен дать именно он, отпрыск знатного древнего рода...
Сын Иван выдался в отца, даже не в отца, в во всю породу Трубецких: тот же длинный с горбинкой орлиный нос, те же тонкие губы и те же пронзительные тёмно-серые глаза, высокий лоб с пышной гривой тёмных волос.
Едва он подрос, отец пригласил к нему лучших учителей, и уже в семь лет Иван отлично знал шведский и русский — мать и отец учили его, — прекрасно говорил на французском и немецком.
Отец много рассказывал ему о России, и маленький Иван заочно полюбил эту страну, родину его отца, а значит, и его самого.
Когда Ванюше исполнилось семь лет, отец пригласил к нему старого отставного фехтовальщика, и сын научился фехтовать так, что все его многочисленные дуэли во взрослой жизни всегда кончались его победой.
Но семейная жизнь князя Трубецкого в Стокгольме продолжалась недолго. Его жена, племянница Петра Первого по нарышкинской линии, упросила своего царственного дядюшку позволить ей ехать в Стокгольм, где уже который год сидел в плену её муж. Хотя «сидел» — это только так говорится. Благодаря деньгам отца, который сумел устроить их передачу сыну, Трубецкой жил в Стокгольме, как и в России, большим барином. Он купил себе дом, пышно и богато обставил его, ездил с друзьями, такими же пленными, как и он, в состоятельные шведские дома на приёмы и куртаги и меньше всего думал о возвращении в Россию.
И как же он был изумлён, когда в его доме появилась его законная жена Авдотья с дочкой Настей, которая уже выросла в красавицу!
Трубецкой ничего не стал скрывать от жены, рассказал о баронессе Вреде, своём сыне Иване и твёрдо заявил, что воспитываться тот будет лишь у него, станет наследником и состояния, и фамилии Трубецких.
Баронесса Вреде уехала в Копенгаген, а потом, при первой же возможности, перебралась в Лондон. Она никогда не забывала о мальчике, рождённом ею, но никогда не писала ему, боясь испортить ему жизнь в доме отца и мачехи.
Только через восемнадцать лет вернулся Трубецкой в Россию. Он ожидал порицания и опалы от царя за позорную сдачу в плен при Нарве, но Пётр, против обыкновения, простил всех вернувшихся из плена, а Трубецкому даже пожаловал чин генерал-поручика. Но челобитную Трубецкого, где тот просил о присвоении фамилии рода своему сыну, не захотел подписать и вычеркнул три первые буквы. Так и остался Трубецкой Иван Иванович не с фамилией отца, а с огрызком от этой фамилии — Бецким...
В доме отца жилось Ивану плохо. Хоть и помирилась с отцом его жена Авдотья, хоть и простила баронессу Вреде, но сына её ненавидела, при всяком удобном случае колола глаза незаконным рождением и попрекала отцовским хлебом. Иван не жаловался отцу — понимал, что из-за его слов неминуемо начнутся скандалы, да и свою родную мать он помнил очень хорошо и порой жалел Авдотью, вынужденную терпеть в своём доме незаконнорождённого пасынка.
Иван Трубецкой снёс обиду от царя, но не простил, а попытался возражать. Сказал, что сын с детства обучен языкам, да почти всем европейским, владеет и латынью, и немецким, и французским, а уж шведским и датским с рождения.
Царь подумал и решил, что самое место Ивану Бецкому в Европе: пусть едет туда ещё учиться, а когда вернётся, тогда, может быть, и при фамилии отца останется.
Но это обещание было неопределённое, туманное, и Трубецкой-отец понял, что его сын так и останется с огрызком вместо фамилии. А вот другой совет — послать в Европу учиться — он воспринял серьёзно и написал матери Ивана в Копенгаген, чтобы она через своих родственников помогла сыну определиться в Копенгагенское кавалерийское училище, славящееся своими учениками — лихими рубаками и толковыми командирами.
Баронесса сделала всё, что зависело от неё, — Иван поступил в училище с прекрасными рекомендациями и проучился там почти три года.
Но на выпускных экзаменах он упал с лошади, его помяли кони, бегущие позади, и ему пришлось выйти из училища, так и не получив бумагу об окончании. Ему не простили богатства — отец высылал Ивану много денег, не простили надменности и отваги. Несколько дуэлей, закончившихся в пользу Ивана, и вовсе обострили эту ненависть.
Вернувшись домой, Иван снова попал на язычок мачехи — она вновь и вновь колола его и незаконностью происхождения, и неумением закончить какое-никакое учебное заведение.
Но теперь положение в России изменилось. Даже Трубецкому, бывшему в милости у царя, приходилось туго: Пётр заметно изменился, стал суровее и беспрестанно вёл свои войны. Трубецкого он загнал в Киев генерал-губернатором, и Иван увидел, каково положение его батюшки здесь. Генерал-губернатор был, правда, что царь в Петербурге, на нём кончались все жалобы и челобитные, он один был волен казнить или миловать. Но всё-таки служба вдали от двора опростила его, сделала барином-сибаритом, от ничегонеделания увлекавшимся игрой в карты по-крупному.
Свою сводную сестру Анастасию Иван не увидел, потому что незадолго до его приезда её выдали замуж за принца Гессен-Гомбургского, служившего в Петербурге.
Отец взял сына себе в помощники, присвоив ему звание адъютанта. Но Ивану такая роль не нравилась, он рвался в центр жизни, в столицу, в Петербург.
Неожиданная весть о смерти царя Петра застала Трубецких ещё в Киеве. Мужчины Трубецкие сразу же засобирались в столицу — теперь неизвестно, что за жизнь пойдёт, каким царём возглавится Россия, какие люди встанут у руля.
Оказалось, провозгласили императрицей Екатерину, жену Петра, венчанную, имеющую двоих дочерей, и закрутилась новая царица в одних пирушках да пьяных оргиях. Едва приходил её старый милый друг Меншиков, как раздавался извечный вопрос: «Чего бы нам выпить? »
Трубецкой ездил по гостям — узнавал новости, старался вытрясти из царских архивов ту челобитную, что Пётр подписал. Однако не удалось, зато сыну достал должность — не ахти какую, да уж больно развесёлую — иностранным курьером при Коллегии иностранных дел. Даже чин получил Иван — камер-курьер, что по табели о рангах значит прапорщик. Но он так и остался Бецким, когда его отец отбыл в свой далёкий Киев.
Три года пролетели для Бецкого как один день. Он мотался по всем странам Европы, от двора ко двору, успевая передавать новости о русском дворе и заодно разбивая по пути сердца девушек во всех городах, где бывал.
А каких людей он повидал, с какими философами и республиканцами встретился! Париж, Вена, Болонья, Милан, Венеция — все эти города были теперь хорошо известны курьеру императорского двора. Его расспрашивали короли и вельможи, о нём справлялись послы, и к своим двадцати двум годам Бецкой научился так остроумно болтать на каждом из пяти самых распространённых языков Европы, что к его словам стали прислушиваться не только русские посланники за границей, но и сами владетельные правители многих стран. Он мог завязать беседу с любым человеком из верхних слоёв дворянства любой страны, знал тысячи анекдотов о монархах и умел рассказать их так, что каждый его собеседник лишь удивлялся уму и таланту юного курьера.
И хорошо, что Бецкой несколько лет вертелся курьером по разным странам, потому что со смертью Екатерины Первой в России началась такая борьба за трон, что он непременно ввязался бы в неё, и кто знает, чем бы это закончилось. А так должность у него была тихая, неприметная, никто не кидал на него завистливых взглядов, а если кто-нибудь и ненавидел его, то это были обманутые мужья или отцы обманутых девушек. Да и что с него возьмёшь — сегодня он тут, а завтра где-то на берегах Сены или Невы.
Так и миновало Бецкого царствование Петра Второго, всё время он был в разъездах и переездах. А осел немного лишь тогда, когда взошла на царский трон курляндская герцогиня Анна Иоанновна, дочь брата Петра Великого, Ивана, вместе с которым тот начинал царствовать, но умершего ещё в 1696 году.
Иван оставил трёх дочерей — Екатерину, Анну и Прасковью. Но Тайный совет решил выбрать в царицы среднюю. Старшая, Екатерина, была замужем за герцогом Мекленбургским, так что могла бы перетянуть в Россию многих немцев из своего крохотного герцогства, всегда жившего в великой нужде. Младшая была всегда больна — вечно у неё то живот болел, то сопли висели до колен, то маялась зубами, то прикладывала ладанки к пояснице. Словом, тоже не годилась в государыни. А вот средняя, Анна, была бабой гвардейского роста, многое переняла от дядюшки Петра, мужа, герцога Курляндского, потеряла ещё в первый год замужества, а в Курляндии жила, считая каждую копейку, — очень уж маленькое содержание выплачивали ей курляндцы.
Но прежде чем встать на трон, Анна должна была подписать «Кондиции», чтобы пользоваться лишь мишурой власти, а всё делать по приказу верховников, то бишь членов Верховного тайного совета. Анна согласилась.
2
Никогда, ни единым словом не обмолвилась Екатерина о том, что считает Бецкого своим родным отцом. Но всё её поведение, всё её отношение к Бецкому указывало на это. Да и подглядел нечаянный и незамеченный свидетель, как целовала императрица Бецкому руку. А в немецких землях принято целовать руку только родителям и монархам.
Придворные сплетники тотчас начали вычислять, когда и где была мать Екатерины за год до её рождения, когда и где был и Бецкой в то же время.
И определили, что в то время, когда взошёл на престол четырнадцатилетний император Пётр Второй, сын Алексея, забитого на пытках отцом, Петром Первым, Бецкой был направлен с дипломатической почтой в Париж, к русскому послу во Франции Долгорукову. Должна была знать Европа, каков новый наследник престола, каков новый император.
А новый император, сваливший в четырнадцать лет самого крепкого и нерушимого, казалось бы, князя Меншикова и отправивший его в ссылку, интересовался лишь охотой, унаследовав, видимо, эту страсть от прадеда — Алексея Михайловича. Его занимали охотничьи псы, а не государственные дела, и его свора в триста шестьдесят собак была его любимым детищем. Он даже спал иногда среди своих собак.
«Всё в России в страшном расстройстве, царь не занимается делами и не думает заниматься. Денег никому не платят, и бог знает, до чего дойдут финансы. Каждый ворует, сколько может. Об исправлении всего этого никто серьёзно не думает» — так говорилось в одном из писем иностранного посланника в России об этой поре русского государства.
А Бецкому было о чём рассказать Долгорукову: и как подписал новый император указ об аресте и высылке всесильного князя Меншикова, с дочерью которого он был обручён, и как разорвал помолвку и дал согласие семье Долгоруковых жениться на их ставленнице — княжне Екатерине.
Знал Бецкой и о том, что после отставки и ареста Меншикова у него конфисковали пять миллионов рублей наличными да девять миллионов в иностранных банках. Это было больше всего бюджета страны. А ведь начинал свою карьеру Меншиков, не имея ни гроша в кармане да разнося пирожки на базаре...
В официальных документах, представляемых французскому двору, ни слова не говорилось о занятиях юного царя, о его псарне, о его беспечной молодости и бесконечных гулянках, где молодой император приучился к вину.
И Долгоруков выспрашивал курьера о том, что происходит в Петербурге и чего теперь ждать от державы. Посол обязан был всё знать, но он ещё и происходил из Долгоруковых, окруживших царя, который подпал под их влияние.
Не забыл упомянуть курьер и о том, что Пётр Второй вместе со всем своим двором переехал в Москву, восстановив старую столицу в её правах.
Долгоруков не обошёл новостями и самого курьера — таинственно сообщил, что в герцогстве Голштинском прибавление: дочь Петра Первого Анна родила от герцога Карла Фридриха Голштинского сына, которого назвали Карлом Петером Ульрихом. И загадочно улыбнулся при этом старый Долгоруков: кто знает, как сложится судьба и этого внука Петра Первого.
Знал Долгоруков о том, что дочь Петра Первого, Елизавета, вовсе не вхожа ко двору, хоть и пытался было молодой царь приударить за молодой тёткой. Но Долгоруковы оттеснили Елизавету, и она ютилась на задворках Петербурга, а в Москву переехала вместе со всем двором и опять была поселена в самом большом отдалении от Кремля. Так что жизнь Елизаветы была плачевной, никто всерьёз о ней и не думал, но несмотря на это, она была весела, беспечальна, меняла любовников, как перчатки, и занята была лишь нарядами, париками и мушками.
Коронация Петра Второго намечалась в Москве в феврале, и об этом было писано в грамотах Иностранной коллегии.
Долгоруков тщательно выспросил курьера и понял, что он малый не промах, в курсе всех придворных сплетен и новостей, и прикомандировал Бецкого к русскому посольству в Париже.
Вот здесь-то и встретились два молодых человека — Иван Бецкой и Иоанна Ангальт-Цербстская, принцесса из Голштейн-Готторбского дома. Ей было всего восемнадцать, она уже два года была замужем за герцогом, но до сих пор не имела детей и приехала в Париж показаться тамошним светилам медицины именно по этому поводу. Кто знает, как они познакомились, но что между ними был роман, утверждал и сам Долгоруков.
Во всяком случае, через год после этой встречи у Иоанны уже была дочь София Фредерика Августа, и придворные Екатерины старательно искали сходство между ею и Бецким.
Они действительно были похожи: один и тот же вытянутый овал лица, острый, выдающийся вперёд подбородок, тот же длинноватый нос. Только у Екатерины не было характерной для всех Трубецких горбинки, а у Бецкого нос был горбатый, орлиный.
Широкий и высокий лоб у обоих был одинаков и выдавал умственную напряжённость, а глаза повторялись разрезом. Правда у Бецкого они были тёмно-серые, а у Екатерины светлые, серо-голубые.
Словом, двор уже с самого начала царствования Екатерины утвердился во мнении, что Екатерина — дочь Бецкого, побочная дочь. Сам он никогда в браке не состоял, а свою вторую дочь, прижитую от неизвестной женщины, удочерил, и Екатерина взяла её во фрейлины. И эта дочь Бецкого была как две капли воды похожа на Екатерину. Императрица очень заботилась о своей предполагаемой сестре — она выдала её замуж за французского авантюриста Де-Рибаса с богатым приданым и наделила этого неизвестного ранее нигде человека чином адмирала...
Но всё это были лишь косвенные догадки, а сама Екатерина и сам Бецкой никогда даже не намекали на свою родственную связь...
Едва Бецкой вернулся в Россию, как ему пришлось снова собираться и ехать ко дворам европейских монархов: перед самой свадьбой от оспы и осложнившей её простуды скончался молодой император, едва успевший короноваться.
И снова началось в России междуцарствие, борьба различных группировок за власть в империи. Победили верховники, члены Верховного тайного совета, предложившие пригласить на русский трон Анну Иоанновну.
Бецкой поехал с пакетами к парижскому двору, затем в Вену, потом в Варшаву. Везде останавливался он при русских посольствах, везде рассказывал послам о новой императрице, о её любимце Бироне. Вестей из России здесь ждали жадно, прикидывали, чем грозит им настоящее царствование, и потому Бецкой был нарасхват — он был вхож во дворец, благодаря счастливому характеру знал многих и дружил со многими вельможами. Известия его были более чем ценны.
Но вернувшись домой, Бецкой увидел, что служить ему теперь будет туго и трудно: все мало-мальски значимые места обсели немчики из Курляндии, и о продвижении по службе нечего было и думать. Верховный тайный совет Анна ликвидировала, Долгоруких сослала в Сибирь, весь их род разметала, уничтожила, а многим и отрубила головы.
Время было тёмное, дикое, никому при дворе не нужны были знающие люди, никто не желал иметь никаких сведений о Европе — Россия замыкалась в своей скорлупе.
И Бецкой решил, что лучше всего такое время пересидеть в имении, подаренном ему отцом. Он наладил хозяйство, много читал, выписывал из-за границы множество книжных и журнальных новинок, был в курсе всей европейской политики. А наведываясь в Петербург, чаще всего Бецкой заходил в убогонький дворец царевны Елизаветы. Здесь для него всегда находилось общество, а рассказчик он был отменный, и дамы с девицами, ахая, слушали его повествования о Европе, о королевских дворах, о всех приключениях, которые случались с ним.
Благоволила к Бецкому и сама Елизавета. Он часто смотрел на неё и думал, почему она не предъявляет никаких претензий на отцовский престол, ведь она такая же претендентка на трон, как и сама Анна.
Но когда умерла императрица Анна, оставив регентом при малолетнем императоре Иоанне Бирона, когда захотела короноваться сама Анна Леопольдовна, мать несчастного Иоанна, коронованного в двухмесячном возрасте, Елизавета начала серьёзно подумывать об отцовском наследстве.
Бецкой был вместе с нею, когда в морозную вьюжную ночь во главе трёхсот гренадеров Елизавета пошла на императорский дворец, захватила в плен и Анну Леопольдовну, и несчастного ребёнка и твёрдой ногой встала на подножие отцовского трона.
Всю брауншвейгскую семью Елизавета выслала в Холмогоры, где и воспитывался до четырнадцати лет малолетний бывший император. Потом Елизавета отправила его в Шлиссельбургскую крепость на острове Орешек, там он просидел до двадцати четырёх лет, не видя людей, ничего не зная, ничего не читая, словно дикий зверь в клетке...
Двор снова переехал в Петербург, и снова закипела на берегах Невы роскошная дорогостоящая жизнь.
Елизавета провела некоторые реформы, упразднив Кабинет министров и восстановив Сенат в прежних правах. Самым видным направлением в политике стало для неё выдвижение на государственные посты русских людей. После Бирона это направление в политике было естественным, немецкое влияние начало исчезать. Даже сама императрица, когда назначали какого-либо иностранца на видный пост, спрашивала:
— Что, разве не нашлось русского?
И ставила на важные посты русских людей, может быть, не всегда достаточно подготовленных для деятельности. Бецкому за участие в перевороте она присвоила чин генерал-майора и часто пользовалась его советами и предостережениями.
Несмотря на внешнюю, казалось бы, легкомысленную жизнь, Елизавета отличалась твёрдостью в проведении своей политики. Она пригласила в Россию и объявила наследником русского престола своего племянника герцога Голштинского, сына её сестры Анны Петровны, умершей через два месяца после родов. Отец же юного герцога умер, когда Петру было десять лет.
Перед приездом голштинского принца Елизавета долго разговаривала с Бецким и решила возложить на него надлежащий контроль за маленьким двором своего наследника — она вручила ему камергерский ключ и поручила присматривать за своим племянником.
Сразу же по приезде юный герцог был крещён в православие и получил имя Пётр Фёдорович Романов...
Столкнувшись с юным герцогом, Бецкой был удивлён и возмущён тем, как шла его учёба и воспитание. Наставник Брюммер, оставшийся и в России воспитателем великого князя, постоянно грозил ему палкой, бил его, когда выходил из себя, и учил только шагистике и армейским артикулам. До приезда в Россию Петра учили лишь катехизису и. шведскому языку: он был также претендентом на трон этой страны...
Бецкой составил расписание занятий для юного великого князя, защищал его от побоев и конечно же нажил себе в лице Брюммера отъявленного врага. Но несколько частных разговоров с Елизаветой — и проекты учёбы великого князя сделали своё дело: Брюммер был уволен, его место заняли русские учителя, и дело потихоньку пошло на лад...
Дальновидная в семейных делах Елизавета решила, что нужно поскорее женить своего племянника — тогда он остепенится, перестанет хлестать вино, бесконечно играть в оловянных солдатиков и превозносить своего кумира — прусского короля Фридриха.
По всей Европе дала Елизавета задание — искать невесту для Петра Фёдоровича. И посыпались со всей Европы портреты невест — десятки прелестных девиц в возрасте Петра представлялись Елизавете на обследование и обсуждение.
На одной такой выставке портретов очаровательных европейских принцесс присутствовал и Бецкой. Ему сразу понравился портрет дочери принцессы Ангальт-Цербстской, с которой у него когда-то был роман. У девочки были умненькие и строгие глаза, и сама она сильно походила на него самого.
Елизавете портрет понравился совсем по другой причине. Она была просватана за младшего брата герцогини Ангальт-Цербстской. Уже была помолвка, обручение, но перед самой свадьбой жених заболел оспой и умер через несколько дней. Елизавета до сих пор оплакивала своего жениха, что не мешало ей менять любовников, и всё, что напоминало ей о нём, становилось для неё родным и близким.
Так и была решена участь дочери герцогини Ангальт-Цербстской, дочери, которая, как подозревал Бецкой, была плодом их любви...
Сколько ни присматривался Бецкой к новой императрице, он не мог разглядеть в ней дара к государственным делам, хотя своих советников она выбирала тщательно. Больше всего на свете её интересовали наряды и балы. Она была красива, только чуть портил её большой широкий нос. Но она хотела быть первой красавицей в своём государстве и потому преследовала женщин за одну лишь красоту. Она сидела за туалетным зеркалом по пяти часов в день, и её наряды поражали воображение — вкус у царицы был отменный. За один бал она успевала трижды поменять свои наряды, и один был лучше другого.
В московском дворце во время пожара 1753 года сгорело четыре тысячи её платьев, затканных золотом и серебром и украшенных драгоценными камнями и нежными дорогими кружевами. Но это была самая малая часть тех нарядов, которые она имела. В Летнем дворце после её смерти Пётр Третий обнаружил ещё пятнадцать тысяч её платьев, несколько тысяч пар туфель да ещё два огромных сундука с чулками.
Словом, Елизавета не стесняла себя в расходах на свои дамские безделушки, но и не слишком разоряла казну, ограничиваясь только платьями, чулками и обувью для себя. Правда, и кареты её были чересчур роскошны и покойны, и она совершала свои выезды на богомолье так удобно и спокойно, что могла бы ехать в них и тысячи вёрст. Однако она шла пешком некоторое время, потом садилась в карету и возвращалась во дворец, а назавтра ехала в карете до того места, где она остановилась, и снова шла пешком. Затем карета вновь доставляла её до дома, а на следующий день повторялось всё то же самое.
Сколько ни наблюдал Бецкой за Елизаветой, не заметил он, чтобы при ней хоть как-то возвысилась бы Россия. При Анне с Ираном был заключён договор, по которому Россия лишилась той части земель в Прикаспии, которые завоевал ещё Пётр Первый в своём персидском походе. Но Елизавета ничего не сделала, чтобы вернуть эти земли...
Впрочем, Бецкой видел, что она обладает дерзким практическим умом. Недаром же пригласила она в Россию Софию Фредерику Ангальт-Цербстскую со своей матерью, не позвав для их сопровождения отца, самого герцога. И Бецкой понимал, почему. Отец, несомненно, заартачился бы, когда речь зашла бы о вере. Елизавета твёрдо стояла на том, что принцесса должна принять православие, и на мать девочки ей было воздействовать легче.
Впрочем, обе дамы и не подвергли суровому осуждению это требование. Они сразу согласились с тем, что вера у мужа и жены должна быть одна и та же, а раз уж в России господствует православие, то и Фредерика обязана пройти обряд крещения в эту религию...
Елизавета приставила Бецкого к герцогиням, и он впервые узнал, насколько умна его предполагаемая дочь. Он замечал, как терпеливо учит она русский язык, как готовится к принятию Символа веры, как хочет стать русской великой княгиней, а потом и русской императрицей. Честолюбие было главным в её характере.
Однако с будущим мужем ей жестоко не повезло. Сама Елизавета видела, как несдержан на язык, как распущен её племянник. Он боготворил прусского короля Фридриха, ненавидел Россию, влюблялся во всех фрейлин подряд и вовсе не хотел жениться на Софии Фредерике. Этого хотела Елизавета, и он мог только подчиняться...
Бецкой присутствовал на обряде крещения принцессы. Она повторила Символ веры на хорошем русском языке, вела себя скромно и послушно. После крещения её нарекли русским именем — Екатерина Алексеевна.
Вдруг в какой-то момент Бецкой услышал за своей спиной шепоток, а потом обратил внимание на жадные, ищущие взгляды и понял, что должен немедленно скрыться, уехать, чтобы люди не искали подтверждения тому, что он похож на царскую невесту, что это сходство слишком видно.
И он отпросился у Елизаветы за границу — для поправления здоровья, пошатнувшегося за годы бесконечных поездок по Европе в качестве курьера.
Елизавета поверила, отпустила его, и Бецкой, даже не простившись с Екатериной и Иоанной, уехал в Париж...
Столица умственного мира предоставила ему возможность ознакомиться с новейшими философскими взглядами. Он хорошо узнал Дидро, спорил с ним по разным философским проблемам, а в салоне госпожи Жофрен, считавшемся самым замечательным собранием самых замечательных людей, завязал новые связи с энциклопедистами, а больше всего с Руссо, у которого заимствовал взгляды на воспитание и образование, так глубоко волнующие его.
Он никогда не забывал, что был бастардом, и все бастарды мира вызывали у него глубокое сочувствие...
И как же хорошо жилось ему в Париже! Он держал большой открытый дом, наполненный предметами роскоши и неги, собирал по вечерам значительное общество поэтов, писателей, философов. Шумные застолья прерывались концертами самой новой музыки и самых лучших певцов, а споры об устройстве мира порой затягивались далеко за полночь.
Бецкой мог позволить себе вести такой богатый и открытый образ жизни. Все его картины и собрания статуй, новейшей мебели и произведений искусства оплачивали его многочисленные крепостные крестьяне...
Много лет жил он таким сибаритом и даже не представлял себе, что когда-нибудь вернётся в Россию. Пока у него были деньги, здесь никто не спрашивал о его происхождении, и всем было невдомёк, что Бецкой лишь укороченная фамилия Трубецкого.
Однако он жадно ловил вести с родины. Страдал по поводу Семилетней войны, радовался, что Елизавета открыла в Москве университет, интересовался самыми замысловатыми слухами о жизни Петра и Екатерины.
Знал, что и после девяти лет брака у них всё ещё нет детей, и горячо молился о даровании наследника русскому престолу. А когда родился Павел, Бецкой и вовсе расцвёл. Он старательно поднимал бокалы за русского наследника, за его мать и отца и двоюродную бабушку — императрицу Елизавету.
Но у него и в мыслях не было вернуться в Россию. Здесь, в центре умственной жизни, хотел бы он жить всегда и здесь же умереть. Тем более что его друзьями были самые передовые умы Европы этого времени...
И вдруг — секретный пакет, молоденький курьер из самого Петербурга.
Вступивший на престол Пётр Фёдорович срочно вызывал Бецкого в Россию и назначал его главным начальником над канцелярией строений домов и садов. Здесь же лежал указ о повышении Бецкого в чине — теперь он стал генерал-поручиком.
Хочешь не хочешь, а пришлось свёртывать всё своё парижское хозяйство и возвращаться домой, на родину, в Россию.
В первые же дни пребывания в Петербурге увидел Бецкой соотношение сил. Пётр был взбалмошен и неумён, пил крепкую со своими голштинскими капралами, курил вонючий табак и мечтал развестись с Екатериной, чтобы жениться на фрейлине Елизавете Воронцовой. Бецкой откровенно заговорил обо всём этом с Екатериной и получил в ответ такую же откровенность. Екатерина рассказала Бецкому, что в войсках уже идёт агитация за неё, что братья Орловы подпаивают и подкупают офицеров, что многие уже за неё, но пока всё ещё в стадии разговоров, сплетен, переговоров и ничего конкретного.
Бецкой сам предложил свои услуги — он начнёт раздавать в войсках деньги, чтобы убедить их возвести на престол Екатерину вместо Петра...
Он раздавал свои деньги, иногда отчитывался перед Екатериной, но делал всё молча, тихо — так, чтобы его ни в чём не заподозрили.
3
Как и все участники переворота, Бедкой был награждён Екатериной многими землями и деньгами, а кроме того, она сразу же сделала его президентом Академии художеств, и до самой смерти он числился в этом звании.
Но несмотря на неограниченное влияние на императрицу, несмотря на своё особое и слишком высокое положение, Бецкой не имел врагов при дворе. Весьма возможно, что этому способствовал характер Ивана Ивановича, не любившего ссоры и интриги, но всё дело было в том, что Бецкой занял ту нишу, которую до сих пор не удосужился понять и возглавить ни один вельможа екатерининского времени. Сам незаконный сын, он сочувствовал подкидышам и сиротам, и создание Московского воспитательного дома было его мечтой, его главным делом и болью его сердца.
Должностей у него хватало — Екатерина старалась всех своих приближённых привлечь к государственным обязанностям. Она сделала Бецкого шефом Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, и многие поколения кадетов сохранили высокое уважение к прямому седому старику, учившему их нормам нравственности и морали. Сам не замешанный ни в каких аферах, ни в каких интригах с целью получения новых богатств, он и учеников своих подвигал к тому же. Но самое главное — он учил учиться, учиться всю жизнь, самостоятельно постигая основы жизни и умственного развития.
Екатерина прекрасно сознавала, насколько высокое место в обществе должно занимать образование. Она сама блестяще вышла из борьбы с Петром Третьим только потому, что имела богатое самостоятельное образование, хорошо понимала свою роль и значение в истории России. И как мало могла она опереться на косных и невежественных вельмож — все её великолепные идеи разбивались об их невежество и рутинность. Потому и поддерживала она Ивана Ивановича в его проектах воспитания и просвещения горячо и неустанно.
С самого начала своего царствования Екатерина требовала от своих соратников мыслей и идей по поводу воспитания. Свои убеждения она, как и Бецкой, заимствовала у французских энциклопедистов, и в особенности у Жан Жака Руссо, хотя и недолюбливала этого философа и невысоко ставила его гений. Но воспитательные идеи Руссо увлекли Екатерину. Бецкой много способствовал развитию у императрицы этих идей в конструктивные начала, в создание целой сети школ и училищ, могущих создать «новую породу людей», как выражалась Екатерина. Эти люди должны были быть с малолетства оторваны от родного дома и семьи, воспитываться в стенах закрытых учебных заведений, чтобы коренным образом отличаться от древних укоренившихся взглядов в старом дворянстве. В эти учебные заведения должны были помещаться пяти- шестилетние дети дворян и содержаться там до двадцати лет.
Екатерина раскрывала перед Бецким свои мысли по поводу такого образования, и он горячо поддерживал её. И если она не смогла добиться воплощения той широкой программы, которую разработала, то лишь потому, что не встретила поддержки со стороны русского дворянства, в том числе со стороны передовой части русской интеллигенции. Даже Новиков, который был знаменем прогрессивной части русского дворянства, не поддерживал взглядов Бецкого и Екатерины на развитие образования в России. Новиков был не согласен с утверждениями Руссо об закрытости образования, его отдельности от местных обычаев и взглядов. Наоборот, он предполагал, что развитие образования в России необходимо строить как раз на основе этих старых обычаев, внедрять новое, чисто русское и отстранять всё чуждое, взятое в Европе, как не подходящее для русского образования.
Так что взгляды русских деятелей того времени не давали возможности самой императрице развернуть дело русского просвещения так, как ей виделось.
Однажды на вечере у Екатерины её тогдашний фаворит Потёмкин горячо говорил об открытии новых университетов в России. А Завадовский, служивший начальником недавно открытых начальных училищ, с усмешкой заметил, что пока ещё ни одного имени крупного учёного не дал даже Московский университет, хотя со времени его основания прошло больше четырёх десятков лет.
Потёмкин отшутился:
— Это потому, что вы не дали мне удобного случая закончить учение, а выгнали меня вон...
Он, правда, забыл прибавить, что был изгнан из университета по лености и нерадению...
В защиту университетского образования вступилась Екатерина:
— С тех пор как у меня начали служить люди, учившиеся в Московском университете, я начинаю кое-что разбирать в бумагах, представляемых мне для подписи. Раньше сделать это было просто невозможно...
Итогом этого разговора было решение создать университеты во многих городах, в том числе и в Екатеринославе, который, впрочем, ещё нужно было сначала построить...
Но не только сопротивление русских интеллигентов встретило большие препятствия в деле народного образования. Надо было искать целые полки отечественных учителей, преподавателей, а их в России не было совсем или были лишь иностранцы, кое-как выучившие русский язык.
Бецкой столкнулся с этим при основании Кадетского корпуса. Директором его он назначил бывшего суфлёра французского театра, а инспектором классов — камердинера покойной матери самой Екатерины.
Один из учителей, Фабер, когда-то служил лакеем у двух других преподавателей корпуса и сделался их коллегой по воле Бецкого.
Французы пожаловались Бецкому на такое неравенство и их унижение. Но Фабер был исполнителен, знающ, работал с душой, и Бецкой ограничился тем, что дал ему чин поручика русской армии, и таким образом уладил это надменное «унижение».
Найти преподавателей, особенно из числа женщин, было ещё труднее. В Кадетском корпусе существовала должность инспектрисы, и это место досталось госпоже Зейц, жене одного из приближённых Петра Третьего.
Не в уровне образования этой особы было дело. Генеральша Лафон, начальница другого учебного заведения, находившегося под особым покровительством императрицы, пользовалась поэтому неограниченной властью в педагогическом мире. Но она была должна госпоже Зейц крупную сумму и расплатилась этой должностью...
Была в корпусе и такая должность — полицмейстер. На неё, по рекомендациям крупных вельмож, назначил Бецкой некоего Ласкари, совершенно тёмную личность, да, кроме того, бывшую не в ладах с законом. Но должность полицмейстера в Кадетском корпусе заставила забыть о всех его подозрительных проделках, и впоследствии Ласкари стал директором этого учебного заведения да ещё и в чине подполковника.
Так что, прежде чем заботиться об учениках, Бецкому и особенно Екатерине приходилось думать об учителях. Их в России не было, и Екатерина начала посылать молодых людей в Оксфордский университет, в Туринскую академию и в немецкие школы с тем, чтобы, вернувшись, они могли обучать русских учеников. Но всего этого было мало, и многие начинания и Екатерины и Бецкого так и остались лишь мечтаниями и туманными разговорами.
Но как бы там ни было, а Кадетский корпус под руководством Ивана Ивановича Бецкого жил, действовал, обучал молодых офицеров и выпускал грамотных, настойчивых воинов.
Корпус многое давал молодым людям, которые учились в нём пятнадцать лет. Это были математика, история, география, словесность, фортификация и тактика. Кроме того, в большом объёме преподавались тут иностранные языки, фехтование, танцы и гимнастика.
Сам Бецкой не преподавал конкретную науку, но он был генерал-директором, шефом корпуса и навсегда запомнился своим ученикам. Многие герои 1812 года вспоминали о нём с нежностью и благоговением.
Бецкой стремился к тому, чтобы офицеры, выходящие из стен Кадетского корпуса, были достойными продолжателями боевых традиций русской армии.
Его прямая строгая фигура часто мелькала в коридорах и дортуарах корпуса, и воспитанники замирали при одном только виде этого седого «старика», как они его называли. Он был всегда сух, требователен, подвижен и чрезвычайно заботлив.
Иван Иванович не выносил лодырей и лентяев, презирал бездарей и никогда не выделял титулованных особ. Он со всеми был предельно вежлив, остроумно высмеивал бездельников и зорко следил, чтобы воспитанники «кондуиту исправного, сиречь годности всякой» были, чтобы в науках и познаниях были сильны, а «пуще готовили себя к превозможению трудов ратных». Русская армия нуждалась в боевых, знающих командирах, а не в парадных шаркунах. Бецкой прекрасно осознавал это, передавая свой опыт молодым безусым будущим воинам. Он рассказывал им о победах Румянцева и Суворова, призывал учиться у этих опытных командиров и заставлял гордиться силой и славой русского оружия.
Но недостаточный размах педагогической деятельности Екатерины всё ещё ранил её честолюбие. Она писала Гримму:
«Послушайте-ка, господа философы, вы были бы прелестны, очаровательны, если бы составили милосердно план учения для молодых людей, начиная с азбуки и до университета включительно. Мне говорят, что нужны школы трёх родов, а я, которая нигде не училась и не была в Париже, не имею ни образования, ни ума и, следовательно, не знаю вовсе, чему надо учить, ни даже чему можно учить. И где же мне всё это узнать, как не у вас, господа? Мне очень трудно представить себе, что такое университет и его устройство, гимназия и её устройство, школа и её устройство...»
Конечно, хитрила тут Екатерина: многое она знала и умела, но как могло бы помочь ей содействие философов, людей просвещённых, думающих!.. Нет, она не дождалась ответа и принялась за дело образования в России собственными средствами и собственными мыслями, лишь почерпнув некоторые идеи у французских энциклопедистов.
Но педагогическая система Екатерины была применена ею лишь в одном образцовом воспитательном заведении, которым она гордилась до конца своих дней и создателем которого был Иван Иванович Бецкой.
Это был Смольный институт, иначе говоря, Институт благородных девиц.
Почти постоянно пребывал там Бецкой, потому что императрица зорко следила за своей мечтой, за своим созданием. Под институт было отведено великолепное дворцовое здание, каждая воспитанница оставалась в стенах института десять лет, совершенно оторванная, таким образом, от семьи. Даже в зимний период не было у воспитанниц отпусков, и они виделись с родителями только в течение часа в определённые дни.
Зато императрица бывала тут часто, улавливала все недостатки и со страстью принималась искоренять их. И Бецкому нередко приходилось плохо.
В институте было два отделения на пятьсот мест. В одном отделении учились лишь дворянки, в другом — мещанки. И у них не было ничего общего ни в том образовании, которое им давалось, ни в образе жизни, ни даже в одежде. У дворянок были тонкое искусное бельё, изящные платья, подходящие для выходов в свет, — а императрица часто призывала во дворец своих любимых смолянок, прекрасное помещение и превосходно сервированный и отличный стол. И обучались они в основном живописи, музыке, танцам, хотя и остальным наукам отводилось место в их образовании. А мещанки носили грубое бельё, кофту и фартук, хотя цвет одежды был одинаков как для тех, так и других. И занятия их коренным образом отличались от занятий для благородных девиц — тут большое место занимали домоводство, кухня, управление домом и поместьем. Словом, одних готовили к балам, блестящему замужеству и роскошной дворянской жизни, а других — к услужению и найму в хорошие дома.
Одни и те же знания давались воспитанницам только в религиозном смысле. Закон Божий преподавался в институте в светском виде, здесь не настаивали на необходимости проводить дни и ночи в молитвах, как это было в воспитательных монастырях Европы, где лишь так и подходили к женскому образованию. Екатерина же решила, что религиозный элемент может присутствовать в образовании смолянок только как элемент необходимой культуры — и не более.
Бецкой участвовал и в создании нескольких специальных училищ и школ для юношества из дворян и мещан. Но эти специальные училища, готовившие артиллеристов и кавалеристов, нельзя считать каким-то исключением. Их создавал ещё Пётр Первый. А вот женское образование в России ведёт своё начало от Екатерины и от Бецкого, стоявшего во главе создания Смольного института.
Конечно же Бецкой принимал большое участие в работе организованных им институтов и особенно Кадетского корпуса.
Но главной его мечтой и мыслью было создание Московского воспитательного дома, которому он отдал почти все свои годы.
Дому для подкидышей, как его тогда называли, сразу же была отведена обширная территория Васильевского луга между Китайгородской стеной и рекой Яузой. На севере эта граница доходила до улицы Солянка. Это было топкое низменное место, и оно частенько заливалось половодьем и с Яузы, и с Москвы-реки. Но традиция, господствовавшая тогда в архитектуре, требовала вынесения больших сооружений на главную водную магистраль города.
В архитекторы строительства Бецкой выбрал известного в Москве обрусевшего немца Карла Ивановича Бланка. Он уже был хорошо знаком москвичам — им было построено несколько церквей и даже по заказу самой императрицы церковь на Солянке.
По проекту Воспитательный дом должен был состоять из основного здания, или корделожи, с двумя боковыми корпусами. Эти корпуса образовывали квадраты с внутренними двориками. Со всех сторон примыкали к квадратам невысокие пристройки. Западный квадрат, прилегавший к стене Китай-города, решено было отдать под мальчиков-подкидышей, а восточный был предназначен для девочек. Предполагалось выстроить в доме также две церкви. Одна из них отводилась девочкам, вторая — мальчикам.
Уже через год после манифеста Екатерины состоялась торжественная закладка здания для Воспитательного дома. Бецкой открывал эту церемонию, на которой отслужили торжественный молебен и на которую были приглашены все вельможи и знатные люди города. В праздничной обстановке были заложены медные доски с надписями на русском и латинском языках об основании Воспитательного дома 21 апреля 1764 года...
Бланк сразу же приступил к первоначальному строительству. Он использовал современные по тем дням дренажные работы. Каналы под землёй непосредственно сообщались с Москвой-рекой и давали возможность проводить строительство без опасения наводнений. Западный квадрат был возведён в короткие сроки, и Екатерина, посетившая строительство, была благосклонна к архитектору, соорудившему прекрасный дворец для подкидышей.
Однако сколько ни бился Бецкой, денег на осуществление его главной идеи было всё меньше и меньше. Хоть и пытался он привлечь к попечительству самых знатных и богатых вельмож своего времени, хоть и тратил на строительство большие суммы из собственного кошелька, хоть и выдавала ему Екатерина суммы из государственной казны, но размах сооружения дома был столь велик, что денег постоянно не хватало.
К руководству строительством Бецкой привлёк внука известного уральского заводчика Никиты Демидова — Прокофия Акинфиевича Демидова. Сам Прокофий писал Бецкому:
«Покорнейше прошу в своё сообщество меня принять. На приготовление материалов, на наем работников и прочее вношу до ста тысяч рублей».
Это было большим подспорьем для Бецкого, метавшегося по вельможам с просьбами о деньгах для Воспитательного дома. Демидов действительно прислал двести тысяч рублей ассигнациями да ещё решил взять на своё содержание Коммерческое училище, выделив для этого капитал в двести пять тысяч рублей.
Но в желании Демидова была и своя горькая правда: он полностью отстранил архитекторов, хозяйничал на строительстве и, самое главное, воровал свои же собственные деньги, выделенные им для Воспитательного дома.
Ив 1782 году строительство фактически прекратилось, хотя до полного возведения зданий было ещё далеко. Демидов слишком затянул всё дело, он так и не возвёл восточный квадрат, предназначенный для девочек-подкидышей, да к тому же ещё и задолжал громадные суммы опекунскому совету. Бецкой обратился к Екатерине с просьбой погасить из государственной казны долги умершего к тому времени Демидова, и императрица согласилась удовлетворить просьбу Бецкого.
В конце концов были выстроены только главное здание, западный квадрат с двухэтажной пристройкой да восточная часть окружного строения. Однако уже с завершением строительства главного здания Воспитательный дом начал функционировать и принимать подкидышей из города. Потом сюда стали привозить подкинутых малышей и из других городов...
Но Воспитательный дом замышлялся как государственное учреждение, и деньги на его строительство и содержание должны были выделяться из государственной казны. Россия же вела изнурительную турецкую войну, грозила взятием Петербурга и Швеция, катастрофические суммы расходовал Потёмкин на обустройство южных провинций и создание Черноморского флота, и Екатерина просто не могла себе позволить тратиться ещё и на народное образование. Бецкой довольствовался подаяниями богатых людей, но известно, что чем богаче человек, тем он скупее, и подаяния были мизерными.
Он следил за судьбой детей-подкидышей и споем Воспитательном доме, но все известия о нём были крайне неутешительными.
В первый же год приёма подкидышей, 1764-й, сюда привезли и принесли пятьсот двадцать три ребёнка. К концу года из них умерло четыреста двадцать четыре.
В следующем году в дом приняли только девяносто трёх малышей, из них умерли пятьдесят девять. Каждый год зачислялись сюда подкидыши. Но отсутствие должной медицинской помощи и сколько-нибудь квалифицированных нянь приводило к печальному исходу. Да и детей доставляли или уже брошенными прямо на улице, уже простудившимися или же с признаками сильных заболеваний. Бецкой, как мог, наблюдал за деятельностью Воспитательного дома, часто ездил сюда с инспекциями, но он понимал, что прежде надо было обучить весь штат сотрудников, а потом уже открывать этот дом.
Тем не менее Бецкой продолжал надеяться на лучшее, выпрашивал деньги у богатеев и все свои средства вкладывал в своё любимое дело.
Однако так велика была смертность в Воспитательном доме, что в Москве стали поговаривать о нём как о «доме ангелов смерти».
Выживших младенцев опекунский совет определял в деревни. Их забирали бездетные крестьяне, в основном из-за тех средств, которые выплачивал приёмным родителям опекунский совет.
Дети из Воспитательного дома получали фамилию и отчество приёмного отца, некоторые, достигнув школьного возраста, обучались в четырёхклассных школах дома, открытых во многих губерниях по протекции Бецкого.
Вся дальнейшая судьба приёмышей из Воспитательного дома зависела от воли приёмных родителей. Но большей частью такие дети попадали в ученики в московские портняжные и сапожные мастерские. И лишь самых одарённых детей Бецкой приказывал воспитывать в стенах дома до совершеннолетнего возраста. Их, талантливых и способных, отдавали затем учиться в университеты и посылали за границу совершенствоваться в науках и искусстве.
Таких, однако, было очень мало...
К концу жизни Бецкой сознавался, что его надежды на частную благотворительность не оправдались. Только государству были по силам такие очаги милосердия, как Воспитательный дом...
Бецкой прожил долгую и интересную жизнь, ему было девяносто один год, когда он скончался. Хоть и отличала его Екатерина, хоть и сделала своим управляющим по делам народного образования, но ни капли грусти не было в её письме Гримму, где она сообщала ему о смерти этого человека:
«31 августа сего года, после обеда, скончался Бецкой, часа два тому назад... За последние семь лет он впал в детство и почти в слабоумие. Уже девять лет, как он ослеп. Когда кто-нибудь заходил к нему, он говорил: «Если императрица спросит у вас, что я делаю, скажите, что работаю со своими секретарями». Особенно он старался скрыть от меня потерю зрения, боясь, чтобы я не отставила его от занимаемых им должностей. Но в сущности уже давно другие правят его делами вместо него, только он этого не знает...»
Платон Зубов
1
вор уже давным-давно перебрался в Царское Село, любимую резиденцию Екатерины Второй, благоустроенную и украшенную именно ею. Встав с постели в шесть часов, как обычно, императрица выходила в длинные галереи, открывала двери в сад, наполненный подстриженными кустарниками, огромными и остро пахнущими цветниками, некоторое время вдыхала бодрящий прохладный воздух, а затем возвращалась к своим делам. На этот раз она даже не взглянула в сторону сада. Выпив свою обычную чашку крепчайшего кофе, она дождалась, пока её верный камердинер Захар Зотов не закроет за собой дверь, бросила приготовленное перо на пачку бумаги, запачкав её большой кляксой, подпёрла голову рукой и горько задумалась.
Потом она встала из-за письменного стола, прошла к большому зеркалу, стоящему у стены, и присела на маленький мягкий пуфик перед бесстрастным взглядом зеркала.
Она внимательно смотрела на своё отражение, стараясь найти черты разложения и усталости, черты старческой дряблости, и не находила их. Из зеркала глядела на неё здоровая, полная, может быть несколько чересчур полная женщина с упругими, натираемыми каждодневно льдом крепкими щеками, с высокой, всё ещё тугой и сильной грудью, с высоким и широким белым лбом, всё ещё не тронутым морщинами. Ей было шестьдесят, и она снова переживала кризис. Нет, она ещё не стара, чтобы отказаться от чувственных удовольствий. Только возле острого и выдающегося вперёд подбородка, увеличенного вторым, толстым и плотным, скопились кое-где складки да к носу протянулись тоненькие морщинки. Возле глаз они были уже давно, но Екатерина никогда не обращала на них внимания — она умела всегда выглядеть такой, какой хотела быть.
Неужели Мамонов видит её морщины и думает о ней как о старухе? Иначе почему вот уже полгода он отговаривается то стеснением в груди, то головной болью и не ласкает её так, как в прежние времена? Почему он всё время надут и мрачен, почему даже в государственных делах потерял ту остроту зрения, которой отличался в прежние годы? А может, амур, какая-нибудь девица завладела им?
Екатерина смотрела на себя в зеркало, и вдруг поток слёз смочил её крепкие круглые щёки. Почему она, повелительница такой державы, должна быть несчастной из-за какого-то красавчика, которого ей рекомендовал светлейший? Почему она должна плакать из-за его видимого простым глазом охлаждения, почему не может она быть всегда счастливой?
Светлейший рекомендовал в сердечные друзья этого красавца. Правда, он действительно отличался родовитостью, аристократизмом, знал философию и литературу, был превосходным собеседником, остроумным, начитанным, в меру дерзким и весёлым. Что же такое случилось, что ей приходится плакать из-за него, из-за того, что он уже не так нежен и ласков с ней, как в первое время?
Всё каких-то странных людей рекомендует ей светлейший. Сначала они как будто пылают к ней чувством, а потом охладевают, а то и вовсе изменяют.
Корсакова она застала в объятиях графини Брюс и была вынуждена отправить и его, и её в Москву, столицу опальных вельмож. Ланской, это её прелестное дитя, преданное и верное, умер. А теперь вот Мамонов ведёт себя так, как будто охладел к её перезрелым прелестям, дуется и капризничает и не подходит к ней, несмотря на её страстные призывы и взгляды.
Да, это все те, кого рекомендовал князь Потёмкин. Они были верны ему, не смоли и слова сказать против светлейшего, униженно передавали поклоны и приветы в своих письмах. Но пока что ни один из них не стал слишком долго занимать место возле неё. Одни Ланской был фаворитом четыре года, но ранняя смерть унесла в могилу это прекрасное тело...
Может быть, стоит изменить тактику, отстранить многолетнего сердечного друга от такой милости, как назначение фаворитов, может быть, ему уже изменяет вкус, верная оценка кандидата?
Екатерина снова погляделась в зеркало и снова залилась слезами. Нет, что-то кроется в поведении Мамонова, а ей сейчас как никогда необходимо равновесие, спокойствие. Теперь, когда турок и швед с двух сторон прижимают русскую империю, когда дела так плохи, только её повседневное спокойствие, её высокий дух, её оптимизм и могут удержать положение на высоте. А тут, как на грех, Мамонов со своими дурацкими выходками...
Но неужели она состарилась, неужели больше никого уже не соблазнят её крепкие, ещё высокие груди, в ложбинках которых, правда, уже собираются складочки? Неужели никому не понравится её высокий, чистый и широкий лоб и её чувственные, небольшие, но полные губы? Она посмотрела на свою руку, ничем не украшенную, — нет, её руки всё ещё свежи и упруги, да и сердце подсказывает ей и жажда телесных утех свидетельствует, что она не одрябла и душой и тело её всё ещё готово к ласке и любви.
Нет, сегодня же она поговорит с фаворитом начистоту, выскажет ему все упрёки и укоры и уж, так или иначе, узнает, почему он стал холоден и невнимателен к ней...
Она вытерла слёзы. Решение внезапно успокоило её, и она снова села за свой письменный стол и принялась писать, как всегда, ровно, невозмутимо, с теми же тяжеловесными шутками, что и всегда.
Решающее объяснение было отложено на послеобеденное время. Задумывая его, Екатерина имела кое-что про запас. Совсем недавно, дня три-четыре назад, ей показали молодого ротмистра, прелестного, как ангел, с такими чёрными бархатистыми глазами, каких ей ещё не приходилось видеть. Он был начальником караула, охранявшего царскосельский дворец. Она никого о нём не спрашивала, но верные люди, её наперсница Анна Нарышкина, постарались ответить на все незаданные вопросы. Вот она-то, Нарышкина, и уверила Екатерину, что ангелочек страдает от страстной любви к ней, императрице, что он пытался было даже покончить с собой, стрелялся, но те же верные люди отобрали пистолет. С тех пор он сам не свой, только и видит, что Екатерину, только и говорит, что о ней...
Сладко было слышать это стареющей шестидесятилетней женщине. Значит, она всё ещё молода, всё ещё способна возбуждать в мужчинах страсть и любовь.
И от одной этой мысли Екатерина встряхнулась, снова стала такой, какой привыкла быть, — молодой, красивой, обаятельной. И хотя большая толстая трость с золотым набалдашником напоминала ей, что вот уже и ноги плохо носят грузное тело, что приходится слегка подволакивать левую, и что без палки ей теперь и не походить по саду, но мысли эти мелькнули мимолётно и ушли. Знала старая императрица, что всегда найдётся с десяток молодых и красивых офицеров, которые кидают пламенные взгляды на окна императорского дворца. Место уж слишком хорошее. Проливается золотой поток на того, кто его занимает. И потому многочисленные партии во дворце стараются посадить на это место своего человека — тогда и им перепадёт немного золотого дождя, да и политика повернётся от усилий нового фаворита.
Оттого и не беспокоилась Екатерина, что останется без любимца, но ей было чрезвычайно обидно, что Мамонов оказался таким неблагодарным. Она подняла его из ничтожества, наделила орденами, чинами, землями и крестьянами, сделала его богатейшим человеком в России, а он почему-то норовит укусить облагодетельствовавшую его руку, как злая собака кусает руку хозяина...
Правда, при решительном разговоре Екатерина не произнесла ни слова о неблагодарности, она только без колебаний спрашивала, почему фаворит стал так холоден и неласков с ней...
Ничего не добилась она этим разговором. Он твердил всё то же: стеснение в груди, головные боли, он не совсем здоров, да и, кроме того, позор его положения падает на всё его семейство, родовитое и знатное, ведущее своё начало аж от Рюрика.
Вот этого и опасалась Екатерина больше всего — что Мамонов станет тяготиться своим положением, хотя она отлично знала, какой дождь из милостей, наград, чинов и имений просыпался и на всю семейку фаворита...
Но она ничего не сказала, лишь подумала, что нужно найти такой выход из положения, который не очернил бы её и дал фавориту уйти мирно и спокойно. Пусть уйдёт, а красавчика с чёрными глазами надо будет узнать поближе...
Дневник Храповицкого, секретаря Екатерины, в подлинности донёс до нас всю эту ситуацию:
«20 июня 1 789 года императрица работала с Храповицким. Вдруг она прервала чтение доклада:
— Слышал здешнюю историю?
— Слышал, ваше величество.
— Уж месяцев восемь, как я подозревала. Он ото всех отдалялся, избегал даже меня. Его вечно удерживало в его покоях стеснение в груди. А на днях вздумал жаловаться, будто совесть мучает его. Но не мог себя преодолеть. Изменник! Лукавство — вот что его душило! Ну, не мог он себя преодолеть, переломить, так чего бы не признаться откровенно! Уж год, как влюблён. Буде бы сказал зимой, что полгода бы прежде сделалось то, что произошло третьего дня! Нельзя вообразить, сколько я терпела!
— Всем на диво, ваше величество, изволили сие кончить.
— Бог с ними! Пусть будут счастливы... Я простила их и дозволила жениться! Они должны, бы быть в восторге, и что же? Оба плачут! Тут замешивается ещё и ревность. Он больше недели за мной примечает, на кого гляжу, с кем говорю! Странно!.. Сперва, ты помнишь, до всего имел охоту, и всё легко давалось, а теперь мешается в речах, всё ему скучно, и всё грудь болит. Мне князь, правда, ещё зимой говорил нынче: «Матушка, плюнь на него!» — и намекал на Щербатову. Но я виновата, я сама его перед князем оправдать старалась...
Он пришёл в понедельник, 18 июня, стал жаловаться на холодность мою и начал браниться. Я ответила, что сам он знает, каково мне с сентября месяца. И сколько я терпела. Просил совета — что делать? Советов моих давно не слушаешь, а как отойти, подумаю...
Потом послала ему записку, предлагая блестящий выход из положения: мне пришло на ум женить его на дочери графа Брюса. Ей всего тринадцать лет, но она уж сформировалась, я это знаю.
Вдруг отвечает дрожащей рукой, что он с год, как влюблён в княжну Щербатову, и полгода, как дал слово на ней жениться.
Посуди сам, каково мне было...»
Княжна Щербатова была прелестной семнадцатилетней фрейлиной. Ей, как и Мамонову, не позволялось выходить из дворца, даже чтобы навестить родственников. Постоянное общение, сидение взаперти сблизило их, и, что бы ни говорила Екатерина, очарование и свежесть семнадцатилетней красавицы перевесили все выгоды положения фаворита.
Но жалуясь Храповицкому на изменника, Екатерина в то же время дала секретарю перстень с редким бриллиантовым камнем и десять тысяч рублей, завёрнутых в расшитый бисером кошелёк.
Секретарь знал, что с ними делать. Он моментально положил их под подушку на кушетке императрицы. И он даже знал, кому предназначался этот первый подарок — молодому и очаровательному начальнику караула во дворце Платону Зубову. Его уже ввела во время кризиса во дворец его покровительница и наставница Анна Нарышкина...
Вечером Екатерина увидела Платона, разглядела при свете свечей его изумительной красоты глаза — чёрные, бархатистые, они были так глубоки, что ей сейчас же захотелось утонуть в этой глубине. Но время ещё не пришло — прежде Зубов должен был подвергнуться тщательному осмотру у Роджерсона, придворного врача, много лет пользующего Екатерину, а потом испробовать Протасову, пробир-даму Екатерины, заменившую верную, но изменившую графиню Брюс и Марью Саввишну Перекусину.
Екатерина была довольна своим великодушием. Она не только позволила изменнику жениться, но и наградила его свыше меры. К свадьбе подарила она Мамонову три тысячи крестьян да ещё сто тысяч рублей золотом, несмотря на крайне скудное положение казны.
И невесту к венцу одевали в будуаре Екатерины при её личном, непосредственном участии. Она даже убирала голову своей хорошенькой соперницы бриллиантовыми булавками. Правда, злые языки говорили, что острая булавка глубоко впилась в кожу княжны Щербатовой, но это была лишь минута. Все остальные милости были на виду у всех.
Екатерина, конечно, была глубоко оскорблена, и гнев её прорывался в письме к светлейшему:
«Если зимой тебе открылось, для чего ты мне не сказал тогда? Много бы огорчения излишнего тем прекратилось. Я ничьим тираном никогда не была и принуждение ненавижу... Возможно ли, чтобы вы меня не знали до такой степени и считали меня за дрянную себялюбицу? Вы исцелили бы меня в минуту, сказав правду...»
Но по её же письму видно, что она любила Мамонова и горевала от разлуки с ним, хотя и старалась не показывать этого.
Сам Потёмкин рекомендовал Екатерине Мамонова в качестве сердечного друга, но теперь он начисто забыл об этом:
«Мамонов дурак. Как он мог покинуть место, порученное ему? Но потеря невелика. По моей привычке оценивать всё я никогда не ошибался в нём. Он смесь нерадения и эгоизма. Уж в этом он Нарцисса за пояс заткнёт. Думая только о себе, он громко требовал всего, никогда не платя ничем. Из лени даже приличия забывал. Будь вещью, ничего не стоящей, но только понравься ему, она сразу становится самой драгоценной на свете. Таковы права и княжны Щербатовой».
Единственным утешением Екатерины была мысль о том, что её бывший возлюбленный лишился рассудка:
«Представьте, себе, что есть признаки, указывающие на его желание вместе с женой оставаться при дворе. Вообще, какое противоречие мыслей! Как будто в уме смешавшийся...»
Недолго длилось её смятение и возникала смутная мысль о своей старости, которую сумела покорить хорошенькая семнадцатилетняя девчонка. Теперь Екатерина старалась приобрести доверие и любовь к самой невинной душе, которую она обнаружила в Зубове, у великого человека, её всегдашнего советчика и непререкаемого друга. Ах, как она боялась, что кандидат, не рекомендованный Потёмкиным, утратит в его глазах милость и благоволение, и она готовила светлейшего к тому, что и этот человек никогда не посягнёт на те права, которые были у князя Потёмкина при троне.
Вскоре Екатерина уже с лукавой улыбкой пишет Гримму, освещая этот эпизод в своей жизни:
«Воспитанница мадемуазель Кардель, найдя, что Красный кафтан (Мамонов) более достоин сожаления, чем гнева, и считая его достаточно наказанным на всю жизнь самой глупой из страстей, не привлёкшей насмешников на его сторону и выставившей его как неблагодарного, поспешила поскорее закончить это дело, к удовольствию всех заинтересованных лиц. Многое заставляет догадываться, что молодые живут между собой несогласно».
И действительно, Мамонов вдруг затеял переписку со своей прежней пассией. Он писал:
«Случай, коим по молодости моей и тогдашнему моему легкомыслию удалён я стал по несчастию от Вашего величества, тем паче горестнее для меня, что сия минута могла совершенно переменить Ваш образ мыслей в рассуждении меня. Живя в изгнании в Москве, одно сие воображение, признаюсь Вам, терзает мою душу — вернуться в Петербург и приблизиться к той, с которой никогда бы не следовало расставаться...»
Екатерине льстило такое отношение, она всё ещё воображала, что только её обаяние, её зрелая неувядающая красота могли внушить Мамонову любовь и страсть и он горько сожалеет о потерянном. «Он не может быть счастлив», — так решила она, но теперь у неё уже был заместитель, молодой, едва двадцать два года, красивый, как ангел, нежный и робкий, как начинающий влюблённый. Она хотела было пригласить Мамонова обратно, но теперь уже мешал Зубов, и она отложила свидание на год. Но через год Зубов уже был сам так силён, что Мамонов не решился ехать в столицу. Помериться силой с Зубовым ему не пришлось бы — теперь уже не было в живых Потёмкина, а без него Мамонов не ставил на карту своё спокойное существование в Москве. Словом, он струсил перед Зубовым...
Зубова сразу заметили все. Через день после отъезда Мамонова в Москву он уже поселился в покоях бывшего фаворита. Сразу было предоставлено в его распоряжение всё то, чем пользовался Мамонов, — роскошные апартаменты, великолепная мебель, произведения искусства, развешенные на стенах, огромный штат прислуги и конечно же чин генерал-адъютанта. Сто тысяч золотых рублей ждали его в ящике письменного стола, а затем выходы в свет в присутствии самой императрицы, рекомендовавшей его всем своим вельможам.
Но зато он лишился свободы — он был заперт в золотой клетке, и выходить из неё не дозволялось никому.
Первый член Коллегии иностранных дел Александр Андреевич Безбородко писал о новообретённом фаворите в Лондон своему другу Семёну Воронцову:
«Этот ребёнок с хорошими манерами, но недальнего ума. Не думаю, чтобы он долго продержался на своём месте. Впрочем, меня это не занимает».
А должно было бы занимать! Через три года Зубов всё ещё был фаворитом и отнял у Безбородко все его дела по Иностранной коллегии...
Зубовых было четыре брата, и всех одновременно представил Платон Зубов императрице.
Но увидел, что сделал неверный ход: младшего, Валериана, Екатерина выделила сразу же, потихоньку гладила его по красивой гладкой щёчке — ему было всего восемнадцать лет, — щупала его упругое мальчишеское тело и приговаривала:
— Какой же ты писаный красавец, какой же ангелочек!
Платон понял, что брат, нимало не смущённый благосклонностью императрицы и заходивший куда дальше, чем требовалось по этикету, может даже отбить у него её милости. Тогда он был сильно занят тем, чтобы подорвать престиж Потёмкина у императрицы и предложил ей послать Валериана волонтёром в южную армию. Уж он-то, его кровный брат, сразу разберёт, в чём грехи и провинности Потёмкина, про которого и так шли глухие толки, что тот разворовывает казну, живёт как султан и воевать вовсе не умеет, хотя и назначен главнокомандующим всей южной армии.
Не верила Екатерина всем наветам на Потёмкина, но этот проект — послать Валериана к Потёмкину — одобрила. Не хотелось ей отказывать фавориту ни в чём: уж слишком тешил он её самолюбие, уж слишком страстно любил её, как ей казалось.
И Валериан отправился в южную армию. Каких только наветов и сплетен не собирал он о Потёмкине и писал обо всём этом Платону! А тот, делая выдержки из писем, представлял Екатерине лицо Потёмкина. И хоть старалась Екатерина задобрить своего давнишнего любимца — светлейшего князя, писала, что больше всех отличает Платон Зубов Потёмкина, что лишь его полагает и самым остроумным, и самым деловым, и самым преданным престолу, — Потёмкин не верил этой лести. И главным врагом в последние два года жизни стал для него этот мальчик с «невинной душой», как говорила о нём императрица. Светлейший всё грозился, что приедет в Петербург выдернуть этот «больной зуб», но последняя поездка в столицу показала, что Екатерина теперь больше верит этому сладкоголосому красавчику. И только смерть спасла Потёмкина от страшной неминуемой опалы...
Но Валериан вернулся, и родной брат придумал для него новое путешествие: он послал его под стены Варшавы, которую потопил в потоках крови Суворов.
Не в боях, не в стычках, а где-то на аванпостах Валериану ранили ногу, и ему пришлось лишиться большей её части. Встревожилась Екатерина, послала раненому мягкую карету, придворного хирурга и особым образом сделанное мягкое кресло, которое носили двое слуг.
Так и прибыл Валериан в Петербург, но Зубов заметил, что в императрице не убавилось нежности к этому безногому калеке. И он наметил для него ещё более далёкую поездку — на завоевание Персии...
Потёмкин умер, и теперь у Зубова не было соперников. Он стал быстро возвышаться, прибирая к рукам все дела по всем департаментам.
2
«Граф Зубов здесь всё. Нет другой воли, кроме его воли. Его власть обширнее, чем та, которой пользовался князь Потёмкин. Он столь же небрежен и неспособен, как и прежде, хотя императрица повторяет всем и каждому, что он величайший гений, когда-либо существовавший в России» — так писал граф Растопчин в Лондон Семёну Воронцову.
Но только одна императрица держалась такого мнения. Все, решительно все были настроены против Зубова, захватившего все сферы влияния, все источники императорской милости. Он один делал доклады по всем делам, пользовался подсказками Моркова по Коллегии иностранных дел, отдавал руководство другими департаментами своим родичам и никого не подпускал к Екатерине.
Потёмкин лишь после двадцати лет верной службы императрице добился своего исключительного положения. Зубов же в семь лет достиг вершины исключительной власти. Он стал графом и князем Священной Римской империи, получил ордена Чёрного и Красного Орла, а русских орденов у него было не счесть. Фаворит отдавал приказания Суворову в качестве новороссийского генерал-губернатора. Где только освобождался какой-либо пост, сулящий большое жалованье и возможность взяток, он немедленно направлял туда своих братьев, отца, ближайших родственников.
Правда, он остался благодарен за услуги, оказанные ему Анной Нарышкиной и Перекусихиной. Первой он подарил драгоценные часы, а вторую вознаградил диковинным драгоценным перстнем. Не уставал он при всяком удобном случае услуживать и графу Николаю Ивановичу Салтыкову, благоволившему к Зубову и многое сделавшему для его возвышения. Салтыков был воспитателем великого князя Александра, которого Екатерина намечала на всероссийский престол, и благодаря Николаю Ивановичу Зубов установил дружеские отношения с великокняжеской семьёй.
Тем не менее ему чуть не пришлось споткнуться на том же самом месте, что и Мамонову.
Великий князь Александр довольно рано женился. Екатерина нашла ему невесту из германского герцогства Баден-Баден, прелестную, образованную и умную принцессу. В православии её назвали Елизаветой Алексеевной, и весь двор восхищался женой великого князя. Не обошёл этот восторг и Зубова.
Он начал ухаживать за женой великого князя, старался настичь её в укромных уголках, расточал ей комплименты, норовил коснуться её прелестной белой ручки. Это сразу же заметил Александр, но даже он, имевший большое влияние на бабушку, поостерёгся рассказать ей об ухаживании Зубова.
Целый год продолжалось это увлечение. Екатерина не видела ничего особенного в том, что Зубов старается танцевать на балах лишь с Елизаветой, играет в те игры, в которые играла она.
На что рассчитывал в этом случае Зубов? Уж не на то ли, что из постели одной императрицы он может так же спокойно перелечь в постель другой, ежели ей случится вступить на престол? Тем более что эта императрица была молода, красива, не чета старой развалине Екатерине. А может быть, просто не устоял он перед обаянием юной жены великого князя...
Только через год от своих доверенных женщин узнала Екатерина об этой интрижке. Разгневавшись, она задала такую взбучку фавориту, что он смиренно поджал хвост, покаялся и поклялся, что даже взгляда не бросит в сторону Елизаветы. С тех пор Екатерина зорко следила за фаворитом. Зубов и в самом деле бросил своё ухаживание, держался в стороне от молодой четы, помня злой тон императрицы и опасаясь за своё положение во дворце...
Императрица восхищалась всем, что говорил и делал фаворит. И скорее всего её всепоглощающее чувство не давало ей заметить недостаток ума у своего избранника, его всепожирающее честолюбие, его страсть к богатству и роскоши. Он никогда ничего не просил у Екатерины, он нашёл способ извлекать деньги из тех, кто просил его о чём-либо. За свои услуги он требовал платы, и немалой. Скоро все при дворе знали, как много несут в кассу фаворита те, кто хотел получить положительный ответ на свои прошения, часто вовсе несправедливые. Справедливые или нет — решал Зубов, и чем дальше от справедливости отстояли прошения, тем большую цену брал за них фаворит. И всем при дворе было известно: если Зубов брался исполнить просьбу, она будет исполнена. Для него не существовало в устах императрицы слова «нет».
Однако и сама императрица засыпала Зубова подношениями. Поместья, имения, тысячи крепостных крестьян, денежные подарки, драгоценные перстни, бриллиантовые пуговицы так и сыпались на голову Зубова, с самым скромным видом принимавшего эти подарки. В короткий срок он превзошёл по богатству Потёмкина, самого богатого человека.
Но Зубов ревновал даже к памяти великого человека. Он не позволил императрице написать некрологи о Потёмкине в газетах, не разрешил ей, проливавшей слёзы по поводу этой гибели и ценившей по достоинству дела светлейшего, поставить ему памятник.
— Как, он завоевал пустынные степи, где никого нет, он основал Черноморский флот, который уже весь сгнил, он, кто не пощадил даже своих племянниц, беря их в качестве своих наложниц, этот человек, расхитивший пол-России, ещё будет удостоен и памятника? — так визжал Зубов в кабинете Екатерины, когда она пыталась внести проект памятника великому человеку.
Императрица пробовала возражать.
— У великого человека и пороки великие, — шутливо отговаривалась она.
Но памятника Потёмкину так и не поставила...
Ещё Потёмкину писала она, что её радость не знает границ: «Я возвратилась к жизни, как муха после зимней спячки, я снова весела и здорова».
И это всё совершил он, её маленький, хорошенький, чёрненький, словно ребёнок. Она писала, как он миловиден, как обаятелен, какие у него чудесные качества души и сердца. В нём вся требовательность и вся прелесть его лет: он плачет, когда ему не позволяют войти в комнату к государыне.
«В нём есть желание всем нравиться, когда он находит случай писать Вам, он поспешно пользуется им, и его любезный характер делает и меня любезною... Вы не можете не полюбить этого ребёнка...»
Но Потёмкин уже давно понял душу и сердце этого ребёнка и не поддавался на лесть и комплименты. Он так и умер с болью в душе, что какому-то поручику удалось отнять у него, светлейшего, всю силу, власть и влияние на императрицу. И он, как мог, противостоял этому маленькому и чёрненькому. Когда Потёмкин в последний раз приехал в Петербург, императрица решила купить у него громадное имение, продаваемое им, и подарить Зубову.
За парадным обедом произошёл следующий разговор:
— Что стоит это имение? — спросила государыня у Потёмкина.
— Простите, ваше величество: оно уже продано.
— С каких пор? — удивилась императрица.
— С сегодняшнего утра.
— И кому же?
— Вот купивший.
И Потёмкин совершенно хладнокровно показал на бедного адъютанта, стоявшего за его креслом.
Императрица нахмурила брови, выказала своё недовольство, но сделка была формально совершена, и совсем обалдевший адъютант ни за что ни про что получил эти двенадцать тысяч душ крестьян.
Всё, что мог делать Потёмкин, чтобы противостоять Зубову, он делал.
Но теперь его не было, и Зубов распоясался. Он больше не боялся никого. Прежде бывший любезным и вежливым до искательности, теперь он стал надменен и презрителен.
Впрочем, как и не быть ему надменным, если каждое утро показывало ему, какой силой власти он обладает!
В его роскошных апартаментах спозаранку собиралась целая толпа искателей милости императрицы. Какой-то заслуженный генерал каждое утро варил ему кофе по особому рецепту и подавал в постель, а просители толпились в приёмной, дожидаясь, пока фаворит проснётся и соизволит выйти к ним.
Чаще всего он не выходил. И случалось, что некоторые по три года просиживали в его приёмной, так и не принятые им.
Он устроил для себя в это время суток нечто напоминавшее цирк. Кто-то подарил ему маленькую обезьянку, ростом с кошку, и она гуляла по всем апартаментам, прыгая с люстр на кушетки и диваны.
Но больше всего любила эта обезьяна слизывать пудру, которой были густо усыпаны парики и тупеи[43] приходивших к Зубову вельмож. Она немилосердно рвала и кусала эти парики, а покорные просители ждали, когда она закончит свой завтрак...
Однако это преклонение перед властью и устойчивое стремление урвать своё, может быть, и заставляли Зубова быть таким презрительным к этой низкопоклоннической толпе. Что хочешь могли вытерпеть эти лизоблюды, лишь бы урвать кусок милости даже у такого человека, каким был Зубов...
Но весь двор каждый день убеждался, что Зубов ничего не знает и не хочет знать. Когда ему докладывали о делах во внутренних департаментах, ответ его был один:
— Делайте, как прежде.
А по внешним делам он и вовсе вёл себя как трёхлетний ребёнок, ничего не знающий и не понимающий. На глазах у императрицы он перекраивал карту Европы, вычёркивая Австрию, отбирая у Франции две трети её территории, а остальное возвращая вернувшимся Бурбонам. Но императрица только смеялась, забавляясь его наивностью и невежеством. Она в это время уже начинала прибаливать, и все её помыслы уходили лишь на то, чтобы избавиться от своих болей. У неё вдруг открылись раны на ноге, гноящиеся и воспаляющиеся. Придворный доктор Роджерсон успокаивал императрицу, уверяя, что через эти открытые раны уходят из организма вредные вещества.
Но Зубов достал откуда-то лекаря, знахаря-итальянца, прописавшего Екатерине холодные морские ванны на больную ногу.
Императрица приняла курс этих ванн, и раны на ноге действительно закрылись, но зато возникли сильные головные боли, приливы крови к лицу и голове, и она стала чувствовать себя ещё хуже. Но всё-таки она благодарила Зубова за итальянца, заживившего её раны, и говорила, что только им одним она и держится на свете...
Но если Зубов вмешивался в политику, то результаты были плачевными.
В Петербург приехал последний из Бурбонов, изгнанных из Франции, граф Артуа. Он мотался по всему свету, уходя от долгов, которые наделал во всех странах, покровительствующих ему. Графу Артуа хотелось поехать в Англию, чтобы там пересидеть смутное время, и он разговаривал об этом с Зубовым, ведущим все дела по внешней политике.
— Ваше высочество может вполне успокоиться, — сказал ему Платон Зубов. — Англия будет весьма счастлива принять вас. Она сделает всё, что пожелает императрица. И у нас там есть уполномоченный, который сумеет всё разрешить и быть к вашим услугам...
Семён Воронцов, бывший в то время уполномоченным России в Англии, предупредил графа, чтобы тот ни в коем случае не ездил в Англию: там его поджидают кредиторы, которые не преминут воспользоваться случаем и посадить графа в долговую тюрьму.
Последний из Бурбонов надменно сообщил Воронцову о словах Зубова.
Тот пришёл в ужас. И всё, чего он смог добиться, — это возможность убедить графа не ездить в Англию. Граф сам уверился, насколько это было опасно для него, и поехал искать свою долю в какое-нибудь германское государство.
Зубов не знал да и не понимал, что и в стране, и в армии царят распущенность и полное отсутствие дисциплины, что казна совершенно пуста, зато переполнены тюрьмы. Таковы были последствия деятельности фаворита.
Третий раздел Польши Екатерина всецело приписывала гению Зубова. Однако же это было задумано ещё Потёмкиным и Безбородко, только выполнено позднее. Но решающие подписи были поставлены Зубовым, и ему же достались самые крупные и жирные куски польского пирога. Зубов получил тысячи квадратных километров угодий, самые роскошные и богатые поместья, тысячи крестьянских душ. Заодно он закабалил и мелких шляхтичей, светлой мечтой которых стало теперь освобождение от русского ига...
Но и организация администрации в Польше была заслугой других работников — Тутолминых, Репниных, Паленов. Екатерина же всё приписывала своему любимцу, и потому дождём сыпались на него награды, богатства, ордена.
Если Екатерина и не искала для Зубова занятий, то он сам находил дела, которыми любил похвастаться перед своей покровительницей. Нашёл же он авантюриста Рибаса, которому Екатерина неожиданно присвоила чин адмирала, и послал его для устройства нового города — Одессы. Он направлял все шаги француза, но главную прибыль, как всегда, оставлял за собой. Строительство поглотило безмерные суммы, большая часть из которых попала в карман фаворита.
Нигде не упускал Зубов своей выгоды. Эта черта собирательства, постоянное скопидомство проявились у него в более зрелые годы, когда он, имея в сундуках больше двух миллионов, трясся над каждым грошом.
И семейство Зубовых процветало, добавляло к своим богатствам не по копейке, а миллионы, растаскивая и разворовывая страну...
Но ничего этого не знала да и не хотела знать Екатерина.
«Никто ещё в Ваши годы, — писала она фавориту, — не имел столько способностей и средств, чтобы быть полезным отечеству».
Однако Зубову хотелось ещё большего. Он искал проект, в котором отразилось бы его влияние на дела России, и остановился на персидском походе.
Екатерина всегда была открыта грандиозным, если не сказать безумным, затеям, и если Потёмкин сумел всё-таки присоединить Крым, создать Черноморский флот, то она думала, что и теперь звезда её счастья не потемнеет и самый величественный проект конца её царствования останется памятником ей и её любимому Зубову.
Ещё Пётр Первый ходил в персидский поход, и ему приходила в голову стремительная и грандиозная мысль — о вольном торге с Индией, о гаванях при великом океане, о власти над слабой, обленившейся Персией, которая никогда не могла противостоять никакому сильному противнику.
Но одно дело — мысли, а другое — исполнение. И даже Пётр отказался от своей идеи: нестерпимая жара, коварство и жестокость окрестных племён, невозможность застичь их врасплох среди ущелий и высоких гор заставили его уйти с берегов Каспийского моря, оставив лишь небольшие гарнизоны для обороны нескольких завоёванных крепостей вроде Дербенте и Баку.
Анна Иоанновна отдала обратно эти земли, не было у неё ни мыслей по этому поводу, ни сил, ни армии, чтобы продолжить дело Петра. А Елизавета была слишком занята войнами в Европе, чтобы ещё оглянуться и на восток. Так что к началу царствования Екатерины Второй никто и не думал о расширении границ не только на восток, но и на юго-восток, к океану. Зубов долго убеждал Екатерину в возможности и особом смысле похода на Персию. Он рассказывал о богатствах этого края, небольших трудностях при его завоевании, о том, что местные князьки всё время воюют друг с другом и эта междоусобица позволит русским войскам быстро покорить их. Словом, для него персидский поход был просто развлекательной прогулкой, а в результате можно было бы потеснить Оттоманскую империю с востока и сделать реальной мечту Екатерины о создании нового византийского царства, на трон которого стоит посадить её второго внука, Константина.
Это было давнишней мечтой Екатерины, и часть плана по покорению Царьграда Потёмкин уже выполнил, навсегда сломив силу Порты. Но Царьград по-прежнему оставался в руках турок, и это всегда сидело занозой в сердце императрицы.
Зубов убеждал и убеждал. Что ему было до того, что страна разорена и всё ещё не может оправиться от разорительных трат Потёмкина на новую область империи, что армия обезлюдела, что денег в казне нет, несмотря на хитросплетения Екатерины с выпуском бумажных денег.
Ему нужна была лишь слава для себя и для Екатерины, ему надо было, чтобы потомки поставили ему памятник за эту грандиозную и полезную для России затею.
Но Екатерина сопротивлялась недолго. Императрица, конечно, знала, как ослаблена империя, с каким напряжением даются ей все эти завоевательные войны, но она цинично говорила, что русские крестьянки снова народят рекрутов и их вновь можно будет послать в бой.
Словом, Екатерина приняла план Зубова и потихоньку стала готовиться к предстоящей войне.
Формировался корпус, которому надо было пойти в поход против Персии и кавказских народов, потихоньку прикапливала императрица деньги для войны. Наконец нашёлся и командующий новой армией — всё тот же Валериан Зубов, которого не хотел оставлять вблизи трона Платон Зубов, потому что видел уж слишком блестящие глаза императрицы, устремлённые на хорошенького мальчика, пусть даже и без ноги. И Валериан вёл себя с императрицей очень вольно: то плечико поцелует, то, нескромными глазами полезет за лиф. Екатерине только приятно это было, но Платон дико ревновал и даже своего брата не собирался сажать за стол, за которым он был полный хозяин.
Валериан был назначен командующим южной армией и отправился в поход. Екатерина снабдила его тремя миллионами золотых рублей, всем провиантом и боеприпасами для солдат, одеждой и обувью — словом, всем, что полагается в настоящей войне.
Сначала успех как будто сопутствовал даже таким горе-воинам, как Валериан Зубов.
Проходя по дворцу и держа в руках очередную реляцию брата, Платон откровенно улыбался всем проходящим и сообщал:
— Ничего у нас особенного, просто ещё один город взят...
И Екатерина радовалась торжеству фаворита.
Но скоро пошли вести неутешительные. Трудности похода обнаруживались, как только войска стали подходить к отрогам Кавказа.
Валериан начал жаловаться на отсутствие денег, на жару, на то, что солдаты раздеты и разуты, на жестокость и коварство местных князьков. Он просил, нет, даже не просил, а требовал властным тоном денег, продовольствия, боеприпасов. Всего не хватало для этой безумной затеи...
А кроме того, Екатерину постигла большая неудача со сватовством шведского короля Густава. Она прочила за него свою внучку Александрину, дочь Павла и Марии Фёдоровны.
Это деликатное дело она поручила двум своим людям — Зубову и Моркову, который теперь заменял в Коллегии иностранных дел Безбородко.
Но Густав был фанатиком своей протестантской веры, и главным пунктом для него в брачном договоре была смена принцессой своей религии, крещение по лютеранскому обряду.
Екатерина же настаивала на том, что русская принцесса и за границей должна остаться православной, даже иметь свою часовню и своих священников.
Зубов и Морков не стали настаивать на этом пункте перед Густавом. Авось, когда уже состоится обручение, мальчик-король отступится, не посмеет пойти наперерез желаниям Екатерины.
Но мальчик-король остался твёрд, не подписал брачный договор, и Екатерина была вынуждена признать, что двое её доверенных людей оказались несостоятельными.
Она даже поколотила своей тяжёлой палкой Моркова, но дело было сделано, и Густав уехал.
Императрица слегла, и, наверное, это был самый тяжёлый момент в её жизни, если она не смогла противостоять такому молодому королю, как Густав, которому едва исполнилось семнадцать лет. Все эти события приблизили смерть великой Екатерины.
3
Было ещё совсем темно, когда дверь опочивальни Зубова распахнулась. На пороге стоял Захар Зотов, камердинер Екатерины. Он светил свечой и негромко взывал:
— Платон Александрович, проснитесь, государыне худо...
Зубов долго не открывал глаз — считал, что это только сон, что слова Зотова лишь продолжение какого-то кошмарного видения.
Но это был не сон. И Платона словно подбросило с кровати: нет, она не может умереть сейчас, когда он ещё не насладился всей своей властью, когда в Персию ещё не вошли войска Валериана, она ещё так молода, всего-то шестьдесят семь лет, она должна ещё прожить хотя бы лет десять—двенадцать.
Но руки сами хватали мундир, залитый золотом, ноги всовывались в тугие башмаки, а в сердце звенела тонкая струна: неужели, неужели...
Он выскочил в опочивальню Екатерины.
Грузное старое тело императрицы лежало на кожаном матраце посреди комнаты. Когда слуги вытащили её из уборной, где она лежала, привалившись к двери, их сил недостало, чтобы перенести её на кровать и устроить с удобствами. Притащили матрац и едва завалили на него грузное неподъёмное тело.
На коленях возле императрицы уже стоял Роджерсон. Он щупал пульс, приоткрывал опущенные веки, осматривал всё тело Екатерины.
Платон бросился на колени перед императрицей, и слёзы потоком залили его красивое, ещё смятое после сна лицо.
— Надо пустить кровь, — пробормотал Роджерсон.
— Нет-нет, — сразу встряхнулся Зубов. — Она может умереть...
— Она и так умрёт, — холодно ответил врач, — удар был в голову и смертелен...
Платон зарыдал.
Екатерина хрипела, пена толчками выплёскивалась из её приоткрытого рта, судороги сотрясали всё её большое грузное тело.
— Так вы говорите, нет надежды? — поднял глаза к Роджерсону Зубов.
Тот только молча покачал головой.
Зубов схватился за сердце. Он погиб, всё, чем он обладал, — всё это уйдёт, всё канет в неизвестность. Что делать, как быть, к кому обратиться за помощью?..
В комнату вошёл Николай Зубов, старший брат Платона.
— Быстро скачи в Гатчину, — поднялся с колен Платон, — предупреди наследника да не забудь передать, кто тебя послал...
Николай молча кивнул головой и выскользнул за дверь...
Возле тела императрицы, сотрясаемого судорогами, столпились придворные слуги, отирая пену на её губах, придерживая тело, готовое скатиться с кожаного матраца, сжимая её руки, взметывающиеся в конвульсиях. Платон вновь опустился на колени, слёзы ручьями стекали по его гладким щекам. Он различал край кожаного матраца, юбки Екатерины, то и дело открывающие её старческие отёкшие ноги, и видел перед собой лишь пропасть, черноту, неизвестность.
Вдруг он заметил пыльные тупоносые ботфорты, стоявшие рядом с телом, и понял, что приехал наследник и от этой минуты зависит вся его жизнь, всё его состояние. Правда, он был дерзок с Павлом, правда, иногда высказывал нелестные суждения о нём, но всё можно свалить на Екатерину: дескать, это она приказывала ему быть таким, и он послушно выполнял её распоряжения и советы.
Изогнувшись, как змея, он припал лицом к грубому солдатскому ботфорту Павла, залил слезами пыль и страстно забормотал:
— Простите меня, ваше высочество, простите меня великодушно!..
Павел скосил глаза на Зубова, обнимавшего его сапоги. Ах, как же хотелось ему в эту минуту ударить со всей силой в это гладкое красивое лицо, прямо бы концом сапога, да так, чтобы красной краской расцвела ссадина на этом лице!
Но он сдержался. Мать корчится, умирает, Роджерсон точно сказал ему, что агония продлится до ночи или до следующего утра, но государыня не придёт в себя. Значит, бояться нечего, теперь он здесь хозяин, теперь ему принадлежит здесь всё, вся Россия.
И потом, на него все смотрят, все ждут, каков будет первый шаг самодержца.
— Верные слуги моей матушки будут и моими верными слугами, — громко сказал Павел.
Зубов отполз от матраца, поднялся и пробрался в свою комнату. Он не стал ждать конца жизни императрицы, не стал ждать вместе со всеми.
Но, очутившись в своей комнате, он понял, что не должен сейчас покидать дворец...
Агония длилась до следующего утра, и всё это время Павел использовал, чтобы добиться ясного понимания своего положения.
В кабинете Екатерины, где он запёрся с Безбородко, ему удалось найти пакет, перевязанный чёрной лентой, в котором хранилось завещание Екатерины. Она оставляла престол старшему внуку, Александру, считая Павла неспособным осуществлять императорскую власть.
Он бросил пакет в огонь, и от завещания не осталось и следа...
Утром Екатерина скончалась.
Зубов бросился вон из дворца, собрав всё, что только было можно, — большие суммы денег, хранившиеся в его шкафах, золочёные одежды, драгоценности, надаренные Екатериной.
Он приехал в дом на Английской набережной, где жила его сестра Зинаида Жеребцова, и десять дней никуда не выходил, сказываясь больным.
Зубов всё ещё ждал решения нового императора о своей судьбе, представлял самые грозные последствия — то ли тюрьму, то ли ссылку, то ли ещё что-нибудь. И когда царский посланец постучался в двери дома, сердце у Зубова затрепетало: вот оно, наказание за прожитые в неге и довольстве семь лет.
Но посланец передал от государя странную весть: он-де приготовил Зубову дом на Морской улице и завтра приедет, чтобы посмотреть, как устроился экс-фаворит, и напиться там чаю.
Зубов был в полном замешательстве, он не знал, что и подумать. Он тут же поехал на Морскую и нашёл там дом со всеми удобствами и в полном убранстве — с мебелью, посудой, экипажами, лошадьми, — самый комфортабельный дом во всём Петербурге.
Зубов тут же принялся устраиваться, всё ещё надеясь, что гроза обошла его стороной.
Павел действительно приехал па другой же день. Да и приехал не один, а вместе с Марией Фёдоровной.
Зубов снова обнял сапоги императора. Тот поднял его и сказал:
— Кто старое помянет, тому глаз вон...
За столом, куда Зубов немедленно пригласил царскую чету, Павел поднял бокал шампанского и произнёс, глядя прямо в глаза бывшему любимцу своей матери:
— Желаю тебе столько благополучия, сколько капель в этом стакане...
Он отпил половину бокала и бросил его на пол по старой русской традиции, чтобы показать искренность своих чувств.
Зубов опять припал к ногам императора и снова услышал ту же пословицу:
— Кто старое помянет, тому глаз вон...
Павел добавил, обратившись к царице:
— Налей ему чаю, ведь теперь у него нет хозяйки...
Мария Фёдоровна не произнесла ни слова, но чаю налила.
Зубов ничего не понимал. Но через день его отрешили от всех должностей, все его имения были конфискованы и отданы в казну, и он получил приказание отправиться путешествовать...
И он отправился. На пути ему встретилась красивая девушка, и он сделал ей предложение. Но девушка была дочерью курляндского герцога, ранее оскорблённого Зубовым, и тот с негодованием отказал ему. Было у него и ещё несколько небольших романов, и однажды он влюбился до того, что решился увезти девушку, невзирая на отказ отца.
Но тут пришло приказание Павла вернуться в Россию.
Платон собрался и поехал — он не мог не повиноваться своему хозяину.
Но оказалось, что граф Палён собирал всех бывших врагов Павла, чтобы сместить его с престола и отдать трон Александру.
Вместе с братом Николаем Платон Зубов участвовал в заговоре и вместе с братом ворвался в Михайловский замок 11 марта 1801 года. Но сам Платон был слишком труслив, чтобы оказать какое-либо содействие в заговоре, и главную роль предоставил брату. Николай Зубов и нанёс императору Павлу решающий, смертельный удар золотой табакеркой в висок.
Заговор удался, на трон взошёл император Александр, но против обыкновения никто из заговорщиков не получил за это награду.
Александр был крайне возмущён тем, что убили его отца, тогда как он, участвуя в заговоре, оговорил главным условием сохранение жизни отца. Он считал себя виновным в его смерти и мучился совестью до конца своих дней.
С заговорщиками Александр обошёлся очень холодно: иных сослал в их деревни, иным приказал отправиться за границу. Эта участь постигла и Платона Зубова.
Он едва не погиб на водах в Теплице. Шевалье де Сакс, спасавшийся в Петербурге во времена революции во Франции, ещё в 1794 году страшно рассорился с князем Николаем Щербатовым. Шевалье вызвал князя на дуэль, но тот не пришёл, а по подсказке и с участием Зубова устроил для де Сакса засаду.
Француз был избит, изуродован, но слово чести было для него дороже всего. Он по газетам вызывал на дуэль своих противников, но никто не откликнулся.
И здесь, в Теплице, шевалье увидел Зубова и прямо-таки вцепился в него. Он потребовал дуэли и заставил Платона принять вызов.
Но Платон Зубов всегда был страшным трусом и, кроме того, плохо владел оружием.
Секунданты принесли пистолеты, но Зубов не встал на своё место. Он отговорился тем, что не умеет стрелять из пистолета, и потребовал другое оружие.
Шевалье предложил драться на саблях. Зубов упал в обморок.
Его заменил князь Щербатов. Он встал на место, выбранное секундантами, и через минуту бедный шевалье, и без того изуродованный ночными налётчиками, был мёртв...
Император Павел всё-таки сжалился над трусливым бывшим фаворитом. Ом вернул ему замок Шавли, доставшийся Зубову при разделе Польши.
Имение было роскошное, давало большой доход, и многие годы Зубов провёл в нём, собирая деньги...
Его братья, Валериан и Николай, занимали при Александре высокие должности в армии, но ничем не проявили себя.
К концу своей странной жизни Платон Зубов стал настолько скупым, что его не интересовало ничего, кроме денег. Он безжалостно тиранил своих крестьян, выдирая буквально копейки.
Деревни, примыкавшие к замку, ветшали, становились жалкими и убогими. Ничто не привлекало Платона — он везде ездил сам, не доверяя никому из управляющих собирать оброки и долги, сёк своих крепостных, отбирал последние копейки, приказывал выводить со дворов и продавать коров, лошадей и овец. Крестьяне проклинали жадного барина и много раз пытались подниматься против него. Но всякий раз Платону Зубову везло — какие-то случайности всегда останавливали негодование крестьян, и потому его замок стоял не сгоревшим, а сам он оставался живым.
Но само одно это слово — «смерть» — наводило на него ужас. Он прятался в подвалах замка, запирался на все засовы и запоры и дрожал от страха. Он жил одиноко и бесприютно, опустился и в свои пятьдесят лет выглядел как дряхлый старец.
В 1807 году Александр проезжал мимо замка Шавли и был потрясён нищенским видом деревень Зубова. Император распорядился прекратить притеснения крестьян и укротить жестокость владельца.
Однако и это не дало крестьянам Зубова ни минуты передышки — он продолжал своё дело, потому что единственной его страстью стали деньги.
В своих подвалах он держал железные сундуки, доверху наполненные золотыми. Тут были и рубли, и дукаты, и луидоры — все валюты Европы копил у себя Зубов.
Он, словно скупой рыцарь, развлекался только видом этих денег, пересыпал их из руки в руку и радовался яркому блеску монет. Наиболее старые он чистил, увлекался этим занятием и был счастлив от одного вида своих сокровищ. Он давно уже сократил до минимума своих слуг, экономил на еде и посуде, заставляя окрестных крестьян делиться с ним всем, что могло быть полезным в крестьянском хозяйстве. Не гнушался даже корзинками с яйцами, продавал их и добавлял к своим сокровищам ещё малую толику.
Но судьба и тут сыграла с Платоном Зубовым злую шутку.
Долгие годы он жил одиноко и замкнуто, долгие годы страшился смерти, убегая и запираясь от одного лишь услышанного слова, не выходил из своей комнаты по нескольку дней, питаясь сухим хлебом.
Почему он так боялся смерти? Ему всё время казалось, что Павел прибегнет к жестоким российским законам и либо повесит его, либо колесует. В России всё ещё сохранялись такие виды казни, и Платон мучительно боялся пыток перед казнью. Но никогда не сознавал он, что слишком много грешил, никогда его не мучило раскаяние, и совесть его молчала. Только смерть пугала его.
Однажды он поехал в город Вильну, чтобы продать крестьянские приношения и развлечься. Он был очень дряхл, сед, волосы его вылезли, оставив круглую лысину, чёрные бархатистые глаза померкли, морщины избороздили лицо. Он и не старался выглядеть лучше — поношенные штаны, затёртый бархатный жилет, смазные сапоги составляли весь его наряд.
И вдруг Зубов увидел очаровательную девушку — Теклу Валентинович. Она была молода, хороша собой и шла по улице, словно пушистый молодой котёнок, играя концами своих прелестных длинных кос.
Зубов словно бы застыл в онемении.
Девушка до того понравилась ему, что он стал расспрашивать о ней у случайных прохожих.
Ему рассказали, что Текла — дочь местного помещика, не слишком богатого, но и не сводящего концы с концами, что отец бережёт свою дочь, а сама Текла отличается добродетельным нравом и уже отказала нескольким женихам из хороших родом, но небогатых.
Зубов немедленно призвал к себе своего забитого и задерганного управляющего Братковского.
— Приведи мне эту девушку, — потребовал он.
Изумлённый Братковский поспешил сообщить Зубову, что Текла девушка из хорошей семьи и что тут, в Польше, не годится, чтобы барин приказывал привести ему девушку. Будь она крестьянкой, будь она крепостной — другое дело. Но Текла была свободна, дочь дворянина, и такой напор Зубова мог не понравиться её отцу, который немедленно вызовет обидчика на дуэль.
Одно слово «дуэль» сразу же отрезвило Платона.
Жадный и корыстный, он, тем не менее, предложил Братковскому пойти к Текле и предложить ей десять тысяч рублей.
Братковский увиделся с Теклой, но она гордо отказалась взять деньги. Ещё несколько раз посылал Зубов Братковского к Текле Валентинович, но девушка стояла на своём — только венец мог доставить её в спальню к Зубову.
Делать нечего, Зубову пришлось покориться. Он женился на Текле Валентинович, а через год умер, оставив ей двадцать миллионов рублей золотом — они давно и бесполезно лежали в подвалах его дома.
Текла Валентинович стала княгиней и миллионершей и ездила потом по всей Европе, соблазняя своей красотой молоденьких военных...
Так закончилась жизнь последнего фаворита Екатерины Второй, по её словам, гения, а на самом деле мелкого, ничтожного человека.
Примечания
1
Рейтар — солдат кавалерии в наёмных армиях Западной Европы (в XVI—XVII вв.) и в России (в XVII—XVIII вв.).
(обратно)2
Бочатка (борчатка) — кафтан с борами — со складками.
(обратно)3
Форейтор — верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряжённых цугом.
(обратно)4
Полушка — старинная медная монета достоинством в четверть копейки.
(обратно)5
Кордегардия — помещение для военного караула.
(обратно)6
Камка — старинная шёлковая цветная ткань с узорами.
(обратно)7
Куртаг — приём, приёмный день в царском дворце.
(обратно)8
Гренадер — в царской и в некоторых иностранных армиях солдат или офицер отборных (по высокому росту) пехотных либо кавалерийских частей.
(обратно)9
Парвеню — человек, пробившийся в высшие слои общества или быстро достигший высокого служебного положения.
(обратно)10
Кошка — здесь ремённая плеть с несколькими концами, употреблявшаяся в старину для телесных наказаний.
(обратно)11
Фазис — фаза.
(обратно)12
Кунтуш — старинная польская и украинская верхняя мужская одежда в виде кафтана с широкими откидными рукавами.
(обратно)13
Архалук — род короткого кафтана.
(обратно)14
Аксамит — вид старинного плотного узорного бархата.
(обратно)15
Фижмы — каркас в виде обруча из китового уса, вставлявшийся под юбку у бёдер, а также юбка с таким каркасом.
(обратно)16
Куафёр — парикмахер.
(обратно)17
Генерал-фельдцейхмейстер — в русской армии до 1909 г. главный начальник артиллерии.
(обратно)18
Экзерциции — военные упражнения.
(обратно)19
Втуне — без результата, без внимания.
(обратно)20
Маркитант — торговец съестными припасами, напитками и предметами солдатского обихода при армии в XVIII-XIX вв.
(обратно)21
Служка — слуга в монастыре или при архиерее.
(обратно)22
Экзерсис — упражнение для развития, совершенствования техники исполнения (танца, музыки и т. д.).
(обратно)23
Каптенармус — должностное; лицо в армии, ведавшее хранением и выдачей продовольствия, обмундирования и оружия.
(обратно)24
Цейхгауз — военный склад для хранения оружия, снаряжения, обмундирования.
(обратно)25
Бивак (бивуак) — стоянка войск или участников похода, экспедиции, путешествия и т. п.
(обратно)26
Мыза — отдельно стоящая усадьба с сельскохозяйственными постройками.
(обратно)27
Сонм — большая группа, собрание кого-либо.
(обратно)28
Берейтор — лицо, объезжающее верховых лошадей, а также лицо, обучающее верховой езде.
(обратно)29
Грум — слуга, сопровождающий верхом всадника либо едущий на козлах или на запятках экипажа.
(обратно)30
Иеродиакон — монах в сане дьякона.
(обратно)31
Клирик — церковнослужитель, член клира — в христианской церкви совокупности священнослужителей.
(обратно)32
Белое духовенство — часть православного духовенства, которая не даёт обетов строгого воздержания, безбрачия и т. п. в отличие от чёрного (монашествующего) духовенства.
(обратно)33
Гурия — в мусульманской мифологии вечно юная дева рая, услаждающая праведников, попавших туда; красавица.
(обратно)34
Галера — старинное гребно-парусное военное судно с острым носом, заканчивавшимся надводным тараном.
(обратно)35
Жупан — старинная верхняя мужская одежда у поляков и украинцев, род полукафтана.
(обратно)36
Фанариотка (от названия квартала г. Стамбула — Фанарион) — богатая и знатная гречанка.
(обратно)37
Апробация — одобрение, утверждение, основанное на проверке, испытании.
(обратно)38
Фактотум — доверенное лицо, беспрекословно исполняющее чьи-либо поручения.
(обратно)39
Маетность — здесь: поместье.
(обратно)40
Ретраншемент — вспомогательная фортификационная постройка для усиления внутренней обороны после захвата противником части расположенной впереди полевой позиции или долговременного укрепления.
(обратно)41
Негоциация — дипломатические переговоры для заключения условий, договора; соглашение, сделка.
(обратно)42
Бастард — внебрачный сын владетельной особы.
(обратно)43
Тупей — старинная причёска: взбитый хохол волос на голове.
(обратно)
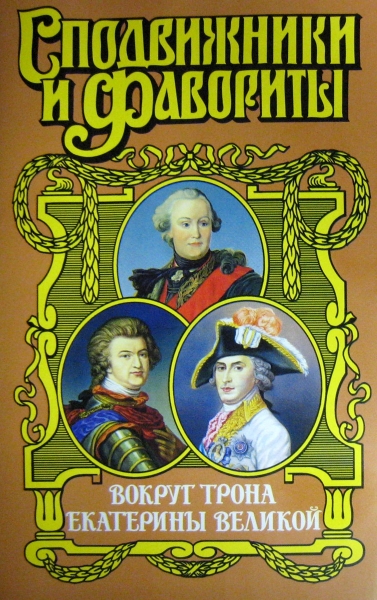



Комментарии к книге «Вокруг трона Екатерины Великой», Зинаида Кирилловна Чиркова
Всего 0 комментариев