Час волчьих ям Размышления в залах экспозиции «Русское искусство первой половины двадцатого века»в новой Третьяковке
В конце 20-го века легче писать о политике, об истреблении животных и растений, о половых извращениях затравленных и загнанных в бетонные норки людишек, чем об искусстве. Любое современное урбанистическое государство стало враждебным подлинному искусству, а точнее, тому искусству, к которому привыкли мы, люди иудо-христианской цивилизации, прожившие большую часть последнего века второго тысячелетия от Рождества Христова.
Нужно написать портреты родных и соседей, повесить их на стенку – это искусство; нужно написать ландшафт имения или дачи для того, чтобы, уезжая зимой в город, вспоминать дорогие места, – это искусство, нужно написать для церкви иконы,чтобы на них молиться, – это искусство; нужно украсить городскую площадь скульптурным фонтаном – это искусство и т. д. Искусство, я пишу о его изобразительных формах, всегда было утилитарным, необходимо людям и согрето их теплом. Между мастером и заказчиком очень часто возникали дружеские взаимоотношения на всю жизнь. Некоторые мастера делали свое дело превосходно – из их произведений составились теперь мировые музеи. Всегда были и художники-фантасты, писавшие странные картины для себя, но их во все времена было меньшинство, и у них была своя особая аудитория. В далеком прошлом человечества были военные сакральные государства: Ассирия, Египет, Рим. У них в искусстве были свои задачи подавления психики подданных псевдомонументализмом, но для людей ближе египетская мелкая пластика, интимные бюсты семьи Эхнатона, ассирийские валики-печати, римские скульптурные портреты, а не мрачные ансамбли, от которых веет холодом. Колизей замечателен тем, что там дикие звери ели первых христиан. Древний Рим – тем, что его сжег император Нерон, ассирийские цари в бычьем обличии с семенниками и хвостами оставили память тем, что они выжигали города и убивали поголовно всех жителей. Третий рейх Гитлера прославился такими же деяниями – строил крематории и идиотские мрачные здания, испоганившие Берлин, сталинский СССР снес древнюю Москву, истребил половину динамичного европейского народа и вырыл под землею чудовищное метро с позолоченными символами Антихриста. Средневековые города Европы, и западной и восточной, по большому счету были городами-коммунами, где все жители жили одной семьей, – так было и во Флоренции, и в раннем Париже, и в Новгороде, и в Константинополе, и в Равенне, и в Сплите. Искусство тогда было единообразным, массовым и сакральным – в принципе, быт и хозяев города, и обывателей был един, различались только материалы изделий: у богатых было серебро и золото, у бедных – медь и глина. Это время, где-то с 8-го по 15-й век, справедливо считается золотым веком нового европейского искусства. Все произведения всех жанров были рукотворны – об этом недаром с тоской вспоминал Джон Рескин, пытаясь возродить в промышленной Англии некоторое подобие безвозвратно ушедшего.Такие же попытки в России делала княгиня Телешева в Талашкине и Мамонтовы в Абрамцево. Успехи технического прогресса привели к тому, что морально одичавшие европейские страны, деля подземные кладовые земли, устроили две всеевропейские бойни, уложили цвет Европы в волчьи ямы и создали на их могилах новую утилитарную, целиком механизированную псевдоцивилизацию, в которой старое рукотворное искусство стало бездушным предметом вложения денег, и не больше. А труд художника по-прежнему рукотворен и наивен по своей сути – творец нянчит и пестует свое творение кистью и резцом, как мать пальцами гладит головку ребенка. Как реакция на противоестественные условия, в которых оказались люди подлинной и независимой Европы, возник авангардизм. «Города-чудовища» Эмиля Верхарна читали и братья Бурлюки, и Малевич, и Ларионов с Гончаровой, и Хлебников, и Лентулов, и все другие. А до этого все читали и проклятых поэтов Парижа, и восточных философов, ища альтернативу безликому урбанизированному обществу. Об этих поисках мне говорил Жегин, который сам тогда был младшим в тех, теперь почти мифических, компаниях и диспутах. Скоро люди выкачают всю нефть, вырубят все леса, поедят все зверье, а другой земли нет, она одна; тогда придут сюда китайцы, натянут на свои тамбурины, по словам вещего Блока, писавшего об этом еще в начале века, шкуры европейцев и будут славить своего узкоглазого кормчего.
Мои родители выросли в домах, где горели в канделябрах свечи, где прислуга ходила бесшумно, а в церковь и на парад ездили в ландо. И это было еще совсем недавно, был другой ритм жизни.Тогда в музеи ходили как в Художественный театр, и кто побогаче, старался купить картину модного художника.Так возникла Третьяковская галерея и ее культ среди москвичей. Но в России установился варварский тоталитарный большевистский режим, и островки русизма (МХАТ, Малый театр, Третьяковка) стали разновидностью московского зоопарка, где показывают редких зверей, в которых можно тыкать палками и кидать в них камни. Если же они начинали рычать, то их умертвляли в московских клиниках, как подопытных животных, уколами. Большевизм – это был антинациональный, антирусский режим, но он всячески прикрывался ручными и бессловесными обломками старой России, как сейчас ельцинская Россия нашла для себя псевдорусскую дрессированную обезьяну в лице Михалкова, играющего русских царей в декорациях Павла Бородина. В современной Москве музеи с русским искусством напоминают эстетические морги или паноптикумы мадам Тюссо. Невольно вспоминается старый eвpeйский анекдот: московский еврей показывает своему провинциальному родственнику Кремль: «Это царь-пушка, а это Грановитая палатка». Сюда можно еще добавить фразу: «А это Третьяковка, где Иван Грозный выколол шилом глаз своему сыну».
Советский тоталитарный строй полностью исказил все понятия, и обычно под старой вывеской скрывается совсем другое содержание. Под вывеской «Художественный театр» возник коллектив сына крупного чекиста Олега Ефремова, выросшего в зоне в семье тюремщика, а Третьяковку вообще перевели в серое бетонное здание на берег Москвы-реки, снеся уютные обывательские замоскворецкие переулки. Со времен Петра I – беспощадного диктатора, предтечи большевиков - в России возникло официальное принудительное искусство, очень похожее, по словам Андрея Синявского, на соцреализм. После 1991 года открытый большевизм рухнул, но партэлита осталась у власти, приняв новое обличие номенклатурного капитализма. Число госчиновников увеличилось втрое, не возникло среднего класса и фермерства, но зато в прессе пока разрешается облаивание из подворотен кого угодно и как угодно. Официальным искусством нового ельцинского режима стал эклектичный постмодернизм, который, как и при большевиках, существует на государственные по сути дотации. При дефолте 17 августа 1998 г., когда рухнуло большинство бaнкoв и фирм, в Москве закрывалось много офисов, из которых выбрасывались на помойку постмодернистские полотна, где их подбирали прохожие. Точно так же выбрасывали советские картины с изображением Сталина, а затем Хрущева. Я знаю случай, когда при ремонте одного подмосковного санатория вместе со старыми обоями выбросили подписные пейзажи Крымова и Юона. До 1917 года художники в России писали по простым причинам: или это им самим нравилось, или они хотели продать полотна коллекционерам, все это было добровольно и естественно. За отказ писать портрет Николая II их не сажали и не расстреливали. Один художник при Сталине написал его портрет и нес его по улице вниз головой – его арестовали. Художник Михайлов написал большую картину «Сталин у гроба Кирова» и, немного подпив, набросал за спиной Сталина скелет, который положил на плечо вождя кисть. На другой день он, протрезвев, замазал скелет, но при репродуцировании картины скелет проявился, и шутника расстреляли. До большевиков не было «принудительного творчества трудящихся», по блестящему выражению Кабакова, который изучал и собирал стенгазеты, боевые листки, наглядные отчеты, сделав эту продукцию источником своего вдохновения. В принципе все советское искусство было принудительным творчеством во всем разнообразии этого нового для России жанра.
Подходя к мрачному новому зданию Третьяковки, испытываешь сложные чувства – ты подходишь к месту эстетической и человеческой трагедии. Предстоит увидеть результаты насилия власти над живописью. Дореволюционное искусство было свободным проявлением творца, а все, что делалось при большевиках, делилось на три группы: живопись левых фанатиков, ненадолго поверивших в большевизм, а потом ставших в оппозицию к режиму; живопись приспособленцев 30-х годов, пытавшихся подстроить современный европейский язык к социальному заказу партии, и живопись откровенных фотографических соцреалистов – холуев режима, удушавших всех и вся. Среди этих людей, так или иначе задетых московской краснотой, были мастера, сложившиеся задолго до 17-го года и доживавшие свой век в условиях красного рейха, где аналогично Геббельсу кремлевская шпана с одинаковой злобой преследовала и «ублюдочное вырожденческое еврейское искусство» авангардистов, и околопоповские религиозные настроения национально-русских живописцев, которые объявлялись монархическими выродками и скрытыми белогвардейцами. За пейзаж с церковью или за портрет священника художников выгоняли из МОСХа, а некоторых и арестовывали. Никто не составил мартиролога погибших в лагерях и расстрелянных художников, не укладывавшихся в прокрустово ложе системы. Россия - погибшая страна с погибшей культурой. Национальная культура – это воплощенный дух нации, а дух русской нации в целом подорван, и у большинства потеряна воля к жизни. Через несколько лет треть русских вымрет – это подсчитали демографы. Существует ров, наподобие Бабьего Яра, между дореволюционным искусством и соцреализмом. Этот ров по ходынской технологии всячески маскировали и маскируют, чтобы доказать,что соцреализм был наследием русской живописи и теперешний постмодернизм прямо вытекает из дореволюционного авангардизма. Это я все знал хорошо и, имея этот камень за пазухой, посетил существующую довольно яркую, интересную экспозицию, которая в корне расходится с моими представлениями, какой ей надо быть на самом деле. Экспозиция, составленная под руководством Я.В.Брука, несомненно полезна и поучительна – она свела в одни залы несопоставимые явления. Фактически это застывшая в красках гражданская война. В одной застекленной холодной емкости оказались и палачи и жертвы одновременно. На базе Третьяковки должно быть фактически четыре разных музея: старая, дореволюционная реалистическая Третьяковка; музей русского дореволюционного авангарда; музей советского искусства 20 – 30-х годов и музей советского фашистского тоталитаризма.
Музей советского искусства 20 – 30-х годов уже однажды удалось временно реализовать на выставках Москва – Париж и Москва – Берлин. Все эти четыре художественные явления всегда находились в чудовищном антагонизме между собой, хотя все их участники хорошо знали друг друга и очень часто любезно раскланивались при встречах и даже иногда пили водку за одними столами. Нужен и еще один музей – истории нон-конформистского искусства 40 – 80-х годов. Но такой музей вряд ли возможно создать, так как огромное количество художников и связанных с ними идеологов умышленно играли на разнице политических систем, как многие играют на разнице валют, и вряд ли возможно свести в одну экспозицию враждующие группы и группировки. К тому же холодная война еще далеко не окончилась, и совершенно неясно, в каком ключе будут развиваться события не только в России, но и во всей Евразии.
Перейду, однако, к описанию экспозиции. При входе, на лестнице, как признанный Отец Лжи, сидит болтающая ножками статуя Игоря Грабаря в клетчатом костюмчике с кисточкой в руках. Он как бы говорит входящим: «Не очень-то верьте всему, что вы здесь увидите, мы всегда можем перетасовать колоду и все переиграть». Очень странно, что человек, повапленный на Лубянке и в доску свой у Ягоды и Менжинского, как бы благословляет своей кисточкой, писавшей Сталина и Ленина, весь русский живописный 20-й век. Если надо было ставить статую-символ при входе,то лучше бы это были идолы Коненкова, которые он ставил когда-то на Лобном месте на Красной площади. В них был пафос русской трагедии. Экспозиция заведомо ограничена, ее составителей интересовал русский авангардизм и все от него производное. Но русский авангардизм начался с Врубеля, странного, часто безвкусного художника, отчасти предтечи кубизма, со скульптур Голубкиной и Коненкова, с живописи Чюрлениса, с эмбрионального периода Павла Кузнецова, с выцветших, как старый гобелен, полотен Бориса Мусатова. Особенностью старой России было то, что в ней существовало, как в сословном государстве, сразу несколько Россий и несколько искусств, и все в одно время, параллельно друг другу. Существовало огромное холодное академическое искусство Императорской академии – подобие Берлину и Мюнхену, так сказать, санкт-петербургский сецессион, существовали немецкие сухие передвижники с их любовью к быту и анекдоту. В Петербурге выставлялись лубочные провинциальные европейцы – мирискусники, так сказать, обрибердслеи с Сенного рынка, изображавшие мастурбирующих «маркиз и маркизов» Сомова, ветреные, с карликами Версали Бенуа и городские чахоточные ландшафты Добужинского. Все эти господа, собранные шикарным, с седым коком педерастом Дягилевым, сказали свое слово в балете, а в живописи были такими же задворками Европы, как их непримиримые враги – передвижники. Петербург вообще ничего не дал в живописи, если не считать дамских портретов учеников западных мастеров. Только Рокотов и Левицкий достигли в свое время европейского уровня. В XX веке существовала и московская пейзажная школа, близкая и к барбизонцам, и к импрессионистам. Начались они все с грачей Саврасова, а потом были Левитан, Коровин, Серов, Жуковский и несчетные стада их подражателей и учеников. И это все был русский 20-й век во всем его разнообразии и неслиянности.
Экспозиция новой Третьяковки начинается с зала Петрова-Водкина, кстати, постоянного экспонента «Мира искусства», где его и выпестовали и огранили. Петров-Водкин хотел соединить в единое целое Мориса Дени, прерафаэлитов, русскую икону и раннюю сиенскую школу. Его эклектическое искусство удалось благодаря удивительному, зоркому взгляду провинциального русского духовидца, каким он был. Он где -то сродни Симону Ушакову и его школе, тоже соединивших византизм с западничеством. Не прикончи большевики Россию и дай ей победить в германскую войну, Петров-Водкин вырвался бы на просторы стен общественных зданий и храмов в стиле русского модерна. Его неоклассицизм позволил бы ему стать крупнейшим имперским художником, имевшим большую школу. Он имел дар преподавания, но политическая ситуация была против него. В его «Петроградской мадонне» есть неуверенность и настороженность, она как бы предчувствует грядущую трагедию. Особенностью данной экспозиции является показ на одной стене дореволюционных и послереволюционных полотен. Такая псевдоплавность уместна на персональной выставке и несет в себе скрытое лукавство: как будто бы в России не произошло ничего особенного. А между тем появление в Петрограде большевиков было равносильно захвату Константинополя турками. Всегда невольно смотришь на дату произведения, когда написана эта картина – до революции или после. Если она написана при большевиках без желания подделаться к их варварской идеологии, то данное произведение оппозиционно и независимо по своей сути и сам факт его появления является гражданским подвигом. Козьма Сергеевич был мудрым и лукавым человеком, он даже внешне вписался в послереволюционный Петроград, но от взглядов его персонажей огромного полотна пролетарских посиделок веет холодом и ужасом. Петров-Водкин – мастер высочайшего европейского класса, он не уступает ни одному из своих западных современников и может висеть рядом и с «голубым» Пикассо, и с Матиссом, и с Сезанном, ничуть не уступая им. Сейчас вокруг русского авангардизма создана волна апологетики и преклонения, но она не всегда оправданна и соответствует истине. Действительно, были Петров-Водкин, Марк Шагал, Василий Кандинский, Казимир Малевич и еще несколько крупных фигур, а все остальное было талантливо, красочно, но все-таки провинциально. Страны Восточной Европы всегда хотели быть маленькими Парижами: и у нас не хуже, и мы тоже вполне современны. В какой-то степени это применимо и к России. Один термин «русский сезанизм» подтверждает мою концепцию. Для России вообще свойственно было порождать величайших гениев литературы, музыки, живописи, которые одинаково принадлежат к славянскому и западному миру. Внимательно приглядываясь к этим гигантам, всегда поражаешься, среди какого убожества они выросли. Общий профессиональный уровень и музыки, и живописи, и литературы Москвы и Петербурга был несколько ниже уровня Лондона, Парижа, Вены и скорее находил аналогии в Берлине, Праге, Варшаве.
За залом Петрова-Водкина идет зал Гончаровой и Ларионова.
При всей их талантливости их живописная культура намного ниже Петрова-Водкина. Недаром в их зале висят клеенки Пиросмани – талантливого грузинского самоучки, несомненно раздутой фигуры, которую пропагандировали из эпатажных соображений. И импрессионизм, и лучизм, и подражание вывескам и заборным рисункам Ларионова очень милы, приятны, но это не высочайший класс живописи, это скорее знамение времени. Часто путают яркую фигуру художника с плодами его творчества. Наталья Гончарова – несомненно стихийное дарование, опиравшееся на русское народное творчество и примитивизм. Жаль, что ей не пришлось расписывать огромных помещений и церквей, ее талант в основном вылился в декорациях позднего парижского Дягилева.
В следующем зале экспонированы три русских сезаниста: Куприн, Рождественский и Фальк. Эти три мастера в годы большевизма заняли глухую оборону в доме, построенном художником Малютиным рядом с ямой от храма Христа. И Куприна, и Фалька я хорошо помню еще живыми. Куприн был желчный господин с бородкой, а Фальк был неопределенен и отчужден. Все три мастера несколько черноваты, впрочем, это вполне объясняется ужасным качеством советских масляных красок, которыми они писали. Местом внутренней эмиграции и спасения для художников 30-х годов был Крым. Туда они сбегали из большевистской Москвы на свободу. К тому же Фальк преподавал в художественном институте и каждое лето ездил со студентами в Козы, где они все писали ню на пленере. Наиболее интересен Фальк, так как этот художник играл большую роль, вплоть до самой своей смерти (а жил он долго, имел много жен), в культурной жизни большевистской Москвы. Фактически он был духовником целой оппозиционно настроенной к коммунистам общины не только еврейской интеллигенции. Вокруг другого «попа» – Фаворского – жались, как запуганные овцы, дворянские недобитки, которых он обучал своему тупому рисованию, не давая умереть с голоду и попасть на панель. Фальк был человек несомненно порядочный и честный, о нем надо бы написать роман. То, что о нем писал политический проходимец Эренбург в повести «Оттепель», с которой все и началось, больше похоже на пасквиль. Фальк из всех русских сезанистов наиболее тщательно обрабатывал поверхность, и его фоны часто интереснее лиц портретируемых. Поздняя живопись Фалька – крайне любопытное психологическое явление, в ней есть и пессимизм, и робкие надежды на будущее. Как завещание смотрится его пепельно-серый «Автопортрет в красной феске» 1957 года. Такой автопортрет мог бы написать и испанский живописец-еврей в эпоху инквизиции.
Далее идут несколько залов бубнововалетчиков и ослинохвостовцев: Машков, Осьмеркин, Лентулов, Кончаловский. Все это по цвету радостно, ярмарочно, радует глаз и по общей цветовой гамме составляет одно целое с предыдущими залами, но, опять-таки, сознательно перепутаны дореволюционные вещи и мрачные черноватые холсты последнего советского периода. Я не очень люблю всю эту живопись, хотя признаю ее стихийную животную талантливость. Бубнововалетство – живой памятник старой погибшей купеческо-обжорной Москвы. По своей природе все эти мастера были жизнелюбы, по темпераменту где-то близкие Иордансу, Рубенсу, Тициану, на которых они иногда оглядывались. Тот же Кончаловский написал автопортрет с бокалом в руке и со своей толстой женой на коленях – реплика на ранний автопортрет Рембрандта с Саскией на коленях. Я знал одного ученика Ильи Машкова, тот рассказывал о своем мэтре как об обжоре, поклоннике толстых богатых московских купчих и жизненном цинике, наставлявшем учеников: «Я вас выучу – и, как кутят, в холодную воду, глядишь, кто и выплывет». Все бубнововалетчики неплохо прижились при советской власти, много работали они и в театрах, причем часто откровенно халтурили. Однажды Аристарху Лентулову сказали, что он сделал плохие декорации к спектаклю, на что он ответил: «Это еще что. Вы бы сходили в другой театр, там я еще страшнее намалевал». Хорошо зная испанский материал, Кончаловский сделал декорации к какому-то очередному Лопе де Вега. Декорации пообносились, дирекция попросила их обновить. Кончаловский поставил условие пустить его с сыном Мишей, тоже художником, на ночь в театр, купить им 10 бутылок хорошего красного вина и окорок. Время было голодноватое, условия, повздыхав, приняли, утром вино было выпито, окорок съеден и декорации обновлены. Любование плотью, всеми ее оттенками и фактурой, характерно и для натюрмортов Машкова, для большинства портретов Кончаловского, когда он пишет лицо человека как кусок мяса. Кончаловскому почти недоступен психологизм, исключение составляет портрет Мейерхольда 1937 г., где старый театральный хищник лежит на кушетке на фоне розового ковра как подстреленное, обреченное человекосоздание с безумным, бесцветным взглядом фанатика. Из бубнововалетчиков, на мой взгляд, наиболее интересен Лентулов. Его Кремли, звоны, Иваны Великие, Иверская часовня с наклеенной фольгой создают образ Москвы накануне уничтожения ее неповторимого облика. Это, по сути, провидческие трагические картины. Старый хитрый грек Костаки, собиравший раннего Лентулова и очень ценивший его, рассказывал мне, как Лентулова долго обламывали его друзья-реалисты бросить модерн и заняться реалистической живописью и как он поддался им. Плоды этого превращения – скучные портреты – висят рядом с его ранними блестящими вещами.
Перелом от 20-х к 30-м годам был очень непрост для левых художников. В доме школы живописи позади китайского магазина «Чай» на Мясницкой жил хороший реалистический художник Оболенский. Его соседями были тогда Асеев и Родченко. Когда кончился спрос на абстракции, Родченко пришел к Оболенскому и сказал: «Михаил Васильевич, купи все мои холсты под запись». Оболенский их купил, размыл живопись Родченко нашатырем и записал. Когда я об этом рассказывал Костаки, тот буквально выл от расстройства.
Живописная экспозиция прерывается залами графики, где впервые показано много художников, которых вообще не экспонировали в годы советской власти: и Чекрыгин, и Жегин (Шехтель), и Клуцис, и многие-многие другие. Я не сторонник смешанной экспозиции живописи и графики, мне также непонятно, почему картины вешают в один ряд при довольно высоких залах. С моей точки зрения, на этих же экспозиционных пло-щадях можно было бы показать в два раза больше полотен. Любая русская живопись подобна иконам и от кучности только выигрывает. И до революции, и сразу после нее на всех выставках картины вешали в два ряда, и делали это не от тесноты помещений, а для создания декоративного ансамбля, подолгу сколачивая каждую стену в ковер.
В коллекции новой Третьяковки почти не экспонируются полотна двух корифеев русского авангардизма – Кандинского и Шагала и очень слабо представлен Филонов. Филонов в последние два года своей жизни «прорабатывал абстракцией», по его словам, свои ранние вещи и лессировал их коричневой краской под старых мастеров, чем их портил. Эмоциональным центром выставки Москва – Париж был филоновский «Пир королей». Дойдя до этой картины, привезенный на выставку Андроповым Брежнев долго стоял с открытым ртом, а потом спросил, беспомощно озираясь: «Что это? Зачем?» Такого рода поражающего полотна Филонова в экспозиции новой Третьяковки нет. Чуть лучше представлен Казимир Малевич. Это и «Черный квадрат», и «Портрет Матюшина» 1913 года, и, нaкoнeц, пceвдopeaлиcтичecкиe пopтpeты, когда Малевич себя ломал, пытаясь стать соцреалистом. Я видел в разных частных собраниях ранние импрессионистические пейзажи Малевича – очень хорошие полотна. Почему их нет в экспозиции?
За Малевичем мы видим большой зал русского абстрактного искусства. Большинство полотен этого зала мне хорошо знакомо по коллекции Костаки. Было бы неплохо почтить его память, потому что многие произведения буквально вытащены им из печки и из сырых чердаков и сараев. Вся эта живопись приблизительно одного очень хорошего европейского уровня. Одинаково хорошо смотрится и Татлин, и целая стена Любови Поповой, и Родченко, и извлеченный из небытия Костаки Клюн, и Экстер, и Чашник. По-своему этот зал загадочен, он находится в отрыве и от национальной византийской традиции, и от русского сезанизма, и от примитивизма. Это как бы прорыв в иной мир, преддверие будущего американского и европейского авангардизма. По сравнению с Малевичем все эти мастера рангом несколько ниже, но именно они смотрятся сейчас суперсовременно, гораздо современнее ныне повсеместно принятого постмодернизма, как бы перешагивая в 21-й век. Именно в этом зале забываешь обо всех ужасах, тяготах и безобразиях 20-го века и думаешь, что настоящее искусство чисто, прозрачно и надмирно. Как мне кажется, именно этот зал является самой большой удачей экспозиции. Дальше авторы экспозиции как бы подводят нас к феномену соцреализма, перекидывая мосточек фигуративной живописи. Среди этих полотен есть любимый Костаки триптих Редько 1925 года «Восстание». В центре триптиха есть и Ленин, и броневик, но все это носит кошмарный платоновский характер. Хотя сам Редько, по-видимому, не пытался никого обличать, а был подвержен всемирно-революционным настроениям. Костаки, сам переживший 30-е годы, буквально молился на триптих Редько: «Останься одно это полотно, и все, что произошло в нашей стране, можно здесь прочесть».
Рядом висит и картина Никритина «Суд народа» 1934 года. На эту картину я более всего поражался еще в квартире Костаки на Юго-Западе. Таких гениальных угадываний сути происходящего очень мало в мировой живописи, это сравнимо только с Гойей и с некоторыми немецкими антифашистами-экспрессионистами. За столом сидят три судьи, у двоих лица смазаны, а у третьего лицо – смертный приговор. Это единственное полотно настоящего, глубинного антисоветчика, который, несомненно, сам ждал расстрела.
Отдельный зал посвящен петроградским салонным модернистам. Тут и светский портрет дамы Альтмана, и цветы Бориса Григорьева, и Леон Пастернак, и автопортрет Александра Яковлева, и желтые шухаевские купальщицы с обвисшими грудями до низа живота, и несколько больших графичных полотен Юрия Анненкова, от которых идет специфический запах Смольного, Луначарского, Блока и всего неблагополучия первых революционных лет Петрограда. И Александр Яковлев, и Шухаев, и Анненков оказались потом в Париже, так что на них стирается грань между петроградской и парижской живописью. Почему-то в экспозиции не нашлось места для талантливой Серебряковой, по своему стилю совсем не мирискусницы, парижские пастели которой, изображающие балерин и американских миллионеров, по просветленности палитры близки к позднему Дега. Вот на этом бы и окончить экспозицию русского искусства 20-го века, так как все, что было показано, при всем разнообразии направлений и стилей, относится к материку искусства. Вокруг всех этих картин кипели живые страсти, они были окружены живыми людьми, и критика на них издавалась в еще тогда свободных журналах. А дальше мы имеем обрыв ленты и мелькание искаженных злобой оскалов Ленина и прищуров Луначарского. С этого времени художники чувствовали у своего затылка холодок «товарища маузера» и всегдашний контроль: «Что ты там, братец, у себя малюешь и идет ли это на пользу дела партии и пролетариата?» Были введены пайки для нужных художников, а ненужных морили голодом вплоть до самого 1991 года.
В оппозиции к советской власти оказалось очень много художников: салонные академисты, мирискусники и большинство реалистов всех мастей. Большинство из них было консервативно, так как обслуживало правящие классы царской России. Все эти бородатые господа в пенсне шипели на большевиков и на часть авангардистов, которых привлек к наглядной уличной агитации Луначарский. Но недолог был роман Кандинского, Шагала, Малевича с «товарищами». Они быстренько оказались в Париже и Берлине, а те, кто остался в России, вели голодное и полуголодное существование, периодически оформляя книги и спектакли. Но некоторые из футуристов, вроде Маяковского и семейства Брик, плотно вросли и в красную систему, и в Лубянку. Недолгое сотрудничество авангардистов с большевиками углубило бездонную трещину между оставшимися в России реалистами и всеми представителями левого искусства, которых политически-эстетические консерваторы стали навеки считать предателями и лакеями красных.
Об этом как-то мало всюду писали, создавая всесветный миф о том, что было некое коммунистическое левое искусство 20 - 30-х годов. Этот миф по своей природе спекулятивен и поддерживался резидентами ОГПУ и НКВД в Европе, чтобы заманивать западных левых интеллигентов. Конструктивизм прижился только в архитектуре, в дизайне интерьеров и прикладничестве. Но и то это было скорее типично русское обезьянничество из европейских журналов стиля арт-деко. В 20-е годы были велики иллюзии, что в Германии победит свой большевизм, и в Советскую Россию поэтому часто привозили выставки немецких экспрессионистов, сильно повлиявших на ранний соцреализм. В экспозиции есть целый ряд работ Федора Богородского, изображавшего беспризорных и матросов. Жуткие синюшные рожи этих дегенератов Богородского по-своему правдивы. Сам Богородский похвалялся, что он служил в ЧК и расстреливал белых офицеров пачками. Когда же вермахт подпирал к Москве, он ходил и плакался, что он никого не расстреливал и врал на себя, чтобы выйти в люди. Рядом с Богородским висит огромное полотно Соколова-Скаля «Таманский поход», и опять сподвижники командарма Ковтюха изображены нелицеприятно – тоже чудовищные физиономии с налетом дегенерации. Сам Соколов-Скаля был из семьи белых офицеров и выслуживался перед новой властью. Автор знаменитого «допроса коммунистов» Борис Иогансон был в прошлом колчаковским офицером и по воспоминаниям молодости написал свое хрестоматийное полотно. Но период экспрессионистического соцреализма с элементами живых наблюдений скоро окончился.
Пришедшему к власти Сталину нужно было розовое, оптимистическое искусство. В это время партия уже начала выдавать систематические дотации художникам. У горнила госзаказов в это время еще сохранялась когорта мастеров, сформировавшаяся в 20-е годы. Многие из них были еще близки с Луначарским и привыкли от его имени командовать изоискусством. В их руках были и ВХУТЕМАС, и ленинградская Академия художеств. В обоих заведениях, захвативших еще дореволюционные центры искусства, проводились руками студентов массовые погромы. Били слепки с античных статуй, рвали и сжигали академические рисунки 18-19-го веков. Поколения, воспитанные во ВХУТЕМАСе, не обладали навыками рисования, и их общий уровень был полусамодеятелен. В начале эпохи сталинизма тогдашние партийные вожди красной литературы и живописи любили оглядываться на Париж и заигрывать с Ролланом, Арагоном и с целой плеядой будущих деятелей народного фронта и испанской войны. Ведущим художественным объединением тех лет был ОСТ. Остовцам отведено большое экспозиционное пространство в новой Третьяковке. В возникшем МОСХе остовские 30-е годы считаются золотым веком. Многие остовцы командировались в те годы в Париж, Германию, Италию. Это были проверенные агитаторы коммунизма. В бывшем СССР да и в постсоветское время никто никогда не брал в руки палку и не замахивался на живопись 30-х годов. Это считалось и считается неприличным и как-то не принято. Павильон Иофана на парижской выставке, увенчанный мухинской статуей, живопись Дейнеки, Самохвалова, Вильямса, Штеренберга – все это по-прежнему считается прогрессивными явлениями, продолжающими традиции русского дореволюционного авангардизма. Но все это абсолютно не соответствует реальности. Я знал некоторых людей этого поколения и этой судьбы. Они с радостью вспоминали дни своей сталинской молодости, свои фильмы и спектакли тех лет, свою музыку и песни и свое идиотическое кино. Им было тогда уютно и хорошо жить. А между тем Россия корчилась в судорогах сталинских репрессий, Беломорканалов, Печорлагов, московских открытых политических процессов и прочих кровавых мерзостей. Это наглое вранье, что немцы не знали о своих концлaгepяx и душегубках. В Советской России тоже все всё знали и о Ягоде, и о Ежове, и о том, как Сталин выкашивает народ. Интеллектуальное проституирование началось не с живописи, а с литературы. Выслушивая откровения людей, переживших это, я понял нерв официального искусства 30-х годов – художники сознательно закрывали глаза на реальную жизнь и доводили себя до состояния идиотической эйфории, сами веря в то, что они изображали. Я остановлюсь на лидерах 30-х годов, представленных в новой Третьяковке. Это прежде всего Дейнека, откровенно фашистский советский художник. На всем его творчестве лежит налет эротического восприятия тупых и здоровых советских тел. Дейнековские бабы с узенькими глазками и плотными короткими ножками бегают, прыгают с парашютом, стреляют, одним словом, готовятся ко Второй мировой войне и покорению Европы. Мужчины Дейнеки – здоровые сталинские хамы, готовые исполнить любой приказ ВКП(б). Живопись Дейнеки достаточно просветлена и показывает его знакомство и с фигуративным Пикассо, и с Ходлером, и с другими европейскими современными ему мастерами. Дейнеке очень нравилось муссолиниевское неоклассическое искусство. Близок к Дейнеке и Самохвалов, писавший советских самочек в полосатых футболках. По его картинам даже подбирали героинь в кинофильмах 70-х годов по тематике довоенных лет. Блондинка с тяжелым подбородком, пышной фигуркой, с винтовкой в руках – полотно «На страже Родины» 1931 года. Особенно тогда любили изображать мото- и автопробеги, авиационные праздники – полотна Вильямса, Вялова, Лабаса и других. Если сравнить дореволюционный портрет Мейерхольда Бориса Григорьева и портрет Вильямса 30-х годов, изображавший этого же персонажа, то воочию видна другая эпоха. Мейерхольд Вильямса – беспощадный революционер, приятель Брехта, Сергея Третьякова и других максималистов. Скоро его жену, Зинаиду Райх, зарежут финкой в их квартире, а самого его будут бить резиновыми палками на Лубянке. Большое место в экспозиции занимает и Давид Штеренберг, официальный руководитель живописи еще со времен Луначарского, дружившего с ним до революции в парижской эмиграции. Полотна Штеренберга «Старик», «Аниська», «Селедки» поражают какой-то идиотической пустынностью и забитостью персонажей. Как мелкий советский фюрер живописи Штеренберг всласть поиздевался над художниками-реалистами, не давая им заказов. Опальный православный Нестеров пришел к Штеренбергу просить продать ему колонковые кисточки, которые тогда были дефицитом. Штеренберг ответил ему лапидарно: «Мы даем кисточки только тем художникам, которые пишут на революционные темы. Вот вы любите рисовать елки, связывайте иголочки и рисуйте ими». Честные опальные московские реалисты, среди которых не было членов партии, – Бакшеев, Крымов, Бялницкий-Бируля, Петровичев, Туржанский и др. – затаили лютую злобу на леваков, мечтая их свергнуть и самим дорваться до партийной кормушки. Они создали два художественных общества – АХР (Ассоциация художников-реалистов) и АХРР (Ассоциация художников революционной России). В АХРР вошли Александр Герасимов и Кацман. Оба эти деятеля сыграли большую роль в возникновении соцреализма. В Ленинграде Смольный обслуживал ученик Репина Бродский, писавший огромные фотографические картины с Лениным, а в Москве свято место при утвердившемся Сталине было пусто. Реалисты нашли дорожку в сталинское окружение по двум каналам. Очень хороший, добротный портретист Мешков-старший лечил сталинского «крестьянского козла» дедушку Калинина у себя на даче пчелками от импотенции, а Александр Герасимов писал портреты Ворошилова и мылся с его бабами в деревянной бане. Александр Герасимов стал президентом Академии художеств СССР и ездил в «ЗИСе-110», подкладывая под ноги солому, так как в молодости был прасолом и торговал скотом, а Мешкову-старшему дали мастерскую напротив Кремля в доме, где была приемная «всесоюзного старосты». Кацман же остался несколько в стороне, так как с 20-х годов ходил в семью ленинских вдовиц и знал Карла Радека. Возникший соцреализм провел несколько наглядных погромов-чисток. Затравили Штеренберга, закрыли музеи Морозова и Щукина и ввели официальный антисемитизм в живописи, всячески указывая, что парижские корифеи Пикассо, Матисс, Писарро все были евреи и поэтому рисовали уродов. Тогда же набрали ветхих академических реалистов и выгнали из художественного института и Фалька, и Сергея Герасимова, и других преподавателей, уцелевших еще со времен ВХУТЕМАСа. Из розовых оптимистов 30-х годов уцелели только Дейнека и Пименов. Дейнека уцелел отчасти потому, что организовывал для академиков оргии, куда приводил стада молоденьких здоровых физкультурниц, а Пименов написал в 1937 году радостную, оптимистическую картину «Новая Москва», где изобразил цветущую сталинскую дамочку за рулем «эмки».
В ареопаг соцреалистов вошел и Павел Корин, любимый ученик Нестерова, сблизившийся через семью Горького с Ягодой, построившим ему огромную мастерскую (как вы сами понимаете, зазря такие услуги не оказывали). В соцреалистических залах новой Третьяковки зал Корина наиболее мрачен и впечатляющ. Могильно-чахоточным художником был и сам Нестеpoв, его монашки больше похожи на кокаинисток с Тверского бульвара, a уж его ученик превзошел учителя – все его персонажи как будто из фильмов Хичкока, побывали в склепах и вылезли на свет Божий. От его Александра Невского и древнерусских витязей исходит дух тоже, увы, фашистской беспощадности. Его «Жуков», написанный в Берлине в дни победы, – мрачнейший памятник эпохи. Грандиозно представлен и Александр Герасимов с его помпезными картинами, изображающими Сталина то с Ворошиловым в Кремле, то на Тегеранской конференции. Ученик Серовиных-Коровиных, Герасимов писал все свои картины сам, без рабов-помощников. Он обладал некоторым талантом в изображении традиционно-подмосковных террас с букетами пионов. Вообще это была оригинальная личность, установившая в своей огромной, как цех, мастерской шатер, где он отдыхал со своей любовницей – танцовщицей Тамарой Ханум. К любезным ему людям он обращался: «Милай... ты...» и т. д. Из зала Александра Герасимова в новой Третьяковке открывается уникальный вид на все великолепное безобразие лужковской Москвы. Как на ладони – стрелка канавы с «эйфелевой башней» церетелевского Петра – памятника, который наверняка полюбит московское воронье. Чуть дальше – бетонный храм Христа с его подземными гаражами и барами. Еще один вариант новой Москвы образца 2000 года!
Сделан и большой зал (этикетных художников) Лактионова, Решетникoвa, Heпpинцeвa, Яблoнcкoй. Taм же висит и Иогансон, на картине которого «На старом уральском заводе» в виде промышленника в бобровой шапке изображен сам Александр Герасимов с портретным сходством. Картины этих этикетных художников долгие десятилетия тиражировались на конфетных коробках, почтовых открытках и окружали быт простого советского человека, входя, как иконы, во все советские семьи. Придя к власти, соцреалисты вспомнили и о своих старших товарищах – пейзажистах московской школы, так и не признавших в душе советскую власть. Тем из них, кто дожил до «победы», Крымову, Бакшееву, Беляницкому-Бируля, Юону, дали звание академиков, и их немногочисленные, довольно черноватые пейзажи скромно жмутся в проходных залах новой Третьяковки. Созданный в 30-е годы МОСХ (Союз художников) был сложной античеловеческой кафкианской организацией. МОСХ делился на кланы и группы людей, боровшихся за госзаказы. Худсоветы были мафиозными организациями, где кипели страсти, как на Сицилии. Большевики построили для художников гетто – Масловку с клетушками-мастерскими, где все ненавидели и поедали друг друга. Возник даже термин «масловская живопись и скульптура». Впрочем, не менее пакостной организацией был и Союз советских писателей, но там была своя специфика. Внутри МОСХа были свои оппозиционеры. Основная масса серых советских птицианов считала этих оппозиционеров юродивыми, так как они писали, не получая госзаказов, и в прямом смысле питались объедками. Авторы экспозиции отвели этим мосховским оппозиционерам несколько залов, придавая им, по-видимому, очень большое значение. Живописный уровень всех этих оппозиционеров довольно средний, почти все они ученики ВХУТЕМАСа и писали что-то сезанисто-матиссистое. Аналогичные им художники были и есть в Восточной Европе. Широко показаны Древин, Удальцова, Симано-вич-Ефимова, Романович, малоизвестный и забытый Рублев и целый ряд других извлеченных из небытия вхутемасовцев. Одну из бывших вхутемасовок, чья живопись тоже висит в новой Третьяковке, Т.А. Маврину, я довольно хорошо знал. Она всю жизнь поклонялась Матиссу и яркому пятну. Знал я и ироничного петербуржца Милошевского, тоже экспонированного в этой компании.
Завершают экспозицию новой Третьяковки несколько странных художников, искавших вдохновений в тогдашней Европе. Это огромное полотно будущего мэтра сюрреализма Челищева, и полотно Чупятова «Самосожжение нapoдoвольцa», и подражание немецким экспрессионистам Голополосова. Чупятов – очень оригинальный художник. Я видел в частных собраниях его ранние полотна очень высокого уровня. Он тогда был под влиянием Петрова-Водкина и преподавал в Академии художеств.
О графике и скульптуре я не пишу, так как это отдельная тема и ее участие в представленной экспозиции носит несколько фрагментарный характер. Свое видение показа всех процессов русского искусства 20-го века я уже изложил. Общий экспозиционный замысел искусствоведов, создавших вкратце описанную мною экспозицию, я, как мне кажется, разгадал – это постмодернистский коллаж из несопоставимых явлений. Зрители должны быть благодарны музейщикам – те поставили вопрос, на который должно ответить время. Современная Россия еще очень недалеко отошла от периода большевистской диктатуры, не исключен и реванш необольшевизма с полным пересмотром эстетических оценок и критериев.
А вокруг новой Третьяковки идет довольно уютная жизнь: стоит безносый Сталин Меркурова, идолы Дзержинского, Свердлова, рядом – небольшие статуи советских эпигонов Генри Мура. Бывший пустырь превращен в сад искусств, где стоят навесы-павильоны, где современные художники-ремесленники продают свою немудрую продукцию для квартирок обывателей: церковки на бересте, «голландские» натюрморты, горные пейзажи с озерами и замками, шикарные ню для спален. Все это гладко выписано, вылизано и никаким авангардизмом даже отдаленно не попахивает. Приезжают новые русские на черных «саабах» и подолгу выбирают. Все цены в пределах ста долларов. Я беседовал со многими из этих художников. В новую Третьяковку они не ходят и достижениями русской живописи 20-го века не интересуются. Это не надо ни им, ни их покупателям.
Москва, 2000
Русско-еврейская народность
«Современный мир разделен перегородками, всё, что в них не укладывается, не имеет права на существование».
Л. Ф. Жегин (Шехтель)
Русское простонародье само, без посторонней помощи, веками вынашивая кровожадную идею глобальной мести, покончило со своей элитой, уничтожив императорскую петровскую Россию с ее немецко-русской цивилизацией. Теперешний Санкт-Петербург абсолютно мертвый город, наподобие Чуфут-Кале в Крыму, Помпей и римских городов в Африке. Те, кто в нем жил, давно умертвлены чека и частями вермахта, доделавшими дело господина Ульянова-Ленина. До этого Петр и его номинальный маленький толстенький отец Алексей Михайлович и реальный, биологический отец «преобразователя» - почти двухметровый патриарх Никон, заваливший, как бык, на исповеди молоденькую царицу Наталью Кирилловну Нарышкину, прикончили Древнюю Русь, ушедшую в раскол. Старообрядцев большевики сокрушили в общем порядке, наравне с казачеством, купечеством, священством, дворянством. Бедная запуганная провинциальная губернская Россия никогда не создавала своих параллельных центров цивилизации и жила всегда под страхом осатанелой столицы. И старая, и современная Россия – страна одного города, вроде польской Варшавы, чешской Праги, латышской Риги. Москва уже со времен Алексея Михайловича не центр России, а источник смуты, змеиное гнездо заговоров сначала с яузским зловещим Кукуем, а уже потом с Лубянкой. Всероссийский урчащий подлостью живот, централизованная обжираловка России – вот что такое Москва. Здесь жрут, пьют, совокупляются и перепродают то, что накрали и отняли в Сибири.
История России регрессивна. Со времен татар каждый следующий режим еще ужаснее предыдущего, еще более отнимает гражданские права у своих безмолвных подданных. В Европе в 16-м веке были гуманисты, Возрождение, протестантизм, а в России Годунов и Романовы ускоренно вводили крепостное право, никогда до этого не бывшее на Руси. Сибирь колонизировали политические и религиозные диссиденты, бежавшие из деспотической Москвы. В этом секрет фактически бескровного создания огромного Московского царства, возникшего из симбиоза свободолюбивых личностей, породнившихся с инородцами. Академик Янин, археолог, десятилетиями копающий в Новгороде, говорит и пишет, что Россия не произрастает Сибирью, а паразитически живет тамошним ясаком – пушниной, драгоценными камнями и золотом, хотя до этого все производила сама. Академик Янин считает все произошедшее в России после присоединения к Сибири «эпохой развитого социализма», так как страна привыкла жить взаём, грабя окраины, как Испания обкрадывала три века открытую ею Америку. Но в Испании был крепкий католицизм, а в России православие было сугубо поверхностным. Монастыри с греко-балканскими монахами были очагами изысканной палеологовской цивилизации среди озверелых угро-финских и тюркских инородцев и полуязычников славян. Мне искренне жаль людей типа Максима Грека или моего предка - византийца из Далмации Долматова, приехавших на рубеже 15-16 веков в Московию создавать русскую государственность, так называемый Третий Рим, который окончился ленинской чекой и коминтерном.
Кремль вообще-то довольно проклятое, навязшее в зубах и пропитанное кровью место. Есть такая облегченная современная московская радиостанция, передающая легкую музычку, «На семи холмах». Это очень двусмысленное название Москвы, стоящей на семи кучах костей своих жертв. Чем ценна и прекрасна Москва? Это искаженное славянским ужасом отражение Византии, Фиоровантовского и Руффовского ренессанса и прищура Золотой Орды. Три цивилизации создали изысканный цветок славяно-татарского деспотизма, на позолоченных лепестках которого осело разноцветное конфетти азиатских базаров. Поздние предсмертные певцы русской дикости Бунин и Шмелёв очень остро чувствовали особенность азиатско-европейской Москвы. После вырезания чека немецко-русской элиты от петербургской культуры остались только Анна Ахматова с ее челкой и уничтоженными мужьями, Михаил Кузмин с Юркуном, Александр Блок со скифами и певицей Дельмас и часть императорского балета, по привычке отдавшегося большевикам. Рядовой старый Петербург полностью добили задолго до блокады, когда Сталин грохнул Кирова и очистил город от последних бывших. Теперь потрепанные осколки журналов «Аполлон», «Старые годы», «Столица и усадьба» и др. – это засохшие веночки на вполне безымянной могиле. Повсеместно русские могилы еще не вскрыты, это тысяча и одна русская Катынь, на их местах стоят ментовские и чекистские дачки, где дети и внуки красных упырей и вурдалаков пьют водку Пьера Смирнова и дерут своих телок.
Русское простонародье (мужепёсы) само не может управлять своей страной. Их новое политическое мышление не идет дальше всесветного раскрадывания доставшейся им территории. Мужицкие мятежные государства Болотникова, Разина, Пугачева были недолговечны. На их опыт опирались Петрашевский, Нечаев, Перовская, Желябов, Бакунин, Кропоткин, Нестор Махно, Ленин и прочие красные деятели, развязавшие славянскую матросскую и солдатскую стихию, состоявшую из вооруженных крестьян. Кто обуздал эту вольницу? Латышские стрелки, китайские каратели и руководившая ими еврейская интеллигенция, в которую были вкраплены идеологи из бывших дворян. Большевики перешерстили все классы России, обескровив их или полностью уничтожив.
Но был класс, который уцелел, – это мелкое городское мещанство, которое выжило в большевистской мясорубке и поголовно пошло им служить. Именно поэтому вся советская культура была чисто мещанской во все периоды существования СССР. И как реакция на официальное советское мещанство появились Зощенко, Олейников, Хармс, Введенский. Всё ханжество и пуританизм советской культуры был порождением советского мещанства. Не из пролетариев, а из мещанства сколотился «новый класс» советской номенклатуры.
В принципе, карло-марлово ученье о буржуазии и пролетариях было для своего времени во многом верное, из него просто никто не делал разумных выводов. В России потомственных пролетариев (заводчины) было крайне мало, и они шли за эсерами: в армии Колчака были эсеровские полки ижевских и воткинских рабочих. Ленинградский голод Сталин с Ждановым организовали умышленно, чтобы уморить питерских рабочих, которых они до смерти боялись.
С точки зрения классового подхода и всех дебрей всех школ политологии, история русского мещанства как класса, победившего в большевистской революции, непотопляема и неуязвима. Октябрь семнадцатого был революцией мещан, и на эту тему можно писать тома и тома геморроидальных диссертаций, и все они будут абсолютно верны и безупречны со всех точек зрения. Вполне естественно, что сами победители не будут трубить о своей абсолютной победе, о царстве победивших мещан-обывателей, – правили-то они от имени пролетариев.
Как ни верти, и сам Ленин был с небольшой еврейской примесью, и среди его ближайшего окружения было полно евреев, и потому за большевиками большим косяком двинулось не только русское, но и еврейское мещанство. Еврейская буржуазия, жившая в России, большевиков не поддержала, и ее участь была трагична. Их перемололи так же, как и русских купцов. Заслуживает отдельной темы преследование чекистами еврейских религиозных ортодоксов. Их убивали и казнили в одном ряду с катакомбниками истинно православной Церкви. Есть уцелевшие архивы, где сохранились материалы о них, и возможно, что мне удастся подготовить статью об этих пострадавших людях. В тюрьмах и лагерях они находили общий язык с православными катакомбниками. Часть еврейской буржуазии и интеллигенции воевала в Белой армии, и воевала мужественно, но судьба этих героев была печальна – им пеняли их происхождением их соратники, задолго до Гитлера введшие термин «жидо-комиссары». Еврейские белые ненавидели своих красных сородичей точно так же, как белые русские ненавидели красных русских.
Надо сказать правду: еврейская буржуазия и часть еврейской интеллигенции активно боролись с большевиками, но масса еврейского мещанства служила им верой и правдой. Тектонический раскол большевизма прошелся не только через славян, но и через евреев. Русское и еврейское мещанство, составившее аппарат и кадры большевистской партии, жило душа в душу и расово смешалось, в результате чего возникло огромное количество русско-еврейских чисто советских семей. Среди этих людей была масса лично глубоко порядочных, которые искренне и из подсознательного желания выслужиться уверовали в красную тугомотину и стали фанатиками большевистской псевдорелигии. Евреи - религиозный народ, если они отошли от иудаизма, то переходят в христианство, евреев – чистых атеистов не так уж и много. Масса евреев и полуевреев отдались ленинскому социализму и стали жрецами этой псевдорелигии.
Еврейская кровь очень сильная, и дети, рожденные от смешанных браков, во многом наследуют чисто еврейскую генетику. Именно этим объясняется то, что по мере ослабления ленинизма в этой среде стало вырабатываться совершенно новое религиозное мировоззрение с пантеоном поэтов, музыкантов, художников. За долгие годы большевистской тирании из русско-еврейского мещанства постепенно выковался новый окологосударственный слой, который сам по себе был неоднороден и имел, как мексиканская или хеттская пирамида, ступени приближения к центру власти. Принцип организации таких человеческих коллективов напоминает пчелиные ульи или осиные гнезда – это компактные человеческие массы, подчиненные государственной воле. Такого рода явления и прослойки возникали в различных варварских государствах в эпоху переселения народов и в раннее средневековье.
С устранением прежней русской элиты территория бывшей Российской империи погрузилась в варварство. Всегда дикое и темное русское простонародье окончательно морально одичало. Тысячелетняя еврейская культура, привычка быть гонимыми все-таки не позволяли советским евреям полностью одичать, и они благотворно влияли на своих русских коллег, работающих вместе с ними на большевиков, несколько их очеловечивая. Государственная и культурная недееспособность русского простонародья, склонного к пьянству, воровству, разбою и разврату, не позволяет нашим нынешним «патриотам» признать правду и публично заявить: «Да, в ходе революции мы, русское простонародье, само, своими руками, извело свою национальную интеллигенцию, буржуазию, священство и, находясь в состоянии тупика полной дикости, обратилось к еврейскому мещанству, как более выдержанному и цивилизованному сообществу, за помощью в создании большевистского государства». Этого они никогда не скажут, так как русский народ – это народ в своей массе вторичный, могущий разрабатывать только чужие идеи и идти в русле чужой культуры, их сугубая почвенность и амбициозность не позволят им этого признать. На самом же деле Россия создавала оригинальные культурные ценности, только когда была культурным филиалом или Византии, или Западной Европы в целом.
В огне революционных чисток и войн погибла приблизительно половина русского народа, лучшая, наиболее активная половина. Уцелела худшая часть, дети приспособленцев, тыловиков, жуликов и партаппаратчиков. Не будь революции, на территории Российской империи сейчас должно было бы жить около 500 млн славян, а на сегодня от Байкала до Тихого океана живет всего 8 млн населения всех национальностей. В отличие от Гитлера, Сталин не давал отпусков солдатам Второй мировой войны, и они не дали потомства. Смелые и сильные всегда гибнут, а уцелевают обычно трусы, больные и симулянты.
Периодически русско-еврейский народ, особенно в его близкой к власти верхней прослойке, терпел большой урон, главным образом в довоенные годы при Сталине – тогда кровавым путем производилась смена политических поколений. Если взять условно общее число чистых евреев в постсоветском пространстве в миллион, то число полукровок в различных вариантах и степенях составляет количество от 10 до 20 миллионов. Это целый народ. С существованием этого народа надо считаться и беспристрастно изучать его. Особенность этого народа в том, что он не знает, кто он: еврейский или русский? Они одинаково гордятся и погибшей Россией, и погибшим СССР, и существующим Израилем, и мировым еврейством. Была когда-то особая польско-еврейская культура и цивилизация, такие же плодотворные симбиозы были и в Австро-Венгрии, и в Германии, и в царской России, и в каждой такой субкультуре был свой колорит, свой особый привкус, внесшие вклад в европейскую цивилизацию. В Европе со всем этим грубо и варварски покончили нацисты, устроив свои душегубки и печки, а в России, несмотря на большевизм, еврейские массы уцелели, и, в значительной своей части пойдя в услужение большевикам и смешавшись с коренным населением, создали новый народ.
Уникальность ситуации была в том, что еще никогда до этого в своей новейшей истории еврейский народ в России не шел на такое массовое слияние с другой нацией. Для русских массовое слияние с татарами и инородцами уже довольно привычное занятие, а вот для евреев произошедшее не имеет аналогов в Восточной и Северной Европе. И я уверен, что этот процесс не был стихиен, кем-то где-то и когда-то было принято решение о слиянии двух народов во имя каких-то высших интересов, которые слабый человеческий ум понять и объяснить не может.
Интересно, что полукровки очень бережно относятся к традициям обоих народов, как-то уравновешивая и примиряя две стихии. К иудаизму полукровки почему-то относятся с опаской, он для них слишком регламентирован. Зато они хорошо относятся к раннему христианству первых веков. В Москве возникло целое религиозное движение православных полукровок, которые группировались сначала около зарубленного топором священника отца Меня, а после его гибели его паства перешла к священникам Борисову, Кочеткову, Ардову. Во всех этих приходах хорошо, тепло, много живых, доброжелательных молодых людей. Но для чисто русских это все-таки слишком теплое и человечное православие – наше традиционное византийское православие беспощаднее, жестче и граничит с самобичеванием. Русские не ищут тепла в храмах, они ищут там самообуздания.
Русско-еврейские полукровки - очень своеобразный народ (а это именно народ). Им свойственно желание уютно жить в «этой стране», а в России в силу ее несчастной истории уютно жить трудно, а то и вообще невозможно. В России всегда были и есть государственные паразиты и сверхэгоисты. Раньше это были дворяне, теперь же – верхушка номенклатуры и так называемые «олигархи». «Олигархи» – это просто крупные жулики, вошедшие в государственные структуры и сросшиеся с ними. Как государственный организм Россия всегда жила и живет на краю бездны, а иногда и срывается туда, судорожно цепляясь за кромку обрыва. Как мне кажется, современная Россия окончательно утратила инстинкт самосохранения. От уже осязаемой гибели ее может спасти только провидение.
Русско-еврейский народ – это окологосударственное, а точнее, государственнообразующее формирование, которое вывелось, в общем-то, добровольно, но в условиях крайней несвободы и чудовищной тирании.
Мне это отчасти напоминает историю одной деревни на русском Севере, где я бывал в 60-е годы. В эту деревню с фронта вернулся всего один молодой холостой парень, все остальные мужчины погибли на фронте. В селе же осталось около 70 молодых вдов и зрелых девушек. Они собрались на сходку и постановили, чтобы этот парень ходил к ним ночевать в определенные дни. Парень огулял всех женщин, и они родили нормальных здоровых детей, и деревня не погибла. Парень ходил и ходил по своим 70 семьям и постепенно слабел и спивался. Умер он 37-ми лет, в возрасте Пушкина, и хоронила его вся деревня как народного героя. Вот так приблизительно и создался русско-еврейский народ: еврейские мужчины женились на крепких коренастых русских женщинах и были довольны, а вот еврейские женщины – нет, их не все устраивало в русских мужьях. Была явная несвобода в подборе пар.
В красном государстве окологосударственный русско-еврейский народ стал цементом советского государства, и распад СССР их всех неприятно поразил. Теперь этот народ по-прежнему составляет цемент дряблой, распадающейся Эрэфии, которая вот-вот расползется. Если распадется Эрэфия, то они разбредутся по другим государствам и будут трудиться, как муравьи, там, слепляя из ничего новый государственный механизм. Это в них вложено за 74 года. Все эти 10-20 миллионов полукровок – чиновники, управленцы, клерки, инженеры, ученые, техники, операторы, сотрудники редакций, радио, телевидения. Фактически русско-еврейский народ создал массовую советскую культуру во всех ее многообразных проявлениях. И нельзя сказать, какая половинка больше постаралась – русская или еврейская. У русско-еврейского народа есть противоречия и с чистыми евреями, и с чистыми русскими. Пока что этот народ находится в основном на месте своего возникновения - в Эрэфии, но часть его уже выехала в Израиль, США и другие страны. Они привыкли жить в тени большого и мощного государства. Им неуютно в шумном и пестром мире, где нет того государства, в чреве которого они жили несколько поколений и где выковалось их особое сознание.
Я близко знал одно русско-еврейское семейство и часто в нем бывал. Глава и основатель семьи – талантливый еврейский инженер-изобретатель – ездил в 30-е годы в Германию и Америку перенимать там опыт. Он женился на очень красивой дочери русского дворянина, семья которой была сильно запугана. У дочери была красивая, тоже полная мать. Обе дамы много ели мучного и сладкого и хорошо пекли пироги и готовили домашние торты. С евреем-инженером они жили очень хорошо, но его незадолго до войны посадили и расстреляли. В процессе следствия лубянский следователь, мощный сын лавочника, с избитым оспой монголоидным лицом, влюбился в жену подследственного и принудил ее к сожительству. Он самолично, как тогда было заведено на Лубянке, расстрелял еврея-инженера и женился на его вдове. От первого брака была красивая, породистая, типично еврейская дочка, а у следователя и вдовы родилось еще двое сыновей. Следователя еврейская дочка звала папой. Жили они в доме 30-х годов в большой квартире, которую получил еще расстрелянный инженер, так как он сделал очень много полезного для советской авиационной промышленности. Меня интересовали взаимоотношения внутри этой своеобразной, но по-своему супертипичной советской семьи.
Знал я еще аналогичную по ситуации семью, но несколько иного профиля. Пленный эсэсовец после войны в лагере изнасиловал еврейку-заключенную, и она родила сына – высокого красивого блондина, которого очень любила. Еврейка умерла, а сын эсэсовца рос в семье ее друзей-старообрядцев, сидевших вместе с его матерью, которая работала санитаркой в тюремной больнице и спасла от дистрофии женщину-старообрядку, поручив ей воспитание своего сына. Садо-мазохистский фильм «Ночной портье» с Богартом очень близко подходит к советской психологической атмосфере, но, к сожалению, на советском материале таких фильмов не снималось.
Русско-еврейский народ, повторяю, создался в очень жестких, экстремальных условиях, когда людям надо было выживать и размножаться. Борис Парамонов, как и я, родившийся в 1937 году, полушутя-полусерьезно заметил в своей радиопередаче, что сам факт рождения в не к ночи помянутую дату внушает ему исторический оптимизм.
Приведенные примеры описанных мною семей были все-таки вопиющи трагическими обстоятельствами и совпадениями, большинство же смешанных семей жило тихо, незаметно и прилично. То, что произошло, было инстинктивным движением выживания, два мещанства, русское и еврейское, интуитивно поняли, что им надо объединиться в одно целое, чтобы выжить, и даже заняли прочные позиции в советской системе.
Меня всегда интересовало, как жила номенклатура и обслуживающий ее аппарат в быту, не стесняясь посторонних глаз. Они все жили как зажиточные мещане, сугубо корпоративно, и у всех у них были спрятанные старые фотографии их дедушек – приказчиков, мелких лавочников, вышибал из борделей, швейцаров, мелких чиновников, жандармов и т.д. Пролетариев среди них не было – они ненавидели рабочих, называя их работягами. Весь этот мощный русско-еврейский пласт со временем стал дробиться и видоизменяться, оставаясь, тем не менее, монолитным явлением.
У меня к тому, что произошло при большевиках в России, давно уже нет никакого эмоционального отношения, слишком оно непоправимо и необратимо. Иногда я говорю: «Женщины, кошки и дети не виноваты в том, что произошло в России». Виноваты кадровые царские офицеры, в годы революции спрятавшиеся под пуховые одеяла своих баб и не спешившие под знамена белых, где воевали в основном мальчишки. У меня нет никакого - ни положительного, ни отрицательного - отношения и к русско-еврейскому народу. Он – порождение обстоятельств, он своеобразен и заслуживает изучения. К такому отстраненному отношению я, признаюсь, пришел не сразу, не сразу я сердцем, а не только умом понял, что выйти из советского состояния большинство русских никогда уже не сможет – яд большевизма пропитал их души, как метастазы.
Сейчас начались естественные мутации погибающего постсоветского общества, процессы гниения, разложения, но и одновременно выработки и создания совершенно новых народов и государств. В конце концов появится и небольшая национальная Россия, а большинство советского народа частично вымрет, частично станет рабами различных колонизаторов, в основном азиатских и восточных. Европе остатки СССР никогда не достанутся – уже сейчас началась колонизация опустевшей России волжскими тюркскими и угро-финскими инородцами, кавказцами и китайцами, постоянно проникающими через прозрачные границы Эрэфии.
Запад ничего не пожнет из пирровой победы над СССР, слишком велика территория, слишком одичал народ, слишком звероподобна бюрократия, и главное, во всех глухих русских углах гниют плохо охраняемые склады ядерного, химического и бактериологического оружия, которое вот-вот начнет рваться от проржавелости и ненужности.
Русско-еврейская советско-бюрократическая народность – это все-таки относительно цивилизованная пленка на советской роже. В России лучше иметь хоть какую-то власть, чем не иметь никакой. Русско-еврейская народность хоть как-то обеспечивает порядок проржавевшего государственного механизма. На окраинах Римской и Византийской империй периодически возникали варварские государства, где тоже появлялись государствообразующие классы и народы смешанного расового происхождения. Любопытно, что во всех отколовшихся от России республиках не возникло смешанных народов – смешивалась только русская и еврейская бюрократия. Было когда-то государство Митридата, была Киевская Русь с норманско-византийской элитой, был Хазарский каганат с хазаро-еврейской элитой, было Нормандское королевство Роджеров в Сицилии с интернациональной элитой. Таких своеобразных государственных формирований было много, и их существование было скоротечно. Скоротечно было и существование СССР, дикого людоедского государства, возникшего на месте погибшей России.
Возникновение русско-еврейской народности – это не часть русской или еврейской проблемы, а всецело порождение советской власти. Еврейскому и русскому мещанству, пошедшему в своей массе служить большевикам, надо было уцелеть, и они слились в социальном, расовом и сексуальном объятии, породив новую народность. Фактически они заполнили пустоту – большевики, выбив старые классы России, были вынуждены закрыть глаза на то, что на их место хлынуло мещанство. Свято место пусто не бывает.
Какова будет дальнейшая судьба этого народа? Это зависит от того, какое или какие государства возникнут на месте Эрэфии. Без признания существования русско-еврейской народности нельзя ни понять, ни всерьез, без фальши и умолчания, говорить ни о судьбе русских евреев, ни о судьбе, казалось бы, совсем исчезнувшего русского народа.
На сегодня о русских как о сохранившейся нации можно говорить с трудом. Наверное, осталось не более 10 процентов от общего числа славян, сохранивших русские религиозные и моральные ценности, к ним тяготеет еще от силы 10 процентов, а остальные 80 процентов являются носителями чисто советских традиций и вычеканены ленинско-сталинским государством. В рамках этого большого просоветского народа существует еще и русско-еврейский или еврейско-русский народ как отдельная национальная сущность. Нельзя сливать в один сосуд русский советский народ и русско-еврейский народ, это очень разные материки, имеющие разное мировоззрение и религиозные культы и по-разному себя осознающие. Мог бы даже стоять вопрос о территориальном выделении этого народа, но территория Эрэфии сокращается, как шагреневая кожа, и фактически русско-еврейская столица Одесса оказалась на территории Украины, традиционно антисемитского и антирусского государства.
Русско-еврейский народ был воспитан большевиками в чудовищном атеизме, и религию ему заменяли культовое кино, культовая литература и культовая эстрада. Есть в русско-еврейском народе и своя высококультурная элита, которая пронзительно одинока и затеряна в современном мире. Этих людей невыгодно никому замечать, их объявляют или плохими евреями, или плохими русскими. Судьба испанских сефардов и русско-еврейских полукровок где-то тождественна: они имеют свою родину и их охватывает страшная ностальгия при рассеянии по всему миру. Сефардские женщины больше похожи на испанок и арабок, чем на евреев. Что такое Брайтон-Бич? Это материализованная тоска русско-еврейского народа по своей эфемерной родине.
Трагедия русско-еврейского народа в том, что он появился в условиях коммунистической несвободы, но все они в этом не виноваты, они просто хотели жить, они существуют и еще очень долго будут существовать. И чем дальше, тем оригинальнее и своеобразнее намечается судьба русско-еврейской нации. Искусственно созданный чекистами Биробиджан живет вопреки всему. Вполне возможно, что мертвый для России, заселенный мордвой и татарами Петербург или Калининград-Кёнигсберг станет столицей русско-еврейского государства или автономии. Я знаю, что эта моя мысль оскорбит чисто русскую номенклатуру, которая спит и видит вырезать своего русско-еврейского более грамотного и интегрированного конкурента. Для настоящего русского этот вопрос совершенно безразличен.
Без имперской проевропейской элиты никакого восстановления Российской империи быть не может. Это только наши «патриоты» путают Россию и СССР, никто из бывших коммунистов не имеет права брать в руки черно-бело-желтое знамя загубленной ими страны.
Сейчас начался очень сложный процесс размежевания русскоязычных масс. Они делятся на две основные группы: малый русский народ и большой советский народ. У представителей этих двух народов, хотя они почему-то оба считаются русскими, очень разный оценочный аппарат и разное реагирование на одни и те же события. Если в России снова не утвердится, неважно под какими лозунгами, тоталитарная монархия или диктатура, то Эрэфия неминуемо распадется на части, и тогда, возможно, на севере России возникнет небольшое чисто русское государство, куда съедутся русские люди, не отождествляющие себя с советским опытом и прошлым, так сказать, врангелевский Крым или чан-кайшистский Тайвань. Уже очень многим национально мыслящим себя русским надоели скотоподобные советские толпы с их звероподобными вождями, за которых они голосуют за бутылку плохой водки и кусок колбасы. Так называемый «демократический» режим номенклатурного капитализма ведет дело к окончательному расчленению государства на ханства и небольшие страны, которые в будущем утеряют свою суверенность.
В процессе размежевания большого советского и малого русского народов четко выявляется и прослеживается особая русско-еврейская народность, не принадлежащая ни к одной из русскоязычных групп. Русско-еврейскую народность национал-большевик Лимонов в книге «Анатомия героя» называет Пастернаками, делая из фамилии затравленного поэта нарицательное имя. Вполне понятна его злоба, так как, сама того не желая и не осознавая своей роли, русско-еврейская народность разрыхляла монолит СССР. Происходило это за счет поднятия ее культурного уровня и ознакомления с западной цивилизацией. Но не они разрушили СССР, СССР разрушила высшая номенклатура, пожелавшая разделить между собой стратегические запасы и сырье доставшейся ей страны. («Пастернакам» при развале СССР досталось не так уж много – перепродажа, мелочная торговля, посреднические услуги и т. д.)
Если смотреть на русско-еврейскую народность в исторической перспективе, то возможно, что она и рассеется по миру, а возможно, и начнет вести самостоятельное существование на своей территории, как не похожий ни на кого в мире народ. Их слишком много, чтобы они исчезли бесследно. Вопрос ведь идет о судьбах миллионов людей, многие из которых стали хранителями погибших русских духовных ценностей. Судьба потомства палачей и жертв всегда трагична. В России все палачи и жертвы одновременно. Палач – это желание человека выжить и идти на компромисс, а жертва – это сопротивляющаяся насилию личность. В России все люди, всех уровней, сословий и классов, прекрасно помнят, когда они пошли служить неправедному тоталитарному государству, сломав себя. Не так бы сложилась судьба шагаловских и кустодиевских мещан с их кошками, петухами и фикусами, если бы не появился звериный оскал ленинско-нечаевской ордынской рожи, гнавшей Евразию в пропасть. Хотелось бы, конечно, чтобы из русской мышеловки вышел целым и малый русский народ, и несколько очеловечился большой советский народ, и обрела бы самостоятельность русско-еврейская народность.
Москва, 1999 г.
Заветы Даниила Андреева
Средний поэт, эпигон эпигонов символизма Даниил Андреев по-прежнему интересен и хорошо читается в современной постсоветской России. И его “евангелие”, лирическое завещание “Роза мира” тоже хорошо расходится и достаточно популярно. Если оценить успех у читателей Даниила Андреева, открывших его после девяносто первого, то он беспрецедентен. Вышло многотомное собрание его сочинений, его мысли постоянно упоминают и цитируют, на книжных развалах его “Роза мира” не залеживается. Даниил Андреев стал обязателен и каждодневен. Так обязателен и вездесущ был когда-то его отец Леонид Андреев, успеху которого завидовал его друг-враг Максим Горький и на которого за его ужасти и пугалки шипел, как тарантул, из Ясной Поляны престарелый Лев Толстой. Пожалуй, только Михаил Булгаков, а ранее Иван Бунин имели такую же советскую и послесоветскую популярность, как узник Владимирского централа, всю жизнь не имевший ни копейки и обедавший по расписанию у своих друзей, где он обязательно после десерта читал свои стихи. Зная, что придет Данечка, как его когда-то все звали, жены его приятелей клали в кастрюли несколько побольше кусков. Худой, высокий, согбенный смолоду, весь прокуренный беломором, с желтыми пергаментными пальцами, Андреев вносил в квартиры и коммуналки сталинской Москвы тишину, уют, доброту, и все его радостно ждали, как ждут прихода доброго священника, который никого не осудит и всех обласкает. В старой, дореволюционной России были такие добрые пастыри вроде отца и сына Мечевых из храма на Маросейке, куда нередко в ранние годы заходил еще отроком и сам Даня и где он даже дважды причащался у отца Алексея, наследника оптинских старцев и всемосковского прозорливца. С отцом Алексеем, вдовым священником, когда-то советовалась вся университетская и профессорская Москва. Сейчас храм восстановлен и туда перенесены мощи отца Алексея, и я, проходя мимо, всегда захожу и целую стекло его раки, вспоминая всю свою родню, бывавшую у него, и Даниила Андреева, которого отец Алексей передал своему сыну отцу Сергию, сгинувшему в тридцать девятом в сталинских лагерях. Письма отца Сергия из лагеря когда-то читала вся православная Москва, и я доподлинно знаю, что их печатал и размножал Андреев.
Попы из Московской патриархии распространяют теперь слухи, что Андреев почти что сатанист, но это грубая, наглая ложь. Андреев был смиреннейшим христианином Мечевской общины. Как-то его вдова дурно завыла, когда я, выступая в Институте мировой литературы имени Максима Горького с воспоминаниями об Андрееве, упоминал о катакомбных друзьях ее мужа, которого она хорошо знала во плоти, но не в закоулках его души: “Они все тихоновцы и тихоновки, а Даня ходил только в храмы Патриархии”. Даниил Леонидович действительно заходил во все храмы всех конфессий, включая синагогу и мечеть, но он посещал и тайные катакомбные моленные, где были друзья его молодости, в число которых Алла Александровна не входила и которых в глубине души ненавидела за их духовную чистоту и цельность.
Так получилось, что на территории СССР больше не осталось, кроме меня, людей, лично знавших и слушавших Андреева. Я был тогда молодым еще человеком и хорошо его помню и на нашей даче, где он жил после отсидки, и в его квартире на улице Обуха; помню я и его читки при свечах на нашей старой квартире на Никольской (улице Двадцать пятого октября), еще до его ареста. Я всегда слушал его с почтением, не задавая ему вопросов, так как видел, что этот человек общается только с собою и его не интересует ни мнение, ни вопросы слушателей. Ему нужна была только доброжелательная к нему аудитория. Все его беседы, монологи и читки стихов были священнодействием. Из православных храмов ныне веет не теплотой, а могильным, склепным холодом, и от Андреева после тюрьмы тоже отдавало могилой. Он явно не мог долго прожить, и единственной целью его существования было запечатлеть на бумаге те видения, которые посещали его в камере. Я смутно помню его, восторженного, еще дотюремного, и очень четко – с налетом серой пепельности исчезновения в его последнее посещение нашей дачи, где он когда-то подолгу проживал во флигеле еще до моего рождения в молодые годы моих родителей и их компании, разделенной войной и Лубянкой. Но он всегда относился ко мне хорошо и часто трогал и гладил меня своими узкими сухими горячими руками с пожелтевшими кончиками пальцев.
Широкая посмертная слава Андреева была для меня неожиданностью и, как я понимаю, была умело организована его вдовой Аллой Александровной, такой же образцово-показательной вдовой, как и булгаковская Елена Сергеевна. Елена Сергеевна была подозрительно дружна с Ахматовой и целой сворой ее подруг-лесбиянок и заодно привела в осиротелую булгаковскую квартирку с тоненькими стенками кремлевского мерина и фюрера от литературы Фадеева и его супругу, парторга советского МХАТа Степанову, бывшую музу Николая Эрдмана. Степанова изрядно ревновала и злилась по этому поводу. Про Аллу Александровну старые друзья говорили, что Андреев был ей после тюрьмы и инфаркта более удобен мертвым, чем живым. А сидевшие с ней называли ее “лагерной подстилкой”, намекая на ее многочисленные связи с тюремщиками. Возможно, что все это и так, но у поэтов и мистиков обычно бывают сверхчувственные подруги, заменяющие им бордели, где они могли бы предаваться самым черным мессам своей сверхчувствительности. Тот же Блок откупал на островах недорогие бордели, огуливая всех без исключения обитательниц этих заведений. Это все одна из загадок человеческой физиологии и психики. Творческая личность, поселяющаяся в человеческое тело, обычно его уничтожает, а заодно обжигает всех, кто находится рядом. К поэтам, писателям и художникам обыкновенные люди должны подходить, как к ядовитым змеям, с большой осторожностью. Я знал, правда, и исключения – несколько моих друзей-писателей и художников женились на женщинах-садистках, избивавших и грызших их до крови, после чего они, размазывая сукровицу, с яростью предавались любовным утехам. Отчасти таким же был второй брак Андреева, и поэтому эта пара внушала некоторое опасение его традиционным и сильно православным друзьям. Первый раз Андреев был женат на очень красивой и милой еврейке, но быстро с ней развелся. А Алла Александровна совмещала в себе прибалтийскую, цыганскую и еврейскую кровь плюс еще дворянские гены. Она была довольно долго женой дворянина Ивашова, потомка декабриста, популярного до войны художника-романтика, выставлявшегося под фамилией Мусатов. Как говорили тогда, Ивашов-Мусатов спокойно, без драм, отдал ее Андрееву, якобы сказав: “Если она тебе нужна, то забери ее себе”. Наверное, она уже довольно надоела Мусатову, мешая ему спокойно предаваться живописи, тоже сексуальному занятию. Я часто видел в электричках старика Мусатова, доживавшего свой век в Абрамцеве, но не подходил к нему, зная его восторженность, которая мне, как человеку желчному и высокомерному, крайне неприятна. Мусатов в старости был похож на композитора Вагнера. Вдова Андреева часто выступала по радио и телевидению, рассказывая о муже, и даже одно время издавала астрологический журнал “Урания”. Последнее время ее как-то не очень слышно, и возможно, она уже умерла или вконец ослепла, так как говорили, что в старости она стала слаба глазами. Я ее всегда избегал, хотя она меня к себе и заманивала как единственного живого свидетеля чтений ее мужа, но я объяснил, что моя нелюдимость обусловлена наследственной долматовской мизантропией и я предпочитаю не узнавать на улице старых знакомых, объясняя им, что настоящий Алексей Смирнов уже давно, спившись, умер, а я банный инженер, на него похожий. Теперь я отпустил длинную бороду, стал вообще неузнаваем и мне больше не надо дурковать.
Если сравнивать славу Даниила Андреева со славой Бунина и Булгакова, то надо учитывать некоторые моменты, объединяющие и разъединяющие этих трех литераторов: во-первых, все эти три автора были по отношению к большевикам достаточно независимыми (более всех был независим Бунин), потом идет Даниил Андреев, а потом уже Булгаков, как драматург, зависящий от цензуры; во-вторых, все они по происхождению славяне; в-третьих, и это самое главное, двое из них как авторы взросли здесь, в советской России, и поднялись, как шампиньоны после дождя, на красном навозе и на жирном перегное расстрелянных поколений русских людей. Как евреи пережили свой Холокост, так и русские пережили свой геноцид, в котором сгорела цивилизованная и культурная Россия, оставив после себя толпы одичалых лапотников и гегемонов, ходивших по улицам с воплями: “Убей! Распни! Требуем расстрела!” и т. д. Плох ли, хорош ли Булгаков, но он местного извода и производства. То же самое можно сказать и об Андрееве. Мне как литератору оба этих деятеля достаточно чужды и далеки. Хотя отец Даниила Андреева, Леонид Андреев, со своей мнимой простотой мне достаточно близок и дорог по сей день и входит в мое годовое постоянное чтение. Продолжателями коварной толстовской прозы были не Бунин с Зайцевым, а Андреев с Куприным, тоже писавшие свои вещи широким мазком позднего Репина и Цорна. И Леонид Андреев, и Куприн сочувствовали маленьким, раздавленным обществом и государством людям. Даниил Андреев парил, как осенний журавль, высоко в небе и не подлетал к подслеповатым окошечкам бедных людей, чтобы заглянуть в их убогое житье-бытье. Абсолютно всю жизнь принципиально нищий, Даниил Андреев всегда и во всех обстоятельствах вел себя, как независимый аристократ. В частной гимназии, потом преобразованной в советскую школу, где учился Андреев, педагоги и ученики называли его индийским принцем. Так же гордо пытался себя вести в эмиграции и его, очень на него похожий, старший брат Вадим, но его быстро укоротили на американских кинофабриках, где он занимался ради хлеба насущного монтажом. Вообще в Европе исконно русский человек всегда чувствовал себя человеческим объектом второго сорта, так как когда-то Россия была, как и Австрия, независимой имперской страной с элитарной кастовой культурой, которую никогда на Западе не признавали и не могли признать, отмахиваясь, как от надоедливой мухи, от идеи о двухполярной Европе – на Западе и на Востоке. Даниил же Андреев был пророком именно двухполярной Европы, и в этом своем качестве он, несомненно, выдающийся славянский и православный политический писатель, предтеча будущих мощных духовных и национальных движений. Вот только посткоммунистическая номенклатура с ее по-большевистски убогими идеологами не может приспособить Андреева к своим попыткам снова взять власть на евразийских просторах. Воспитанный в прокадетской семье доктора Доброва, Андреев всегда был глубоко стихийно демократичен и не склонен к воспеванию любой диктатуры любого окраса. Совершенно не занимал Андреева и еврейский вопрос, он его вообще не замечал, хотя иногда, смеясь, и вспоминал высказывание своего отца о том, что он вынужден быть с евреями более вежлив, чем с другими, и только поэтому их не любит. Как только где-либо возникает еврейский, русский или цыганский вопрос, значит, в данной стране и обществе властью нарушены имущественные отношения между сословиями и классами. Андреева нельзя никаким способом пристегнуть ни к социализму, ни к капитализму, ни к фашизму, ни к любому национализму, и даже больше того, Андреев, при всей его мистичности и вере в Бога, не принадлежит ни к одной религии, хотя его и когда-то крестили, и отпели, предварительно исповедовав и причастив. И Булгаков, и Андреев жили в одни годы в советской Москве и писали именно здесь, а не в Париже или в Праге. Но Булгаков, в отличие от Андреева, входил в число писателей, которым Сталин разрешил жить, но приказал пожизненно держать их в дерьме, как Зощенко, Ахматову, Пастернака. Сталина, как профессионального цензора и режиссера созданной им лакейской подлой литературы, развлекало, что несколько буржуазных интеллигентов уцелело и он имеет возможность постоянно над ними издеваться и держать их на коротком поводке с жестким чекистским ошейником. Об Андрееве Сталин не знал, так как он не печатался и не лез в советскую подневольную литературу. Он никогда не предлагал своих услуг сатанинскому режиму. Его отец бежал от красных в Финляндию и там, вплоть до скоропостижной смерти, печатался в белых газетах; старший брат Даниила Вадим сам почти мальчиком воевал у белых. Достойным членом этой семьи был и младший Андреев, напрочь отвергавший советский режим и сам ставший воплощением и символом внутренней эмиграции. Поэтому сравнивать Андреева с другими оппозиционными режиму русскими писателями трудно. Прижизненная и посмертная слава и Мандельштама, и Пастернака, и Цветаевой, и Ахматовой всегда была достаточно элитарна. Революцию они встретили зрелыми людьми, а Даниил Андреев был совсем молодым человеком, еще гимназистом, и он как личность созрел в условиях совдепии.
Ахматова по возрасту могла бы быть приемной матерью Андреева, но у нее были совсем другие пристрастия и совсем другие внучата. Между детьми лейтенанта Шмидта и внучатами Анны Ахматовой не особенно велика разница. Андреев как поэт и прозаик достаточно прост и понятен, и его читатель – средний обычный человек. Если не считать некоторой зауми его терминов и имен, то Андреев общедоступен и даже простоват, и главное – вопиюще наивен. Наивен он потому, что глубоко верил в свою особую миссию на Земле и был внеконфессионально глубоко верующим человеком, не разъеденным иронией и скепсисом. Верующий человек всегда немного наивен – без этой наивности адептов всякая религия мертва. Откровение Божие не проникает в умные гордые сердца, его сосуд – однокие, чистые и наивные люди, почти что юродивые. Одинокое, несчастное сиротское детство, внутренняя заброшенность и обида на судьбу обычно лелеют и пестуют такие души, где вырастают странные, несколько искривленные цветы, к которым опасно прикасаться. К творчеству Даниила Андреева, при всем его эпигонстве и вторичности, тоже опасно так запросто прикасаться – это продукт не художественного творчества, а веры, причем не старой, а какой-то новой, еще не определившейся или давно забытой веры. Критики и исследователи все это как-то чувствуют и обходят Андреева стороной, как зачумленное, чем-то опасное место, где можно поскользнуться и разбить лоб. В общем-то, конечно, Даниил Андреев по большому счету сплошной наив-кюнст и отчасти мистический кич, но все, что он делал, обладает гипнотической силой и воздействует, и очень хорошо воздействует на среднего человека, задавленного комплексами цивилизации. В этом качестве Андреев – эффективное средство освобождения от духовного рабства тоталитарных режимов двадцатого века, но, к сожалению, он актуален и в двадцать первом веке.
Читая Андреева, надо понять, что здесь несколько иные критерии и мерки, чем в “нормальной” серьезной литературе. Внешне все это похоже на творчество обычного писателя, но по сути совсем иное, как картины таможенника Руссо, как живопись на черных клеенках Пиросмани и полотна сотен других наивных художников. Все эти творцы по-другому рисовать не умели, но обладали завидной целостностью мировоззрения, давно утраченной профессиональными мастерами. Искусство – это создание иного мира, а не эпигонство уже сказанного и сделанного. Создал свой иной мир Даниил Андреев? Да, создал. Он брал, не задумываясь, чужие кирпичики чужих стилей, строя свой храм-замок. Так творил и Людвиг Баварский, и испанский архитектор Гауди. Зрелый, пьяный и развратный Блок тоже создал свой душный, как будуар дорогой кокотки, мирок из чужих стилей и приемов, и все, кто его любил и шел за ним в кабаки и в революцию, куда забрел и там издох от тоски и сам кудрявый монстр со взглядом умирающего удава. Андреев, конечно, преклонялся перед Блоком, его наставником в блуждании по мистическим болотам теософии и розенкрейцерства был троюродный брат Блока Александр Викторович Коваленский, которого я тоже знал. Коваленский, мистик, поэт и переводчик, жил в том же добровском особняке, будучи женат на дочери приемного отца Андреева доктора Доброва. Коваленский и его жена были, конечно, арестованы по делу Андреева и оба погибли, не вынеся удара. Жена Коваленского умерла в лагерях, а у Коваленского сожгли все его рукописи и конфисковали библиотеку, и он, перенеся в лагере инфаркт, прожил еще несколько лет, тяжело дыша и постоянно задыхаясь. Символисты, друзья его отца, были средой обитания Андреева и его духовными учителями. Он заемно использовал их стилистику и лексику в совсем других целях. Устремления Андреева были в русле создания общеарийского мифа на славянской почве. Само слово “арийство”, “арийская цивилизация”, “арийский дух” глубоко и надолго скомпрометированы группой ограниченных и злобных немецких мещан, взявшихся лоббировать интересы немецких концернов и их хозяев в Европе и потерпевших чудовищный крах. Сейчас воинственный мусульманский фундаментализм напрочь подрывает и компрометирует мусульманскую цивилизацию и традиционную жизнь Востока. Не будь немецкого национал-социализма, детей не пугали бы свастикой и слова “арии” и “арийство” не приобрели бы зловещего смысла и от них не воняло бы крематориями и трупами. Те же большевики надолго скомпрометировали понятие социализма, о котором когда-то сочувственно писали Оскар Уайльд и молодой Шоу. Идиоты и тупицы могут изгадить абсолютно все, за что возьмутся. Сейчас в России и в Северной Европе носится идея воссоздания древнеарийской религии, и в свете этих поисков творчество Андреева не совсем чужое для людей, думающих на эту тему. Как пример я приведу следующий смешной случай – в позорной газете бывших чекистов и советских заштатных писак Александр Проханов затеял дискуссию о будущем России, озаглавив ее так: “Соединенные штаты славян или Третий Рим?” Двое знакомых журналистов попросили меня написать альтернативу этому одиозному вопросу, заручившись предварительным согласием Проханова меня напечатать. Я с большой неохотой откликнулся на это предложение и написал большую статью, назвав ее “Священная арийская империя”, где рассматривал вопрос о едином государстве от Рейна до Амура. Проханов, как мне говорили, похвалил мою статью за живость языка, но совершенно серьезно сказал журналистам: “Если я напечатаю статью Смирнова, мне больше не дадут денег на издание” – и попросил передать мне, что он очень сожалеет, так как моя статья и идея ему очень понравилась.
О Данииле Андрееве в этой газете тоже молчат, хотя туда волокут с литературных кладбищ любую провонявшую ветошь. Я отношусь и к себе самому, и ко многому происходящему с иронией и недоверием и всегда где-то сбоку своего текста пакостно ухмыляюсь: что эта сволочь Смирнов еще написала? Но на фоне чудовищных процессов, происходящих сейчас на территориях бывшей России, и отсутствия государственно-конструктивных сил вижу, как лихо и планомерно Россию колонизируют мусульмане и азиаты.
Д. Андреев не имел взглядов на будущее России в ближайшее время; когда в начале войны мой отец, как внук царского генерала, и моя мать, как дочь атамана и генерала, с тревогой говорили о германской угрозе, то Андреев их “успокоил”: “Глеб, не расстраивайся, если придут в Москву немцы, то это не так уж и важно. Приходили они в революцию в Киев – ну и что? Россия все равно останется”. Он, как и многие тогда, не понимал разницы между кайзеровским рейхсвером и гитлеровским вермахтом. То же самое происходило в конце войны в Югославии, когда сербы, ожидая советскую армию, радовались, что снова идут “русские братушки”. Потом они, познакомившись со СМЕРШем и НКВД, очень хорошо поняли разницу между царской армией с ее кодексом офицерской чести и красными бандформированиями с садистами-комиссарами и пулеметами в тылу своих же войск. Разницу между традиционно русскими и вновь возникшей советской человеческой сущностью по сей день мало кто понимает – ведь и те, и другие говорят на одном языке и внешне похожи. Разница между этими двумя периодами в том, что и отрекавшиеся от себя православные русские люди, чьи отцы и деды не состояли ни в ВКП(б), ни в КПСС, не делают того, что позволяют себе делать так называемые советские люди, с точки зрения “старых” русских – русскоязычная нелюдь. И в будущем Российскую Федерацию неминуемо расколет, как когда-то при патриархе Никоне, именно эта моральная разница двух народов в одном.
Андреев был вне всего этого, он горел, как свеча, совсем другим, мало понимая и анализируя окружающее. Интересно, что когда я с одним матерым монархистом ездил на его старой “Победе” во Владимир побеседовать к Василию Витальевичу Шульгину, то он знаками показал нам, что надо выйти из его однокомнатной квартирки во двор и там поговорить, сидя на лавочке. И вот тогда, сидя с ними в кустиках, я спросил Шульгина об Андрееве, с которым он встречался и беседовал в тюрьме. Помню слова Шульгина: “Очень талантливый человек, но страшный путаник”. К Шульгину в те времена из Москвы курсировало довольно много бывших и их потомков набираться ума-разума у человека, ездившего в Ставку царя требовать у него отречения. Удивительно, что Шульгина не затоптали сапогами в тамбуре вагона бывшие врангелевские офицеры, как это они сделали с председателем Думы Родзянко. Шульгин много мне рассказывал об их балканском житье и о моем дяде – генерале Ф. Ф. Абрамове, готовившем правительственный переворот в Болгарии, чтобы сделать ее оперативной базой для нового похода белых на Москву. Давно это было, и больше всего мне запомнилось, как мухи и осы лезли Шульгину в уши и длиннющую бороду и как он их хлопал и отгонял от коротко стриженного шара своей давно загнанной в чекистскую лузу головы...
В те далекие шестидесятые никто бы из нас не поверил, что не только Евразия, но и Западная Европа тихим демографическим путем начнет освобождаться от белого населения и станет местом обитания турок и арабов. Машинизированная цивилизация для арийской ветви homo sapiens'а окажется пострашнее средневековой чумы, орд Чингисхана и двух мировых войн. Все теперь решит эгоистичная бездетная парочка, сидящая в теплой квартирке у видака и обучающаяся половым извращениям. Андреев предчувствовал кое-что подобное, и его брейгелевские адские картинки в “Розе мира” именно на эти темы.
Общий кризис европейской христианской цивилизации и полное моральное одичание и угасание русского православия тоже его как-то особенно не задели. Я сам сторонник православия старообрядческого типа, и мне наиболее близки беспоповские толки как вехи на пути к православному протестантизму вообще без церковной иерархии. По-видимому, я никогда не нашел бы общих точек соприкосновения с Андреевым во всех этих вопросах, будь он жив. Это ведь особая, довольно своеобразная тема разговора с покойниками, чей склад ума тебе дорог и с которыми ты общаешься, пока сам жив. А я подолгу беседовал не с Андреевым, а с его наставником Коваленским и гимназической подругой Андреева Зоей Васильевной Киселевой, обеспечившей ему православную кончину. Есть во всем, что связано с Даниилом Леонидовичем, одна неувядаемая тайна, волнующая по сей день. Официальными учителями и репетиторами молодого Коваленского были Эллис (Кобылинский) и Борис Бугаев (Андрей Белый). Это все происходило у них в звенигородском имении Дедово, куда ездил в гости к своим родственникам молодой Блок с женою Любовью Дмитриевной. Коваленский же с детства формировал и воспитывал Андреева, но тот был своевольный и непослушный ученик, вечно тянувший в свою сторону. Андреев родственно-преемственно связан с корифеями русского символизма, с его особой трупно-туберозной мистикой. Именно оттуда пришел Андреев, и больше оттуда никто уже не придет. Цепочка оборвалась. Сейчас выходит множество очень хороших похоронно-поминальных книг о погибшей России, но Андреев по-прежнему живой и современный писатель, нужный прежде всего молодежи. Попытаюсь объяснить, в чем тут дело. Тут есть один мой личный секрет, который вряд ли кто-нибудь, кроме меня, знает. У меня с покойным поэтом есть своего рода мистическая связь, возникшая с момента моего рождения в пресловутом тридцать седьмом году. Я десятилетиями работал в церквях, где, в основном расписывая алтари и купола, привык общаться с душами покойников, похороненных вокруг храмов. Когда меня спрашивали, что меня привлекает в церквях и почему я несколько отошел от светской живописи и людской суеты, я всегда отвечал: меня привлекают чистые старушечьи деньги, на которые живет моя семья и я сам, и, в не меньшей степени, общение с душами усопших. Усопшие и мысли, которые они навевают людям, чьи духовные мембраны настроены на общение с ними, могут очень многое сказать и развить особое чувство мирового погоста и преемственности живых с мертвыми, часто только частично переселяющимися в души живых. У меня явно имеются очень большие связи с людьми двадцатых и тридцатых годов. Я помню, как я вошел в дом к одной даме и, сразу подойдя к дубовому резному платяному шкафу, открыл его и увидел старое, довоенное кожаное пальто и английские полосатые пиджаки тридцатых годов. Это были вещи расстрелянного троцкиста, и мы очень долго говорили с этой дамой о судьбе убитого и всего их погибшего круга. Я с ней с тех пор подружился и участвовал в ее похоронах. Такая же ситуация у меня была с одной состарившейся эстрадной певичкой, певшей при немцах в Крыму и Таганроге. У нее в шкафу висел серый немецкий мундир обер-лейтенанта, принадлежавший ее бывшему возлюбленному, молодому человеку из дворянской семьи, перешедшему к немцам и потом застрелившемуся. Мы с этой певичкой подолгу пили коньяк крохотными старинными рюмочками, слушали довоенные старые шипучие пластинки, и я ей рассказывал о мыслях самоубийцы, которые ее очень удивляли своей достоверностью. Это все не игры с дьяволом и не парапсихологические опыты, а вхождение в надчеловеческую атмосферу, окружающую нас, с которой большинство людей не хотят считаться. У меня во флигеле до сих пор висит старый плащ регланом, в котором Андреев ходил в лес, и стоит палка его зонта-трости. И целы его письма к моим родителям и подаренные им альбомчики со стихами, чистыми и немного наивными. У альбомчиков пожелтевшая бумага, а обрезы посеребренные. Даты на всех бумагах довоенные. Я иногда раскладываю эти реликвии, перечитываю их, и у меня возникает материализованная тень послетюремного сумрачного Андреева с ввалившимися беззубыми щеками и уже отрешенным взглядом. Таким я его много раз писал по памяти, даря портреты его поклонникам. Это были специальные подарочные бесплатные портреты. Все его поклонники теперь уже умерли, передав мои портреты другим, еще живым, поклонникам.
Я сам не поклонник поэта и писателя Андреева, я поклонник человека Андреева, а точнее – типа человека, воплощенного Андреевым. Все, кто знал известного политического деятеля возрождения Израиля Жаботинского, были его поклонниками как самого блестящего собеседника его эпохи, не придавая большого значения его стихам и переводам. Так же почитали когда-то устного Чаадаева и Тютчева, влиявших на свое время не своими письменными свидетельствами, а блестящей устной речью. Так же влиял и Андреев на свое время – пообщавшись с ним, слушатели думали: еще жива душа свободной, непорабощенной России.
Мать Андреева – “дама Шура”, как называл ее немного влюбленный в нее Горький, – умерла родами второго сына Даниила. Отец – Леонид Андреев – возненавидел ребенка, отнявшего у него страстно любимую им жену, не хотел его видеть и отдал сына воспитывать в семью сестры жены и ее мужа доктора Доброва, где мальчик и вырос. Из особняка Добровых в Левшинском переулке, где он прожил всю свою жизнь, Андреев был забран на Лубянку, и заодно с ним арестовали большинство обитателей этого еще допожарного здания. Проходя по Левшинскому переулку, я обычно присаживаюсь, постелив газету на уцелевший белокаменный фундамент добровского особняка, так как сейчас, в лужковской Москве, все скамейки выломаны, а парадные старых зданий превращены в туалеты. Помня об обстоятельствах своего рождения, Андреев с суеверным ужасом относился к проблеме беременности и родов, и когда моя мать забеременела мною, то он очень переживал. Особенно до войны и до второй женитьбы на Алле Александровне Андреев часто бывал у моих родителей, где его особенно тепло привечала моя мать, пережившая с детства, как дочь казачьего атамана, близкого к двум последним императорам, долгие гонения и притеснения от большевиков и потому особенно внимательная ко всем гонимым и преследуемым. Уехав летом в Крым, Андреев писал матери письма и открытки, сообщая, что он молится за нее и за ее будущего ребенка, то есть за меня.
Родившись, я получил общий сепсис, и академик Сперанский, тогдашнее медицинское светило, провел на мне эксперимент, сделав мне впервые в СССР глобальное переливание крови. “Все равно умрет, давайте попробуем”, – сказал он. Все рожденные в 1937 году по разным причинам придают некоторое значение этой дате, хотя среди тогда рожденных младенцев большинство были дети палачей и их пособников. Сам Андреев не пытался заводить детей, но его жены, как мне известно, не делали от него абортов. Прадед Даниила Андреевича был уездным предводителем дворянства в Орловской губернии и завел ребенка от таборной цыганской певицы, как говорили – редкой красавицы. Все мужчины – ее потомки были красивы особой южной красотой, и за ними всю жизнь бегали женщины, грубо принуждая их к сожительству. Моего отца, смолоду горбоносого дворянина с эспаньолкой, преподававшего в институтах, тоже сильно преследовали студентки, присвоившие ему кличку “Иисус”, и различные сексуально неустроенные женщины, требовавшие от него детей. Я знаю, что и Андреев, и мой отец очень жаловались друг другу на женский сексуальный терроризм и делились опытом, как отделываться от назойливых дам. Подобным же женским насилиям и приставаниям всю жизнь подвергался и я, но не был всегда так стоек, как мой отец и его друг, мой фактический крестный отец, молившийся за меня своим, только ему известным божествам. Андреев не был бахай, но был всебожник, и у нас с ним есть некое сходство в мистическом восприятии самой идеи Бога. Я свой человек не только в православных храмах всех ветвей и юрисдикций, но и в дацанах, в синагогах, в протестантских молельных домах, но только не в католических костелах, где существует тоталитарная система подчинения церковной иерархии и где Бог приобрел материального заместителя. Я не вижу особой разницы между Ватиканом, красным Кремлем и гитлеровским Берлином. Очень часто все эти три тоталитарные организации действовали дружно, в том числе и в еврейском вопросе, оправдывая и поощряя насилие. Теперешний Войтыла недаром, прилетев в Грецию, сразу стал кланяться византийской земле за все вековые гадости Ватикана. Фактически красным ермолкам надо кланяться на все четыре стороны света и просить у всех прощения за свои моральные и физические преступления. Апологетикой Ватикана Андреев никогда не занимался, отдавая предпочтение различным католическим сектам, вроде альбигойцев, и закрытым рыцарским орденам.
Эти строки я пишу за письменным столом, где когда-то Андреев, выйдя из тюрьмы, писал свою “Розу мира”, а за окнами липы и березы, опавшие листья с которых он босиком собирал осенью и жег костры. Я знаю, что он очень любил засыпать под вскрикивания подмосковных электричек и гул высоко в небе парящего одинокого самолета. И я тоже люблю всю эту какофонию, но я еще привык хорошо, крепко спать в аэродромных гостиницах под рев моторов и турбин стартующих самолетов. Я много раз слушал, как он читал свои стихи, прислонившись к теплой металлической угольной печке, и все они обязательно вторичные, с чужими интонациями и довольно благозвучные, но они ему служили не для стихотворного самовыражения, а для передачи своих душевных нюансов и историко-мистических окровений. У Андреева есть отдельные очень хорошие пантеистические стихи о природе, ну прямо для школьных хрестоматий рядом с Фетом и Буниным, а так он обычно бегло литературен и гладок, как штатный газетный поэт, который может и спросонья писать среднепрофессионально. Он пытался ревизовать русскую историю, ища в ней скрытый, близкий ему смысл. В русской истории, как в выгребной яме или как в мерцающем сталактитами подземном гроте, все можно найти, особенно если этого очень хочется. Теперь и в фашизме и большевизме ищут мистических откровений, поэтизируя обычное мерзкое мокрушество и бандитизм. Современная русская жизнь пуста, убога, и многое из прошлого ушло в забвение.
Отдельной статьею андреевского творчества был его роман “Странники ночи”, по-видимому более профессионально изощренный, чем андреевское стихотворчество. Роман опирался на стилистику Андрея Белого, и Ковалевский, как литератор более изощренный, чем его ученик, считал его интересным и сожалел о его сожжении в лубянских печах. И по совокупности антибольшевистских высказываний, и за роман, переполненный ими, Андреева должны были расстрелять, но вышел какой-то закон, и ему дали двадцать пять лет именно тюрьмы, а не лагеря. Тут еще была одна деталь – в начале войны в добровском особнячке, в гостиной с ампирными колоннами и роялем, у которого когда-то пели и Собинов, и Шаляпин, собрались приятели Андреева и, подпив немного водочки, составили декларацию и список будущего правительства свободной от красных России. Утром, проснувшись, этот список не сожгли, а засунули в рояль, и он попался в лапы чекистов. Кстати, в рояле было не только кое-какое убогое золотишко, но и пачка писем Горького и к “даме Шуре”, и к Леониду Андрееву, которые не считали этичным публиковать и которые сожгли чекисты. Погубила Андреева, и всю ее родню, и весь круг его друзей Алла Александровна, которой надоело быть женой нищего подпольного гения и которая возжелала ему славы, организуя читки романа. Держать его надо было в укромном месте или переправить за границу под вымышленной фамилией. Учиться и учиться им всем было у Солженицына, уже посидевшего и знавшего все ухватки лубянцев. Коваленский все это понимал и отговаривал Андреева от этих пагубных читок, но, как говорится, “ночная кукушка перекукует”. Мой отец в те годы от страха никуда не ходил и потому и спасся.
Меня часто занимала мысль – каков мог бы быть русский интеллигент в двадцатом веке, не случись красного октября и не вырежи большевики почти поголовно русские культурные сословия. С теми же евреями дело было попроще – большевики убрали позорную черту оседлости, и они в своей массе ринулись из местечек к образованию, закрыв при этом глаза на ужасы большевизма. Но образованные и буржуазные евреи сполна разделили судьбу и участь погибшей русской интеллигенции. Андреев – случайно выживший потомственный русский интеллигент, не давший себя сломить, и в этом своем качестве он достаточно уникален. Он не занимался по ночам антисоветчиной, днем угождая режиму и его сатрапам. Днем Андреев ради пропитания ходил по учреждениям и жэкам, берясь за любую шрифтовую копеечную работу. Он, как профессиональный шрифтовик, даже вошел в горком графиков – тогда это была чисто прикладная организация, это уже при Андропове чекисты сделали из нее свой филиал. Изобразительный фактор был свойственен всей андреевской семье, и Леонид Андреев обвешал свою финскую дачку на Черной речке большими масляными своей работы копиями с офортов Гойи, где изображена всякая крылатая нечисть с когтями. Присутствие Бога и дьявола как вполне конкретных личностей чувствовал и Даниил Андреев, писавший, что в молодости он, движимый дьяволом, замучил какое-то животное и потом долго мучался раскаянием.
Для уравновешивания Бога и дьявола в своей душе Андреев, наверное, и заключил союз с Аллой Александровной, несомненно, во многом представительницей сил ада, которые группировались при ней всегда и при помощи которых она и создала посмертный храм-памятник Даниилу Андрееву, сделав его модным бульварным писателем. Многие пишут мемуары о своих знакомых по принципу “Лев Толстой и я”. Ко мне это не относится ввиду моего крайнего эгоцентризма, и я достаточно занят собственными довольно болезненными реакциями на окружающее, чтобы всерьез к кому-либо относиться, кроме собственной душевной клоаки, где, впрочем, я иногда выращиваю довольно красивые, но ядовитые цветочки и поганки. Просто я постоянно чувствую присутствие Андреева в старом срубе нашей дачи, обстроенной мною каменными сооружениями, и в нашем саду, где мало что изменилось с довоенных лет и шестидесятых годов. Я долго жил в одном довольно загаженном барском особняке в Пензе, и ко мне постоянно приходила и наяву и во сне одна стареющая брюнетка с еще молодой беспокойной фигурой и старыми, жилистыми, в вздутых венах руками в перстнях, с очень острыми опасными ногтями. Потом я узнал, что она повесилась именно в этой комнате, где я ночевал, из-за того, что чекисты убили последовательно ее мужа, его брата, с которым она стала потом жить, а потом и единственного восемнадцатилетнего сына.
Так в чем же все-таки тайна Даниила Андреева и его притягательность? Две главные причины все объясняют. Это цельность личности Андреева и то, что он в свое время очень последовательно выпал из современной ему системы – политической, государственной, духовной, религиозной, семейной, сексуальной и т.д. Я сам человек совершенно не цельный, я человек декаданса, модернист, сюрреалист, изобретатель магического символизма, – в общем, черт знает кто, но только не гомосексуалист. Целен я только в одном – в ненависти ко всему, что превратило в двадцатом веке человека в двуногое животное – раба государства и сильных мира сего. Да, в ненависти и неприятии я целен. И я завидую стройному душевному устройству Андреева. Я хотел бы быть цельным человеком и работать не только на свои самые различные комплексы, фобии и мании, но и на понятное и близкое мне государство и на свою страну, чью ландшафтную плоть я так люблю и так неплохо знаю. А в жизни ведь бывает часто совсем по-другому: у тебя любовница с упоительным, страстным и нежным телом, чувственным и отзывчивым, как скрипка Гварнери, а слова она испускает из себя только матерные и ужасно при этом рыгает вчерашним пивом и мерзкой ржавой селедкой из кабака под гостиничным номером, где ты с нею ночуешь. И с Россией, которая тоже обязательно страстная и желанная до жути, до болей во всем теле баба, тоже так происходит. Страшная, жуткая неслиянность души и тела, плоти и духа, желаний и реализации – все это каждодневная русская трагедия, и все мы – последние носители комплекса русских идей, ее жертвы и паладины. При большевиках служить власти было стыдно, а при их преемниках – противно. При большевиках православный диссидент Огурцов был арестован в Свердловске по доносу комсомольского секретаря Бурбулиса, автора и инициатора Беловежья, узнав о котором, Горбачев закричал: “Это все штучки Бурбулиса!” Теперь Бурбулис в своем центре “Стратегия” разрабатывает планы увековечивания нынешнего клептократического режима.
Хорошие книги порождает обычно жизнь во всей ее сложности, плюс родовая память. Повоевал артиллерийский поручик Толстой – и написал и Севастопольскую эпопею, и “Войну и мир”, помучился с толстой живородящей тупой женою – и написал “Анну Каренину” и “Крейцерову сонату”. Повоевал Лермонтов в Чечне – и написал “Героя нашего времени”, полечил Чехов русских темнецов – и написал “В овраге” и множество других ужасных рассказов. А бывают книги-предчувствия, как творчество Кафки, у которого немцы потом сожгли всю родню и друзей. А теперь пишут книги из книг, книги родят книги. Немудр Андреев, но он целен, как был целен его предшественник по лирическому жанру Надсон, а ранее Апухтин, тоже оба невеликие литераторы. Почему в СССР все вдруг в шестидесятые набросились на Хэмингуэя – он был целен: что думал – то и писал, а когда посадил печень от пьянства, то застрелился.
Проза делится на два типа – на писание через себя и на истории болезней пациентов. Бывает так, что столько видишь и слушаешь предсмертных исповедей, что начинаешь записывать, и возникают рассказы Чехова, и книги Вересаева, и маленькая хорошая ранняя проза Булгакова “Записки врача” – морфиниста. Теперь же очень многие книги возникают на материале других авторов – плюс переживания нового писателя. И как-то стыдно читать и слушать – хороший платоновский по стилю роман или книгу в стиле Ювачева-Хармса и т. д. Чехов писал, что каждый писатель должен, как собака, лаять своим голосом, не думая о том, маленький ты песик или бульдог. Андреев бродил, как голодный юрод, по сталинской Москве – посещал своих друзей и написал роман. Ездил на природу в брянские леса и писал там стихи. Читал русскую историю и высказывал свои суждения о ней в поэтической форме. Все это было вполне естественно, чуть наивно и цельно. Старый Чуковский, перебирая его стихи, все искал, по его словам, “подленьких”, чтобы разбавить андреевский лирический массив, и не нашел. Все, что говорил Даниил Леонидович, шло от его сердца, без всякой оглядки, и не было рассчитано на аудиторию. В условиях подпевальной совдепии это было уникально. Тот же Есенин был псевдопростачком. В Царском Селе он перед царем прикидывался одним, в кафе “Стойло пегаса” – совсем другим, когда ходил с чекисткой Галей Бениславской подглядывать на Лубянку, как расстреливают контриков, – третьим. Да и его наставник – педик и старовер Клюев учил его совсем не простоте, недаром он долго метил на место “старца” Григория Распутина. И эпигонство поздним символистам у Андреева было естественным – он такую поэзию только и слышал с детства.
Я общаюсь с массой людей, так как ближе к старости занялся общественно-религиозной деятельностью: создаю приходы, общины, работаю в самоуправлении, и вижу очень мало естественных людей. На всех надеты личины, и все прячут свои подлинные мысли и не хотят раскрываться. Я знаю, что моя религиозно-общественная деятельность почти что бессмысленна, но, тем не менее, я работаю с людьми, разъясняя им их рабское состояние. Подавляющее большинство населения всех возрастов, от двадцати до ста лет, ждет реставрации социализма или чего-то в таком же духе, и очень мало кто думает о подавленной большевиками недолгой русской демократии. А немногочисленные оппозиционеры настроены экстремистски. Но все они тоскуют о цельных, нераздвоенных и нерастроенных личностях. И им интересен Андреев, ибо они понимают, что он писал то, что думал, и, поняв это, они тянутся за его немудреной и чистой лирой.
Почему сегодня нет ни одного романа, где просто или непросто, но узнаваемо написано о том, что пережили мы все за эти дестилетия? Разве нет талантливых людей? Разве нет литературного языка? И того и другого в избытке, но нет смелости писать о чудовищном рабстве и страхе, в котором мы все жили и продолжаем жить по сей день. А на месте голой и страшной правды появляются всякие кыси вроде развязной талантливой бабы с мокрыми глазами гиены Татьяны Толстой, подъедающей литературную падаль на всех перекрестках, сорокинщина и мамлеевщина со всем арсеналом прозекторской и искренний хрен собачий Эдичка, сын рядового “честного чекиста”, пишущий о влагалищах своих баб. А о Пелевине я говорить вообще не могу – это для любителей травки. Эти любое дерьмо мифологизируют. Очень страшная и пугающая картина получается. Нужна новая “Шинель” и “Портрет” Гоголя, но на новом материале, чтобы наконец развязать засунутые от страха в задницу языки и выработать новый стиль. А исправление стиля – это исправление мышления, сказал когда-то Ницше. На сегодня живые романы о подлинной России заменяют выходящие периодически интересные и отчасти правдивые мемуары, где авторы ограничены тем, что пока живы сами и не до конца умерли описываемые ими.
До девяносто первого мы все жили в тоталитарном обществе – теперь же мы живем в обществе тотальной лжи, и это тоже очень многие понимают и перестают ходить на выборы любых уровней. Вот в эти дни провалилась перепись населения, и паспортистки в принудительном порядке подделывают опросные листы. Рано или поздно в эрэфии (так я придумал называть наше государство) на выборы, кроме чиновников и миллионеров, не придет никто. Я излагаю простые, но достаточно страшные вещи и надеюсь, что обойдется без две тысячи семнадцатого года, как об этом говорят ныне повсюду. Даниил Андреев жил и писал не по лжи и не думал о своем месте в литературном и культурном процессе. Наивный атавизм поэтической и человечной личности Андреева достаточно притягателен и сегодня. В этом его первый завет. Этих идеалистических качеств были абсолютно лишены все руководители разогнанной Ельциным КПСС, да и рядовые члены красного монолита вели себя, как трусливые шакалы, разбежавшиеся от страха по углам. Я вот только несколько цельных людей встретил за свою довольно уже длинную жизнь. А тут вдруг цельный человек пишет и стихи, и прозу, и философское эссе. Так это же целый клад! Да еще его, как Эдмона Дантеса, бросают на двадцать пять лет во Владимирский централ. Да я откровенно тоскую по цельному человеку, завидую Андрееву именно потому, что я разрушен и фрагментарен. Так тоскует разбитое вдребезги зеркало по большому трюмо, закрепленному скобами и коваными гвоздями к стене.
Второй завет Андреева, не менее важный для сегодняшнего дня, – это выпадение Андреева из системы. Уж он-то выпал крайне как добротно. Человек, бегло пишущий стихи и прозу, не нашел себе места в сталинской прессе. Тот же гениально одаренный Михаил Кузмин и Бабенчиков, пригласив тут же жившего Городецкого, попивали винишко и вспоминали блистательный Петербург и свою молодость. Я-то заходил к собеседнику Блока Бабенчикову и Городецкому как к реликтовым зверям (бывавший у них наездами Кузмин тогда уже умер), а вот Андреев к этим двум старым циникам через порог не переступал, ему это западло было. Он вообще избегал циников, чувствуя их, как волк чувствует железо на расстоянии. Выпадение из системы приобретает в наше время особую остроту. Холодная война закончилась сдачей Западу всего советского комплекса (территории, армии, промышленности, науки, образования, медицины, социальной политики). Все это сделали партийные воры отнюдь не из идейных соображений, а из желания максимально похищничать в ходе этой сдачи всего. Возникли совершенно новые чудовищные состояния и целые финансовые империи бывших советских министров и секретарей цека комсомола. Теперь идет активный процесс увековечивания этих состояний и закрепления возникшей системы как внутри страны, так и в общеевропейском и общемировом масштабе. Меня эти процессы совершенно не волнуют и не расстраивают – развалили советскую систему – и слава Богу, больше из глубин Евразии не поползут бронированные жуки, несущие на броне десанты косоглазых солдат и волны большевистского рабства. Обманули коммуняки своих подданных – так этим подданным и надо. Меня волнует совсем другое – внутри страны на видимой поверхности не оказалось ни русских, ни вообще славянских сил, думающих о возрождении пусть хотя бы небольшой, но национальной России. Активное размежевание общества и русского народа продолжается, и из прогнившей советской мякоти с большим трудом, но начинает выделяться русское национальное ядро. Это русское национальное ядро совершенно не нужно ни Западу в целом, ни бывшим советским людям, пытающимся возродить красный рейх под национально русскими знаменами. Идет массовая подмена понятий, терминов, политических партий и движений. Это происходит внутри России, одновременно начались всемирные разрушительные процессы. Весь девятнадцатый и двадцатый век западная, включая Россию, цивилизация развивалась хищнически и эгоистически, ведя к уничтожению лесов, животных, загрязнению водоемов и морей. Через сорок лет закончатся мировые запасы нефти. Белый человек сам себя предал, вооружив своим белым оружием всех этих негроидов, арабов и азиатов, находящихся по сей день в моральном людоедстве и варварстве. Они, получив европейское оружие, готовятся к новому переделу мира и завоеванию территорий белого европейского человека. Европейцы забыли падение отвоеванного у неверных Иерусалима, падение Константинополя, движение арабов на Францию и монголов на Россию. К тому же белые люди-сахибы не могут договориться между собою и за прошедшее столетие дважды залезали в глиняные ямы и уничтожали друг друга со звериной жестокостью. И за всем этим наблюдали жадные, внимательные и злобные глаза варваров. Такая цивилизация многих не устраивает, и растут и растут миллионные армии недовольных и рассерженных. Если рассердится и выпадет из системы пишущий человек, то с ним обойдутся достаточно жестко. Луи Селин усомнился в целесообразности двух мировых войн и был подвергнут за это жесточайшему остракизму. Юнгер, встречавшийся в оккупированном немцами Париже с Селином, с ужасом сказал, что этот человек никакой не союзник немцев, а опаснейший анархист, враг всех систем и правительств. В ходе проигранной СССР холодной войны возникли целые скрытые армии людей, истончавших империю зла и сделавших из своей короедной работы профессию. Сейчас многие из них оказались не у дел и недовольны – они не знают, что и кого им грызть, кроме челюстей, у них нет другого рабочего инструмента. Без работы остались и разнообразные деятели всех жанров, игравшие на разнице идеологических валют и умевшие умело делать продукцию и на внутренний социалистический рынок, и на Запад. Исчезло само понятие тамиздата. Теперь повсюду стало не только “там”, но и “там-там”. Раньше было нетрудно европейским издателям находить советских писак вроде Дудинцева, Солженицына, Максимова, Владимова и лепить из них идолищ поганых, которых насильственно навязывали всем и всюду. А они были рады этому и начали подыгрывать своим новым хозяевам, и возникала старая, как мир, взаимосвязь развратителей и развращенных. Собственно, эти непочтенные писаки совсем не виноваты – им эту роль почти насильственно навязали, как Петр I навязал русским картофель, а большевики – занудных классиков марксизма. Я называю Солженицына классиком антисоветской литературы. Все это безобразие, связанное с холодной войной, – целая довольно трудная эпоха для людей, проживших ее, при ней и под ней. Аналогичные процессы происходили и в живописи, но живопись – это или эротическое или религиозное искусство. В постели мужчине не так просто обмануть чувственную женщину – она своим извне навязанным ей природой умом всегда отличит стуящего любовника от так себе. И в иконе всегда заметно религиозное чувство. Конечно, в живописи были свои шарлатаны вроде Глазунова. Но живописное месиво или бредовые неоиконы трудно подделать ввиду их пластической чувственной природы, и здесь проституция легко распознается и эстетом, и средним зрителем. В литературе же подделки проходят намного легче благодаря эксплуатации темы и описанных фактов. Настоящее творчество всегда уединенно, сокровенно, непублично и во многом ущербно по самой физиологии процесса, который автор прячет от посторонних. Кошка ищет темное гнездо и закут для выведения котят, а писатель – укромное тихое место для написания романа. Вот Пастернак копал свою картошку, делал хорошие переводы и писал свой плохой роман с гениальными стихами. Вот Андреев писал, по-видимому, хороший роман с плохими стихами. А сколько таких авторов с такими романами уничтожили чекисты – мы никогда не узнаем.
Разделение мира глубоким рвом холодной войны было очень долгим, и целые поколения душевно и физически состарились и преждевременно обветшали в этих противоестественных условиях. А еще больше людей было морально и психически искалечено жизнью сразу в двух ипостасях. То, как мы все жили при большевиках, было совершенно изнурительно и разрушительно, из-за чего мы все искали антистрессовые допинги. А возникшие семьи и дети сделали художников заложниками и рабами системы. Не все же, как я, решили, не уехав из страны, залезть на купола и кресты храмов, поближе к церковным галкам и воронам. Я их, злобных тварей, прикармливал, и они, на удивление прихожан, прилетали ко мне, и некоторые из них садились мне на плечо и даже на голову, царапая кожу своими когтями и вызывая у православных юродов подозрения в моей святости. Но я все равно не был выпавшим до конца из системы человеком – носил пиджаки со шлицами, ходил в кабаки, где пил водку под икру и семгу, имел красивых жен и любовниц, читал всю периодику, скупал книги и делал прочие мелкие гадости, свойственные своей подлой и сибаритской природе. Но социально я выпал из системы, никогда и нигде не сказав и не напечатав о ней ничего хорошего, вообще не участвовал в их выборах и страшно, чудовищно матерился по телефону, зная, что каждое мое слово аукается на Лубянке. Но я всегда завидовал людям, гораздо добротнее, чем я, выпавшим из системы. Завидовал, конечно, и Даниилу Андрееву. Тому же Володе Яковлеву ввиду его болезни было намного легче, чем мне, – он добротно выпал из системы. А Толя Зверев был полностью в системе, хотя и безобразно пил и хулиганил, – он очень хорошо разбирался в советских писателях, сожительствуя с их вдовами. Кроме Андреева, я знал еще одного чистого человека, выпавшего из системы, – это был Лев Федорович Жегин-Шехтель. Тот законспирировался в начале двадцатых годов и фактически игнорировал все ужасы советского режима. В юности я знал целый ряд катакомбников, тоже живших вне системы. И из них к искусству был близок мой наставник – коллекционер Валериан Владимирович Величко, воспоминания о котором опубликованы мною в католическом журнале “Символ”. У меня очень долго была дурацкая идея жить в советской стране, игнорируя большевиков, и мне довольно долго удавалось это успешно делать, но потом красные меня выучили, потаскав по камерам, где меня колотили за своенравие, и я на себе узнал вкус их подкованных сапогов. А Андреев не пил, не шумел, не волочился за бабами, он и на фронт пошел со своей портативной пишущей машинкой и так и простучал всю войну писарем в блиндажах, гордясь тем, что не убил ни одного немца. Сейчас те, кто причислил себя стану победителей в холодной войне, банкуют и снимают урожай, но он скоро кончится, и в сусеках уже видно занозистое дно. В разной степени мы все, несогласные и не любящие большевизм, были мелкой и большой разменной монетой на зеленом сукне мировой игры за океаны и базы, за нефть и газ, за страны третьего мира и за умы и послушание многомиллионных масс средних людишек, шарахающихся, как овцы, из стороны в сторону и могущих вслед за вожаками сигануть в пропасть. Этот акт мировой трагедии отыгран, начинается следующий, а за ним развернется и настоящая мистерия войн континентов и рас. Но очень многим людям весь этот спектакль не нравится и совершенно им чужд. Их интересуют не эти глобальные вопросы, а как попить чистой водички, как съесть капустки и морковки без химических добавок, как не обидеть окружающих их животных; они знают, что деревьям тоже больно и они могут разговаривать, их волнует, как оградить своих детей от телевидения и интернета, откуда льется насилие и разврат. Это все религиозное отношение к жизни, и люди, занятые этими вопросами, выпадают из системы. И для них Андреев, ходивший босиком и молившийся травам и деревьям, – близкая и почти что культовая фигура. Надо всерьез понять, что возникает новая контркультура, имеющая в прошлом аналоги в битниках, хиппи, русских и восточноевропейских диссидентах, которые, имея университетские дипломы, работали дворниками и истопниками, потому что, по словам Огурцова, “на большевиков работать стыдно”. Эта контркультура возьмет с собою не рыцарей-победителей в холодной войне, а людей, выпавших из системы, всех этих обоссанных и обосранных, избитых, замученных, сидящих по чердакам и подвалам или ходивших зимой и летом босыми, как Даниил Андреев. Вот сейчас в Москве есть культ слепого и безумного Володи Яковлева, который на мой вопрос в дурдоме, что принести ему поесть, сказал: “Павлина, попугая, индюка, страуса”. Конечно, я его полюбил после этого. Я сам еще духовно не вылез из окопов и землянок холодной войны, считая, что освобождение России от красной чумы еще не состоялось. Были же самураи японской императорской армии, не сдавшиеся американцам и только недавно выманенные из джунглей их бывшими командирами, отдавшими им приказ по всей форме. Таких “самураев” в России сейчас много. Они отсиживались при большевиках, отсиживаются и при их юридических преемниках. Семьдесят процентов населения России вообще не участвуют ни в каких выборах, а из армии призывники бегут тысячами. Кризис доверия существующему режиму усиливается с каждым днем, а если к этому прибавить пятнадцать лет отсутствия замен и профилактического амортизационного ремонта систем жизнеобеспечения, то гамбургер, где госворовство, общая техногенная катастрофа и каждодневная ложь СМИ, может стать смертельным для эрэфии, где каждый слой к тому же вместо соли посыпается толченым стеклом взаимной ненависти всех ко всем и ко всему. Самое поразительное для меня в произошедшем и происходящем – то, что нигде, ни в печати, ни по телевидению, ни по радио я не слыхал ни слова о плане выведения России из коммунистического ступора. Когда за уши вытаскивали Германию и Японию из послевоенной ямы, то там были и Маршалл, и наш Леонтьев, и Экхард, и еще черт знает кто. Сообща вытащили Европу из развалин, а в России... Невольно думается, что весь этот хаос и кредиты под хаос давались и даются умышленно. Я помню, как в квартире Лены Строевой на Васильевской улице, где я встречал и Володю Буковского, и Андрея Амальрика, и Есенина-Вольпина, и других, ныне живых и мертвых, все сокрушались об убийстве Джона Кеннеди, лидера свободного мира. Никто не знал тогда, что ирландское семейство глубоко завязло в черных деньгах мафии, и все очень в целом идеализировали Запад. Я помню, как наш с Гробманом приятель – колумбийский профессор Боб Белкнап всерьез уверял меня после бутылки водки, что комиссия Уоррена очень почтенная и что его отец-юрист хорошо знал Уоррена как кристально честного человека.
С тех пор свободный мир и Запад в целом подвергся диффузии и энтропийным процессам. Особенно это стало заметно после засорения югославских пашен радиоактивными стержнями американских бомб. И все это тоже приводит ко всякой всесторонней переориентации очень большого числа людей и их выпадению из системы. Огромное количество москвичей, петербуржцев (все равно он остался красным Ленинградом) и жителей других больших индустриальных городов уезжают в деревни и создают там небольшие замкнутые общины без алкоголя и наркотиков. Они там разводят скот и детей. Это очень здоровый, чисто клановый процесс, и вполне возможно, что беглецы от электронной цивилизации заменят вымершее русское крестьянство. Я бывал в таких общинах и видел на книжных полках рядом с Владимиром Соловьевым, Хлебниковым и всеми большими и малыми Эддами “Розу мира” Даниила Андреева. Ее любят и читают. Действительно, Андреев стал культовым автором, таким же, как для некоторых были Окуджава и Виктор Цой, тоже авторы не особенно изощренных текстов. Но Андреев более естественен, культурен и литературен, чем наработавший эти качества Окуджава.
Как проложатся окопы и водоразделы будущих войн двадцать первого века, никто не знает, это можно только предполагать и неуверенно прогнозировать. Но из будущих противостоящих систем и государственных формирований и союзов несомненно выпадет очень много неизвестных нам молодых людей. И они будут смотреть на стариков, в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века начавших выпадать, с некоторым любопытством. Выпавший из системы Варлам Шаламов умер в доме инвалидов на почти тюремной койке, в окружении злобных санитаров. И ему некому было закрыть глаза. Конец сильно и несильно выпавших из системы нашего поколения тоже будет разным, большинство выпавших в шестидесятые годы уже давно “глину нюхают” по простонародному выражению. А уцелевшие или рассеялись по миру, или же пока сидят в московских и питерских норах и трясут жалами, как старые гады, на весь свет и утверждают, что именно они сильнее всех в свое время выпали из системы. Я помню некоторых выпавших из советской системы первых русских поэтов-авангардистов – они умерли духовно моложе нас, тогда совсем гладеньких и жадных до жизни. Но за теми стариками была старая, еще живая, не убитая сволочью Россия, а за нами только чернота убогого красного рейха и собственный опыт собственных шишек и травм. Но чтобы выпасть, надо или видеть кругом миражи, как постоянно видел их Андреев, или же никому и ничему не верить. Наше поколение шло вторым путем, а кое-кто продолжает идти дальше в темной комнате современности без единого лучика света, когда нет надежды, что кто-нибудь откроет окно. Девяносто первый вроде бы открыл окна, но за ними открылась дымящаяся до горизонта свалка, и кое-кто отправился шарить по ней и подъедаться отбросами чужих трапез. Название романа “Странники ночи” Андреева применимо и ко всем нам, оставшимся жить и умирать в России. Вспоминается и великолепный рассказ его отца Леонида Андреева об узнике, вышедшем из тюрьмы, затосковавшем на свободе и построившем напротив тюрьмы собственную камеру и нанявшем своего прежнего тюремщика. И гуляя вокруг настоящей тюрьмы с охранником, бывший узник восклицает: “Как прекрасна и величественна наша тюрьма на закате!” Вот и мне хочется воскликнуть нечто аналогичное, заменив слово “тюрьма” на “Россия”.
Экзистенциальные идеи, потенциально возникшие в России, родине всемирного и всеевропейского маразма, потом перекочевали во Франкфурт, а уже потом – в Париж. И начал это дело не один Шестов, а и писатели и поэты русского декаданса. У меня и Жид, и Сологуб, и Камю, и Сартр, и Леонид Андреев стоят на одной полке, а вот Даниил Андреев – рядом с переводными буддистами и тибетскими текстами. Он из порядка религиозной литературы и туда хорошо вписывается. Третий завет Даниила Андреева, который был хорошо усвоен его читателями и создал ему популярность, – это его внеконфессиональная религиозность. Российская империя, как и Византия, была государством теократическим, где Император посредством Святейшего Синода управлял Церковью. После девяносто первого началось физическое возрождение православия при полной стагнации внутреннего содержания. Иерархия, созданная на Лубянке, очень довольна статусом-кво и пытается продлить существующий порядок. Масса верующих людей отходит от Церкви и проходит мимо церкви, совершенно туда не заглядывая. Возникает совершенно новая религиозность – вне рамок храмов. Некоторые ортодоксы называют новую религиозность интеллигентскими бреднями, а само имя Даниила Андреева стало для них синонимом ругательства. Дело зашло так далеко, что одной старушке, дальней родственнице Владимира Соловьева, отказали в причастии и предложили ей покаяться за своего предка. Худшие традиции синодального православия воплотились в Храме Лужка-спасителя, как москвичи окрестили лужковский бетонный макет снесенного Тоновского храма и который так не похож на белый храм у реки, с детства волновавший Андреева, жившего недалеко от этих страшных мест взрывов и осквернений. Когда я поднимаюсь на мансарду нашей дачи и вижу сквозь фигурные переплеты модерна двадцатых годов желтые листья кленов, то всегда возникает силуэт Даниила Леонидовича с папиросой в нервных, обязательно резких пальцах и его глуховатый голос, который как бы ставит в кавычки и скобки и все прошедшее, и происходящее, и то, что не только он, но и многие из нас предчувствуют и что иногда сбывается.
Москва, 2002
Опубликовано в журнале: Зеркало 2004, 24
Алексей Смирнов
Полное и окончательное безобразие
Россия по-прежнему остается глубокой, дремучей и нецивилизованной имперской окраиной Европы, но с византийским привкусом и надкусом. Так иногда надкусывают и бросают сладкое яблочко и губы девственницы, которую почему-то не поломали, но вдоволь приучили к любви за долгую осеннюю ночь, когда ее жадно, до самого тусклого рассвета мяли на очвином тулупе под методичный непрекращающийся стук дождя. Российская империя была внебрачным союзом необласканной степной девы с бронзово-литым телом и петербургского старца-рамолика в шитом золотом сенаторском мундире, у которого плохо стояло на государственную силу. Взаимная любовь всегда дело кровавое и смертное – всё в пятнах крови на платах, знаменах, плащаницах и простынях. Вся история России и СССР – одни пятна, пятнищи и лужищи крови. Русские любовницы и любовники лучшие в мире, но в России самые дрянные на свете жены и мужья. Русские ораторы и публицисты красноречивее римских сенаторов и трибунов, но русские политики самые беспомощные и бессильные в Европе. Когда в России вдруг объявляется внятный политик вроде Столыпина, то все сбегаются посмотреть на него, как на чудо или как на некастрированного самца-яйценоса в общежитии давно облегченных евнухов. В китайском императорском дворце евнухов хоронили с деревянной лакированной шкатулкой в руках, в которой лежали их усохшие, отрезанные при кастрации семенники. В России политиков всех направлений хоронят с грязными банными узелками, в которых гниют их нереализованные, часто гениальные политические программы. Так хоронили в Киеве Столыпина, а до него – несчастного Сперанского, а затем – и все понимавшего в утробных русских делах Милюкова и умнейшего социалиста Плеханова, проклявшего Ленина. А в современной постсоветской эрэфии наступила эра непогребенных праздношатающихся политических мертвецов – по-прежнему по просцениуму бродят тени Лигачева, Лукьянова, Горбачева и Ельцина и из-за кулис иногда выглядывает сам Арбатов с Замятиным. На сцену иногда выносят и переносной катафалк с говорящими антикоммунистическими мощами Солженицына, судорожно держащего в окостеневших, растопыренных, как грабельки, пальцах две свои гробовые скрижали о всесветном вреде евреев – его “Двести лет вместе”, где он добротно доказал, что император Николай II был абсолютно во всем прав, откровенно не любя Богом избранный народец, невесть зачем забредший в Россию.
Очень и очень странные процессы происходят в России и в Москве, ибо Москва – это вторая реальность России. Россия сплошная Тьмутаракань и Царево-Кокшайск, но в ней всегда был и есть один псевдоевропейский город. Таким псевдоевропейским городом был когда-то Санкт-Петербург, а до этого псевдовизантийской столицей пестрого царства чуди и мордвы была Москва. Ах, эти вечные псевдо- и холопские пируэты в стиле бессмертного Дидло и очаровательного Мариуса Петипа, которым вельможно похлопывают откормленные хамы из царских и правительственных лож. В России власть всегда могла делать абсолютно все, что ей угодно, со всеми своими подданными и особенно с актерами и актрисами, вечно затыкавшими, как Александр Матросов, своими задами кремлевские амбразуры, откуда кинжальным огнем официального дерьма веками расстреливали несчастных обывателей, почти тысячелетие метавшихся по московскому “суриковскому” снегу, как испуганные тараканы, как известно, не любящие сурового русского климата. Если не читать нудных сочинений вермонтского лесного отшельника с его нескончаемыми, невесть куда катящимися колесами, то он иногда говорит забавные вещи, вроде того, что весь двадцать первый век все будут плевать против всех и что от Великой России останутся только мысли великих русских писателей и мыслителей об оной. В этом вермонтский лесовик глубоко прав – у него вообще есть политическое чутье и нюх высококлассного литературного маклака, знающего, что и когда надо поставить на литературный и общественно-политический рынок. Он это очень хорошо, профессионально делал и в годы холодной войны и делает это сейчас, натравливая на евреев наших фашиствующих лжепатриотов, заранее априорно снимая с русского народа его историческую вину за всесветный анархизм и глубочайшую страсть к самоуничтожению. Никита Хрущев создал две всемирные эстетические репутации, бросаясь, как одичалый цепной кобель, на Эрнста Неизвестного и высочайше разрешив напечатать очень скучного и посредственного солженицынского “Ивана Денисовича” – хитрована и тупого работягу, решившего любой ценой выжить. Оба эти хрущевские протеже по своей природе довольно заурядны – средний эпигонский эклектичный скульптор и средний областник-деревенщик. Их обоих поднял на щит красный Кремль, уделив им свое внимание. Солженицынская мысль о литературных письменных памятниках, которые только и останутся от погибшей России, во многом цинична – он не учитывает, что в современной многоплеменной России после всех войн, революций, коллективизаций и прочих геноцидных мероприятий все-таки уцелело более десяти миллионов чистых великороссов, и эти десять миллионов могут создать свою автономию в рамках существующей эрэфии или в рамках будущих государств, которые возникнут на ее месте. Наши лжепатриоты не хотят и слышать ни о малороссах, ни о белороссах, ни о великороссах – у них все они русские – плюс еще сто с чем-то миллионов русскоговорящих людей самых разных национальностей и рас. Православные мистики и преподобные, предсказывавшие будущее, называли русский православный народ вторым народом израилевым. Действительно, часть прежнего русского народа глубоко, до самого своего душевного дна, уверовала в учение Иисуса Христа и стала островками подлинной Святой Руси среди моря славянских и угро-финских полуязычников. Те испытания, которые выпали на не очень численно большую Святую Русь, сродни мытарствам первого народа Израилева, вновь собравшегося на земле своих предков. Испытания, которые выпали великороссам в двадцатом веке, столь страшны и чудовищны, что печально думается об определенном духовном избранничестве и о провиденциальной судьбе верующего русского православного народа. Накануне революции великороссов было около пятидесяти миллионов, и великий химик Менделеев, гениальный прогнозист самого широкого профиля, считал, что к концу двадцатого века славян в России (великороссов, белороссов и малороссов) будет не меньше полумиллиарда. Мало кто знает, что Менделеев происходил из семьи еврейских выкрестов-кантонистов, и поэтому брак его дочери с поэтом Блоком был во многом еврейским браком, так как Блок тоже был потомком немецкого еврея Блоха, служившего лейб-медиком при императорском дворе и получившего потомственное русское дворянство. Прогноз Менделеева был основан на быстром увеличении народонаселения Российской империи в последние десятилетия ее существования, когда великороссов стало вдвое больше. Внешне великороссы – это обычно крупные белотелые блондины с серыми и голубыми глазами, незлобивого нрава, любители заунывных песен и долгих праздничных застолий с пивом, медом и квасом, после которых обычно бывали хороводы и пляски. На великороссов наиболее похожи литвины и северные немцы, смешавшиеся с завоеванными ими пруссаками, кашубами и другими славянскими племенами.
Князь Отто фон Бисмарк, подолгу живший в своем северном имении, писал: “По ночам воют волки и кашубы”. Бисмарк хорошо знал Россию, любил охотиться в ее непролазных лесах и однажды заблудился в зимнем лесу вместе со своим русским кучером, который утешал его: “Ничего, выберемся”. И в конце концов вывез будущего создателя германской империи на дорогу к теплу. С тех пор Бисмарк всегда говорил в сложных политических ситуациях: “Нитчего”. И вопрос действительно разрешался. Великороссов подрубила Первая мировая война, совершенно бессмысленное для России мероприятие. Мир в Европе мог удержаться только на союзе трех империй – Российской, Германской и Австро-Венгерской. Царь-миротворец Александр Третий, в честь которого его сын Николай Второй построил свой знаменитый мост с позолотой, заключивший франко-русский союз и отучивший русскую армию воевать, фактически обрек своего несчастного наследника с семьей на гибель. Александр Третий, умнейший император-блядун, охотившийся за петербургскими юбками, как волк за куропатками, был по матери, чистой пруссачке, ближайшим родственником прусского короля – будущего первого германского императора Вильгельма I и никогда бы не допустил такого идиотизма, как русско-германская война. На что был дурковат Григорий Ефимович Распутин, штатный юрод последних Романовых, но и он сказал о первом августе четырнадцатого года: “Будь я в Петербурге, я бы этой глупости не допустил”. Но в это время Распутина порезала, пырнув ножом в живот во время совокупления, одна религиозная половая психопатка, и он, еле живой, отлеживался, залечивая весьма серьезную рану. Массу русских людей поубивали и перекалечили на фронте, угробили в польских болотах кадровую армию с лучшей частью офицерского корпуса и вооружили винтовками миллионы русских крестьян – детей и внуков вчерашних крепостных рабов. Ничего этого делать было нельзя – крестьяне были освобождены в 1861 году, всего 53 года назад, от трехсотлетнего позорного крепостного рабства – и они, конечно, повернули штыки против своих вчерашних угнетателей, поголовно убивая офицеров, помещиков и весь романовский клан и его окружение.
Когда при Керенском царскую семью посадили фактически под арест в Александровском дворце царского села, то солдаты охраняли его с лютой злобой, мечтая всех глухой ночью перебить и переколоть. Сам Керенский боялся солдатской охраны, пытаясь вывезти царскую семью в Англию на линкоре через Мурманск, и это бы ему удалось, если бы не английский парламент и правительство Ллойд-Джорджа, отказавшиеся принять своего вчерашнего союзника с семьей, приходившегося к тому же ближайшей родней семье тогдашних Виндзоров. Уже одно это показывает излишность и вредность для России Антанты, совершенно не считавшейся с колоссальными русскими потерями и готовой воевать до последнего русского солдата, принимавшего на себя основной удар германцев. Кутузов, умирая в Вильно, укорял императора Александра I предстоящим заграничным походом, говоря, что Россия не простит императору предстоящих русских потерь, с его точки зрения бессмысленных. Тот же Кутузов, очень тертый и хитрый калач, говорил представителю Англии при его ставке Вильсону о нетерпимости для него требований Англии о беспощадности в борьбе с Бонапартом. Кутузов явно хотел выпустить Бонапарта из России, чтобы он продолжил борьбу с Англией без участия России. Приход к власти такого чудовища, как Гитлер, и Вторая мировая война были фактически предопределены грабительским для Германии Версальским миром и сознательным попустительством странами Антанты утверждению режима большевиков. Они бросали белых на произвол судьбы, эвакуируя свои части из северных и южных портов. В помощь белым генералам страны Антанты послали минимум вооружений и своих войск, не оказав нужной поддержки проевропейским русским силам и обрекши на физическое уничтожение европеизированные высшие классы России. Запад через свою многочисленную агентуру все знал о красном терроре, о его масштабах и крайней азиатской жестокости методов подавления и уничтожения. Фактически в России был массовый геноцид русского народа, главным образом в его великороссийской части. И этот геноцид был сознательно не замечен и профессионально замолчан. С большой неохотой и неудовольствием о нем вспоминают и сейчас, так как среди так называемой современной эрэфовской политической и экономической элиты полно потомков людей, проводивших этот геноцид. Если о Холокосте пишется достаточно много, то о вырезании турками армян писать не любят, не любят вспоминать и об истреблении коммунистами великороссов, а затем и камбоджийцев. Слава Богу, хоть говорят и пишут об уничтожении Саддамом курдов. Объясняется все это тем, что испокон веков западная католическая Европа с неудовольствием взирает на то возникающий, то исчезающий на Востоке – в Византии, на Балканах, в Греции, в России – второй европейский культурный и государственный центр. По мнению очень и очень многих западных европейцев, Европа должна быть однополярна, а все, что вне этого, – ненужное и лишнее, и его нужно всячески подмять, задавить и наслать на них всех непокорных мусульман, с которыми гораздо легче договориться, чем с греками и славянами. Возникновение Израиля связано не только с тысячелетиями древней еврейской истории, но и с Ост-Европой. Сама идея возрождения Израиля родилась среди остевропейского еврейства и несет на себе груз чисто восточного идеализма, мистики и геополитических притязаний на, казалось бы, навеки утраченные земли. Для нас, славян и потомков византийцев, после возникновения Израиля возможно и возрождение Византии и нашего святого города Константинополя, где вызрели золотые зерна нашей недолгой и трагической цивилизации, по-прежнему очагово тлеющей, как подземные горящие торфяники среди нескончаемых русских пожарищ и руин.
Двухполярная Европа еще существует, еще что-то происходит в Белграде и Софии, в Новочеркасске, Екатеринодаре, Тамбове и Самаре. Какие это все примет формы и чем закончится – никто на свете предположить не может. Пока что происходит полное и окончательное безобразие, порожденное насильственным заселением этих исторически освоенных славянами мест различными мусульманскими племенами, спускающимися с гор и ползущими тараканьими толпами из Азии, причем у большинства ползущих в заду и в желудке лежат пакетики с героином, которые периодически лопаются, и тогда трупы пополняют морги Москвы и других городов России, куда прикатывается эта мутная волна с Кандагара и памирских горных плато, где афганцы и таджики высеивают опиумный мак в количествах, достаточных для вымирания не только России, но и всех европейских стран до Ла-Манша и за ним тоже. В сознании очень многих все еще существует плотная потная русская мужицкая спина, подпирающая собою Европу и заслоняющая своей пердючей черноземной жопой хилых европейцев с их тонкими паучьими ручками от давления азиатов и мусульман. Увы, и эта спина, и прикрывающая всех и вся прославленная русская жопа уже очень и очень давно являются мифом. То, что не смогли сделать турецкие таборы во время второй осады Вены, откуда их погнали до самого Дуная венгерские и польские всадники, сделали сами европейцы, переложив черные работы на своих хоздворах на турок и арабов, плодящихся, как насекомые, и заполняющих собою все древнеевропейские щели и закоулки. Тихая и ползучая мусульманизация Европы решается европейцами в глухой ночи, когда Пьер и Жанна, Ганс и Хильда, предаваясь высокотехнологичным половым радостям, не хотят зачать детей. В России же тотальная мусульманизация решается в гинекологических креслах и на столах абортариев, где ежегодно убивается несколько миллионов славянских младенцев. Расовые катастрофы происходят обычно в полной тишине, но последствия их бывают ужасающими. На сегодня во время призыва новобранцев в московском регионе из десяти рекрутов только двое могут встать под знамена, а остальные восемь – полудохлый шлак и уголовники с несколькими судимостями. Фактически русская армия уже перестала существовать: вместо великороссов служат мордвины, чуваши, марийцы, коми-пермяки, татары и прочие угро-финские и тюркские племена, сходящие за русских. Большинство великороссов не доживают до сорока и пятидесяти, массово умирая от наркотиков и самопальной водки, которую азеры в сараях и гаражах разливают из бочек с техническим спиртом по стандартным водочным бутылкам с наклейками. С продажи чудовищного пойла имеют абсолютно все – от участкового милиционера до членов областного правительства и федеральных министров. Точно такая картина и с наркотиками – это выгодно абсолютно всем ступеням чиновничества, вплоть до самых высших. Нынешний премьер-министр Касьянов, бывший правофланговый роты кремлевского охранного полка, уже очень давно имеет кличку “Миша три процента”, так же, как Горбачев еще в свои ставропольские времена имел кликуху “Мишка-конверт”. Эти клички прокручены через все средства массовой информации всех направлений и стали уже общим местом.
Границы Эрэфии с Казахстаном и Средней Азией по-прежнему открыты и контролируются на шоссе у контрольно-пропускных пунктов со шлагбаумом. Были в свое время прекрасные работы Джиласа, Авторханова, Васленского о сущности советской номенклатуры. Это фактически предисловие, пролог к происходящим в Эрэфии и во всех странах СНГ процессам. Но за прологом разыгралась и сама драма, и ее никто всерьез изучать и описывать не хочет.
Из всех этих перестроек и псевдодемократий есть только один прок: добротно растаскана советская военная машина – из территорий, некогда входивших в Россию, больше не полезут на Запад клепаные из уральской стали жуки-танки с десантами на броне из пустоглазых раскосых солдатиков, готовых все жечь и всех убивать по приказу родной партии и своих отцов-командиров, так хорошо описанных Виктором Некрасовым, Борисом Васильевым, Василем Быковым, Владимиром Бондаревым. Я всегда не ненавидел, а только презирал всех до единого красных командиров, и у меня свой счет к Гитлеру – он и его армия не освобождали Россию от коммунистов и не формировали нормальную русскую освободительную армию, что и привело к выдаче Сталину двух миллионов русских людей, ушедших с Вермахтом на Запад. Это страшная трагедия, и великое дело сделал граф Николай Толстой, издавший книгу “Преданные в Ялте”. Трагедия подлинных антикоммунистов, в чьих семьях никто никогда не вступал в ВКП(б) – КПСС, продолжается и сейчас – ни в ельцинской, ни в путинской России им нет места. Я дружу со своим ровесником, главой одной иудаистской общины, внуком расстрелянного чекистами в Одессе еврейского купца первой гильдии. И когда мы с ним встречаемся и подолгу пьем чай, то у нас с ним нет вообще ни одного противоречия или хотя бы одного пункта, где бы мы расходились во взглядах. И он, и я рассматриваем происходящее как массовую, исходящую сверху дебилизацию и варваризацию населения всех рас, наций и конфессий. И он жалуется: в нашей еврейской общине почти нет молодежи, они все отошли от Бога и Закона. Я, будучи старостой православной, не зависимой от патриархии общины, говорю ему то же самое, и вдвоем мы ходим пить чай к проповеднику протестантской общины, который разделяет наши взгляды. Но все мы трое никогда не найдем согласия со священниками московской патриархии, ныне ставшей Государственной церковью и полностью и во всем поддерживающей и оправдывающей власть, заняв идеологическую нишу упраздненного Агитпропа ЦК КПСС. Особенно прихожане наших трех общин страдают от нашествия кавказцев всех видов и систем, среднеазиатов и цыган. Все эти племена в основном занимаются перепродажей и распространением наркотиков. Укореняясь в Подмосковье и в Центральной России, они отнимают дома у населения, убивают и травят домовладельцев, насилуют женщин всех возрастов, а когда те протестуют, то сжигают их дома, желательно вместе с людьми. Я знаю одну еврейскую семью, сбежавшую из Израиля от террористов снова в Россию, но здесь их стали усиленно травить дагестанцы, пользующиеся поддержкой администрации. Мне еле-еле удалось предотвратить этот конфликт и уговорить предводителя местных “дагов” не убивать молодую мать-одиночку с ее мальчиком, прижитым в Израиле.
Насилиям подвергаются особенно коренные жители Поволжья. В Тверской области, в городке Кимры, где когда-то был центр изготовления обуви на всю Россию, цыгане фактически захватили при помощи властей и милиции город, отравив всю его молодежь наркотиками. Под городом цыгане построили городок из огромных кирпичных особняков и чувствуют себя там хозяевами жизни. Таких случаев в Подмосковье и в Центральной России я знаю множество, и это уже стало повседневным бытом.
Бывшие граждане СССР и Эрэфии, выехавшие в Израиль, переживают в иной среде аналогичную ситуацию, сталкиваясь с арабами. Это все я и называю полнейшим и окончательным безобразием, то есть потерей образа Божьего в сердцах людей. Вот сейчас идет большая дискуссия о создании объединенной Европой общеевропейской конституции, где авторы убирают всякое упоминание о Боге, о христианской религии. Я откровенно не люблю нынешнего римского папу Иоанна Павла II, в миру шахтера Кароля Войтылу, политического конъюнктурщика и единомышленника пана Збигнева Бжезинского, известного русофоба и скрытого антисемита. Его отец, консул при Пилсудском в довоенном Киеве, где и рос молодой Збышек, был чудовищным антисемитом. Его хорошо знала сестра моего деда, тетя Лёля, жена популярного в те годы киевского профессора, часто кормившая консула обедами. Консул, хорошо выпив вишневой наливки теткиного изготовления, разнуздывался и, целуя теткины ручки в кольцах (надо сказать, дама она была очень красивая и величественная и, главное, очень молодая, в годы оккупации при ее появлении в трамвае немецкие офицеры тут же вскакивали, уступая ей место), страшно поносил евреев. А тетка к евреям, с дочерьми которых она дружила и в гимназии, и в советской послереволюционной школе, относилась очень спокойно. Ее дядя при гетмане Скоропадском служил в его штабе, а красавец-адъютант был ее общепризнанным женихом. Тетке в революцию было пятнадцать, и она два года доучивалась уже в советской школе. А адъютанту Кеттена “Володьке”, как она его называла, было уже под тридцать. Он убежал до Бразилии, где открыл ресторан и писал после войны тетке письма. К булгаковским “Дням Турбиных” тетка относилась скептически.
Выросший в ненависти к советам Збышек – Збигнев Бжезинский – додумался теперь до того, что территорию бывшей России надо разделить между Западом и Китаем, этим умиротворив желтого дракона. Со времен Мюнхена и сэра Невилла Чемберлена с Лавалем хорошо известен путь уступок агрессорам за счет слабых государств. Кароль Войтыла, человек очень хитрый и неглупый, не так давно посетив Грецию, прямо на аэродроме опустился на своих негнущихся ногах на колени и просил у православной Греции прощения за все то зло, которое Ватикан веками наносил и наносит православному Востоку. Так вот теперь этот же Кароль Войтыла стал увещевать руководство Объединенной Европы и авторов ее новой “прогрессивной” конституции включить хотя бы упоминание о Боге. Такое органическое безбожие и секуляризм современной Европы у меня лично вызывают страх и глубокое отторжение от всех так называемых общеевропейских моральных и антиморальных ценностей, замешенных на текущих с якобинской гильотины потоках христианской крови. Я сторонник умеренного религиозного фундаментализма и консервативной революции и именно поэтому хорошо отношусь к Израилю. В истории человечества все уже было, все уже изобретено и пройдено, и пора наконец остановиться, оглянуться в прошлое, самоограничить себя абсолютно во всем, впасть в аскетизм и подумать наконец о сохранении земного Ковчега Бога – окружающей нас природы во всем ее многообразии. Общество безудержного потребления, машинизированная, технически прогрессирующая цивилизация скоро приведут абсолютно всех людей, где бы они ни жили, к грани исчезновения в общемировой экологической катастрофе, которая и будет библейским концом света. Через пятьдесят лет закончится нефть, а через семьдесят – газ. А далее начнется повышение уровня мирового океана и затопление прибрежных городов. Почему об этом говорят только экологи, которых избивают в парадных, как избили здешнего академика Яблокова, полного добродушного старика со шкиперской бородкой? Территория бывшего СССР уже очень давно превращена в ядовитую, никем не обследованную и не изученную помойку, и фактически половина территории Эрэфии опасна и непригодна для жизни. Без религиозного отношения к жизни, к природе, к воздуху, к животным и всем видам живности оздоровить общество невозможно. Великий президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган победил безбожную “империю зла” – СССР только потому, что он начинал и заканчивал свои тексты и речи с имени Бога. Бог постоянно, в том или ином качестве, присутствует в жизни любого человека, семьи, науки и государства. Без этого присутствия Творца и обращения к нему ничего не происходит. Я не очень хороший человек – желчный стареющий подагрик и иногда издеваюсь над людской тупостью. Но я всегда делаю три добрых дела. Первое: если вижу идущих через дорогу насекомых, лягушек и ящериц, то всегда останавливаюсь, даже если куда-нибудь спешу. Второе: я периодически беру лопату и иду закапывать убитых машинами кошек и собак, причем часто отковыриваю лопатой божьих тварей, расплющенных на асфальте. За это надо мной постоянно издеваются обыватели. Третье: я собираю замерзающих на улицах пьяниц и отравленных наркотиками и заношу их в теплые парадные, где они могут уцелеть в русские морозы, доходящие иногда за минус тридцать. Этой зимой я увидел три замерзающих тела, по-видимому, разнорабочих с Украины или Молдавии, приехавших в Москву на заработки. Я собрал кучу еще держащихся на ногах алкоголиков, и они занесли эти три тела в парадное коммунального дома на четыре квартиры. Жильцы, выбежав из своих коммуналок, страшно ругали меня матом, объясняя, что обдолбанным наркотиками гастарбайтерам надо отрезать носы, уши и половые члены. Я объяснил им, что это тоже божьи создания и что у матерящихся креста нет. “Какого еще креста?” – спросили они. Я объяснил: обыкновенного восьмиконечного православного и упомянул Иисуса Христа и Матерь Божью. Они переключились с меня на этих особ и стали немыслимо богохульствовать. Я же, как православный, знаю: Господь поругаем не бывает, и, молча выслушав все это, поклонился беснующимся, попросил у них прощения и сказал, что они могут вызвать милицию и сдать эти тела в медвытрезвитель. Милиция редко собирает теперь бедных людей, замерзающих на улицах, они интересуются только теми, кого можно ограбить.
Богохульство постсоветских граждан связано с массовым безбожием русских людей, так и не повернувшихся к Богу после девяносто первого года, когда официально перестали преследовать за исповедование христианства. Люди было потянулись во вновь открываемые Храмы, но вышло так, что сергианское прокоммунистическое духовенство разогнало абсолютно все московские и подмосковные общины, возникшие снизу, включая общину по возрождению Храма Христа Спасителя. Этот храм злоязычные москвичи прозвали Храмом Лужка Спасителя. В его подвалах есть и гаражи, и бары, и склады водки и табака, которые не один раз выгорали. Так что православное возрождение в России не состоялось, вместо него получилось одно сплошное номенклатурное безобразие и надругательство над христианством. Внешне Храм Лужка Спасителя усилиями безвкусного скульптора Церетели стал похож на станцию метро сталинской эпохи. Я в этот храм ни разу не входил и не войду, считая его обителью темных сатанинских сил и сим оберегая себя от еще одного осквернения. Я и в советские времена избегал посещать советские учреждения, а когда мне приходилось по работе бывать в отделах культуры областных исполкомов, то всегда, выходя из них, я плевал на порог, говоря: “Чтоб вы все сгорели”. И был очень рад, когда Ельцин решительно разогнал советы всех уровней, давно ставших рассадниками не народоправства, а чиновного произвола. В отделы культуры исполкомов я ходил носить взятки чиновникам за разрешение расписать храм. Они все до одного были чудовищными мздоимцами и казнокрадами, и я не удивился краху СССР, всецело обязанному не успехам Запада, а желанию номенклатуры бесконтрольно раскрадывать все, что есть в России, до самой подземной магмы. Когда меня оскорбляли люди, хотевшие отрезать уши и половые члены у замерзающих хохлов и молдаван, то я все время думал о том, почему они так ненавидят само упоминание имени Бога. Кроме этого случая, у меня в копилке памяти было множество исповедей постсоветских простолюдинов, в основном на тему “надо ли зарезать зятя или убить жену брата или сына сестры” – обычно за довольно маленькие неприятности, приносимые ими семье. Еще в советское время из каждых ста убийств 67 совершались в кругу семьи. Был описан случай, когда тесть зарезал зятя, смотревшего телевизор, ударом ножа под лопатку. Сколько мне показывали по России подоконников, порогов и табуреток, которыми простолюдины лишали друг друга жизни. Очень многое виденное и слышанное убедило меня в том, что большинство русского простонародья отказалось от Бога и исполнения христианских заповедей. Я знал случай, когда в Нижегородской губернии в тридцатые годы следователь из крестьян разорвал рот священнику, отцу десяти детей, который именно этого следователя в детстве учил грамоте в церковно-приходской школе. Священник, отец Димитрий, говорил блестящие проповеди, и за это чекисты наказали его, разорвав ему рот. Жене моего дяди, белого генерала, чекисты в подвале ростовской ЧК отрезали груди, а живот через влагалище распороли штыком. Она была немецкой баронессой, и моего дядю, мстившего за нее красным, чекисты долго искали в послевоенной Европе, чтобы повесить на внутреннем дворе Лубянки вместе с его сослуживцами – генералами Шкуро, Красновым и Крум-Гиреем.
Я знал приход, где во время гражданской войны весь причт красноармейцы пятой армии в день рождения Ленина запихнули в бачки из-под солонины, пробили их большими гвоздями и сбросили этот живой страдающий груз в Волгу. При этом они чудовищно хохотали и прыгали. К концу Второй мировой войны красная армия совершенно чудовищно расправилась с населением Восточной Пруссии. В этом им активно помогали поляки, до этого также активно помогавшие немцам в истреблении польских евреев. Об этом не любят ни писать, ни говорить ни в России, ни в Польше, ни в Германии, ни в объединенной демократической Европе. Людоедские акты в Европе не выгодны никому – они подрывают общеевропейский дух и мифы о благотворном влиянии всемирного якобинства, на самом деле бывшего прообразом всех крайних режимов прошедшего двадцатого века – якобинский террор, большевистский террор, гитлеровский террор. Где будет следующий – вот в чем вопрос. С русским народом, массово отпавшим от христианства в его православной фольгово-мишурной синодальной упаковке, вопрос стоит особо и неприятно по последствиям для всех нас, русских. Вполне возможно, что историческая и религиозная вина русского народа суммарно так велика, что Господь его покарает на века, а может, и на тысячелетия: лишит родины и рассеет, как народ Израилев, по миру. Многое говорит именно о таком развитии событий. Возможно, что среди мертвых русских камней и останется какая-то Россия, заселенная мордвой, кавказцами, татарами и разными метисами, а остатки великороссов уйдут жить в иные места и страны. Может, на ту же полупустую Аляску, может, в Канаду или Австралию и там составят особый небольшой русский этнос. Всматриваясь в мистический кристалл будущего, я не вижу больше России за Уралом, России в центральных губерниях, а вижу только русскую этническую территорию на границе с Прибалтикой и в бывших казачьих землях на юге России. Все остальное мне кажется проигранным. Дай Бог, чтобы мой пессимизм был напрасен и мои прогнозы не сбылись. Год назад я сидел на кухне одного русского националиста, создавшего умеренную русскую партию не фашистского толка, и мы с ним сошлись на одной цифре: из каждых пятидесяти тысяч русских мужчин только один осознает себя русским и готов что-то делать для сохранения своего народа. Это очень печальная и пугающая цифра. Виноват во всем сам русский народ, и если ему придется рассеяться по миру, то винить в этом никого, кроме самих себя, не надо. Хотя есть и персонажи совсем иного толка, вроде предводителя “Союза хоругвеносцев”, некоего господина Симоновича, правнука банкира Симоновича, бывшего секретаря Григория Распутина, написавшего интересные мемуары о своем патроне. Симоновичи-младшие перемешались с русскими, и их потомок с окладистой бородой лопатой пишет патриотические стишки, клянет сионо-фашизм и возглавляет шествия тысяч мужчин с хоругвями в руках по улицам Москвы. Симонович постоянно выступает по частной радиостанции “Радонеж”, где собралась компания православных антисемитов, винящая во всех бедах России евреев. Я невольно вспомнил царского премьера графа Витте, который в своих мемуарах писал о главе московского отделения Союза Архангела Михаила некоем господине Грингмуте, полном рыжем еврее, выдававшем себя за немца. Витте знал, что писал, так как вторым браком был женат на красивейшей еврейке-разводке госпоже Лесневич, чем вызвал неудовольствие двух последних русских императоров, недолюбливавших евреев.
Ехал я в годы перестройки в поезде и услыхал прекрасную песню, начинавшуюся словами: “Листая старую тетрадь / Расстрелянного генерала / Я долго силился понять / Как ты могла себя отдать / На растерзание вандалов...”
Речь идет о России, и написал эту песню поэт и певец Игорь Тальков. Он оказался автором только одного этого произведения – все, что он писал затем, было гораздо слабее и отдавало дурным вкусом. Став популярным, Тальков надел на себя царский офицерский мундир с полным солдатским Георгиевским бантом и стал заседать в разных “Русских национальных соборах” генерала КГБ Стерлигова и ему подобных провокаторов. Внешне Тальков был похож в профиль на молодого Пушкина и по матери происходил из приличной еврейской семьи. Сын популярного детского советского писателя Штильмарка, потомка обрусевших датчан, создал одно время черную сотню, одев ее в черную форму. В электричках часто ходят бедно одетые молодые люди, раздавая бесплатно антисемитские “Опричные листки”, напечатанные на дрянной дешевой бумаге. Это все способы лисицы, желающей увести свору собак от норы с лисятами, т. е. от проблемы массового безбожия русского народа, приводящего его к массовому ускоренному вымиранию. Ведь именно тупых ваньков из великороссов, которых Бухарин презрительно называл “пахомами”, а Ленин – просто “русскими идиотами”, большевики и чекисты в основном использовали как исполнителей своей преступной воли и бредовых замыслов и прожектов. Я слыхал от свидетелей, как шли в атаку голодные, плохо одетые и обутые красноармейцы после пламенных речей Льва Троцкого, залезавшего на крышу вагона и оттуда рвавшего горло и поворачивавшего разбитые Деникиным бежавшие красные части назад. Именно так была выиграна гражданская война, и именно так был взят штурмом Перекоп, когда тысячи под мелодию “Интернационала”, захлебываясь в жидкой грязи, шли, погибая, вперед через Сивашский пролив.
Генерал-майорские погоны за строительство перекопских укреплений получил от барона Врангеля муж сестры моего деда тети Маруси, царский инженер-полковник дядя Воля – Владимир Максимович Догадин, которого потом большевики, взяв семью в заложники, принудили работать на себя. Дядя Воля говорил, что на построенные им перекопские бастионы большевики буквально залезли по горам своих трупов. Это все делали сами русские люди, и теперь наступает время окончательной расплаты за содеянное. Дело в том, что вымирающие от водки русские мужики ждут, как Мессию, “честного” вождя типа Ленина и Троцкого, который разрешит им разграбить особняки новых русских и вволю поубивать цыган, кавказцев и евреев, на которых их уже давно натравливает бывшая советская номенклатура через подставные организации самого крайнего толка. Эти семьи партийных бонз и зубров прекрасно знают, как они развалили СССР, как разграбили его запасы, вывезя капиталы на Запад. Теперь эти господа-товарищи, верхушка которых обосновалась в особняках поселков вдоль Рублевско-Успенского шоссе, скупают во Франции и Бельгии деревянную отделку старых замков и особняков, резные панели, демонтируют, грузят в грузовые автопоезда и гонят прямиком на Рублевку. У меня есть знакомый церковный резчик, который теперь занялся сборкой этих настенных панно и резных потолков. Так делали в начале двадцатого века только американские миллионеры, скупая и разбирая на вывоз английские замки. А врачам, медсестрам, учителям между тем не выплачивают их и так мизерные зарплаты, и они, как в войну, питаются наваром с ободранных костей и мерзлой, выброшенной с овощных баз картошкой. Я знаю целые объединения пенсионеров, среди которых есть доктора наук и профессора, которые дежурят около контейнеров помойки, куда из дорогого магазина выбрасывают просроченные продукты.
Вот это все я и называю полным и окончательным безобразием. Преемник Ельцина президент Путин довольно умело стабилизировал и систематизировал этот распад и безобразие, придав им статичный характер. Возможно, что Путин сойдет со временем с политической сцены, так и не сказав ни одного конкретного слова и не совершив ни одного политического волевого поступка, навеки оставшись Господином Никем. Пока что он довольно умело маневрирует между различными политическими и экономическими кланами, стравливая их и довольно неумело устраняя тех, кто ему непосредственно сегодня опасен. А русский народ не хочет работать на новых хозяев, предпочитая пить и подыхать и ожидая привычного для него кровавого разрешения назревающего социального конфликта. А между тем даже в условиях номенклатурного чиновничьего псевдокапитализма русские могли бы объединяться, возрождать русские деревни, разводить много скота, что позволит возродить многодетные семьи, создавать домашние моленные и выживать как нация. Но они этого не делают и на предложения идти этой дорогой только машут руками. Вымирание великороссов идет полным ходом, и при существующем раскладе сил остановить его невозможно. Верховный муфтий России недавно с сожалением сказал: “Русские тают, как снег”. Это вымирание основано на почти вековой связи развратителей и развращенных: развратители – это номенклатура, а развращенные – это оболваненные номенклатурой великоросские простолюдины. Заселение на русские просторы кавказцев, а теперь и таджиков инспирировано номенклатурой. Причина довольно проста: азиаты дают взятки чиновникам тихо и покорно, а русские протестуют и разглашают тайну взятки. Азиаты привыкли у себя дома кормить чиновников, как клопов и вшей, и у них выработались традиции и технологии покупки властей всех рангов. Я еще в советские годы отбивал зад на асфальтированных дорогах, проложенных прямо по буеракам, без выравнивания почвы, и любовался развалинами коровников и свинарников, построенных прямо на грунте, без фундаментов. А таджики, которых подрядчики, отобрав у них документы, держат в глубоких подвалах и погребах, где они живут, как грязный скот, составляют основной локомотив московского строительного бума Лужкова–Ресина.
По-видимому, вымирание великороссов должно принять совершенно новые и катастрофические формы, и только тогда из обалделых постсоветских людей начнут вылупляться русские птенчики. Будут ли это дети ночных сов, стервятников или же белые голубки и лебедушки – никто не знает. Поживем – увидим, а точнее – ощутим: или нам будут рвать когтями и клювами спины, или же мы, подставив ладони, будем кормить зернышками ласковых белых птичек.
В номенклатурных жопах всегда было черным-черно, как и в их воспитанных в обкомовских кабинетах душах. Простой народ по-прежнему в полной власти своих мордатых начальников и пока не знает, что с ним решено сделать. И только когда русские или то, что от них останется к тому времени, сами решат, как им дальше жить, снова возникнет не известная нам пока русская культура.
Все-таки есть большая разница между свободной русской литературой и русскоязычной. То, что происходило и в СССР, и в эмиграции весь двадцатый век, было произрастание щетины и ногтей у покойника и ничем больше. Мое главное противоречие не с Западом, где сохранилась своя особая историческая преемственность, и где все вполне понятно, и где можно при желании размотать клубок, а с нашими лжепатриотами, пытающимися возродить Россию, срастив большевистское прошлое с православием. Когда нарушена историческая преемственность, как в России, все надо безжалостно вскрыть и удалить омертвевшие ткани и чуждые предметы, т. е. надо публично судить ВКП(б)–КПСС, провести люстрацию, освободив госаппарат от наследников ленинизма, а также признать факт геноцида великоросского и других народов России, предоставив им особые права истребляемых и преследуемых наций, и провести частичную реституцию отнятых имуществ. Без этого я не принимаю псевдовозрождения России, на чем часто спекулируют чиновники всех уровней, желающие сохраниться как правящий класс, владеющий абсолютно всем и всеми мерами не позволяющий возникнуть среднему классу, который, восстав из пепла, рано или поздно попрет их из кресел и от жирных кормушек. Культура возникает не по приказу, а как следствие совокупных усилий национальных сообществ, желающих выразить свое особенное мировоззрение и ощущение мира.
На сегодня великороссы молчат, они не осознают себя нацией и не имеют своей культуры. Культура великороссов и в верхушечной части, и в массовой закончилась после эвакуации свободных добровольческих войск из портов России, унесших с собою не только горсти земли на могилу, но и частицы генетической памяти народа. Все, что происходило и происходит в России с тех пор, связано с большевистскими насилиями и казенной псевдокультурой. Да, была антисоветская контркультура, но она закончилась с победой Запада в холодной войне. Что же происходит сейчас? Ведь книг издается весьма много, и все на русском языке, но новой русской литературы не возникло. А почему? По-видимому, из-за страха. Пишущие люди по-прежнему боятся писать правду о власти номенклатуры, сохранившей все свои позиции. Обо всем этом пускай пишут другие. Я же часто покупаю и мне дарят современную русскую прозу, и я ее обычно бросаю, не дочитав, меньше, чем на середине. Я вижу, как автор из страха обманывает и себя, и, следовательно, читателей. А литературоведы и критики мне напоминают толстую похотливую молодую бабу, которую положили в постель с паралитиком. Что она только ни делает с его гениталиями – но у него все равно не встает. Вот так и с великой русской прозой – она молчит мертво. И я свято убежден в том, что она будет молчать до тех пор, пока остатки великороссов не попытаются, освободившись от общей безликой русскоязычной массы, создать свое, пусть небольшое, но национальное формирование. В русской республике может появиться и своя русская литература.
Идея создания Израиля породила возникновение разноязычной еврейской литературы – это живой для нас, великороссов, пример. Лучшие же пишущие на русском языке современные люди самых разных национальностей невольно оказались в трагическом положении пражских евреев, собравшихся в пражском кафе, где бывали Франц Кафка, Макс Брод и их литературные друзья, писавшие на немецком. На них косились и чехи, и сами немцы, но в результате всего вышло так, что именно эта кучка затем в большинстве погибших и убитых людей составила гордость обывательской и ограниченной страны, где им пришлось прожить жизнь и ужасно умереть.
Сейчас в России от идеологической и экологической чахотки вымирает народ, давший название этой стране, а на обеденном столе лежит окоченевший труп великой русской культуры, вокруг которого шумит русскоязычный фуршет, так и не понимающий, где он находится: то ли на поминках, то ли на чьей-то презентации, где все сильно попахивает мертвечиной. Я вспомнил песню Талькова о тетради расстрелянного генерала, так как действительно держал в руках в одной дворянской семье такую тетрадь, где царский генерал описывал свои впечатления о разваливающемся при Керенском фронте. Генерала большевики расстреляли как заложника в восемнадцатом году. Генералы нашей семьи почти все воевали у белых и убежали из России, дожив в эмиграции почти до ста лет, что даже для меня как-то удивительно.
Средненький шансонье Тальков задел чужую для него струну, написав несколько рвущих душу слов, как когда-то Вертинский выжимал слезу из белогвардейцев, эксплуатируя внутренне чужую для него тему. Еще с тридцатых годов Вертинский связался с Лубянкой, вымаливая у нее возвращение в Россию. Это все фигляры и лицедеи, и не о них речь. Перебирая письма и тетради расстрелянного генерала, я о многом думал. Вспомнил и посещение Брянской области, куда ездил к новозыбковским староверам, называющим себя древнеправославными. Оказывается, там до войны компактно жило много евреев, убитых немцами, и хозяева-старообрядцы спустили мне с чердака старую плетеную коробку, полную еврейских писем, документов, открыток на русском, польском и немецком языках. Староверы купили пустующий дом после войны и сохранили еврейские реликвии. Староверы вообще хорошо относятся к евреям, считая их народом своих праотцов, и отменно знают Ветхий Завет.
Я разглядывал открытки из Вильно, Кракова, Вены, Могилева с надписями: “Дорогой Моня”, “Дорогая Ривочка”, “Милая Софочка” и т. д., где описывались их житейские горести и радости, и мне было очень тоскливо на сердце, что этих людей подвергли в двадцатом веке насильственной смерти. Два года назад мне надо было купить в провинции деревянный дом с большим участком, и я объехал на машине с водителем несколько губерний бывшей России и всюду встречал и целые вымершие деревни, и отдельные дома, многие из которых были открыты, и на их стенах висели в застекленных рамках никому не нужные теперь фотографии и самих крестьян, и крестьянок, и их ушедших на войну молодых мужчин в красноармейской, а иногда еще и в царской форме. У всех были тупые и бравые лица служак, рабов и почти что идолов. Очень редко попадались задумчивые и грустные лица. Ни в одной деревне не было деревьев вдоль дорог и улиц – все голо и пустынно, как во времена Смутного времени. Иногда, услышав мои шаги по скрипучим половицам опустевших домов, выбегали одичавшие кошки, не дававшиеся в руки и шипевшие, как змеи. “Вот и ваш черед пришел, голубчики”, – подумал я. А места кругом были божественные: березовые рощи, перелески, заросшие ольхой поля и ободранные, как скелеты, руины храмов с погнутыми коваными крестами. Раньше здесь кипела полнокровная жизнь и сотни тысяч семей рождались и умирали под свои грустные и радостные песни. Но они все сами разрушили и довели до полного запустения свой край, восстав против Бога и решив жить своим слабым человеческим разумом, поверив злонамеренным утопистам.
Дом я, в конце концов, купил на самых границах Прибалтики, в местах, где испокон века жили староверы, бежавшие от московского ига подальше. Среди брошенных деревень шныряли грузовики с прицепами, полными армян и дагестанцев, валивших бесхозный лес и вывозивших его на московские строительные рынки. Гортанные голоса, как воронье карканье, разрушали тишину пустеющей и вымирающей центральной и северной России. И все виденное мною во время моих странствий я мысленно называл полнейшим и окончательным безобразием.
Москва, 2003 г.
© 1996 - 2016 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал"
Опубликовано в журнале: Зеркало 2005, 26
Алексей Смирнов
Двойная трагедия
Как-то так получилось, что дважды в двадцатом веке сам русский народ истреблял почти до корня свою цивилизацию, культуру и все образованные классы. Факт этот удивительный, и о нем как-то все молчат и делают вид, что ничего не произошло и не происходит. Пытаются сохранить преемственность и иллюзию прямой дороги, не перекопанной рвами с трупами. Второй раз советскую, пусть псевдоцивилизацию уничтожают сегодня больше десяти лет кряду, уничтожают сознательно, ежечасно и планомерно.
О том, как это происходило в первый раз, кое-кто писал, и лучше всего этот факт разобрал Бердяев в своей работе “Духи русской революции”, а чисто эмоционально Максимилиан Волошин в стихах о истоках и традициях русской смуты. Бердяев исходил из того, что русское простонародье верило только в своего полумифического царя, а помещиков и всю городскую цивилизацию с ее культурой и экономикой ненавидело, считая чужой, и по мере сил всячески истребляло, как могло. Эти же настроения разделял Горький эпохи “Несвоевременных мыслей”, боясь русского мужика как носителя анархической разрушительной стихии. Бердяев рассматривал и великих русских писателей как пророков наступившего хаоса, видя в персонажах Достоевского – Верховенском и Шигалеве носителей программных установочных положений большевистской революции. Ошибка писателей и философов – толкователей русской революции начала двадцатого века была в том, что они исходили из того, что русский по своей сути был религиозен, и религиозен по-православному. На самом же деле большинство русского простонародья было прежде всего суеверно и потому декоративно набожно, ходило в церковь задабривать Бога, а не молиться ему. Идеи христианской доброты и всепрощения были совершенно чужды и несвойственны основным массам русских крестьян, совершившим революцию и пошедшим за большевиками. У русского народа отношение к Богу и Христу всегда было утилитарно и не более того. Для них Перун и Велес постоянно виделись за православной символикой.
Да, в монастырях, в городских храмах были и монахи, и аскеты, и богословы, и высокообразованная паства, но численно всех этих людей в России было крайне мало – наверное, от десяти до тридцати процентов, как и сейчас. А остальные семьдесят процентов населения были априорно безразличны к самой идее Бога в его православной транскрипции. В современной Чехии семьдесят процентов населения тоже безбожники. Так было всегда, и не надо этому удивляться и придумывать мифы о некогда существовавшей Святой Руси. Святая Русь существует только в декадентском сознании, и нигде больше. То, что Церковь и в средневековой Московской Руси, и при первых Романовых, и в петербургской империи была прежде всего государственным институтом, общеизвестно, но о том, как это пагубно повлияло на стихийное язычество и антихристианство русского народа, говорить и писать не любят. Потаенные русские сказки, записанные Горбуновым, показывают величайшую ненависть и презрение простонародья к своим жрецам-священникам и дикую похотливость мужиков к попадьям и поповнам. Совершенно не случайно Пушкин, сам чрезвычайно похотливый субъект, писал о Попе и его работнике Балде в достаточно гнусном, издевательском тоне. Прадед Пушкина, петровский генерал и черный абиссинец Ганнибал, оставил после себя более трехсот потомков от крестьянок и убил тяжелой тростью прямо в церкви села Михайловское священника за то, что тот не отдал свою дочку негру на растерзание.
Боже, как лжива вся русская дворянская литература, когда вопрос касается взаимоотношений помещика и крепостных. Точно так же нынешние сочинители умело умалчивают о реальных взаимоотношениях нынешней постсоветской номенклатуры и теперешних рабочих и таджикских рабов на лужковских стройках. Вот только бесконечно грустный Лермонтов все понимал и знал о стране рабов, стране господ и все лез и лез под пистолеты идиотов-офицеров. Ученик и прямой продолжатель Лермонтова – граф Толстой написал о взаимопроникновении дворянской усадьбы и деревни достаточно много и откровенно, встав в конце концов на сторону крестьян. Интересно, что опыт Толстого Бердяев в своей работе “Духи русской революции” вообще не рассматривал, так как беспощадный взгляд художника Толстого его не устраивал. Совсем другой вывод был бы из опыта Толстого, чем излагает Бердяев, находя в народе два полюса понимания христианства. Жуткую звериность русской жизни и наверху, и внизу рисует Толстой, а Бердяеву это неудобно. Из Толстого вытекает, выламывается мысль: зверь не подотчетен в своих поступках, зверем двигают инстинкты и он не может каяться, что сожрал чужих детенышей, – просто ему хотелось есть. Таковы все персонажи Толстого: и дед Ерошка, и Долохов, и Пьер Безухов, и Андрей Волконский (духовный брат или отец лермонтовского Печорина), но все они разъедены вырождающейся дворянской рефлексией. Платона Каратаева Толстой придумал только для собственного самоуспокоения – таких среди простолюдинов никогда и не было вовсе. Откровенно звероваты и все бабы Толстого – от Наташи Ростовой до Анны Карениной, и все они – активные, чувственные самки, самки хищных зверей, и они никогда не каются.
И Толстой, как зверь, внутренне оправдывает зверей-революционеров. Но он одновременно утонченный европеец, ученик Руссо и автор и пророк протестантской по духу ереси, и Ленин, сам лютый зверь, чуя в Толстом зверя покрупнее себя, совершенно правильно назвал Толстого зеркалом русской революции. А все остальное – это только декорации сильно задурковавшего барина. Но Толстой – не дух, не предтеча, не пророк русской революции, он сам и есть эта революция. И как далек Толстой от аскетичных старообрядцев, любителей византийщины, молившихся в своих изысканных, с древними образами моленных.
Недолгая честная дворянская литература Лермонтова, Толстого, отчасти Бунина и разночинная и крестьянская – Чехова, Успенского, Левитина, Подъячева, Семенова и др. успела сказать правду о врожденной дикости русского простонародья и его схожести со зверьми и невозможности ввести этот тип людей в цивилизованные рамки. Тот славянин, который вывелся из смеси великороссов с угро-финскими племенами, есть врожденный анархический дикарь и последовательный, убежденный враг всякой религии и культуры. Такого типа люди и разрушили почти до конца старую русскую цивилизацию. Во главе их шли вожаки – обычно выходцы из семей священников, дьячков, сделавшие свой примитивный вывод из христианства – все отнять и переделить поровну. Чернышевский, Нечаев, Ульянов – ярчайшие примеры подобных субъектов.
Но вещи нематериальные, как культурность и все, что с ней связано, не переделишь, значит – надо убивать интеллигенцию в овраге и сжигать библиотеки и картины, а заодно и церкви как очаги культуры. Я знал от одного свидетеля, как, громя одно имение, мужики сбросили в пруд рояль и пианино, и коровы, идя на водопой, наступали на клавиши и мычали, пугаясь незнакомых звуков. А в другом месте, на Севере, реставраторы нашли чиновую икону 16-го века, в которой на груди Архистратига Михаила было прорублено очко для туалета. Эта икона уцелела потому, что лежала лицом вниз, в выгребную яму.
Художник, пропуская увиденное через свою душу, обычно всегда прав, а вот русские философы и пророки часто изобретали и изобретают схемы, под которые подгоняют упрямые факты. Чтобы понять первое по времени уничтожение цивилизации на территории России, надо читать не сменовеховцев и не религиозных философов, а дореволюционную русскую художественную прозу о деревне, и все сделается понятным. Эмигрантская литература почти не сказала правды об увиденном и пережитом, они почти все, не сговариваясь, решили молчать, так как хотели вернуться и покарать взбунтовавшихся хамов за бунт, кровопролитие и истребление их родовых гнезд. В революцию было сожжено около сорока тысяч имений, и обычно погибало все их культурное содержание – крестьянам не нужны были книги, картины, резное дерево и статуи. Деникин, выходец из семьи выслужившегося солдата, увещевал своих офицеров-дворян: “Господа, мы не карательная экспедиция!”
Массовые порки крестьян, казни пленных и восстановление собственности не дали белым поддержки в захватываемых ими деревнях и станицах. Когда хотят снова усесться на спину своих рабов, то обычно из подлости молчат об этом. Белым и дворянам не надо играть в особое благородство их роли в гражданской войне, но об этом должен говорить человек из их среды, и я знаю, о чем пишу, – мой родной дядя командовал РОВС и в нашей семье было много других белых генералов и полковников, и все они отнюдь не ангелы в золотых погонах. Сейчас околономенклатурная литература тоже молчит, не описывая, как “новые русские” усаживаются на спины вчерашних красных рабов Кремля, думая, что это навечно. Об этом – ни одной брошюры на книжном рынке нет, как будто ничего не происходит, и не захватываются частными отрядами заводы, и не держат рабочих годами без зарплаты. Вот советский граф Толстой не дождался похода белых на Москву и прибежал к Сталину жиреть на спине большевизма, и неплохо довольно долго жировал, пока не умер от курения и обжорства. Жил красный граф в дворницкой особняка Рябушинского, где чекисты поселили Горького и стерегли его, как пленного опасного зверя, а потом отравили фосгеном в кислородных подушках, отчего его труп посинел. Кстати, никакой Толстой не граф, а прижит его матерью от соседа по имению, потомка шведов Бострома, за которого она потом вторично вышла замуж. Уже взрослым Алексей Толстой подавал на Высочайшее имя прошение о присвоении ему графского титула, так как брак его матери с подлинным Толстым долго не был расторгнут. Его мать была талантливой детской писательницей из рода Тургеневых и передала наследственные дарования своему талантливому и подлому сыну.
Маленький классик, по определению Блока, Бунин обо всем происходившем в России умалчивал, так как скрытно был левым и зависел до революции от изданий Горького и Телешева, а в эмиграции – от финансировавших его влиятельных Цейтлиных и Вишняков и их друзей, выхлопотавших ему по своим каналам Нобеля. Бунин был человек гордый, желчный и порочный и только от вечной нищеты вынужден был кланяться. В рабской стране о своих рабах со зверскими наклонностями писать правду не принято. Алексей Толстой после революции написал о русском народе, что только после Октября все поняли, какого зверя на цепи держали. Написал сущую горькую правду. Это какое-то ужасное наваждение: кругом – и вчера, и сегодня, и завтра, и послезавтра – одни крепостники в любых обличьях – белых, красных, демократических, рыночных, олигархических, неочекистских, – и все хотят обжираться, опиваться в гареме из пухлых блондинок и красть, красть, красть без конца и без края. У Бунина на вилле в Грассе жил бывший эсер Илья Фондаминский, сочинявший трактаты о русской истории и революции. Судя по всему, это были оригинальные сочинения, и их бы надо издавать вместе с рассказами Бунина, который очень сочувствовал опусам своего друга. Бунин писать трактаты сам боялся и все больше описывал, как господа драли свою прислугу, как коз, спереди и сзади, под колючими кустами шиповника, в глухих аллеях запущенных помещичьих садов.
В советской России в первое после Октября десятилетие была плеяда писателей, кое-что написавших о звериной сущности России и ее простонародья, – это и Артем Веселый, и Борис Пильняк, и целый ряд других менее известных. Их всех еще при раннем Сталине пустили в расход. Кое-что на эту же звериную тему есть и у молодого Шолохова, в его “Донских рассказах” и в первых частях “Тихого Дона”. Не так важно, кто все это написал, но сделал он это со знанием психологии донской голытьбы и рядового казачества. Вывод из описанного всеми ими – цивилизация, нормальные взаимоотношения между людьми, частная собственность, нормальная экономика в России преждевременны и подлежат тотальному уничтожению самим народом. Я сам часто видел в глазах и интонациях добрых гуманных русских людей, пытавшихся сделать что-то доброе и хорошее для других, ужасную тоску от лицезрения того, как труды всей их жизни шли прахом под напором дикости и стихийной уголовщины. От трагедии истребления русской цивилизации начала века осталось не очень много письменных свидетельств и источников. Тема-то колоссальная, а “Илиад” раз-два и обчелся.
Уничтожение русской цивилизации не ограничилось первыми годами революции, когда выбивалась верхушка, а активно продолжалось до тридцатого года и завершилось раскулачиванием деревни – то есть массовой базы самого русизма – и бегством населения из родных мест в большие города и на стройки, где было легче затеряться. Меня прежде всего интересуют люди, убитые и арестованные до тридцатого года. Это всё мои люди, и о их судьбе почти все молчат. До тридцатого года переловили большинство священников и монахов, в результате волн перерегистрации царских офицеров большинство их расстреляли, в том числе и тех, кто вообще не участвовал в гражданской войне. Именно в эти годы было арестовано и выслано множество бывших дворян, купцов, лавочников, старого чиновничества, а также самых ярких интеллигентов всех сословий, не прижившихся при большевиках.
А вот когда Сталин стал громить свои красные кадры и организовал тридцать седьмой и тридцать восьмой годы, тут все завопили и вопят по сей день. Я дважды разговаривал с ныне умершим, очень одиозным и воинствующим политзэком Львом Разгоном. Это был умный, агрессивный человек, хорошо владевший пером и выражавший интересы целого пласта жертв сталинских репрессий. Я с ним общался крайне осторожно и с большой опаской, чувствуя в нем чуждую мне программу. Я всегда легко находил общий язык с евреями из пострадавших буржуазных семей и религиозных фундаменталистов хасидского склада, которых красные преследовали одинаково с нашим катакомбным православным священством, дружившим с раввинатом в лагерях и беседовавших с ним об общих корнях обеих религий. Разгон был скрытно убежденный, насквозь левый человек, к тому же я знал, да он и не скрывал, что был женат на дочери Глеба Бокия, чекиста, возглавлявшего при Генрихе Ягоде специальную лубянскую лабораторию по производству ядов, которые испытывали на заключенных. В общем, от Генриха Ягоды до Генриха Гиммлера – и никак иначе. Лев Разгон уверенно чувствовал себя в обществе “Мемориал”, где было полно детей расстрелянных ленинских сподвижников и чекистов. Быть может, несчастья и расстрелы уравнивают палачей и их жертвы? Я к такому гуманизму и всепрощению не готов, но я вообще человек неприятный и о себе и своем характере иллюзий не имею.
Как-то все эти люди повылезали в перестройку и были очень заметны на самых громких постах: тот же драматург Шатров, и объективно умный Юрий Афанасьев, и многие другие – напрямую племянники и внуки ленинских наркомов. И среди правозащитников всегда были заметны люди типа сына маршала Якира и внука наркома Литвинова. Да и сама бабушка номенклатурной революции девяносто первого мадам Боннер была дочерью заведующего отделом кадров Коминтерна, тоже потом расстрелянного, как и большинство кадров интернационалистов, личными делами которых он ведал. Теперь новоявленная Брешко-Брешковская едва открещивается от ельцинско-путинской России, вспоминая Бунина, говорит о происходящем как о новых “окаянных днях” и просит не ставить памятник своему мужу Сахарову в уголовной и бандитской стране.
В этой статье я умышленно не касаюсь национального вопроса и национального происхождения людей, служивших орудием уничтожения русским народом своей же русской цивилизации, бывшей по сути ему совершенно чужой, хотя и признанной во всем цивилизованном мире. Русским массам по духу близкими были только поэты-алкоголики типа Есенина или Кольцова, спившиеся и желательно повесившиеся, хотя Есенина скорее всего повесили чекисты, имитировав самоубийство. В советское время они восторгались поэтом Рубцовым, зарезанным в пьяном виде в постели его ревнивой сожительницей. Вот такие биографии и такие поэты греют их подзамерзшее в бескрайних русских степях мужицкое сердце. Все дело в звериной погромной программе славяно-угро-финского простонародья, избравшего орудием своей злобы различных инородцев – представителей иных народов. Для них хорош был садист Бела Кун, садист Рувимов (по матери – Дзержинский), садисты Вацетис, Лацис, Петерс, Берзин, Стучка, Щорс и иные, имя которым – легион. Не будь под рукой этих – простолюдины взяли бы себе в вожди японцев, китайцев, корейцев, хотя и эти народности в роли исполнителей широко служили в карательных войсках Чека, но не верховодили в Смольном и Кремле. Был такой либеральный депутат, еще царских Дум, милейший человек – Герценштейн, его потом убили тогдашние крайне правые в Финляндии, где он отдыхал с семьей на даче. Этот Герценштейн блестяще сформулировал программу интересов русского крестьянства и был его признанным лидером, и их всех не смущало его происхождение. Вождей из своей среды крестьяне не выдвинули по причине вековой робости и политического скудомыслия. В Смутное время при Борисе Годунове русские массы, устроив фактически революцию, тоже призвали себе в вожди самозванца с поляками.
Сегодняшние постсоветские националисты всех политических оттенков выдвигают лозунг: “Во всем виноваты евреи!” Я же с этим лозунгом совершенно не согласен, мысленно заменяя его другим: “Во всем виновато само русское простонародье и его врожденное зверство!” Конечно, и отдельные евреи, и латыши, и китайцы виноваты, ввязавшись в большевистские дела и став их слепым и зрячим орудием. Когда простонародье несколько привыкло к свалившейся на него власти, то захотело само занять должности в аппарате, и Сталин и его сподручные тут же вырезали всех ленинских инородцев – первопроходцев революции. Ввязались же в кровавое месиво далеко не все инородцы, а от одного до трех процентов их общего поголовья. В армиях Болотникова, Разина, Пугачева вообще не было ни евреев, ни латышей, ни китайцев, ни молдаван, но зато у Пугачева бывали башкиры, мордва, черемисы, и эти азиатские скопища выполняли ту же работу по уничтожению русской цивилизации, что и во времена большевиков. Я знал одного случайно уцелевшего участника партсъезда ВКП(б), который Сталин почти поголовно вырезал за то, что он проголосовал за Кирова. И этот несчастный, долго сидевший в лагерях человек после чекушки водки выкрикивал, как попугай, с ужасающим одесским акцентом: “Ми вам сделали революцию, а ви так обошлись с нами!” Бедняга-одессит, ставший пламенным интернационалистом, был политически туп и самонадеян, как почти все его собратья, и совершенно не понимал, что русскую революцию еще при Керенском начали вооруженные русские крестьяне, решившие рассчитаться с городами и городской цивилизацией, с ненавистными помещиками и с самой земской интеллигенцией, вышедшей в подавляющем большинстве из этого же самого народа. Говоря иносказательно, русский народ, когда обозлен, пойдет за кем угодно, даже за козлом с бубенцами на шее, если тот поведет его грабить, жечь и убивать. Сталин называл товарища Калинина с его бородой в глаза и очень ласково: “Наш крестьянский козел”. Я не страдаю русофобией, не клевещу на русский народ, сам неоднократно пытался состоять в разных умеренно правых национальных организациях, по-прежнему руковожу небольшим территориальным самоуправлением, работаю церковным старостой прихода одной из ветвей Зарубежной церкви и чем могу помогаю несчастным страждущим русским людям. Но волны хаоса, идущие и сверху, и снизу, из глубин народа, смывают все позитивные усилия и отдельных людей, и небольших человеческих сообществ, пытающихся что-то сделать, чтобы остановить всесторонний распад и превращение России в край изгоев Европы, опасных для любых относительно спокойных человеческих сообществ. Размеры разлива уголовной стихии скрываются властями, подписавшими различные хартии, обязывающие их навести в стране хоть какой-то правопорядок и выглядеть прилично.
За последние десять лет в сортирах повесилось пять тысяч офицеров, оставшихся без работы, убито в парадных сто тысяч коммерсантов, и их продолжают убивать ежедневно. Кладбища вокруг Москвы и больших городов заполнены аллеями черногранитных стел с портретами застреленных братков, похожих на стриженого Есенина, жертв криминальных войн. В один из последних годов прошедшего двадцатого века в одной Москве без следа исчезло двадцать восемь тысяч пенсионеров, продавших или поменявших свои квартиры.
Ежегодно население страны уменьшается на миллион человек, и среди этого миллиона очень многие погибли не своей смертью. По неофициальным, но достаточно достоверным источникам, в Эрэфии сейчас проживает всего сто одиннадцать миллионов человек, и это число постоянно сокращается. Все современное чиновничество и вся милиция полностью коррумпированы и представляют собой уголовные, опасные для населения организации. Уже построено и продолжает развиваться сверху до самого низа криминальное государство со всеми вытекающими из этого факта последствиями. За вполне респектабельным фасадом псевдодемократии создан кишащий человеческими аллигаторами уголовный террариум, отравляющий своими миазмами и частную жизнь, и искусство, и абсолютно у всех, на всех уровнях Эрэфии возникает вопрос: могу ли я себе это позволить и не застрелят ли меня за это в темном парадном? Один из самых смелых и острых московских журналистов – Александр Минкин был дважды избит залитой свинцом железной трубой, а любимца перестройки Юрия Щекочихина отравили. Провинциальных журналистов убивают десятками постоянно и повсюду, и это стало обыденностью.
Первое по счету уничтожение русской цивилизации все-таки достаточно освещено – тут и пароход с высланными философами, и мучения старой профессуры, оставшейся в столицах. За последние годы приоткрывается завеса над гонимой катакомбной церковью, не поминающей советскую власть и красное безбожное воинство. Большевики преследовали прежде всего гуманитарную интеллигенцию, а врачей и технических специалистов они оставляли для себя и их максимально использовали, держа их самих и их семьи в постоянном ужасе и в ожидании ареста, если вздумают хоть немного взбрыкнуть. Мой дядя – инженер, в юности гусарский корнет – сидел в туполевской шарашке за проволокой, и я про все эти дела с раннего детства слышал. Петра Капицу с женой большевики заманили в СССР и фактически арестовали, заставив работать на них. Трагическая судьба двух гуманитариев – философа Лосева и слависта будущего перестроечного академика Лихачева – достаточно хорошо известна. Все это задевало не только высшие слои столичной интеллигенции, большевики точно так же преследовали рядовую уездную и губернскую интеллигенцию – земцев, просветителей, несших простонародью свет культуры. Их они большей частью тоже уничтожали. Я когда-то изъездил почти всю Россию и наталкивался на остатки семей этой земской интеллигенции, и они развертывали передо мной свитки их страданий и мытарств по лагерям и ссылкам. ОГПУ и НКВД работали в те годы по разнарядке: столько-то попов, столько-то царских офицеров, столько-то бывших эсеров и троцкистов и т. д. Именно из такой народнической семьи вышел ранний новомировский Солженицын, но он, к сожалению, быстренько ушел из своего жанра, где он все так хорошо знал, и, будучи одержим манией величия, вообразил себя всемирным пророком и стал писать нудную, малокомпетентную абракадабру о своих колесах и, конечно, о евреях, хотя сам по отцу – из еврейских земледельцев, посаженных царским правительством в донские степи для морального перевоспитания физическим трудом. Выкрест в третьем поколении, Солженицын имеет очень заземленные представления и о православии, и о русской истории, все необычайно упрощая и примитивизируя, как это делали почти все пишущие из народнической среды, напрочь лишенные всякого мистицизма и прозрения иных миров. Я его самого не так давно видел и, имея некоторый опыт общения с душевнобольными, сразу понял, что этот дышащий на ладан, еле живой, окостеневший старец, по-видимому, наследственно, смолоду психически больная личность, и его нельзя воспринимать всерьез как здорового человека. Творчество и сочинения душевнобольных надо воспринимать как особый вид человеческой деятельности, часто представляющей объективный интерес, но обязательно под углом диагноза таких пациентов. Лицезрение невстающего Солженицына вызвало у меня острое чувство жалости и сочувствия. Он, несомненно, историческая личность – его труды были максимально задействованы в годы холодной войны, и ими изрядно долбили СССР.
Около старца хлопотала милая, благожелательная, заботливая жена, конечно, уверенная, что ее муж гений, как Лев Толстой. Взгляд у Солженицына до сих пор злобный, внимательный, подозрительный, как у норного зверя в вольере зоопарка. Так обычно выглядывают из-под себя, никому не веря, безнадежные старые психи, которых в дурдомах и психиатрических интернатах держат пожизненно и которые складывают под свои проссанные матрасы свои бредовые писания, считая, что только они знают абсолютную истину, которая спасет мир.
Оставив в целости старую техническую интеллигенцию, большевики следовали старому, еще петровскому, принципу – от Запада нам нужны только технические секреты вооружений, чтобы крепостные русские армии были непобедимы и их можно было бы бросать и на Запад, и на Восток, расширяя границы вначале московского, а затем и петербургского рабства. Недавно я с удивлением узнал, что скульптор Коненков, долго живший в Америке, был прикрытием для своей завербованной Лубянкой красивой и слабой на передок жены, сожительствовавшей с Альбертом Эйнштейном, писавшим для нее аналитические отчеты и введший эту даму в среду американских физиков, где Кремлем были завербованы агенты, кравшие для Курчатова атомные секреты. Ни при царях, ни при большевиках никто из правителей не перенимал в Европе образцов устройства гражданского общества, так как нашим деспотам все это излишне и абсолютно не нужно. Я еще в советские годы бывал в семье одного первого секретаря обкома, вышедшего на пенсию и ходившего дома всегда в кальсонах, постоянно пившего пиво и мочившегося в ведро посреди гостиной в присутствии домашних обоего пола и их гостей. Бывал я и в коммунальной квартире в старом деревянном купеческом особняке, где в одной из комнат доживал свой век бывший красавец лейб-гусар Кошкин, родственник Романовых и Сухово-Кобылиных. На его дочери, красивой актрисе, был женат актер Плятт. Этот Кошкин так презирал своих соседей по квартире, что ходил по утрам в сортир абсолютно голым. Зачем нынешним и бывшим хозяевам России соблюдать какие-либо приличия? Они не стеснялись и не стесняются перед своими рабами. Шоферам, возившим красных правителей, было запрещено останавливаться, если они кого-нибудь сбили, – по инструкции они должны были выбросить из окошечка автомобиля специальный жетон. Общеизвестно, что Лаврентий Берия ловил на улицах Москвы женщин. Но точно так же делали и другие начальники в других городах покоренной и оскверненной России. Писатель и поэт-конструктивист Квятковский, сам сидевший в карельских лагерях, рассказывал мне, что в тридцатые годы в Москве пешеходы переходили улицы только возле светофоров – боялись исчезнуть в милиции. Сейчас в московском метро милиция хватает красивых девушек и насилует их в своих подземных служебных помещениях.
Разорив почти до конца старую русскую государственность и культуру, большевики стали создавать на ее месте свой красный Рейх, замешав в его фундамент кровь, страх и предательство. Из русских людей они стали лепить нового советского человека. Между традиционно русскими и советскими людьми всегда была огромная разница. Это фактически два народа в одном, объединенные одним общим языком. Наше поколение, рожденное в тридцатые годы, росло еще среди старых русских людей и кое-что от них восприняло. Но мы, их потомки, все равно утратили их органические и естественные черты и признаки и только отчасти и не совсем по праву можем считать себя русскими. Современная русскоязычная жизнь морально девальвирована и носит нравственно пониженный характер. Пожалуй, единственное, что роднит меня с моими предками, – это чувство стыда перед самим собой. Я никогда не буду делать некоторых гнусных с моей точки зрения вещей, которые теперь общеприняты, но я постоянно, прямо или завуалированно, издеваюсь над людьми и ставлю их в такие ситуации, когда они говорят глупости и пошлости, что меня несказанно гаденько веселит. Этого, наверное, не делали старые русские, так как они жили естественно в своей стране, где не надо было прикидываться идиотами, чтобы физически уцелеть. Я, к примеру, привязался к Луи Селину только за то, что его все травили и он держал свору собак, чтобы его не избили левые французские студенты. Селин не был фашистом, не печатался, как другие, в фашистских газетенках, не призывал убивать евреев и коммунистов, но его все равно травили. Селин не любил банкиров и англичан, считал обе мировые войны несчастьем Европы и говорил это публично. В Первой мировой войне Селина отравили ипритом – он был спешенным окопным кирасиром и не был левым, как тот же Анри Барбюс.
Меня воспитывал дядя Коля, синий Гатчинский Его Величества кирасир. Его тоже спешили, загнали в окопы, где отравили газом и ранили в голову, после чего он считался полным идиотом, и его, как инвалида, не расстреляли красные. Отец дяди Коли был женат на моей родственнице из семьи Булгаковых. Сам дядя Коля был двухметрового роста, занимался развратом во всех столицах Европы и научил меня, мальчишку, правильно пить водку маленькими рюмками под острую закуску и спать с женщинами, для чего приводил в баню тридцатилетнюю дочку своей давней сожительницы. При встречах с комендантом дачного поселка, где он доживал свой долгий век, дядя Коля отдавал честь и страшно пукал, так как все время, хрустя, как мерин, жевал чеснок. При встречах с милиционером и толстыми женами коммунистов дядя Коля не только пукал, но и лаял по-собачьи. Он меня учил: “Вот видишь, Алеша, я еще смотрю на небо и на осенние туманы и деревья, а мои однополчане или гниют в ямах, или шаркают по парижским тротуарам, если уцелели, а я здесь пукаю и лаю. Мы живем в стране кровавых идиотов и палачей. Я, фактически герой Великой войны, имею русские и иностранные кресты, а хожу и пержу, как животное, ради самосохранения своего одра”.
Я, к сожалению, был тогда совсем молод, глуп, весь в мечтаниях и не все понимал и воспринимал правильно из дяди Колиных наставлений. Такие вот, как дядя Коля, верстовые столбы или одинокие деревья среди павшего выгоревшего леса увели меня, слава Богу, от большой большевистской дороги и увели очень далеко от тех мест, где подвизались мои ровесники. Как создавался красный Рейх – об этом у меня стоит на полках огромная библиотека воспоминаний создателей этого чудовищного монстра. Это все писали десять тысяч членов Союза писателей, средний возраст которых на момент распада СССР был 67 лет. Они очень много всего успели написать – и как их хвалили, и как их ругали на Старой площади, и как они угождали своим хозяевам. Средний возраст расцвета советского преступного сообщества был шестьдесят лет, где-то с 1930 по 1990 годы. За эти десятилетия было создано особое советское псевдоискусство, особая советская доносительская мораль, особая система послушания хозяевам жизни, и, главное, был выведен на территории бывшей Великороссии новый тип людей-овчарок и людей-овец. Советские овчарки пасли советских овец и не давали им покинуть отару. А если кто убегал... Прошло тридцать лет с девяносто первого, но психологические ограды загонов по-прежнему целы, и люди стоят в них плотно, как овцы в морозы.
Используя еще старые, воспитанные в гимназиях кадры, большевики создали свое паскудное высокопрофессиональное кино. Для меня, как для злопамятной дворянской сволочи, очень любопытно, что Любовь Орлова была дочерью статского советника, занималась в ресторанах валютной проституцией и была замужем за педиком Александровым, сожителем Эйзенштейна, в детстве ходившим в рижские православные храмы и даже певшим на клиросе, в результате чего появились “Иван Грозный” и “Александр Невский” – фильмы с явным налетом церковного модерна начала 20-го века.
Все подлинные достижения так называемого советского искусства связаны с остаточными проявлениями разгромленной русской культуры. Окончились воспоминания о погибшей России – и окончились достижения в советском искусстве. То же самое произошло и с самим СССР. Мой папа в Екатеринославе, будучи приготовишкой, сидел за одной партой с тихим мальчиком Леней Брежневым, сыном мастера металлического завода. Оба гимназистика, неся букеты, вместе с другими детьми ходили встречать Николая II, когда он приехал на завод, делавший тогда снаряды для фронта, и оба плакали своми детскими слезами, увидев любимого монарха. А мой дед, либерал и народник, знавший еще до революции и Короленко, и Николая Анненского, и Потескина, и Луначарского, разочаровался, увидев близко потрепанное и пропитое лицо Царя, портреты которого он часто писал и для губернского дворянского собрания, и для гимназий. Было это совсем незадолго до семнадцатого года.
Умерли правившие старики, помнившие старую Россию, – и распался СССР, в котором владыки Кремля, вопреки всему, видели отсвет Российской империи, а себя считали красными царями. Я глубоко убежден, что только искаженное имперское чувство в сознании геронтологической команды было гарантом геополитической целостности территорий, когда-то принадлежавших России. Пока есть чувство семьи, ответственности каждого за всех членов семьи, до тех пор она существует и не распадается. В Российской империи была узкая имперская прослойка, своего рода имперский цемент, соединявший куски в здание, но этот цемент выбили большевики, при этом сами не став ему заменой, – и все расползлось. А имперской единой нацией великороссы так и не стали, и в этом трагедия и причина гибели и Российской империи, и СССР, и, возможно, пока еще существующей Эрэфии. После чудовищных репрессий большинство подданных большевиков решили им служить, стиснув зубы и заставив себя верить в красные идеалы, заменившие им веру в Бога и в монархию. Возникла совершенно новая религия веры в большевистское государство с иконостасами красных уголков, публичных шествий с портретами вождей и красным погостом и мощами на Красной площади. Страшное варварское государство с обязательными людоедскими жертвоприношениями так называемых врагов народа на жертвенники красного террора. Архитектор Щусев, до революции тонкий церковный стилист, построивший храм Марфо-Маринской обители на Большой Ордынке и храм-памятник на Куликовом поле, воздвиг для вождей большевизма зиккурат, ставший символом их беспощадной и кровавой власти. Было запланировано расширить большевизм на всю Восточную Европу, а старые континентальные демократии – прежде всего Францию и Испанию – хотели подорвать изнутри, для чего вербовалась огромная агентура и финансировались европейские компартии.
К счастью, этот план по разнообразным причинам провалился, и немалую роль в неудаче Кремля сыграл фашизм, видевший в СССР опасного соперника. Пассивность Англии и Франции, желавших устранить СССР с европейской арены руками вермахта, привела к захвату стран Восточной Европы Красной армией и долгому позорному рабству этих небольших государств.
Такие глобальные планы Москвы были возможны только при создании чудовищной военной промышленности. Были созданы закрытые городки ученых и инженеров, работавших на ВПК. Эту ученую публику коммунисты неплохо кормили, но следили при этом за каждым их контактом. Были подкуплены и рабочие военных заводов, ставшие рабочей аристократией, преданной режиму. Остатки старой дореволюционной технической интеллигенции подготовили себе достойную смену. Советское образование, особенно в точных науках, было одним из лучших в мире. Была развита и советская медицина, тоже достаточно прогрессивная. Пища в СССР была нехитрая, но дешевая, квартиры плохие и почти бесплатные, и в целом советский народ жил спокойно и в своей массе не хотел никаких перемен. Надо учитывать, что самые социально активные русские люди были выбиты волнами красного террора, а здоровый остаток подобрала Вторая мировая война с ее чудовищными потерями на советско-германском фронте. Цифра в двадцать шесть – двадцать семь миллионов погибших, несомненно, занижена. В некоторые деревни не вернулся ни один мужчина, я знал село, где женщины рожали от стариков-свекров, заменивших своих погибших сыновей. Победу СССР над Германией добыла молодежь, родившаяся в деревнях после революции, когда у крестьян было полно скота, и они охотно кормили своих детей, становившихся от этого выносливыми солдатами. Потом началась коллективизация, скот перерезали – до сих пор не восстановлено поголовье коров и овец, бывшее в России до двадцать восьмого года.
Советское население в своей массе было покорно властям и во всем им подчинялось. Когда Горбачев затеял свою перестройку, то рядовое население очень удивлялось: и так неплохо живем, чего еще надо, это все Москва мудрит. Советскую систему можно было бы называть неорабовладельческой военно-технической архаичной системой, близкой по своей структуре восточным сатрапиям древнего мира. Только такая, тотальная, без щелей, отдушин и обязательств перед населением, диктатура могла сломать гитлеровскую армию. Высказывания “Война все спишет” и “Русские бабы еще нарожают солдат” приписывают то ли Сталину, то ли Жукову – военачальникам, наступавшим по грудам тел своих войск и мостившим дороги победы целыми поколениями русских людей. Дети, рожденные от тыловиков, дезертиров, больных и стариков, – это не дети солдат, которым в Красной армии почти не давали отпусков, в отличие от вермахта, где заботились о воспроизводстве немецкого народа.
Была ли советская система советской цивилизацией? Я не могу дать четкого ответа на этот вопрос ни самому себе, ни своим читателям. Для кого-то была, а для кого-то нет. Ведь бывают же чисто гуманитарные и чисто технические цивилизации без раздутого военного и технического комплекса. А с эстетикой и гуманитарными науками в СССР дело было плоховато. Они выполняли чисто утилитарную роль – держать в повиновении ВКП(б) и КПСС массы людей, которых все-таки надо кормить каким-то литературным эрзацем, и такими же заменителями в театре, кино и живописи. Деятели культуры СССР были величайшими лжецами, которые долгались в конце концов до того, что сами верили в свою ложь. Так вышло, что я был близок с женщиной, отец которой отсидел на Соловках за анархизм, и от него я знаю, как боялись чекисты настоящих левых и как они усиленно их истребляли. Зная это и прочитав основные труды Бакунина, Кропоткина и их популяризаторов, я утверждаю, что социализма в СССР не было и все ярые советские сторонники “реального” социализма – лютые, непримиримые враги любых подлинно левых идей и всех левых партий – от анархистов до социал-демократов. Татарская золотоордынская модель ленинско-сталинского псевдосоциализма просто рядилась в красные тряпки марксизма и проповедовала никогда не существовавшую в СССР диктатуру пролетариата. Впрочем, все это азбучные истины, но до сих пор по улицам Москвы ходят тысячные толпы людей с красными флагами и портретами бородатых идеологов и вождей, а во многих западных университетах по-прежнему полно левых профессоров и студентов, считающих, что в России только немного ошиблись и извратили хорошую левую идею. Существовавший в России многослойный материк ВПК, партийной бюрократии, технической интеллигенции, органов МВД и КГБ был достаточно прочен и мог бы существовать еще десятилетия, чего ожидали все западные советологи и аналитики, для которых развал СССР был совершенно неожиданным. Никто не учитывал, что в советской системе был свой кипящий котел, который должен был взорваться. Этим котлом являлась бесконечно алчная номенклатура, уже поездившая на Запад, всего там повидавшая и решившая жить, как европейская буржуазия. Особенно шикарно жить по западным нормам хотели жены номенклатурщиков, и главным образом – провинциальных. Большую роль сыграла в этих процессах покойная жена Горбачева Раиса, очень завидовавшая туалетам и драгоценностям госпожи Тэтчер и прямо ей заявившая словами из песни Высоцкого: “А я такие же хочу!” “Дайте адрес вашего ювелира и портного”, – попросила Раиса у железной леди, о чем с восторгом писали тогдашние британские газеты.
Номенклатура хотела законно передавать захваченные ею богатства своим детям. В интересах номенклатуры была проведена приватизация и вся Россия снова стала кому-то принадлежать. Въезжая на машине или автобусе в старые русские города и видя в центре разных стилей и размеров старые дома, я всегда повторял и повторяю свою любимую фразу: “Вся Россия раньше кому-то принадлежала!”, имея, конечно, в виду, что еще есть наследники этих домов и процесс реституции еще возможен. Номенклатура прочно села на чужую собственность и пытается сделать этот захват вечным, всячески доказывая незыблемость чубайсовской приватизации. На каждом сборище за круглым столом в бывшем кремлевском сенате президент Путин заверяет новых хозяев земли русской: “Отмены приватизации не будет!” Успокойтесь, товарищи, вас никто не тронет – вот смысл его слов. Но в жизни и в истории ничего вечного не бывает, тем более в такой стране, как Россия, где начавшаяся в семнадцатом году революция отнюдь не окончилась и где славянское болото еще долго будет находиться в взбаламученном состоянии.
Но вот после девяносто первого года начались удивительные и непонятные для меня процессы. Само население стало усиленно уничтожать все то, что оно тяжким трудом создавало после прихода от имени народа к власти коммунистов. Этот процесс уничтожения идет на всех уровнях. Директора заводов сами уничтожают свои заводы и сдают пустые цеха под склады. Директора школ и детских садов разоряют свои заведения и продают их пустые коробки в собственность кавказцам. Вокруг Москвы и других крупных городов стоят черепа разгромленных санаториев, пансионатов, пионерских лагерей, детских садов. Что не успело вывезти начальство, то растаскивает местное население. Разгромлено множество военных городков, военных баз и складов, после которых на земле валяются ракеты, снаряды, отравляющие вещества в ржавых бочках. Закрываются исследовательские институты всех профилей, ученых выбрасывают на улицы без выходного пособия. Закрываются и громятся клубы, кинотеатры и библиотеки. Закрыты все профессионально-технические училища, и рабочий класс больше не воспроизводится, и даже на еще действующих заводах нет рабочих – работают одни старики. Создается впечатление, что страна ускоренно ликвидируется. Я недавно говорил с одним инженером ВПК, и он сказал мне, что таков приказ из Вашингтона, скоро сюда войдет американская армия, и жаль, что СССР в свое время не начал третью мировую войну и не сжег США и Европу. Так думает очень много людей, и это, в конце концов, опасно. Любимый текст – это программа Даллеса об уничтожении русского народа без войны в мирное время. Как-то все очень просто у таких людей: в революцию были “Протоколы сионских мудрецов” Нилуса, а теперь – программа Даллеса. А где сам народ и где его интеллигенция? В ответ – молчок. А я понимаю, что происходит на самом деле: номенклатура хочет схватить деньги сейчас, сию минуту, она полностью нигилистична и распродает все подряд, не веря, что ей долго удастся продержаться. Они ликвидируют и распродают все, руководствуясь афоризмом одного из последних Людовиков, кажется, Короля-солнце: “После меня – хоть потоп!” А те, кто работал на уничтожаемых заводах, в пансионатах и детских садах, расходятся со своих бывших рабочих мест понуро, безмолвно, как рабы. Их хозяева так решили – и все тут! Они даже не воют, как выли крепостные отца моего прадеда в нашем тамбовском имении, когда он прочитал своим дворовым манифест императора Александра II о даровании воли крестьянам, и бабы завыли: “Барин, не гони нас! Куды мы пойдем? Кто нас кормить будет?!”
Особенно унизительный погром идет среди советской профессуры и научных работников. Они получают нищенскую зарплату и не могут прокормить не только свои семьи, но и самих себя. Жена моего знакомого – доктора наук и профессора-энтомолога, чтобы они могли кушать, устроилась поварихой в банк – кормить служащих и таскать домой продукты. Такова реальная жизнь, и люди бегут из страны, чтобы заработать хоть что-нибудь. Был Джордж Сорос, кормил некоторых ученых грантами, но его выжили налогами и отняли здания. СССР объявлялся общенародным государством с общенародной собственностью абсолютно на все, и если вы сейчас плохо живете, то ваши дети и внуки будут жить хорошо. Я помню, как люди во времена перестройки ходили на митинги, вслушивались в речи и все спрашивали себя: снится им услышанное или не снится? Некоторые поверили Гавриилу Попову и Юрию Афанасьеву и тоже стали сами говорить. А потом вылезли Бурбулис, Гайдар, Чубайс и Ельцин со свердловскими номенклатурщиками и всё начали срочно делить. И рядовые люди приуныли очень надолго. А потом грянул девяносто третий: пальба по парламенту, побоища на улицах, генерал Альберт Макашов... Это я тоже увидел вблизи – тогда наивные идиоты, и я среди них, пытались сколотить правый блок в Верховном Совете, и все говорили, говорили и надеялись. Во главе страны с 1917 года стояли злонамеренные вороватые личности, и, наверное, кроме грабежа, ничего произойти не могло.
Ну а народ, именем которого все это совершается, как он? Народ, как всегда, безмолвствует и сам ворует то, что не украло начальство. Сейчас самые заметные народные промыслы – собирание пивных бутылок вдоль дорог и работа на вторсырье – закупка цветных металлов, для чего у бабок крадут алюминиевые кастрюли и снимают километрами электропроводку, обесточивая села и деревни на недели, месяцы и целые зимы. Очень часто при этом нарушают технику безопасности и потом висят на столбах, как сожженные, скрюченные птицы... птицы перестройки, гласности и демократии по-номенклатурному.
Ко всем словам, терминам и понятиям, имеющим отношение к Эрэфии, надо добавить слово “номенклатурный”, “номенклатурная”, “номенклатурное”. Я прекрасно понимаю, что это тяжелый, внелитературный, внеэстетический текст, но я сам человек тяжелый, неудобный и пишу этот текст, оскорбляя прежде всего себя. Я бы мог писать совсем другие тексты, с совсем другой тональностью, но представьте себе, что каждую ночь сосед-шизофреник ходит срать под вашими окнами или же дрочит бешеной спермой на оконное стекло, через которое вы каждое утро смотрите на восход. Номенклатура по любому поводу каждый день отравляет жизнь всех живых существ любого вида, которых она может достать. Это безумный, чисто шизофренический процесс, и он будет продолжаться до бесконечности, пока их всех, обезумевших, кто-нибудь не остановит чисто физически.
Однажды, еще в советские годы, я жил в рабочем бараке. Рядом проходила дорога, по которой, сокращая путь, обкомовцы ездили на свои дачи, заполняя комнаты тучами пыли. Я купил ящик водки, собрал рабочих и попросил их перерыть дорогу траншеей по ширине колеса “Волги”. Они это сделали, замаскировав волчью яму, и обкомовец попался в нее, разбив себе лоб. Я был очень доволен, но абсолютно невиновен – я их только на халяву поил водкой. Больше господа-товарищи по этой дороге не ездили.
Я думаю, что люди этих зарвавшихся господ из бывшей партноменклатуры не остановят – их скорее всего остановят механизмы и техника. Все виды механических устройств, оставшихся Эрэфии в наследство от СССР, безнадежно устарели, они безотказно работают больше пятнадцати лет без профилактического ремонта. Скоро Россия останется без своих самолетов – их только латают, без электричек, без автобусов – все они сносились, без электростанций и без всего, что еще, как-то скрипя и жужжа, крутится и вертится. Самое страшное в другом – в износе реакторов на атомных электростанциях чернобыльского типа. Чудовищное положение на атомной станции в Сосновом бору под Ленинградом-Петербургом: эта АЭС может рвануть в любой день и накрыть радиоактивными выбросами не только Питер и весь Запад России, но и скандинавские страны. На замену реактора или закрытие известного всем очага ужаса нужен миллиард долларов, но его нет, хотя так называемый стабилизационный фонд давно перевалил за сто миллиардов долларов, но они вывезены министром финансов Кудриным за пределы России.
Каждый читающий газеты или слушающий радио подданный Эрэфии знает, что власти разворовали четыре миллиарда долларов – транш, полученный Россией накануне дефолта 1998 года, и что Виктор Степанович Черномырдин, бывший косноязычный премьер, украл несколько миллиардов долларов, выданных налогоплательщиками США для переобучения шахтеров закрываемых шахт и создания для них новых рабочих мест. Это общеизвестные факты, признанные всем миром, но господин Кириенко, ответственный за дефолт девяносто восьмого, и господин Черномырдин, “благодетель” шахтеров, находятся на свободе и занимают высокие должности при президенте Путине. Аналогичных широко известных вопиющих хищений множество, все их знают, но делают вид, что такого не было или что так и надо. Такое крутое воровство похлеще, чем столь любимый всеми здешними политиками план Даллеса. Московская публика и при Ельцине, и при Путине удобно устроилась у нефтяной и газовой трубы, и им, и их детям и внукам доходов от торговли нефтью, газом и алюминием более чем хватит. А вместо русского рабочего класса и крестьянства они завозят таджикских, китайских и вьетнамских рабочих. Остатки же русских рабочих и крестьян нужны номенклатуре как бесправные, на все согласные батраки по старой русской пословице: “Отец Герасим на всякую хуйню согласен”.
Есть такая госпожа Батурина, вторая жена мэра Москвы Лужкова, – дама, строящая заваливающиеся аквапарки и образцовая новая помещица. Она уже создала в Белгородской области образцовое имение, куда выписывает из Европы оборудование и племенной скот. Недавно в Москве застрелили американского журналиста Пола Хлебникова*, издателя русского варианта журнала “Форбс”, в котором он опубликовал список новых русских миллиардеров. Он оценивает личное состояние госпожи Батуриной в миллиард долларов. Самого мэра Лужкова москвичи прозвали Годзиллой – по имени голливудского киночудовища, разрушающего города. Лужков очень любит взрывать вполне пригодные гостиницы, включая гостиницу “Москва”, достопамятный символ сталинской эпохи, украшенный фресками Лансере.
Изложенный мной процесс изничтожения славянского рабочего класса и крестьянства, увы, не фантастичен. Это наша постоянная, каждодневная реальность, в которую очень трудно поверить среднему нормальному человеку. А я не совсем нормальный человек, так как всегда презирал советское стадо в любых его ипостасях, и мне глубоко противны и советские номенклатурщики, и их наследники, и русское простонародье, которое мадам Боннер величала быдлом – быдлкласс, так сказать, и поэтому я верю в этот бредовый процесс.
Они все стоят друг друга, но отдельных людей, попавших в эту советскую социальную мясорубку, конечно, жаль. Ведь очень много людей и в советские годы и сейчас отошло на обочину, в угол и с ужасом наблюдало и наблюдает происходившее и происходящее, видя в этих негативных событиях торжество Зверя, т. е. проявления приближения воцарения Антихриста, воспринимая все в духе христианской апокалиптики вполне эсхатологически. Я сам так тоже думаю, но я – человек со средиземноморской и византийской южной кровью – люблю надо всем посмеяться и даже поиздеваться, немного выпить и хорошо закусить при всех обстоятельствах и могу на многое смотреть с юмором и не быть склонным, как чистые славяне, к унынию и отчаянию. Наш бессменный президент Путин и все его питерское окружение – люди опытные и даже в чем-то слишком опытные, но не государственники и не могут повлиять на номенклатуру с ее хищничеством, так как сами разделяют идеи рыночного фундаментализма. Было два умных еврейских мальчика, которых родители смогли вовремя вывезти из Венгрии и не дали сжечь в печах Освенцима. Они выросли в Генри Киссинджера и Джорджа Сороса. Сейчас эти два государственных мужа оценивают происходящее в России приблизительно так же, как и я, но со своим местным американским акцентом. И им, как и мне, нравится больше постоянно носящий кипу сенатор Джозеф Либерман, чем семья нефтяных протестантов Бушей. Так сказать, у каждого свои пристрастия. Именно Сорос назвал наших горе-реформаторов рыночными фундаменталистами. Заселяя просторы опустевшей России мусульманами и китайцами, номенклатурная буржуазия объективно способствует созданию в Поволжье и в Центральной России халифата и присоединению к Китаю и Японии Сибири и Дальнего Востока. Если эти тенденции никто не остановит, то от славянской России останется мало-мало. И вопрос на засыпку: а где будут жить российские евреи – в будущем халифате или под властью Китая? У меня ответа на этот пока что чисто риторический вопрос нет, я этого просто не знаю, и не совсем понимаю – как, и не понимаю такой политики и такого плана. Мне все это кажется каким-то умопомрачением и безумием, последствием массового безбожия и непомерной жадности хомосоветикусов.
В России в двадцатом веке было четыре революции – 1905 года, буржуазная 1917 года, октябрьская 1917 года и номенклатурная 1991 года. Будет ли пятая революция – я не знаю и пока что не вижу сил для ее возникновения, но вот стихийное восстановление советской власти вполне возможно. Нынешний путинский режим эклектичен, он берет от старой России синодальное государственное православие, от коммунистов – их символику и методы управления, от Запада – фразеологию о рыночной экономике, от Африки – захват чиновниками собственности, от Азии – крайний деспотизм и насаждение новых видов экономического рабства. Этот эклектичный режим не может продержаться долго и во что-то мутирует. Россия полна неожиданностей, и никто не может достоверно предсказывать, что здесь будет завтра. Процесс же массового уничтожения остатков псевдосоветской цивилизации среди насквозь вымерзших русских лесов и полей, с нищими, как в допетровской Руси, черными деревнями носит почти что необратимый и роковой характер. Я видел, как само население разбирает стадион, как крушат недостроенную больницу, как разоряют баню, как разбирают на кирпичи и доски любое неохраняемое строение. Я видел, как на морозе сдирали с упавших больных и пьяных шапки и ботинки, как судорожно-быстро выворачивали у умерших на улицах людей карманы. Кругом были люди, и никто не вступался, и я тоже отучил себя обращать на это внимание, хотя поначалу вмешивался. И сверху, от власти, идут такие же волны разрушения – у неплательщиков отключают газ и свет, и это в климатических зонах, где зима длится девять месяцев и где борьба с холодом ставит само существование человека под вопрос. Скоро старики и больные люди не смогут ездить на метро, в трамваях и автобусах – у них при нищенских пенсиях отняли льготы на транспорт.
Пафос разрушения охватил все слои общества, и попытки созидания выглядят как странные чудачества. И вдоль стен домов, на всех улицах, во всех городах, как в пьесе Леонида Андреева “Царь-Голод”, скользят серые люди в чужом тряпье, покрытые синяками и струпьями. Это нищие и пропойцы, пропившие свои бетонные норы в “хрущевках” или выгнанные из них бандитами и риэлторами. У этих серых, безликих людей бесцветные внимательные рысьи глаза – они все время ждут какой-то добычи и постоянно открыто роются в помойках. На свалки переехали целые племена бывших советских людей обоего пола и поселились там среди воронья, стай крикливых чаек и бродячих одичавших собак, теперь часто рвущих прохожих.
Я не буду больше читать мартиролог утрат советского наследия – пускай мертвые сами считают свои ряды. Мы все-таки знаем свидетельства потерпевших при разгроме русским простонародьем русской цивилизации в семнадцатом году. Не всех они разорвали, утопили, расстреляли и довели до голодной смерти в тюрьмах и лагерях. В эпоху сомнительных времен, называемых оттепелью и перестройкой, высветились личные трагедии русской и еврейской интеллигенции, пошедшей с большевиками. Так вышло, что трагедия потерпевших от большевиков сдвоилась с трагедией самих большевиков и их интеллигентских попутчиков, тоже пострадавших от созданного ими же режима. Очень часто на соседних нарах сидели белогвардейцы и красные комиссары, и часто они принимали смерть вместе. Об этом хорошо писали многие – и сами потерпевшие, и их дети, например, Трифонов и Аксенов. Детей интеллигентов, служивших красным, держали в тюремных детдомах, а их матерей – на тяжелых мужских работах в зонах.
Вся советская литература накануне развала СССР в основном посвящена теме раскаявшихся коммунистов и их глубоко пострадавших несчастных детей. Больная страна, больная власть и больное общество! Эта статья не о птичках, не о голубях, не о ястребах, а о тамбовском окороке русской литературы, разрезанном острым ножом моей почти профессиональной неприкаянности и тотальной недоверчивости и к прошедшему двадцатому веку, и к вновь наступившему для чего-то – для чего, я не знаю сам. Впрочем, я знаю, для чего он наступил, кокетничаю, как старая идеологическая профурсетка, дающая только задаром и только тому, кто ей всерьез нравится и обязательно пахнет хорошим одеколоном. Когда власть и сам народ разоряют и разрушают советскую псевдоцивилизацию, то, конечно, стонут те, кто ей служил. Об этом уже есть масса письменных оппозиционных источников. У меня у самого пуды подобной печатной продукции. Я допускаю даже мысль, что от России могут остаться только пожелтевшие бумаги... У меня перестроечная пресса уже совсем пожелтела. Бумага-то дрянная. А вот мистическая идея и геополитическое место России достаточно сложны и по-прежнему манящи. Сегодня все те, кто валил СССР и шел за Ельциным, за Собчаком, за Бурбулисом, за Афанасьевым, чувствуют себя как-то не очень уютно. А почему все надо было разрушать до основания, для чего вызвали из берлоги русского зверя всё громить? Он ведь не остановится, пока полностью не сделает своего черного анархического дела и добротно не удавит интеллигенцию и культуру.
Я назвал эту статью “Двойная трагедия”, имея в виду, что, возможно, не очень хорошо обойдутся и с теми, кто вызвал тень Пугачева к жизни... Быть может, с ними произойдет то же, что с детьми Арбата. А может, кто-то одолеет анархию русского разрушения и снова установит государственность в сапогах или в ботинках, сшитых в мордовских лагерях уголовниками или новыми политзэками. А это все очень и очень богатый материал для будущей русской литературы и будущих русских писателей. Извечная тема в России: тюрьма и воля, воля и тюрьма, а кругом поля с ромашками и похотливо стрекочущими кузнечиками и девки с розовыми кустодиевскими телами, с визгом брызгающиеся в пруду. Пока еще хоть как-то живая Россия.
Москва, 2004 г.
© 1996 - 2016 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал"
Опубликовано в журнале: Зеркало 2006, 27 - 28
Алексей Смирнов
Заговор недорезанных
Дело в том, что я мальчишкой был свидетелем того, как в области изобразительного искусства был задуман и осуществлен заговор недорезанных дворян и белогвардейцев по перемене курса большевистской эстетической политики в строну изгнания остатков левых направлений двадцатых годов из так называемого социалистического реализма. Произошло это у нас в квартире на Никольской улице (при большевиках улице 25 октября), в бывшей шикарной московской гостинице “Славянский базар”, превращенной жителями в мерзкий вонючий клоповник. Собственно, вся захваченная и порабощенная большевиками Москва была превращена за годы советской власти в мерзкое вонючее трущобное обиталище, заселенное всякой сволочью, съехавшейся со всей бывшей Российской империи в оскверненный атеистами древний город.
Была масса дворников-татар, системных осведомителей Лубянки, множество кавказцев, служивших в НКВД-МГБ, ассуров, чистивших сапоги, и просто деревенских жителей, забежавших, спасая свои шкуры от коллективизации и искусственных голодоморов, в опустевшую Москву. Коренных дореволюционных москвичей уже тогда в городе было не больше двадцати процентов, а в Питере-Ленинграде после зимы 1941-1942 года – и того меньше.
Наш Славянский базар был клоповником в самом прямом смысле: клопов в нем было видимо-невидимо. Они ходили стаями, как муравьи, из номера в номер, и когда кто-нибудь из жильцов их морил, то остальные обитатели берлог, в которые были превращены бывшие дорогие номера бельэтажа, тут же выбегали в коридор и насыпали у своих дверей валики-редуты из дуста в виде буквы “П”, чтобы клопы к ним не забегали. Но насекомые все равно ползли через щели в стенах и через систему дореволюционного еще калорифера, который был проделан в стенах и периодически работал. Помню выдвижные фигурные дверцы этого калорифера, откуда иногда шел горячий воздух и лезли армии клопов. У всех жителей Славянского базара подушки, простыни и нижнее белье всегда были в кровавых пятнах от раздавленных клопов. Периодически клопы так зажирали жильцов, что все их тела покрывались белыми подушечками от их укусов, люди вскакивали среди ночи и с хрустом давили вредных насекомых, разбегавшихся от света электрических лампочек, как демонстранты от пулеметных очередей с чердаков.
Именно в номере Славянского базара злосчастный московский ебарь ходил к своей провинциальной самочке по фамилии “Фон Дыдыриц”, переделанной Чеховым из фамилии министра двора Николая II барона фон Фредерикса, конногвардейского офицера, друга всей царской семьи. Чехов умер сравнительно молодым, связавшись с неутомимой в постели немецкой кобылой актрисой Книппер, и большинство его персонажей дожило бы до большевистского переворота и было бы расстреляно чекистами в их ненасытных и емких до насильственной смерти подвалах. Так что будь реальным такой Гуров, ему бы чекисты проломили затылок своей свинцовой пулей – единственным аргументом победившего пролетариата. А вся родня его жены Книппер стала агентами Лубянки, включая саму Ольгу Чехову, которой целовали ручки и Гитлер, и Геббельс и которую как своего суперагента так любил генерал НКВД Судоплатов. А сама усатая мегера Книпперша, внешне очень похожая на мадам Боннер, вместе с малороссийским помещиком Немировичем лебезили перед Сталиным, Ежовым и Берией за ордена с красной звездой – символом Люцифера.
Вокруг Славянского базара было несколько старых хороших, еще дореволюционных ресторанов: “Савой” на Рождественке, “Центральный” на Тверской и советские кавказские заведения “Арарат” и “Арагви”, где тоже хорошо и добротно кормили и поили. Все бывшие, уцелевшие в сталинской Москве, ходили в эти заведения поесть и выпить. В “Националь”, “Метрополь” и гостиницу “Москва”, где каждый столик прослушивался, они ходить боялись. Это были чисто чекистские заказники, где весь персонал подневольно работал на Лубянку.
Научившись с ранней юности зашибать деньги, размалевывая детские сады зайчиками и лисятами, я стал посещать эти заведения. Я рос бледным, худым мальчиком и юношей с плохими легкими. Освобожденный от армии по воле врачей из-за шумов в сердце и понимая свое худосочие, я смолоду стал вести паразитический образ жизни, ходя в кабаки и истребляя там неимоверное количество жареного мяса и проводя ночи с пышнотелыми разводками, лет на пятнадцать-двадцать меня старше и способными заниматься любовью целыми сутками. И мой папа, ездивший в ранней юности на кумыс в Башкирию, и дед, сбежавший из Петербурга на Украину и в Крым из-за кашля, плохо переносили русский суровый климат. Оно и немудрено: по женской линии они были южные люди, полуитальянцы, итало-французы и грузинские князья. Любили их предки черноглазых шустрых брюнеток. Борясь с наследственным вырождением, я стал ходить в Сандуны, в Центральные бани, кабаки и ночевать с дамами особого склада, в результате чего к 18 годам ушел постоянно жить из славянобазарского клоповника к одной разведенной даме на десять лет меня старше. Уже тогда я мог один под водку сожрать целую утку, небольшого поросенка с хреном, несколько цыплят, от трех до пяти шашлыков, килограмм пельменей. Но каюсь, целого гуся я один съесть не мог, помня старую русскую пословицу: “Гусь птица глупая – на одного много, на двоих мало”. И именно ведя периодически паразитический образ жизни, я временами преодолевал врожденную неврастению с бессонницей и наследственную наклонность к туберкулезу. Я более сорока лет вообще не обращался к врачам и лечился только от гриппа и похмелья.
К тем бывшим, которые прижились в его особом государстве, Сталин к концу жизни относился покровительственно. В его ближайшем окружении постоянно был дворянин Скрябин-Молотов, да и Жданов, и Маленков, и Булганин тоже по их внешности были явно не пролетарского происхождения. Там был и царский полковник-генштабист Шапошников, педик в пенсне с мордой мерина, фактически разгромивший рвавшийся к Москве вермахт и подготовивший перелом в зимней подмосковной кампании. Правда, Шапошников надорвался за лето в осень сорок первого и отошел от дел. Оно, конечно, и понятно: он в гробовой ситуации организовывал заслоны и сопротивление на пути от Бреста до Москвы. У Гитлера в вермахте от командиров полков до командиров дивизий все были ветераны Первой мировой, а своих русских кадровых офицеров большевики всех до одного выбили. А мужепесы плохие стратеги, извилин в черепке маловато, вот и воевали, как унтер Жуков, – солдатским мясом, переведя почти все мужское население России и обезлюдев ее просторы.
Мой папаша, суховатый портретист-реалист Глеб Борисович Смирнов, человек по происхождению “бывший”, внешне прижился в каком-то учительском институте, где он с неким Корниловым, тоже из дворян, создал кафедру рисунка, а потом, еще до войны, перебрался в Архитектурный институт, где попал в целый невырезанный курятник “бывших”. В Архитектурном институте в красной Москве и до войны, и после нее было модно учить детишек красных фюреров и фюрерков. У папаши учились и дочь сталинского железнодорожного фюрера Кагановича Майя, дочь кровавого упыря Маленкова и еще много дочерей красной сволочи. Кафедрой рисунка там заведовал польско-украинский дворянин из Каменец-Подольска Михаил Иванович Курилко. Это был человек-легенда. Красивый, одноглазый, атлетически сложенный гравер из петербургской академии, он изъездил до Первой мировой всю Европу и собрал в Италии коллекцию мебели эпохи Возрождения. В молодости он был голубым гусаром в Австрии Франца-Иосифа и любил рассказывать похабные истории о своих успехах у польских и венских дам. Он вообще был скабрезным художником и, рисуя голых женщин, всячески вырисовывал складочки и волосики на их половых органах, а когда ставил две женские модели, то всегда в лесбийских позах, так что из мастерской выбегала, вся покраснев, жена Вертинского Лиля, которая тогда у него училась.
Михаил Иванович одно время был художником в Большом театре, для которого сочинил либретто балета “Красный мак” и оформил его. У него была небольшая комната в доме XVIII века сразу за Большим театром, где вся обстановка была из итальянской мебели эпохи Возрождения и висели его работы на пергаменте, натянутом на подрамники. Висела там и его работы Мадонна в настоящей “возрожденческой” раме, которую он выдавал за работу Филиппино Липпи.
В советские годы Курилко поддерживал близкие отношения с красным графом Алексеем Толстым, с которым он встречался еще в Петербурге в обществе куинджистов. Курилко всячески угождал третьей жене Толстого Баршевской, называя ее графиней, и любил у них сытно ужинать. По-видимому, Курилко был в особых отношениях с Лубянкой, терпевшей его многие, отчасти подсудные штучки с несовершеннолетними и взрослыми балеринами Большого театра. Он так допасся среди балетных курочек, что две задроченные и зачумленные им девицы из кордебалета выбросились с верхнего яруса служебных лож Большого театра и разбились – одна насмерть, а вторая переломала ноги. История эта в свое время наделала шума, но была замята.
Старик хорошо знал свое блудное дело, годами обучаясь в борделях Варшавы и Вены, где он был завсегдатаем. Курилко, удивляясь, рассказывал про хамство Толстого. Так, однажды за столом на даче Толстого сидели два знаменитых полярных летчика и Курилко с женой. Подали блюдо с телятиной. Толстой разделил его с четой Курилок, а остатки отдал летчикам, сказав им, что они как недворяне большего не заслужили. И те молча сожрали им даденое. Все это очень любопытно и достаточно мерзко в свете того, что Сталин хотел перед смертью объявить себя императором и пестовал уцелевших “бывших”. Сейчас еще жив дряхлый старец Сергей Михалков, участник этих оскорбительных для настоящих непродавшихся дворян сталинских псевдомонархических разблюдовок. В кабинете у автора вечного гимна весит его генеалогическое древо, но не висит там список проданных им на Лубянку людей.
У старца Михалкова есть очень на него похожий брат, профессиональный чекистский провокатор, ездивший за рубеж с группами ученых “пасти” их и кравший у них дорогой одеколон, о чем все знали, но терпели, зная, откуда этот мерзавец и прохвост. Мне это рассказывали люди, за которыми он доглядывал.
Оба брата были ответственны за верноподданность советских писателей красному режиму: один следил и доносил на всех, а второй был рядовым филером, пасшимся в писательском ресторане. Обычно на всех юбилеях, банкетах, чествованиях всегда было много стукачей, доносивших на всех собравшихся. Интересно было бы поприсутствовать на обеде, в котором участвовали бы Михалков-старший, красный граф Игнатьев, красный граф Алексей Толстой, князь Ираклий Андроников и еще кое-кто из их окружения. У всех этих господ были вполне определенные страшные политические биографии. И в эту компанию хорошо вписывался бывший голубой гусар Франца-Иосифа Михаил Иванович Курилко. У Курилко был брат – петербургский гвардейский офицер, который при большевиках угодил в Соловецкую обитель чекистов СЛОН (соловецкий лагерь особого назначения), где группа бывших царских офицеров, говоривших между собой по-французски, руководила всеми заключенными и держала в страхе блатарей. Потом всех царских офицеров и священнослужителей – всего около трех тысяч человек – задраили в старых нефтеналивных баржах, отбуксировали в Белое море и утопили. Мне об этом рассказывал один анархист, сидевший в эти годы в Соловках и слышавший, как в выводимых буксирами баржах русские люди сами себя отпевали. А анархист этот случайно выжил и, спившись, умер от инфаркта во время очередного похмелья.
Когда знаменитого в Ленинграде и во всем распадающемся СССР престарелого академика Лихачева еще молодым человеком чекисты посадили в Соловки, то вид бравого гвардейца Курилки его вверг в шок. Происходя из купеческой семьи старообрядцев-федосеевцев, Лихачев не любил ни русского царя, ни царских офицеров, презрительно называвших штатских “штафирками”. И то, что в красном лагере тогда командовали белые, его, несомненно, оскорбляло.
Академика Лихачева команда Горбачева очень умело использовала, прикрывая им свое немыслимое воровство. В бесконечные сериалы “бандитского Петербурга” с семьей Собчака и всех прочих нынешних “питерцев” академик Лихачев очень даже хорошо вписывается как политически дураковатый, выживший из ума интеллигент и свадебный генерал, почему-то решивший, что вдруг вот так, за здорово живешь, бывшие коммунисты будут возрождать традиционную Россию, а он будет обучать матерых воров и бандитов идеалам русского гуманизма и народнического правдолюбия. Лихачева держали в собчаковской конюшне как козла для успокоения маразменной советской телепублики, которой он часами рассказывал свои байки про тюрьмы и лагеря, подслеповато предсмертно щурясь и уговаривая своих слушателей не делать людям зла. Ни разу Лихачев ни на кого не гавкнул и не окрысился из своей слежавшейся и пропахшей гниющими книгами норы и только все время всему умилялся. А ведь совсем не наивен был, между прочим, старичок, мог бы и гавкнуть, но рот его был очень давно, со времен соловецкой юности, заколочен гвоздями-сотками.
На эту же роль политического дурачка перестроечники подобрали только еще одного русского интеллигента – литературоведа Карякина, однажды знаменито возопившего: “Россия, ты сошла с ума!”, когда Жириновский набрал огромное число голосов на выборах и пьяный ходил по телецентру и раздавал подзатыльники. А все остальные – только циники и приспособленцы, сменившие хозяев и агитпропов.
Да и не очень-то все поменялось на Старой площади, скажу я вам, господа. Немцы, когда оккупировали Брянскую область, тоже не спешили разгонять колхозы и старое партийное руководство – это я знаю от старожилов, переживших все это. Просто председателей стали именовать бургомистрами и старостами – и вся небольшая разница. Братья же Курилки были слеплены совсем из другого теста, чем Лихачев и Карякин, которых скорее жаль, как повапленных паралитиков, которых подложили к молодым блядовитым бабам и заставили изображать из себя полноценных мужиков, склонных к нескончаемым политическим совокуплениям, как индийские божества, публично дерущие в зад не только обезьян, коров и крокодилов, но и друг друга.
Сейчас на политической плешке вообще нет ни одного политического идеалиста с незапятнанной биографией, и это основной определяющий знак нашего времени. Когда-то Черчилль бесновался на Ганди, приехавшего в туманный холодный Лондон босиком и в белых подштанниках. В современной России таких явлений ждать не приходится. Курилко был способным графиком немецкого толка – на него, несомненно, повлияли и Дюрер, и средневековые рисунки. Он покупал в Европе и России старинные рамы, особенно любил овальные, заказывал под них подрамники, натягивал на них телячий пергамент, на котором рисовал и раскрашивал свои картины-рисунки. Я помню две его работы – двойной портрет дамы в молодости и в старости и поясное изображение молодой обнаженной женщины, которую сзади щупает за стоячие, как детские членики, соски большой упругой груди улыбающийся скелет. И по скелету, и по женщине ползают какие-то жуки и бабочки. Все сделано очень тонко, похабно, изящно, орнаментально и в чем-то похоже на работы раннего Филонова. По любви к проработке деталей Курилко был вообще очень талантливый и изобретательный человек. Он завел себе похожего на тигра огромного рыжего кота и раскрасил его несмываемыми химическими красками под этого зверя. Кот долго гулял по крышам домов за Большим театром, возвращался к хозяину в форточку. Но потом его за редкую окраску украли и пропили гегемоны. У русских гегемонов вообще любимое занятие украсть чужого породистого кота, продать его на птичьем рынке и напиться водки на котовые деньги, лыбясь, как параши, на свое везенье и редкую удачу.
Очень многие мужчины из “бывших”, уцелевшие и прижившиеся при большевиках, были почему-то ужасно похабными и предприимчивыми по женской части. Я думаю, это оттого, что они очень хорошо знали, что все их сверстники по гимназиям, корпусам и лицеям давно лежат в расстрельных могилах с разбитыми черепами, а они еще могут выпить водочки с красной рыбкой и пощупать за зад и остальные места тупых, как коровы, простонародных славянских баб. Уцелевшие женщины их круга уже очень давно, с самого семнадцатого года, лежали под комиссарами, и лежали и дрыгались вполне добровольно, за жирные харчи и дорогое тряпье, а их мужчинам достались вместо них их кухарки.
Курилко когда-то окончил в Австро-Венгрии иезуитский колледж, чем очень гордился, и внешне в старости был весьма породист и готов для съемок в кино в роли отрицательного европейского персонажа преклонного возраста. Его вместе с внучкой написал ученик Кардовского Ефанов, блестящий светский портретист типа Цорна и нашего Серова. Портрет получился красивый.
Курилко рассказывал, что глаз он потерял на дуэли. Но на самом деле глаз ему выбили матросы в каком-то портовом публичном доме. Было это еще до революции, и на курилковской даче в Малаховке висели двойные парадные портреты одноглазого, как адмирал Нельсон, хозяина и его красивой жены, дамы общества. Портреты писал гений Петербургской академии Беляшин, огромный мужчина, гасивший струей мочи газовые фонари на улицах Петроградской стороны и умерший, как Рафаэль, от излишеств в дешевом публичном доме, которые он по тогдашней моде откупал один на неделю. Впрочем, так делал не только он, но и поэт-символист Блок, тоже откупавший подобные заведения на Островах, откуда возвращался потом к жене и маме, посиневший и ослабевший, как паралитик.
Все академисты тогда на бесконечных линиях Васильевского острова постоянно пили пиво и посещали проституток и гордились своими подвигами, покрывая этих жертв общественного темперамента.
Курилко был одним из героев подобного образа жизни, но, в отличие от “плебеев” типа Беляшина, он пил только коньяк Шустова. Он, не стесняясь меня, мальчика, рассказывал свои бордельные истории, говоря при этом, что ребенку надо привыкать к проституткам с детства, и вспоминал, что частенько слышал из соседнего номера аплодисменты подглядывавших за ним через особые глазки в стенках старичков-импотентов.
Почему-то я не помню жены Курилко, возможно, она уже тогда умерла. У него был еще сын Миша, потерявший на фронте левую руку, довольно заурядный театральный художник, смазливый и, во-видимому, просто приспособленец без особых выкрутасов. Миша унаследовал все отцовские связи и его место в Суриковском институте.
Я не раз бывал с папашей на даче Курилко и помню увитый диким виноградом довольно средненький шлакобетонный дом и ухоженный участок с цветами. Курилко любил возиться в саду, и вообще в быту он был простой незатейливый старик с сухой немецкой внешностью аристократа. Он мог прочитать целую лекцию об использовании им человеческого говна в качестве удобрения и все время готовил кучи компоста. Человек он был не очень богатый, имел в коммуналке Большого театра комнату с низким мансардным окном и дачу в Малаховке и не принадлежал к партийной элите, несколько его опасавшейся ввиду в общем-то чуждого им всем политического душка, которым от него попахивало.
На даче у Курилко была большая гостиная с камином, ковром на полу и хорошим роялем. По бокам камина висели парные портреты Беляшина и его автопортрет в стиле позднего Рембрандта. О Беляшине Курилко мог говорить подолгу. Его личность, по-видимому, его когда-то поразила.
Беляшин был крайне прост в быту, называл свою мастерскую храмом искусства, мало кого туда пускал, вытирал фузу с палитры прямо о стены, счищая ее мастехином; пищу готовил себе в эмалированном ночном горшке, куда периодически и гадил. Летом на академической даче он ходил на этюды голым и, купаясь, вешал на свой огромный член одежду и ботинки. Когда он умер, перетрудившись в борделе, его хоронила вся академия как своего героя и лидера. Все эти академические “гении” были смолоду чистейшими музейщиками, и их всех воспитал Эрмитаж, копии с картин которого входили в их программу. Всех авангардистов они ненавидели с раннего возраста и считали их попросту жуликами и шарлатанами.
На даче Курилко мне запомнился голландский комод семнадцатого века с потерпевшего кораблекрушение торгового парусника, найденный им в одном из поморских сел Архангельской губернии. До революции Курилко ездил по русскому Северу и скупал старые иконы для государева Федоровского собора в Царском Селе, куда он, в частности, продал за четыре тысячи золотом царские врата XV века. Очень оборотистым и хитрым был этот австрийский голубой гусар, и прижился он при большевиках отнюдь не случайно. Курилко, несомненно, имел литературное и актерское дарование и был автором устных новелл и рассказов, наверное, позабавнее Ираклия Андроникова, которого хорошо знал и говорил о нем, что он родился в купели старца Распутина и роды у его матери принимали Манусевич-Мануйлов и Симонович. По-видимому, он знал подлинную биографию этого красноречивого господина. Отец мне говорил, что у Репина есть шикарный портрет красивой еврейской банкирши – и она и является матерью Ираклия Андроникова. Я знаю от общих знакомых, что Андроников умер вскоре после того, как его любимая дочь выбросилась из окна, при падении напоролась животом на бетонный столб осветительного фонаря и ее разодранный труп несколько часов (трудно было снять тело) маячил под окнами андрониковского кабинета. И сам столб еще долгое время был в крови несчастной, пока дождь и снег не смыли следы трагедии.
У Курилко был значок лауреата Сталинской премии, которую он получил вместе с композитором Глиэром за балет “Красный мак”. Сталину нравился этот балет на революционную тему, где описаны события в Китае. Курилко со свойственным ему остроумием рассказывал об очередном заседании в Большом театре, на котором партруководство, как всегда, плакалось, что нет балета на современную тему. И тогда Курилко достал “Вечернюю Москву”, прочитал вслух заметку о том, как белокитайцы захватили советский пароход, и обещал начальству за неделю написать сценарий на эту тему. Это, конечно, лучше, чем, как Тихон Хренников, ставить оперу “Мать” по Горькому (об этой опере москвичи говорили: “Слова матерные, музыка – хреновая”) или плясать балет о Зое Космодемьянской, где ее среди прыжков вешают на сцене.
Перед войной Михаил Иванович заведовал кафедрой рисунка Московского архитектурного института на Рождественке в бывшем Воронцовском особняке школы Баженова, где до революции размещалось Строгановское художественно-промышленное училище. На кафедре тогда преподавали одни дворяне, среди которых не было ни одного члена ВКП(б). Среди них – породистый длинноусый хохол Грониц из малороссийской шляхты; мой папаша – внук генерала, женатый на дочери генерал-лейтенанта; некто Поздняков, дядя которого воевал у белых; некто Сахаров, дядя которого, генерал Сахаров, воевал у Колчака. Этот Сахаров к тому же был женат на дочери художника Поленова Наталье Васильевне. Поленовы тоже из дворян и при большевиках прятали у себя “бывших” и белых, среди которых была старуха баронесса Врангель, мать белого вождя, которую потом переправили за границу.
И вот в разгар летнего наступления немцев на Москву Курилко собрал заседание кафедры только из дворян, предварительно заперев рисовальный класс на ключ, и обратился к ним с речью: “Господа, скоро немецкая армия войдет в Москву, дни большевизма сочтены. Нам надо обратиться к канцлеру Гитлеру – он ведь тоже художник – с обращением, что мы, русская интеллигенция, готовы создать художественную организацию, подобие академии, которая бы обслуживала немецкую армию. К нам присоединятся многие. Надо также составить списки заядлых коммунистов, чекистов и евреев. Красная армия скоро повернет оружие против большевиков, и мы должны стать прогерманской страной”. От такой речи, как рассказывал мне папаша, все испуганно замолчали, и за всех выступил профессор Грониц, сказавший: “Да, все мы боимся коммунистов и евреев и не пускаем их в свой коллектив как потенциальных доносчиков НКВД. Но ваши идеи, Михаил Иванович, довольно неожиданны для нас, и мы должны их тщательно обдумать”. На этом все подавленно разошлись, испуганные происшествием. Никто к Курилко после этого разговора не подошел, и он о своей речи больше не вспоминал. Никто, конечно, не донес, и все сделали вид, что ничего не произошло. Папаша рассказал мне об этой истории, когда я уже вырос и Курилко давным-давно умер (а жил он очень долго).
У Сахаровых-Поленовых мы с мамой и бабушкой по матери спасались в Поленове и Тарусе зимой сорок первого и пережили нашествие и воров, румын и венгров, и финских лыжников, и самого кадрового вермахта. Это было первое яркое впечатление моей жизни: танки с крестами, каски с рожками, офицеры с шитыми серебром и золотом мундирами, с железными рыцарскими крестами. И – первое немецкое рождество в офицерской компании, куда нас пригласили как семью русского генерала, воевавшего с ними в Первую мировую. Мама на несколько дней вспомнила немецкий, которому ее учила фрейлейн Минна, высланная после 1 августа 1914 года в Германию.
Речи, подобные той, что произнес Курилко осенью сорок первого, произносились во многих культурных московских квартирах. Люди ждали немцев, надеясь на освобождение от большевистского ига. Но Красная армия не повернула своих штыков против большевиков и Сталина, как рассчитывал Курилко. Чувство у тогдашних интеллигентов было двойственное – большевиков они ненавидели, а немцев не любили и им не верили.
Кстати, Альфред Розенберг надеялся на то же, на что и Николай Иванович: что русский народ, получив оружие, повернет его против своих правителей, как это в свое время сделали солдаты царской армии, перебившие своих офицеров и вставшие на сторону немецкого шпиона Ульянова-Ленина.
Поначалу все складывалось по Розенбергу: и на Дону, и в Курске немцев встречали с цветами, а потом это дело разладилось насилием как со стороны самих немцев, так и со стороны переодетых в немецкую форму чекистов, убивавших местных пронемецки настроенных жителей. Не будь этих эксцессов, вермахт дошел бы до Урала, почти не встречая сопротивления. Надо учесть, что Россия никогда не была антисемитской страной, как Польша и Украина, где сами поляки и украинцы взяли на себя роль истребителей и ловцов своих евреев. Я еще помню времена, когда в русских деревнях вообще не знали и не видели евреев. Антисемитизм был только в крупных городах и то только среди образованных людей.
В “Красной звезде” тогда постоянно публиковались стишки и статейки со словами “Убей немца”. Это говорит только о том, что сталинской системе с большим трудом удалось всерьез и насмерть стравить два народа и благодаря этому уцелеть самому. В начале войны русские люди всерьез сомневались: под кем им будет легче жить – под Сталиным или под Гитлером, и, поведи себя немцы в России, как во Франции, многое было бы по-другому. Об этих русских колебаниях никто никогда и нигде не писал, тема по сей день наглухо закрыта. А ведь все это было, и культурная Москва сорок первого ждала немцев. В сталинской Москве, кроме Архитектурного института, было еще два центра, где кучковались “бывшие”, склонные к реалистической живописи. Одним из таких центров была мастерская художника Василия Николаевича Яковлева. Он происходил из очень богатой купеческой семьи, мужчины которой усиленно предавались неудержимому и неукротимому блуду. Отец Яковлева постоянно говорил: “Со всеми женщинами сойтись невозможно, но к этому надо стремиться” – и посему постоянно посещал дорогие бордели и содержал особо умелых и шикарных проституток на особых квартирах с зеркальными потолками и стенами. При всем при том он был крепкий семьянин, был очень религиозен и гордился тем, что ежедневно, кроме постных дней и постов, до самой глубокой старости огуливал свою жену и, по словам сына, залезал на нее даже уже трясущимся после паралича, придавая этим актам библейский характер. А укладываясь с женой в постель, обязательно цитировал Писание. В доме купцов Яковлевых всюду стояли цветы и пальмы, по углам горели разноцветные лампады и поблескивали в позолоченных и серебряных ризах иконы. После революции Яковлевых разорили. Дядя Василия Николаевича зарыл в лесу очень много золота и драгоценностей, а когда через несколько лет пришел его откапывать, то не нашел своего клада и повесился на ближайшем суку, забравшись на пенек.
Яковлев смолоду учился в школе живописи и у Серова, и у Коровина, научился писать пленерно, но люто возненавидел и Морозова, и Щукина, и своих учителей, и французских импрессионистов, задолго до Геббельса, Гитлера и Жданова считая их вырожденцами и извращенцами, вспоминая иногда о еврейских корнях Пикассо и Матисса. Впрочем, в быту Яковлев не был антисемитом и с евреями общался нормально и даже имел еврейских любовниц, ценя их южный пыл и умение. Еще учась в московской школе живописи, Яковлев начал копировать голландцев и фламандцев. Особенно он любил Снайдерса, Рубенса и Иорданса. В деле подражания он добился огромных результатов, был своего рода гением имитаций, причем мирового масштаба. Подделками он начал заниматься еще до революции, сбывая их купцам. Страшный разврат отца и вечная бордельность его существования раздражали молодого Яковлева, и он, обладая огромным сексуальным темпераментом, решил жить морально чисто, рано женился и эротически, по-молодому любил свою жену. Женился он на дочери московского портретиста Мешкова, красивой голубоглазой блондинке с ненасытным темпераментом под стать своему супругу. Яковлев, как и Рубенс, часто писал жену голой в постели с кроликами, кошками и маленькими собачками в руках. Портреты были шикарные, но отдавали борделем. Близкие звали его супругу Катькой. Ее отец, Василий Никитович Мешков, рисовал на французском ватмане углем и соусом прекрасные большие портреты, которые чуть подкрашивал растертой сангиной, и крепко пил водку. Рядом с его мольбертом всегда стоял ящик с водкой. Писал он также портреты маслом, но несколько хуже, чем углем. Однажды Василий Никитович писал портрет Качалова, и в процессе работы они вместе пили водку. Когда оба протрезвели, выяснилось, что портрет написан зеленой краской. Оба сильно смеялись... Качалов-Шверубович происходил из польско-белорусской шляхетской семьи, вся родня – царские генералы и полковники.
Носил Василий Никитич всегда пестрые ситцевые рубашки со стоячим воротником на мелких пуговичках. До туалета он не доходил и мочился – порой прямо при посетителях, не стесняясь и дам, в ведро, стоявшее в углу комнаты. А труся к ведру, по-детски приговаривал: “Пи-пи, пи-пи, кака-кака...” При большевиках Мешков как-то прижился, подружившись с Калининым, который организовал ему мастерскую прямо напротив Манежа, где у него самого была приемная. Калинин попринимает-попринимает посетителей – и к Мешкову пить водочку под кислую капусту и клюкву, которые ему завозили бочонками.
Антисемитом Мешков не был, но красный Кремль называл жидовским клоповником. В ранние годы Калинин водил его в некоторые кремлевские квартиры, и Мешков, отправляясь туда, надевал купленный на барахолке старый поношенный еврейский лапсердак и черную кипу-ермолку. Бороду он имел чудовищную и вид в еврейской одежде имел совершенно дикий. Кремлевская охрана его пугалась. Конечно, Мешков был совершенно антисоциальный тип и предвосхищал выходки Зверева в домах московских дипломатов (рисуя портреты посольских жен, тот время от времени мочился на разложенную на полу бумагу, размазывая акварель и тушь мочой). Я знал одну латиноамериканскую даму, рисуя портрет которой Зверев периодически извлекал из брюк член, тряс им над мольбертом и даже размазывал им краски. Дама была в ужасе, но ее муж только посмеивался и велел терпеть, говоря, что у московских авангардистов именно такие привычки и это входит в цену за портрет.
Сам Мешков был очень интересным и оригинальным собеседником, иногда его, как зверя на цепи, водили к Бухарину, и тот подолгу с ним говорил, хохоча над его старомосковскими байками и побывальщиной. Из всех кремлевских владык “Бухарчик”, как его называл Ленин, мне особенно противен, так как он особенно презирал славян и все русское. Хотя сам был русским, в злобе к России перещеголял всех. Особенно скандален был визит Мешкова к Кларе Цеткин. Перед обедом Василий Никитич снял ермолку, долго глядел по углам в поисках иконы и, не найдя, встал на колени и долго истово крестился на купол Ивана Великого, который был виден из окна.
У Мешкова была дача, где он держал ульи и как-то объяснял Калинину, что если тот вставит свою голую кремлевскую жопу в леток, то пчелы его покусают и у всесоюзного старосты будет лучше стоять. Калинина Сталин в глаза называл за бородку клином “наш крестьянский козел” и старался напоить в лежку. Как и многие кремлевские владыки, Калинин шарил по темным получердачным комнатенкам балерин Большого театра, хотя сам для блуда ослабел чреслами. Поэтому и бегал к Мешкову, терпел все его выходки и подставлял свой зад пчелам – для яровитости.
Брак Василия Яковлева с его любимой Катюшей Мешковой был вдребезги разрушен, когда с германского фронта вернулся блестящий гврдейский офицер Петр Митрофанович Шухмин. Он был смел, за Галицию имел офицерского белоэмалевого Георгия и с первого взгляда влюбился в Катеньку. У них сразу же завязался бурный роман, но до брака дело не дошло, так как Шухмина послали на Восточный фронт воевать с Колчаком (он, как и многие кадровые офицеры, изменил присяге и стал служить красным). Вернувшись с фронта, Петр Митрофанович написал на грубой мешковине огромную картину “Приказ”, на которой красный командир читает приказ кавалеристам. Морды и у командира, и у рядовых красноармейцев совершенно зверские и, по-видимому, правдивые. Поперек картины проходит шов от сшитой мешковины. После этой картины Шухмин стал классиком советской живописи, однако, хотя он и изменил и нанялся служить красным, ему в большевистской Москве стало тошно, и он по примеру Мешкова стал сильно пить водку. Петр Митрофанович учился в Императорской анадемии художеств в Петербурге, очень сильно рисовал и был сухим, немецкого типа художником, но с налетом экспрессионизма. Палитру Шухмин имел светлую, и современная чернота его картин произошла из-за потемнения масляной краски, вообще склонной к почернению. Кто видел картины того же Сурикова после их написания, свидетельствовали, что вначале они были довольно светлыми, а потом почернели. Секрет в том, что нельзя писать тени холодными красками, примешивая в них окись хрома и ультрамарин. Все светлые художники писали тени на прозрачных землях, а потом лессировали их жженой костью. Я сам одно время подделывал на старых картонах и дациаровских холстах художников XIX века под старинные рамы и знаю, о чем пишу. Вся Третьяковка XIX века почернела, весь Барбизон почернел, а вот кто тени писал впротирку, как Александр Иванов и Ге, у них в картинах до сих пор светло.
Шухмин был петербуржец и помещик и любил писать картины из жизни Гоголя и натюрморты из цветов и фруктов. Он так и спился и умер с похмелья возле мольберта с кистью в руке. С Василием Яковлевым они дрались из-за Кати Мешковой, но Шухмин был гвардеец огромного роста, весь в шрамах от Первой мировой (он любил ходить в атаку в полный рост с одним револьвером и с сигарой в зубах). И он в конце концов вытеснил Яковлева из Катиной постели. Шухмин один раз даже впрямую грызся с Яковлевым, и они сильно покусали друг друга, как собаки. В последние годы Шухмин страдал запоями, и его периодически возили в психиатрическую больницу. Одна знакомая все уговаривала его съездить к ней на дачу под Звенигород, рассказывая, как там распускаются цветы и поют птички. Но Шухмин ей мрачно заявил: “Пока есть Канатчикова дача, я на другую дачу не поеду”. И не ездил, регулярно употребляя водку.
Точно так же, у мольберта, над ящиком спиртного, умер Василий Никитич Мешков. У него помимо дочери остался сын, Василий Васильевич, тонкий пейзажист русской школы. Он тоже носил бороду, но стриг ее и менее чудил, чем отец. Его сделали академиком, и его пейзаж “Сказ об Урале”, за который он получил Сталинскую премию, висел в Третьяковской галерее. Мешков-младший постоянно ездил на Урал писать этюды, останавливаясь в самых дорогих гостиницах, и любил по семейной привычке мочиться с балкона на головы граждан (из-за чего у него были постоянные неприятности, его штрафовала милиция, но унитазы и писсуары он так и не полюбил).
Василий Васильевич алкоголиком не был и водку почти не пил, но прожил недолго, в отличие от своего отца-долгожителя, скончавшись от обжорства и ожирения (он поедал котлеты целыми сковородами).
Расставшись с женой, Василий Яковлев стал еще более успешно копировать старых мастеров и постигать тайны их живописи. В это время в Москву приехали братья Хаммеры и начали скупать старую живопись и антиквариат. Кто-то из знакомых, глядя на копии-вариации Яковлева, предложил продать их Арманду Хаммеру как подлинники. Яковлев накупил старых холстов с незначительными, плохо сохранившимися картинами и стал на них писать снайдерсов, рубенсов и рембрандтов. Ему помогал знакомый Курилко по Петербургской академии Александр Михайлович Соловьев. Так вышло, что все “бывшие” и академисты держались в послереволюционной Москве кучно и ходили в один недорогой трактир в переулке около Тверской, где совместно ужинали и пили пиво. В советской Москве двадцатых годов им всем было неуютно. Тогда свирепствовали последователи Маяковского и различные новые школы: конструктивисты, супрематисты, русские сезанисты, среди которых было достаточно евреев, да и сам покровительствовавший им Луначарский был полуевреем, а его жена Розенель была чистокровная еврейка. А среди академистов евреев вообще не было (я не помню ни одного из стариков с еврейскими чертами лица) и господствовало полное и органичное презрение ко всем левакам в поэзии, театре и живописи. Для них фамилии Пикассо, Штеренберга, Фалька, Мейерхольда звучали как матерные, их всех считали просто шарлатанами и осквернителями священного искусства. Большинство академистов происходило из русских семей либеральной интеллигенции, где юдофобство всегда было дурным тоном, но вот красных евреев все эти господа искренне презирали. Да что там говорить, я дома, от дяди – бывшего царского офицера – сам слыхал офицерскую поговорку семнадцатого года: “А вот и революции плоды: кругом жиды, жиды, жиды”. Яснее ясного, и точнее не скажешь.
В компании академистов иногда бывал и писатель Булгаков, который тоже не любил красных евреев, хотя всю жизнь общался только с ними и путался с еврейскими женщинами, на руках одной из которых и умер. Елена Сергеевна Бакшанская и ее сестра были очаровательными полукровками. Описание Булгаковым Швондера и прочих еврейских персонажей довольно-таки симптоматично и точно выражает тогдашний душок в отношении старой русской интеллигенции, оставшейся в России и не сбежавшей к белым, к евреям и связавшимся с советской властью. К сожалению, эта тема по-прежнему актуальна, так как среди активистов и оттепели, и разрядки, и перестройки было много детей и внуков ленинских евреев, которые почему-то слабо открещиваются от своих родственников. Я пишу об этом спокойно, потому что давно для себя пересмотрел русскую историю и отношусь к своей белой родне более чем скептически и даже более того – считаю их людьми политически тупыми. Булгаков тоже не антисемит – он дитя своего времени и обстоятельств, среды, в которой он делал свою достаточно подлую карьеру интеллигентского писателя левоватой ориентации. Ведь то же белое движение было в своей массе не правым, а умеренно левоватым и не допускало представителей семейства злосчастных Романовых под свои знамена в любой должности.
Яковлев искал в близкой ему компании сообщника по сбыту своих подделок и нашел такового в лице Соловьева, который, кроме обучения в Академии у Кардовского, прошел всю белую кампанию в войсках адмирала Колчака.
До Академии Соловьев учился в частной школе-студии Фешина в Казани. Его родители дворяне были потомками декабриста Соловьева. Отец Александра Михайловича занимал должность управляющего делами Казанского университета, мать происходила из родовитой русско-немецкой семьи. Вначале Соловьев увлекался французской борьбой, потом атлетикой и любил фотографироваться в голом виде в качестве натурщика, слегка прикрыв чресла драпировкой. У него была огромная двухметровая атлетическая фигура, серые глаза навыкате, чуть курносый нос со слегка раздвоенным на конце хрящом и что-то бульдожье в лице. В чем-то Соловьев был похож на Капицу-отца, но покрупнее и повиднее. У Соловьева в Казани был брат, они оба закончили юридический факультет тамошнего университета, а потом младший брат занялся живописью и переехал в Петербург. Я этого, ныне давно умершего, человека любил и люблю по сей день, хотя мне доподлинно известно, что он был отпетой кровавой сволочью и лично непорядочным человеком, многих сознательно подведшим под расстрел, хотя мог этого и не делать.
Мое чувство к нему довольно сложно. Главное, чему он меня научил, – считать всех убежденных и системных людей мразью и сволочью, а советскую власть – бандформированием. Все остальное вторично – и вечный запах его дорогих папирос, водки, хорошего одеколона, и ощущение себя в России хозяином наших пространств. При всем том я его всегда презирал, как и всех легко убивавших и не задумывающихся над этим людей. Потом Соловьев был опасен, я и сам всегда был опасен, если меня начинали прижимать и давить. Но больше всего я всю жизнь боялся самого себя – чтобы не сорваться.
Соловьев и его брат были призваны в армию КОМУЧа (Комитета учредительного собрания) и воевали с красными. Брата убили, а Соловьев выжил и перешел к Колчаку. Соловьев рассказывал, как красные, уходя, расстреливали пленных офицеров, сидевших в подвале, среди которых был он сам. Выводили во двор и убивали, а потом бросили в окно подвала гранату, которую Соловьев поймал на лету и вышвырнул обратно. Когда стрельба затихла, Соловьев вылез из подвала и увидел часового-красноармейца, испуганно спросившего у него: “Что делать, барин?” “Бросай винтовку, срывай звезды и беги, дурак!” Что тот немедленно и сделал. Потом, разыскивая тело брата, Соловьев зашел в городской морг, где лежали трупы допрашивавших его чекистов. Брат тогда уцелел, а товарища Соловьева по университету расстреляли (незадолго перед расстрелом тот отдал ему свои золотые часы и сказал: “Прощай, Саша! Если выживешь, убивай их, как крыс!”). Выпив водки, Соловьев мог часами рассказывать о своей службе в армии КОМУЧа, менее охотно – о колчаковской эпопее, так как участвовал в карательных экспедициях против красных партизан, в ходе которых, видимо, много убивал. Однажды он рассказал, что они любили вешать красных рядом с овцами – для того, чтобы унизить. Вспоминал он и о том, как в салон-вагоне Колчака писал с натуры портрет командующего (этот портрет потом копировали для колчаковских учреждений) и давал уроки живописи сожительнице Колчака княжне Тимерёвой, о которой отзывался как об очень скромной и достойной даме, игравшей для него после сеансов его любимые мелодии Шуберта, которые Соловьеву играла в Казани мать-немка.
Вместе с Соловьевым писал портрет Колчака белый офицер Борис Владимирович Иогансон, потомок шведского генерала, служившего России и воевавшего при Бородино. Иогансон стал потом академиком, президентом Академии художеств и написал Соловьева со спины в известной картине “Допрос коммунистов”. Допрашивали и избивали красных Иогансон и Соловьев вместе. Соловьев завидовал советской карьере Иогансона, называл его Борькой и рассказывал о нем всякие гадости вроде того, что при отступлении белых он обокрал свою любовницу, похитив у нее золотые вещи. Это вполне могло быть правдой, многие белые были большими ворами, и казаки генерала Мамонтова во время летнего наступления Деникина от Орла только потому не взяли Москву слету и не повесили Ленина с Троцким, что стали грабить богатый купеческий город Козлов, сдирать с икон ризы и срывать часики с женщин.
Гражданская война в России – это прежде всего разливанное море уголовщины, так как в ряды противоборствующих сторон вливается масса профессиональных и потенциальных уголовников. Если Красная армия была вообще чисто уголовным сбродом, руководимым международными каторжниками, то и белые были наполовину бандформированием, где на каждого идеалиста приходился один чистый бандит в погонах. Деникин, человек глубоко порядочный, так и не смог очистить свою армию от грабителей и с горечью называл ее “кафешантанной”.
В Омске, колчаковской столице, в кафешантане танцевал и пел женский хор, и среди певичек была некая Нина Константиновна, пухленькая, хорошенькая, изящная брюнетка с примесью армянской крови. Они с Соловьевым искренне полюбили друг друга и повенчались в Омском кафедральном соборе. На свадьбе присутствовал даже сам генерал Сахаров, которого за его тупость военный министр Колчака барон Будберг, дальний родственник моей бабушки по отцу, называл “бетонноголовым”.
Первая жена Соловьева была чисто русская дворянка и родила ему дочь – всю в отца, сероглазую, крупную, серьезную. Она стала военным хирургом и перебралась из Казани в Москву. Отец первой жены Соловьева, инженер, командовал землечерпалкой, очищавшей фарватер Волги, и роман Соловьева развивался на тогдашних пароходных самокатах. Соловьев – в белой студенческой форме с золочеными пуговицами, его невеста – в холщовом кружевном платье и огромной соломенной шляпе. Потом землечерпалка добралась до Казани, и два седобородых господина – отцы этой пары – наконец познакомились. Сыграли свадьбу. Но все кончилось очень плохо: первая жена Соловьева умерла в психиатрической больнице.
Нина Константиновна рассказывала мне, что все колчаковские офицеры, посещавшие их кафешантан, вели себя пристойно, а вот приехавшие в Омск американцы, подвыпив, бросали в актрис апельсинами.
Она была житейски умной, хитрой и ловкой женщиной и наверняка устраивала Соловьева как любовница. Брак их был примитивно, по-животному счастливым (если при большевиках хоть какой-то брак может называться счастливым). Впрочем, у крепостных и рабов тоже, говорят, бывают счастливые браки и родится много детей, удел которых, как и их родителей, – всю жизнь сидеть на цепи и работать на своих хозяев.
Соловьев служил у Колчака до самого конца, вместе с остатками его армии отступал в Бурятию и Монголию, но в Китай решил не уходить. Во время сибирского зимнего отступления его конь был рядом с конем, на котором замерзший труп генерала Каппеля отступал с его армией. Соловьев рассказывал мне ужасающий случай, когда белая часть ночью в лютый сибирский мороз вступила в сибирский городишко и жители, не знающие, кто к ним вторгся, не открыли дверей и ставень, и всадники замерзли. Особенно страшны были утром замерзшие кони, грызшие перила и штакетник палисадников.
Когда белая эпопея в Сибири завершилась, Соловьев достал липовые документы, отпустил бороду и решил пробираться в большевистскую Россию. Как коренному волжанину ему было скучно за границей, он не захотел мыкаться у чужих господ (“Здесь шумят чужие города и чужая радость и беда” – как пел Вертинский).
Объявившись в красной Москве, Соловьев подвизался вначале вышибалой в трактирах и пивных, вошел в бандитские сообщества, грабил и избивал нэпманов. Его стали бояться – лапа у него была огромная, кулаки железные, удар – ужасающий. Боксу и борьбе он научился в Казани, где любил во время зимних кулачных боев сокрушать целые татарские ватаги и кулаками проделывать проходы среди дерущихся, не задумываясь калеча людей. Становиться бандитом Соловьев не хотел, он вообще глубоко презирал уголовников и поучал меня в юности: “Лешенька, приличных людей здесь почти не осталось, одна шпана снизу доверху”. Я так подробно пишу о Соловьеве, потому что он был генератором поворота в советском изобразительном искусстве и захвата художественных вузов бывшими дворянами и академистами. У него, несомненно, был ораторский талант, он знал два иностранных языка (немецкий от матери и обязательный тогда французский). И победи тогда Колчак, которому Соловьев был лично симпатичен, вполне возможно, он возглавил бы какие-то отделы культуры и стал общественным деятелем.
В Соловьеве все вообще было подлинно: и дворянство, и Казанский университет, и школа Фешина, и Петербургская академия художеств, и участие в армии КОМУЧа, и служба у Колчака и генерала Войцеховского, которого он тоже хорошо знал. Был у него и общественный темперамент, и умение работать с художественной молодежью, которую он любил обучать своему ремеслу. А то, что он решил жить и стал сотрудником Лубянки, доносчиком и предателем, – я всего этого в молодости долго не знал, и он, несомненно, на меня влиял когда-то. Влиял он и на моего отца, и на всех, с кем сотрудничал, кого любил и с кем дружил. Это был потенциально крупный человек, но весь вымазавшийся в человеческой крови – за ним были сотни и сотни трупов: и те, кого он покосил из пулеметов, зарубил и заколол в боях, и те, кого он предал в красной Москве, донося и подводя под расстрел.
В Москве вместе с Соловьевым оказался и Борис Иогансон, тщедушный швед, ставший маркёром в бильярдной и подносивший им водку и пиво. Он, по-видимому, тоже был завербован чекистами. Расставшись с уголовниками, Соловьев начал рисовать портреты прохожих на московских бульварах. Там-то его и отловили чекисты – в основном из-за знания языков (Соловьев порой увлекался и начинал говорить с образованными клиентами на немецком и французском). И очевидно, перед ним встала альтернатива: или встать к стенке, или стучать на Лубянку на всех и вся. Короче говоря, они простили Соловьеву его белогвардейское прошлое, выпустили в большевистскую Москву, дали паспорт с его же фамилией и комнатенку в бывшем борделе на Трубной площади, разрешили выписать из Омска жену-актрисулю. И стали они на пару стучать. Страшная судьба, но Соловьев хотел жить.
Я, когда все это узнал, часто задумывался, как бы я повел себя, окажись в подобных обстоятельствах? Ну, во-первых, я бы не стал воевать ни у красных, ни у белых. Моя материнская казачья независимость не позволила бы мне стерпеть приказов ни с какой стороны. Казак может воевать только за абсолютную свободу, за отделение Юга России от позорной Московии с ее многовековым рабством, но не за старое, пусть и белое, рабство, схватившееся насмерть с новым красным рабством. Так что в шкуре Соловьева я никогда бы оказаться не смог. Я – последовательный сторонник не единой и неделимой, а казачьего южнорусского государства на землях донского и кубанского казачества, хотя племянник моего деда войсковой кубанский атаман генерал-лейтенант Филимонов и вешал в Екатринодаре на торговой площади вместе с генералами Покровским и Врангелем кубанских сепаратистов Рыбовола и Быча за попытку отделения Кубани от белой России Деникина. Да и к смерти я отношусь более чем просто и не боюсь ее во всех ее самых ужасных проявлениях. Потому и перестал охотиться и долго смолоду вегетарьянствовал – уж очень легко и ловко я убивал всякую живность и сам себе этим не нравился. И оттого позицию Соловьева не очень внутренне понимаю. А они все были молодые, хорошо кормленные, избалованные, дети тогдашних хозяев жизни, и захотели жить, пускай и позорно. Это ведь целое поколение русских дворян стучало на Лубянку и выживало, народив кучу детишек, таких же подлецов, как они сами. У Соловьева с женой детей, слава Богу, не было. Глаза у Нины Константиновны были южные, горячие, цепкие, жестокие, как у хищницы, и она зорко следила за тем, чтобы ее Саша не спился и не умер от водки, а заодно постоянно гладила его рубашки и костюмы, которые он постоянно пятнал пищей. Он у нее был холеный, как английский лорд.
Меня Соловьев приучил, ходя по Москве и по России вообще, всюду, не стесняясь, мочиться, но отворачиваясь от людей. Он мне так говорил: “Я, Лешенька, всю Россию от Урги до Москвы запрудонил” (простонародных слов на эту тему он как дворянин избегал). До глубокой старости он был способен так страшно ударить человека сверху по голове, что тот падал замертво и лежал без сознания минимум полчаса. Этому удару его научили в Казани лавочники в кулачных боях.
Соловьев, легализовавшись на Лубянке, по своей подлой работе доносителя часто сидел в ресторанах и избивал посетителей – особенно он не любил нэпманов и их толстозадых дамочек, танцевавших чарльстон и дергавших при этом седалищем. Сам он первым в драку не ввязывался, но если видел, что несколько бьют одного, то беспощадно избивал всех подряд. Один раз нэпманы накинулись на него всем рестораном, но его спас Качалов, спрятав в отдельном кабинете, где он в тот день гулял. Судя по всему, в этих кабаках и пивных Соловьев перезнакомился с другими бывшими белогвардейцами, ставшими доносчиками, и они создали своего рода союз, договорившись доносить только на убежденных красных, кавказцев и евреев, которых они люто ненавидели как своих бывших врагов на полях сражений.
Я часто ездил с Соловьевым в Верхнее Поволжье на этюды, и он мне проговаривался спьяну, как эти доносчики объединялись в офицерские пятерки и работали сообща, уничтожая красные кадры. Не знаю, не знаю, как к этому относиться, по-моему, лучше всего было лечь в психиатричку, мочиться в постель и прикидываться сумасшедшим. Соловьев говорил, что эти пятерки были связаны тем, что у тех, кто предавал, уничтожали их жен и детей, поэтому провалов не было.
На этюдах Соловьев хвалил меня за пастозную живопись. Писать светло, как Иогансон, Соловьев не умел, он все несколько темнил под стариков, а вот “Допрос коммунистов” и “На старом уральском заводе” Соловьев по старой колчаковской службе и дружбе сколотил Иогансону, умело прорисовав фигуры. В мастерской Иогансона никаких стуящих картин не было, портретов тоже, только пестрые букеты и салюты на Красной площади – все цветно, красиво, французисто и ярко. Рисовать фигуры Борис Владимирович фактически не умел. Иогансон по-своему отблагодарил Соловьева, выхлопотав ему мастерскую на Масловке, где тот и жил, не имея квартиры и передав комнатенку на Трубной своему товарищу.
Но Соловьев напакостил и на Масловке, отправив на расстрел нескольких убежденных коммунистов. Все советские художники его люто ненавидели и, шипя, называли белогвардейцем – это было тогда высшее ругательство и оскорбление. Сортир на Масловке был общий, и Соловьев туда ходить не мог: когда он закрывался в кабинке, художники обливали его из банки мочой. Кухня тоже была общей, но готовить там Нина Константиновна тоже не могла: жены художников подбрасывали им в суп дохлых мышей и толченое стекло. Соловьевы готовили пищу в мастерской на керосинке и там же приспособили рундук с сиденьем для отправления естественных надобностей.
Когда Соловьев проходил по масловскому коридору, его поначалу тоже норовили облить какими-нибудь помоями, но он быстро отучил соседей делать это своим особым ударом по макушке. А одного художника, писавшего исключительно доярок и дояров, он, предварительно выбив дверь его мастерской, швырнул так, что тот пролетел до наружной стены, сокрушая мольберты и холсты, и так приложился об стену, что неделю отлеживался после удара, слегка почернев. А один раз жена другого советского художника уколола Соловьева шилом в зад, за что Нина Константиновна, подкараулив, выдрала той волосы и до крови искусала плечи, о чем потом с гордостью рассказывала.
Со временем этот террор прекратился, но когда Соловьев проходил тяжелым шагом по коридору, двери многих мастерских приоткрывались и оттуда раздавалось шипение: “Предатель, белогвардеец!” А возьми Деникин Москву или перевали Колчак через Волгу, все было бы по-другому и был бы Соловьев героем. Впрочем, героем в русской революции никто стать не мог: в случае победы и белым бы пришлось отрывать рвы для расстрелянных, но, конечно, не в таких масштабах, как красным, превратившим убийство русских людей в спортивное развлечение.
Живя в маленьком номере борделя на Трубной, Соловьев вначале работал в “Гудке” и других периодических изданиях, где рисовал пером портреты всяких передовиков, и перезнакомился и с Олешей, и с Булгаковым, и с Катаевым, но языка общего с ними не нашел. Он-то был матерый белогвардеец, каратель и боевой офицер, а они, с его точки зрения, мелкая литературная сволочь, или околоармейский обозник, или лекарь, как Булгаков. Почему-то из них всех он всерьез полюбил только сына раввина Ильфа и радовался на его юмор и словосочетания.
Потом Соловьев стал преподавать в каких-то студиях и во вновь создаваемых большевиками учительских институтах. И в этом занятии он себя и нашел. В одном из таких учебных заведений он познакомился с моим тогда еще молодым папашей, полюбил его, звал Глебушкой и всячески опекал. Узнав, что он женат на дочери казачьего генерал-лейтенанта Абрамова, он полюбил всю нашу семью, целовал моей старухе бабке ручку и стал учить меня, несмысленыша, уму-разуму. Но я у него не всему научился, но почитал его долго и мысленно почитаю по сей день как крупного, во всех смыслах опасного зверя.
Он внутренне не разоружился, никому ничего не простил, хотя и служил красным, и поэтому был опасен во всех смыслах – физически, политически и морально. Затруби трубы – и он тут же выступил бы в поход против красного Кремля, они его духовно не сломали, а всячески осволочили. Он всегда, не говоря прямо, давал понять своим ученикам и близким людям, что власть советская – чисто воровская и бандитская по своей сути. Наверное, в вермахте и в СС тоже служили скрытые враги Гитлера и его рейха. Меня один раз Соловьев сильно стыдил за то, что я посмел назвать Николая I Николаем Палкиным: мол, как я посмел так отозваться о священной особе государя Николая Павловича? А я и сейчас считаю его тупым и подлым правителем, фактически подготовившим гибель России и династии Романовых.
По-видимому, Соловьев был лубянским ангелом-хранителем нашей семьи. Он говорил моим отцу и матери: “Пока я жив, вас не арестуют”. Соловьев успешно спаивал моего папашу, заманивая его в Савой, где у него был столик и знакомый официант. Когда мы ездили на этюды в Верхнее Поволжье в бывшее имение князя Гагарина в Конаково, Соловьев, увидев, что я с отрочества могу изрядно выпить, не дурея, спаивал и меня, своего молодого приспешника, помогавшего ему добраться до кровати, если он перепивал. В глухих деревнях Соловьев постоянно проваливался в ветхие крестьянские сортиры и давил задом хлипкие стулья и табуреты. Мы постоянно платили хозяевам за разрушенные отхожие места и мебель. Обычно я приносил какую-нибудь посудину побольше, и мы сколачивали из досок сиденье, чтобы он мог гадить дома. Один раз я даже раздобыл где-то бетонную ступу, которую мы днем закрывали фанерой.Даже в деревнях Соловьев ходил в бабочке и подтяжках, которых крестьяне до этого ни на ком не видели. Весил он в старости не менее 150 килограммов, но с дамами был очень подвижен и даже мог потанцевать при случае. Днем он, самозабвенно пыхтя и хрюкая, как Черчилль, писал этюды, а по вечерам, которые он любил проводить при свечах, воткнутых в бутылки, рассказывал мне о войне в Сибири и на Волге. У него было несомненное раздвоение личности и алкогольный психоз, и утром он мог не помнить, что говорил вечером. Белую контрразведку он не любил и предпочитал пленных красных убивать сразу, не мучая.
Дружил Соловьев и с искусствоведом Машковцевым, другом президента сталинской Академии художеств Александром Герасимовым – главным врагом авангардных течений и всяких левых новшеств. Машковцев был идеологом Герасимова, сильно на него влиявшим. Старший брат Машковцева, белый генерал, воевал с красными. Мошковцев был уже тогда в годах, и злоязычный Соловьев называл его Шамковцевым. Герасимова Соловьев не любил, хотя тот был хорошим учеником Серова и Коровина и писал портреты и мокрые от дождя террасы с пионами лучше мрачноватого по гамме Соловьева. Соловьев знал, что Герасимов был потомственным прасолом, стелил на пол своего сто десятого ЗИСа солому и посреди огромной, как цех, мастерской поставил чум-юрту, где жил со среднеазиатской танцовщицей-еврейкой из Бухары Ханум, постоянно ходившей в одних только газовых шароварах, выставляя напоказ маленькую и острую, как у козочки, голую грудь, и гремевшей браслетами с бубенчиками на руках и ногах. Личный друг Ворошилова, Герасимов часто ездил к нему на дачу, где они с совхозными молочницами парились в бане и хлебали рассол, как голодный непоеный скот. Вообще основным поставщиком славянского мяса с дырками в Академию для обработки был Дейнека, украинец по отцу, а по матери, как бывший вице-премьер Руцкой, – курский еврей. Очень хитрый человек, организатор массовых оргий для академиков, за что его очень ценили. “У меня все бабы чистые, проверенные в вендиспансере и работают на детском питании, – заверял Дейнека. – У них ни триппера, ни мандавошек нету”. Один портретист, академик Котов, так увлекся этими здоровыми дурами, что умер в купе поезда на одной из них, и проводники стаскивали его с голой испуганной женщины, придавленной огромной похолодевшей тушей. Его смерть почему-то всех очень развеселила, хоронили портретиста радостно и умиленно, постоянно при этом ухмыляясь. Дейнека любил уложить натурщицу в позу с раскрытой половой щелью и часами рисовать ее в ракурсе со всеми деталями влагалища, объясняя им, что это надо для анатомии. Платил он за такие сеансы двойную цену, но к натурщицам не приставал. Его кисти принадлежали целые композиции, на которых голые женщины занимаются спортом, и у всех тщательно прорисованы половые органы.
Александр Герасимов начинал свои беседы со слов: “Ты, милай, меня послушай вот чего...” И дальше по обстоятельствам. Он был толст, коренаст, лицо имел от обжорства красно-багровое и носил бабочку. Машковцеву, своему душевному поверенному, он рассказывал о том, как стал художником. Как-то он с братьями и пастухами перегонял стадо, и к ним прибилась молодая красивая раскольница, бежавшая от старого злого мужа-купца. Эта физически очень сильная, носившая мужское платье баба наравне с мужчинами верхом гоняла скот, своего рода ковбойша за поясом носила острые кинжалы и большие прасольские ножи. И все ее боялись. Увидев, что хозяйский сынок Саша Герасимов, чьи рисунки ей очень понравились, пьет водку вместе с гуртовщиками, она пожалела его и решила спасти. А для этого стала спать с ним, но допуская до себя лишь если он сделает сто рисунков. Съездила в Курск, купила красок и заставляла писать, взяв с него слово, что пить он больше не будет. Так Герасимов за два года подготовился в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, бросил сильно пить и гонять скот и стал художником. Ему удавались и портреты, и изображения лошадей, и пейзажи с цветами. Писал он широкими кистями с длинными черенками и считал себя большим маэстро. Но с бабами чудил.
Это все были последние люди старой России, вросшие в сталинский рейх. Сталин ведь тоже человек еще царского извода и целые дни читал, собрав огромные библиотеки из конфискованных НКВД книг. К концу жизни Сталин был довольно образованным человеком и всего достиг самообразованием, как и его жертва Горький, которого люди Ягоды отравили фосгеном, даваемым ему под видом кислородных подушек.
Из совершенно разного социального теста были слеплены Соловьев и Герасимов. Соловьев во всем зависел от НКВД, а Герасимов – нет, он был, так сказать, свободный маэстро. А как известно, доносчики не прощают людям, свободным от обязательного доносительства.
Преподавая в учительских институтах, мой отец и Соловьев очень сблизились, и Соловьев стал влиять на папашу. Вышло так, что в учительском институте был первый довоенный выпуск, который особенно полюбил и моего молодого тогда отца, и некоего штабс-капитана Василия Васильевича Коллегаева, который по ранению в Первой мировой не участвовал в войне гражданской ни на одной из сторон и тоже учил рисованию. Василий Васильевич был красивым бородатым стариком, кадровым потомственным офицером, большим любителем хорошо выпить и закусить и вообще любителем жизни.
Среди студентов этого выпуска был некто Алексей Васильевич Киселев, рябой незначительный мужчина, очень тактичный, спокойный и хитрый. У него был брат, сделавший головокружительную карьеру в ЦК ВКП(б), а затем и в ЦК КПСС. Папаша познакомил Киселева-младшего с Соловьевым. И это знакомство определило дальнейшую судьбу всех этих “бывших”. Киселев посещал студию, где преподавал Соловьев, но дело у них разладилось, так как Киселев был в художественном смысле малоспособен и фигуры вообще рисовать не мог, только любительские слащавые беспомощные пейзажики. Постепенно возникла связка – Киселев, Коллегаев, Смирнов (мой папаша) и главный идеолог Соловьев. Мой отец играл роль связника и довольно нейтрального посредника, он прошел курс ВХУТЕМАСа, посещал лекции Флоренского, Фаворского, Павлинова, учился вместе с будущим переводчиком Левиком в мастерской Осмеркина и к нашим левакам относился презрительно и во многом доброжелательно. И они его специально не травили, считая ретроградом и отсталым элементом. Не любил он левых студентов ВХУТЕМАСа, пламенных революционеров, поклонников Ленина и Маяковского и с ужасом рассказывал, как автор будущего портрета Сталина “Утро нашей Родины” Федька Шурпин по утрам вешал сушить на бельевой веревке использованные им презервативы. У них была там своя общага, где они предавались свободной любви. Этот Федька Шурпин достал роскошную резную раму с купидонами от проданной из Эрмитажа картины Тициана “Венера перед зеркалом”, и он в эту раму вставил написанный им портрет Ленина на фоне алых знамен.
Вхутемасовская комсомольская ячейка хотела исключить папашу и его приятеля Бориса Дехтярева из института за то, что они носили галстуки, танцевали фокстрот и у них были челки на лбу. Их объявили буржуазными перерожденцами – у Дехтярева отец был белым полковником, а дед папаши – генерал-майором, и к буржуазии они отношения не имели. Рядом на Мясницкой, во дворе ВХУТЕМАСа, стоял красный кирпичный дом профессуры школы живописи. Профессоров оттуда вхутемасовцы выгнали. В квартире Аполлинария Васнецова жил поэт Николай Асеев, спавший в одной постели одновременно с двумя толстыми женами, и держал собачку, которая особенно сильно тявкала, когда Асеев читал свои стихи, топая при этом ногой. Туда часто хаживал Маяковский и семья провокаторов Бриков.
Сам Маяковский тоже был тайным агентом Лубянки, финансировавшей его зарубежные поездки, совершаемые с диверсионными целями. Дочь художника Малютина сохранила часть квартиры своего отца и наблюдала все это безобразие. Студенты ВХУТЕМАСа часто устраивали коммунистические субботники, в ходе которых били слепки с античных статуй, сжигали старые дореволюционные рисунки учеников, а на копиях со старых мастеров писали свои революционные картины. То же самое творилось в бывшей петербургской Академии, когда весь круглый внутренний двор заваливали рисунками 18-19 веков, а по ним ходили и плясали последователи супрематистов, съехавшиеся в столицу со всей необъятной крестьянской России. Это все предшественники маоистской молодежи в ее русском варианте: разбить собачьи головы буржуазной интеллигенции.
Папаше всегда нравились ранние импрессионисты, он был против закрытия музея купцов Щукиных и Морозовых, куда довольно часто ходил во время войны. Отец часто цитировал Сурикова, которого одна дама спросила по поводу картины Пикассо “Пьющие абсент”, как ему это нравится, и Суриков серьезно ответил: “Мы все начинаем так свои полотна, мадам”.
Днем папаша учился во ВХУТЕМАСе, а вечером – в частной студии Кардовского на Тверской на чьем-то частном чердаке и искренне расстраивался, что во ВХУТЕМАСе не учат рисовать портреты и фигуры. Я по собственному опыту знаю, что нарисовать фигуру в сложном ракурсе очень сложно, особенно если она летит по небу, как на потолочном плафоне. Вот так расписать потолок Сикстинской капеллы, как это сделал Микеланджело и его школа, без множества штудий – невозможно. Этому надо учить десятилетиями. Вопрос в другом – надо ли это делать вообще? Ведь Азия, Византия обходились без особых сокращений, и все прекрасно! Академическое искусство существовало всего пятьсот лет, сейчас оно снова утрачено, и, наверное, навсегда. Я не очень люблю все, что было после Джотто и Сиенской школы и после палеологовского ренессанса с его продолжением на Балканах и в России, и для меня эти академические потуги Соловьева были малосимпатичны и главное – чужды. Он часто с пафосом говорил о портретах Фешина, испанца 19-го века Золуаги, а это все перепевы музеев, и ничего больше. О Веласкесе он вообще вещал, как о Боге, показывая руками, как тот писал. В двадцатом веке архаистом был не только Соловьев, но и Гитлер, и Сталин. Гитлера Соловьев как русофил и волжанин не любил, но Ницше знал наизусть с юности и часто ссылался на мысли Ницше и Вагнера о евреях и модернизме.
Особой разницы между большевизмом и национал-социализмом он не видел, считая и тех, и других красной чумой и шпаной. Во мне Соловьев хотел видеть преемника его академической науки, и я одно время много занимался анатомией и рисовал сангиной на ватмане неплохие портреты, которые он хвалил. В общем, отчасти я его ученик и воспитанник. Кроме меня, через соловьевскую конюшню прошло еще трое молодых людей – все очень способные и неординарные: Элий Михайлович Белютин, в будущем искусствовед и глава целой школы модернистов; Володька Руднев, впоследствии ставший крупным чиновником сталинского комитета по делам искусств (Володькой его за хамство и простонародность звала чета Соловьевых), и Левка Шамагин, художник из казанских татар. Все трое – рослые, видные, имели обо всем свое мнение, могли выпить с учителем водки и набить морду хаму. Все они были старше меня, и я их чуждался из-за их манер несколько советского номенклатурного пошиба. Они явно хотели быть людьми публичными и кем-нибудь руководить. Я бы тоже мог, как они, ораторствовать, но среди кого? Среди всего боящихся серых рабов? Увольте!
Леву Шамагина люди Берии посадили за шутку в Третьяковской галерее, когда туда привезли китайскую выставку и на место врубелевского “Демона” повесили портрет Мао. Лева тогда громко сказал: “Одного демона сняли – другого повесили”. После отсидки Соловьев одел Шамагина и долго откармливал. Потом я потерял его из виду, а ведь художник он был способный, писал в стиле Врубеля. Помню его триптих о Шаляпине.
Поняв, что от Соловьева попахивает Лубянкой, я быстренько отошел от него в сторону и стал пить особняком. К тому же я тогда женился на дочке политзаключенных, и для меня были нежелательны контакты с моим ментором. Не хотел быть я и советским художником и изображать плешивых вождей с разнообразной растительностью и различных рабочих с хамскими мордами. А именно это делали все соловьевские ученики, да и он сам, пока был помоложе.
Во время войны Соловьев оживился, ездил от Политупра на фронт рисовать и очень гордился тем, что однажды заколол штыком и разбил головы двум немецким мотоциклистам, прорвавшимся прямо к его складному мольберту. “Гунны, абсолютные гунны!” – восклицал он за рюмкой и рыбкой.
Когда Соловьев писал свои этюды, на которых любил изображать дальние костры и туманы над Волгой, он становился истинно русским художником и забывал о своей странной судьбе доносчика и о кровавой, как человеческий фарш, гражданской войне. Я, еще молодой тогда человек, мысленно говорил себе: “Ах, Саша, Саша, почему все это выпало на твою долю?” А он, человек внутренне тонкий, наверняка ощущал это мое сочувствие, был очень со мною вежлив, и только, хотя и этого для него было много. Вообще-то к людям от относился с презрением. По вечерам кровавые тени гражданской войны сокрушали его, и он пил. О Соловьеве мог бы многое рассказать Элий Белютин, хорошо знавший его и чья память наверняка хранит многое.
В подделке Яковлевым картин старых мастеров Соловьев сыграл особую роль: он выдавал себя за саратовского помещика Мосолова и вел с Армандом Хаммером переговоры на немецком и французском, получая от того франки, доллары, фунты стерлингов и советские рубли. В этих сделках принимал участие также искусствовед из окружения Грабаря Богословский – почтенный бородатый старец, получавший свой процент. Когда их дело лопнуло из-за того, что одна из любовниц Яковлева донесла Хаммеру, что все картины подделаны Яковлевым, а Мосолов не помещик, а тоже художник, Богословский от ужаса чуть не рехнулся. От той поры у Соловьева уцелел небольшой автопортрет с лессировками на доске, который висел над круглым столом в мастерской, где Соловьев пил водку и принимал нас, учеников. Портрет этот потом был на его посмертной выставке.
Одно время Яковлев, как щепка русской разрухи, прибился к Горькому, ездил к нему в Италию, писал там довольно светлые пейзажи Капри и подарил Горькому огромную картину, изображавшую гульбу пьяных русских матросов с проститутками в портовом борделе. Там на столе была масса рыбной снеди, водка и папиросы. Горький умилялся мастерству автора, и картина висела в холле особняка Рябушинского. Вообще Алексей Максимович играл роль станции спасения на водах при потопе, который он же сам и вызвал, открыв шлюзы русского скотства и безобразия. Картину увидел Сталин, сказал, что написано мастерски, а сюжет и персонажи омерзительные. В стиле Яковлева было что-то отвратительное, сюрреалистическое, в стиле Дали, он особенно тщательно выписывал бороды, шерсть в ушах старцев, выпученные, в склеротических жилках глаза, висящие, в складках и венах члены и яички. Общее впечатление создавалось жуткое и пугающее, как в морге. Он как бы любовался человеческим убожеством и одряхлением тела, а духа в написанном им не было вовсе. Я с папашей несколько раз бывал у Яковлева и в его квартире на Кутузовском проспекте, где он жил со своей женой, удивительной немецкой красавицей Агнессой Петровной, которая раньше работала кассиршей в мужской бане и сводила с ума толпы мужчин. Блондинка с удивительно сильным, в меру развитым телом и красивейшим лицом, с голубыми глазами – чудо-женщина, но, по-видимому, ограниченная и капризная мещанка. Яковлев при мне, мальчишке, говорил папаше, что у Агнессы Петровны влагалище – как расцветшая упругая лилия. Вскоре Яковлев умер от своих половых восторгов, получив несколько инфарктов и оставив за невыполненные заказы долгов Всекохудожнику на сотни тысяч рублей.
Чаще я бывал с папашей в мастерской Яковлева в старом буржуазном доме где-то около Павелецкого вокзала. До революции дом принадлежал мадам Ржевской, наследнице громкого имени князей Ржевских из дома Рюриковичей, утративших княжеское достоинство за раскол и оппозицию подлому с их точки зрения дому бояр Романовых. Хозяйка дома и мастерской художница Ржевская написала знаменитую картину “В веселую минутку”, на которой изображен старик-столяр, пляшущий под гармонику с внучком. Эта картина одно время была национальным символом России. Ржевскую одно время лишили и дома, и мастерской, и, как говорили, она умерла от голода в дворницкой среди метел и лопат. Через Горького и Генриха Ягоду, который спал с женой сына Горького, мастерскую Ржевской передали Яковлеву. Там было много черноватых мрачных картин, и особенно мне запомнились два больших полотна “Бой голых среди руин”. Голые были в античных шлемах, с мечами и копьями в руках. Почему-то у многих стояли тщательно выписанные члены. В углу мастерской находились манекены с подлинными мундирами Сталина: Яковлев писал портреты вождя для министерств и обкомов партии, военных академий, за которые получил страшные деньги. Папаша ради хлеба насущного писал Яковлеву сталинские мундиры, пуговицы и ордена, а Яковлев работал над усами и глазами. Работали поточным методом. А я сидел в углу, ел пирожки с капустой, которые Яковлеву ведрами приносили из ресторана, и очень радовался: в войну и сразу после нее они были деликатесом. С тех пор пирожки стали моей любимой пищей, на которой я отчасти отъел свое обширное пузо.
Яковлев со времен гимназии знал массу стихов Фета, Полонского, Лермонтова, Вяземского, Случевского, Минского, Апухтина, Голенищева-Кутузова, которые во время живописания читал с выражением, как артист. По-своему это был очень одаренный и блестящий человек, но со страшным влечением к плотской жизни с женщинами. Яковлев привык ко мне и говорил: “Пускай мальчик смотрит, как мы пишем, ест пирожки и побольше пукает и какает – это все полезное не только для детей занятие”. Я сам радуюсь в жизни двум физиологическим процессам: когда засовываю в женщину и когда сижу на толчке. Процесс еды меня мало трогает – я ем с жадностью, как голодное животное, не ощущая толком вкуса пищи. Насмотревшись на художников, выросший в их семье, я с детства относился к живописцам как к особым животным, не считая их полноценными людьми. Все мазилы казались мне людьми ограниченными, зоологическими и дикими, сродни темным ремесленникам, враждебным культуре и подлинной цивилизации*. О художниках была такая пословица: художник как собака – все понимает, но говорить не может. Я думаю, что написание картин сродни производству людей. Ведь любой половой акт с оплодотворением женщины – процесс малоэстетичный, и наблюдение его вблизи может вызвать отвращение к голым стонущим и дергающимся людям, а те, кто все это эстетизирует, обычно половые психопаты и извращенцы. Современное кино – это вообще гнусное подглядывание в чужие спальни. Около меня постоянно совокупляются мои собаки и кошки, и это неэстетично, а у людей – тем более.
Папаша приспособился писать с Яковлевым в две руки, когда они в тридцатые годы писали огромную, в несколько сот фигур, картину для всемирной выставки в Нью-Йорке. Студенты ВХУТЕМАСа того времени писать фигуры просто не умели и для выполнения этого заказа собирали традиционных художников из частных студий. За день они должны были написать норму – две фигуры. Папаша, кроме ВХУТЕМАСа, учился в частной студии Дмитрия Николаевича Кардовского, тонкого дворянского художника, знатока усадебного быта и помещичьих типов. Он был похож одновременно на Сомова и Бенуа, но его акварели восходят скорее к приятелю Лермонтова князю Гагарину и к акварелям венгра Зичи, одно время работавшего при русском дворе. Кардовский был потомственным дворянином Переяславского уезда Ярославской губернии. В Переяславле у Кардовских был большой длинный деревянный дом, прямо под Горицким женским монастырем. Место очень красивое – Переяславль вообще очаровательный старорусский город с собором, построенным Юрием Долгоруким, и цепью монастырей вокруг города на холмах. Этот город вполне мог бы стать столицей России, но фарт выпал Москве. Кроме имения в уезде и дома в Переяславле, Кардовские имели полдома в Царском Селе. Другую половину занимали тверские дворяне Гумилевы, чей сын стал известным поэтом, расстрелянным большевиками и несчастно женатым на небезызвестной Акуме** – Анне Андреевне Ахматовой-Горенко, жертве общественного темперамента целого сонмища московских и питерских лесбиянок, с которыми она постоянно наставляла витые бараньи рога мужу и другим мужчинам своей долгой половой жизни (моя жена, например, изменяла мне со своей подругой – это повседневный быт таких двуполых существ).
Женат Кардовский был на обрусевшей итальянке художнице Делла-Вос-Кардовской, красивой изящной даме, писавшей очень светлые, солнечные светские портреты и цветы на террасе. Написала она и портрет своего соседа Гумилева во фраке, с хризантемой в петлице. У Кардовских была дочь Екатерина Дмитриевна, высокаяё чернявая дама с величественной осанкой, женщина очень неглупая, с острым умом. Первый раз она была замужем за писателем Леоновым, но разошлась с ним и вышла за ученого, членкора Академии наук Веселкина, тоже переяславского дворянина. Я с папашей бывал в двухэтажном деревянном доме Веселкиных в центре Переяславля. В революцию их жилище не разгромили и не уплотнили. Всюду стояла прекрасная ампирная мебель золотистой карельской березы, висели старинные зеркала, и было видно, что их не снимали по крайней мере лет двести. В прихожей стояло облезлое чучело медведя с медным подносом в лапах для визитных карточек посетителей. Помню, осенью на бумаге, расстеленной на паркетном полу второго этажа, лежали прекрасно пахнущие яблоки из старого сада с липами и небольшим, почти высохшим прудочком в густо-зеленой ряске. Веселкин – небольшой подвижный лысеющий господин – любил ходить по окрестным лесам с двумя рыжими охотничьими собаками и убивать из двустволки какую-нибудь дичь.
Революция словно пронеслась мимо этой благополучной семьи, не было ощущения, что супруги на кого-то стучат или стучали, столько в них было человеческого достоинства. И так оно, наверное, и было на самом деле. Кардовского не тронули потому, что он был дореволюционным академиком, профессором Академии художеств и при советской власти создавал в Переяславле художественный музей, свозя из разоряемых имений, включая и свое, все ценное в Горицкий монастырь. Потом туда же свезли все, что можно, из закрываемых переяславских церквей и монастырей. Музей этот стал лучшим по полноте коллекции в России. Я чуть не стал его директором, но это особая история. Я никогда не был музейным могильщиком, остатки чужих жизней, следы чужих судеб почему-то внушают мне ужас: за каждым вышитым кафтаном и побитым молью мундиром я вижу трагедию, а не инвентарный номер. Да и музеи в СССР, а тем более в Эрэфии, – это нищие одичавшие сараи, полные грызунов, где хранители чужого отнятого скарба вечно грызутся между собой, как пауки в банке, и периодически пожирают друг друга. Все музеи мира страшны, а советские и постсоветские – тем более. Они – разновидность вещевого склада в концлагере, где хранятся частицы жизни погубленного большевиками русского народа.
Екатерина Дмитриевна много рассказывала о жизни Гумилева, о том, что старики Гумилевы восприняли брак Николая Степановича с Горенко как несчастье и как Аня (так она называла Ахматову) часто приезжала из Петербурга домой на рассвете, совершенно разбитая, с длинной шеей, покрытой засосами, и искусанными губами. Потом, после таких загулов, она обычно спала полдня, а потом уезжала снова. И постепенно молодой Гумилев понял, кто такая на самом деле его жена, и вообще перестал обращать внимание на ее поведение. А Кардовские, хорошие семейные люди, с ужасом смотрели на образ жизни Ахматовой, пока она не съехала из их дома к какой-то из своих подруг, а ее муж не отправился путешествовать по миру. Огромная шляпа с пером, густая вуаль, резкие духи, ломкая изящная фигура и ощущение порока – вот впечатления девочки-подростка Кардовской от поэтессы. При всем том Ахматова любила Кардовских и иногда приходила к ним, бледная, без косметики, и любила часами смотреть, как Делла-Вос пишет красками: свернется на ампирном диване, как кошка, и тихо смотрит, никому не мешая.
Ахматова была сложным взрывным поэтическим механизмом с огромной энергией неприятия того, что ей не нравилось, а не нравилась ей с 1917 года и до самого конца в глубокой старости вся советская власть полностью. Она о себе правды ни в стихах, ни тем более в прозе или письмах не сказала: на самом деле была умнее и сложнее, чем ее окружение, перед которым всю жизнь ломала вынужденную комедию и считала всех своими приживалками и прислугами, прощая им глупость и ограниченность. Я таких дам очень не люблю, но Ахматова, несомненно, была очень и очень неглупа и – насквозь фальшива и порочна, как Александр I, тоже одинокий фигляр в своей трудной и опасной жизни. Вряд ли Ахматова могла к кому-нибудь привязаться или относиться естественно хорошо, и так, наверное, было смолоду, еще до испытаний большевизма, а после... тут вообще один мрак. Всерьез Ахматова любила, наверное, одну Глебову-Судейкину, свою сожительницу, о которой до смерти говорила с большой теплотой. Кардовская была очень близка к несчастному семейству Гумилевых-Ахматовых и привязана к ним – говорила о них без всякого сарказма и ехидства, но подчеркивала, что Николай Степанович был очень нехорош собой и страшно косил, но как офицер был очень смел, имел два солдатских Георгия и с большевиками играл на очень близком расстоянии.
Кардовская считала, что в так называемом деле сенатора Таганцева он действительно брал на себя некоторые опасные поручения. Я считаю, что ошибались все и это дело было организовано чекистами как провокационное для обезлюживания Петрограда. По-видимому, и в судьбе самой Кардовской были какие-то острые моменты, которые она в прошлом скрывала, и скорее всего ее арестовывали ненадолго, была в ней опаленность огнем большевистского террора.
Сам Кардовский был по-южному очень породист – высокий лысоватый брюнет с бородой, очень похожий на портреты испанских толедских грандов кисти Эль Греко. К концу жизни его парализовало, и его возили в кресле-коляске, он уже не мог рисовать и говорил медленно, с трудом. До революции у Кардовского была в Академии художеств своя мастерская (то есть групп старших курсов). Была мастерская и у Ционглинского, ученики которого писали в репинской манере, широкими мазками. Ученики же Кардовского писали сухо, по-немецки, налегая на академический рисунок. Сам Кардовский учился у мюнхенца Антона Ашбе вместе с Игорем Грабарем. Там лица и фигуры прорабатывали крепко, обрубовками в стиле Дюрера и учили студентов просто зверски. Кардовский довел систему Ашбе до самой крайности, возведя ее в культ. После захвата леваками Петербургской академии художеств Кардовский переехал в Москву – ему по приказу Луначарского дали две большие комнаты в буржуазной квартире в районе Пречистенки, и он открыл частную студию рисунка. Именно там учились эмигрировавший впоследствии во Францию Александр Яковлев, в чью племянницу был всерьез влюблен Маяковский; Шухаев, Мочалов – все очень талантливые люди. Мочалов писал очень светло, и все запомнили его картину “Резка капусты”. Яковлев и Шухаев, блестящие рисовальщики, подражали мастерам Возрождения, рисовали сангиной на больших листах ватмана. Я видел в фонде Переяславского музея огромный рисунок голого мальчика работы Яковлева, чем-то похожий на дореволюционные эскизы Петрова-Водкина к его “Купанию красного коня”, – сухо и очень красиво. Призванный в окопы Первой мировой, Шухаев сделал сангиной гениальную, психологически очень интересную серию портретов спешенных лейб-гусар, никогда при большевиках не выставлявшуюся. Наиболее редкие дарования во всех видах искусств – это психологичекие портретисты и актеры, умеющие полностью перевоплотиться в играемых ими людей. Такие дарования штучны для всех эпох.
В Париже Яковлев был одно время моден, но рано умер от разрыва сердца. А Шухаев после войны вернулся в СССР, отсидел срок, ему разрешили жить только в Тбилиси, где он преподавал в тамошней академии и писал интересные портреты.
Все эти господа в петербургские годы носили черные пальто пиджачного покроя, котелки и цилиндры и обязательные желтые перчатки. Таким же щеголем был и более молодой, чем старшие товарищи, Соловьев, который тогда только перешел из общих классов Академии в мастерскую своего профессора. В четырнадцатом Соловьева призвали в армию в Казани, хорошо обучили на офицера, и тут их всех накрыла революция и гражданская война. Некий Чемко имел на чердаке на Тверской большую студию, где собиралась молодежь, пожелавшая учиться у Кардовского. Среди них были племянник Чехова Сергей Михайлович, мой папаша, Василий Прокофьевич Ефимов из Нижнего Новгорода, Дмитрий Алексеевич Шмаринов, Борис Александрович Дехтярев, График Мальков и еще десяток молодых людей, в основном из бывших дворянских семей. Когда Соловьев легализовался в Москве, он тоже иногда приходил порисовать к своему бывшему учителю. Его поколение академистов революция и гражданская война разбросали по миру, и в России, кроме Соловьева, похоже, больше никого не осталось. Мочалов, общая надежда, как-то нелепо погиб на Кубани.
Соловьев тогда ходил в английском пиджаке и галстуке-бабочке. Обучение было платным: платили Чемко за помещение, за модель, что-то – самому Кардовскому, который жил тогда впроголодь. В мастерской Чемко было холодновато, из ртов шел пар, ученики в свитерах поочередно грели руки у стоявшей в углу буржуйки. Но все самозабвенно рисовали свои обрубовки и учились понимать форму головы как набор плоскостей. На стенах студии самим Кардовским были развешаны принесенные им черные и цветные довоенные репродукции Веласкеса в рамочках. Веласкеса он считал высшим достижением реалистической живописи, и когда большевики продали в Америку из Эрмитажа его портреты, Кардовский счел это национальной трагедией. Я знаю, что сам Кардовский копировал Веласкеса и в мюнхенской Пинакотеке, и в Риме, и в музее Прадо в Мадриде. Он учил своих учеников пользоваться больше всего землями и писать человеческие тела неярко. Из-за холода в студии писать обнаженные тела было невозможно, поэтому несколько лет ученики рисовали только портреты, включая поколенные. Однажды в студию пришла натурщица из ВХУТЕМАСа, некто Осипович, которая согласилась позировать обнаженной при любой температуре. Ее смолоду ваял Коненков, и ее тело украшало многие музеи мира. Но к революции Осипович постарела, пустые, фиолетовые от холода груди висели почти до пупа, зад был синего цвета. Она позировала в нетопленом ВХУТЕМАСе Фальку и его ученикам, и он правдиво написал с нее свою “Обнаженную”, так возмутившую своим безобразием Хрущева на юбилейной выставке МОСХа. Изображая фиолетово-синюю Осипович, Фальк был правдив. В то время, когда мы учились, она, уже глубокая старуха, позировала для портретов, но считала, что может позировать обнаженной до самой смерти, и все норовила раздеться. Она так и скончалась на подиуме, задремав во время сеанса и уже мертвая упав со стула. Верная слуга и помощница художников, мир праху твоему!
Когда Осипович залезла на подиум в мастерской Чемко, Кардовский предложил сделать с нее несколько набросков в разных позах, потом сам лично заплатил натурщице, учтиво сказав: “Мадам, я все-таки не могу допустить, чтобы вы так мерзли”, проводил ее до двери на лестницу, низко поклонился и попросил больше не приходить. Своим ученикам он сказал: “Господа, я понимаю, что эта женщина в современной Москве стала почти что эскимоской, но я не могу оскорблять ваши идеалы вечной женственности рисованием такого безобразного посиневшего тела, как из анатомического театра”.
Всех своих учеников Кардовский звал господами, они его – Дмитрием Николаевичем, а за глаза – отцом: “Когда придет отец?”, “Не болен ли отец?” и т. д. Кардовский был отменно вежлив и приветлив со всеми и в Мюнхене даже был долго дружен с Кандинским. Они оба ходили по музеям и рисовали одних и тех же натурщиц. Кардовский так говорил о Кандинском: “Очень образованный, хорошо воспитанный господин, умеет рисовать с натуры, вначале писал хорошие пейзажи в русском стиле, а потом занялся орнаментальной прикладной живописью. Так ведь и ситцы и шали когда-то расписывали, ничего нового он не изобрел. Мы, господа, рисуем людей, а он – орнаменты. Это тоже искусство, но отнюдь не новое”.
С Грабарем, своим товарищем по студии Ашбе, Кардовский не дружил и всегда говорил, что он неприятный господин с плохими замашками торгаша и даже жулика. Своей деятельностью в недрах ОГПУ и НКВД Грабарь вполне оправдал эти предчувствия. Авторитет Кардовского в послереволюционной Москве был очень велик, его самого и его студию весьма не любили вхутемасовские леваки, но он не давал никакого словесного повода для нападок, молча их игнорируя. Никто вообще не знал, как Кардовский, стоик с сильным характером, реагировал на революцию. Он не выражался ни “за”, ни “против”. По-видимому, паралич Кардовского все-таки был связан с революцией: в глубине души он, наверное, все это переживал. Глубоко русский человек, дворянин, Дмитрий Николаевич любил Россию и не хотел бежать, как его хорошие знакомые Добужинский и Бенуа и его ученики Яковлев и Шухаев. Наверное, как график и блестящий иллюстратор, Кардовский нашел бы себе занятие в эмиграции, но он и в старой России не входил в “Мир искусств”, презирал Дягилева как педераста и диктатора от искусства. С коллекционерами старых мастеров, обоими баронами Врангелями – кавалеристом Петром Николаевичем и его братом искусствоведом Николаем Николаевичем, Кардовский был в дружеских отношениях. Скрытный, умный, очень гордый и независимый, Кардовский никогда ни перед кем и ни при каких обстоятельствах не унижался. Своих учеников любил, и они любили его.
Кардовский, кроме Грабаря, не любил как графика Фаворского и его школу, хотя его самого считал человеком порядочным.
И при большевиках Дмитрий Николаевич открыто посещал церковь, проходя мимо Кремля, снимал свою черную шляпу и крестился. Ученики же в своем большинстве к религии были совершенно безразличны, кроме моего папаши, тоже публично крестившегося и посещавшего катакомбные общины.
Ученики Кардовского хорошо отработали голову и поясной портрет, но потом все прекратилось. Учились только зимой, летом Кардовский уезжал в Переяславль, а ученики разъезжались по России. Когда его парализовало, он уже не мог ни преподавать, ни рисовать и до смерти не выезжал из Переяславля.
Некоторые ученики ездили к учителю показывать свои работы, но это было уже не то. Хорошо рисовать фигуры последние ученики Кардовского так и не научились. Единственным, кому это удалось, был нижегородец Василий Прокофьевич Ефанов, юркий господин с пятью сталинскими медалями, звеневшими на лацкане пиджака. Как говорили, он был страшный бабник и заводил себе самых модных женщин из ресторанов, которых постоянно рисовал голыми. Среди них были околокремлевские дамы, а сам он входил в окружение Генриха Ягоды и других красных вельмож. Ефанов много раз женился, разводился, снова женился – и все время на красивых женщинах, как-то связанных с большевистской элитой, придворным живописцем которой он и был, писал портреты их жен и любовниц, одетых и обнаженных. Его живопись была светлой, хлесткой, пустой, но мастеровитой. С одной из не то жен, не то любовниц у Ефанова на почве эротики случилась какая-то очень грязная история, которая могла бы закончиться уголовным делом, но его отмазали.
Был большой групповой портрет Сталина с передовиками производства, где позади Сталина стояло много других вождей, помельче. Так вот Ефанова заставляли замазывать их физиономии по мере их ликвидации. Особенно близок был Ефанов со Ждановым и его окружением. Папаша признавал Ефанова как мастера, но боялся как выдающегося развратника и человека, близкого к Кремлю. Вряд ли Ефанов работал на Лубянку, скорее – за ним следили как за участником верхних властных процессов.
Кроме него, из второй волны московских кардовцев в советском искусстве оставили след двое: иллюстратор Толстого Шмаринов и педик график Дехтярев, рисовавший сладенькие сказочки для детей. Остальные же ученики Кардовского обучали рисованию в педагогических и архитектурных институтах, а Чехов вместе с папашей учил декораторов в МХАТе. Воспоминания о студии Кардовского были самым светлым впечатлением их юности.
Такова была база реалистических преподавателей и хранителей реалистических традиций в сталинской России, когда Сталин начал готовить страну к провозглашению собственной империи. Яковлев рассказывал, что он видел в Кремле советских офицеров в царских эполетах. Но восстановили только погоны. Еще Яковлеву рассказывали, что к концу войны Сталину хотели присвоить титул цезаря советского народа, но он сам выбрал высший чин генералиссимуса. Сталин должен был короноваться в Успенском соборе как Император Всероссийский и Император Востока и Запада. Патриарх Алексей I Симанский знал об этих планах и с ужасом ожидал этого события, ведь он был подлинным монархистом, глубоко в душе ненавидевшим советскую власть, и ждал вторжения американских войск в Россию. Немцев он из-за их тупости тоже ненавидел и очень злился: перли завоевывать, а не освобождать. Алексей I просидел всю блокаду в Ленинграде, получал паек из Смольного и хорошо питался. В Москве он также наравне с членами ЦК снабжался из Кремля.
Московским художественным институтом руководили в те годы Игорь Грабарь и Сергей Герасимов. Фаворский и его ученик Андрей Гончаров руководили факультетом графики. На живописном факультете преподавали Роберт Рафаилович Фальк, его ассистент Лейзеров, а также фактурный живописец Чекмазов. Там картин о трактористах и ударниках особенно не писали, а все больше изображали полных красивых натурщиц с нежной перламутровой ренуаровской кожей. В Крыму, в местечке Козы, у института была база, куда все живописцы выезжали летом с натурщицами, которых писали обнаженными на пленере под абрикосовыми деревьями. У этих натурщиц сложились длительные, почти семейные эротические связи со студентами и преподавателями. Они сообща питались, пили кислое крымское винцо и ходили купаться – жизнь вполне идиллическая и для совдепии даже прекрасная. Но это злило товарищей по цеху: а как же обязательное рисование рыл ударников и доярок? И на Старой площади решили ударить по всему этому делу. Было это за несколько лет до смерти Сталина. Были задействованы Киселев-старший, Киселев-младший и чины цеха, включая самого Жданова. Киселев по своим каналам попросил “бывших” собраться в номере Славянского базара, куда он сам частенько приходил выпить и закусить (мамаша специально для него готовила отборные закуски и говорила значительно: “Сегодня сам Киселев придет, надо постараться”). У меня, мальчика, этот рябой господин, кроме омерзения, ничего не вызывал. Я знал его хорошо: у нас дома ежегодно устраивалось большое застолье довоенного выпуска Учительского института, где преподавали папаша и Коллегаев и в котором учился Киселев и в том числе будущий авангардист Вася Ситников.
Душой этой сходки был, конечно, Соловьев. Ближе к вечеру собрались Курилко, Соловьев, Мальков, мой папаша, Поздняков, Грониц, Коллегаев и еще кто-то; пришел даже Василий Яковлев, Сергей Михайлович Чехов уклонился, хотя его и звали, – всего не больше десяти человек. Мамаша приготовила рыбные закуски, графины с водкой, крюшон. Все хорошо выпили, закусили. Киселев произнес речь, помню ее, как сейчас: “Отцы, как вы решите, так и будет. Назначайте все должности в институте, кроме ректора и проректора – это дело ЦК, увольняйте, кого хотите. Все на ваше усмотрение. Желаю успеха!” Все стали ругать Сергея Герасимова, Игоря Грабаря, Фаворского, Андрея Гончарова, особенно ругали Фалька. Больше всех разорялся Соловьев: “Этого ощипанного еврейского гуся надо не только выгнать, но и зажарить!” Вспомнили гарем красивых еврейских жен Фалька. Конечно, всех постановили выгнать. Завкафедрой рисунка назначили Соловьева, папашу – деканом факультета живописи. Мастерские поделили так: живописи – Корину, Комову, Покаржевскому, монументальную – Дейнеке, театральную – Курилко, а в Архитектурный институт вместо Курилко завкафедрой назначили Яковлева (он сразу после этого ушел). Киселев, немного послушав этот базар, ушел вместе с Яковлевым. После его ухода все вздохнули и разнуздались. Помню, как поносили ВГИК и особенно Федьку Богородского, бывшего морячка, хвалившегося, что он в революцию белых офицеров расстреливал пачками, а перед приходом немцев объяснявшего всем, что и пальцем никого не трогал и все про себя врал. Все знали, что Богородский написал большой портрет Гитлера и ждал прихода немцев. Портрет он, конечно, сжег, но осенью сорок первого успел показать его многим. Помню, Соколов кричал: “Соколов-Скаля – наш, бывший белогвардеец, но его нельзя пускать дальше ВГИКа, он бывший экспрессионист!” И не пустили в Суриковский институт. Коллегаеву Соловьев сказал: “Ты хороший строевик, в Ковенском гарнизоне порядок навел”. Тот отвечает: “Так точно, навел!” – “Значит, и в Ленинградской академии тоже наведешь!” И Коллегаева назначили ректором Ленинградской академии художеств при условии, что он всех евреев и учеников Исаака Бродского и Петрова-Водкина оттуда уволит. И он все именно так и сделал и долго там со всех драл шкуру чисто по-армейски, пока не зарвался и его не пришлось уволить самого.
Грониц и Поздняков постарались откланяться, не прося должностей. Корифеи же пили водку, называли друг друга, не стесняясь, господами и сообща проклинали советскую власть, Троцкого, Емельяна Ярославского, Луначарского, Штеренберга. Голоса моего папаши я не помню – он был от природы незлобив и любое ожесточение людей его угнетало. Он был только ведомым Соловьева и держателем конфиденциальной квартиры, на которой состоялась эта достопамятная встреча. В два часа ночи, изрядно выпив, все разошлись и стали ловить около Метрополя такси.
Потом ЦК создало комиссию по наведению порядка в художественных институтах, куда вошли все участвовавшие в этой сходке и заняли места, оговоренные тогда ночью на нашей квартире. Так свершился инспирированный ЦК переворот в художественной жизни советской России. Участники этого переворота так до конца жизни и не поняли, что ими играли, как марионетками, кукловоды со Старой площади, разменявшие их, как царские “катеньки” и “керенки”, на резаное советское дерьмо, пахнущее человеческим салом, как пахнут все бумажные дензнаки. Они были искренни в своем негодовании, у них наболело, их очень долго оскорбляли, и они, как умственно отсталые олигофрены, от души радовались свершившемуся.
Я рано ушел спать в соседнюю комнату и сквозь сон слышал возгласы ирокезской мести над скальпами Фалька и Грабаря – бывших упраздненных Советами дворян. Потом папаша говорил мне, что проявил, как всегда, либерализм и предложил по московской традиции на должность завкафедрой живописи какого-нибудь живописца коровинской “голубой” школы, и они, “немецкие” сухари, выбрали кого-то из МОСХа, пишущего цветно и широко, но без проклятого ими сезанизма.
Потом там появился очень талантливый, сильно пьющий водку импрессионистический живописец Цыплаков по кличке Цыпа, красиво писавший деревни, весенний голубой снег и лошадей, вполне на уровне Жуковского и Коровина. Папаша все распинался: мы – кардовцы, рисовальщики-сухари, а на живописную надо того, кто пишет посветлее нас. Соловьев все кипятился на братьев Кориных – нестеровские мальчики. Наверное, знал, что братьев прикрывало ОГПУ-НКВД. Любопытно, что Киселев пригласил ректором Федора Модорова, в прошлом профессионального иконописца, но тоже окончившего Петербургскую академию художеств. Модоров, уроженец села Мстёра, гнезда иконописцев, до революции расписывал храмы, среди них – купол Софийского подворья напротив Кремля, делал копии с фресок Нередицы в Новгороде и мог сделать до большевиков карьеру церковного художника. Но связался с коммунистами, вступил в партию, воевал против армии Колчака и устанавливал советскую власть среди инородцев Севера. Соловьева, как барина и колчаковца, Модоров не любил, тот его – тоже. Но иногда они вместе выпивали, и оба вспоминали Пятую красную армию Тухачевского и Восточный фронт. Соловьев, выпив, говорил и о княжне Темирёвой, и о генерале Жаннене и Гайде и их адъютантах. Модоров был кряжистым сильным мужиком с сильным характером, но незлобивый и не вредил людям.
Проректором Киселев назначил Аркадия Максимовича Кузнецова, происходившего из семьи старообрядческого духовенства, – тоже человека незлого от природы, но ужасающего антисемита. Он, человек без образования, создал в Иванове прекрасный музей и местную организацию художников. В отличие от Модорова, Кузнецов не состоял в партии, умел ладить с начальством и вообще с людьми. У него дома была коллекция древних, из кости, резных иконок, и среди них – византийские, из слоновой кости.
Соловьев получил должность профессора, стал мэтром, но периодически впадал в прострацию, входил в аудиторию, не узнавал студентов и испуганно спрашивал: “Какой курс?” Потом все-таки узнавал всех, успокаивался, правил рисунки и был ласков. Студенты его любили, но считали чудаком. Он был человеком из другого времени, из другого мира. Соловьев преподавал почти до девяноста лет и уже глубоким стариком любил на потеху студентам рассказывать, как Рубенс рисовал льва и при этом сам рычал львом. Потом Соловьев вспоминал Петербург, академию, Кардовского, Яковлева – и на глазах его появлялись слезы. Долголетие Соловьева было все-таки связано с его некоторыми добрыми делами. Он рассказывал мне, что в Сибири в седельных подсумках он возил священнический крест и небольшое Евангелие. Некоторых красных пленных от отпускал, заставляя их целовать крест и Евангелие, что они больше не повернут оружия против белых. Так делали далеко не все колчаковцы, на Соловьева смотрели косо и пожимали плечами: художник чудит, что от такого ждать? За боевые дела Соловьев был награжден двумя медалями: американской и английской, но он мало ими гордился, злясь на бывших союзников за пассивность. В довоенные годы, узнав, что княгиня Темирёва живет в Подмосковье и преподает в школе рисование, он стал постоянно ездить к ней, возить продукты и деньги, обучал рисованию ее сына от первого брака (он потом стал художником, но его арестовали и расстреляли). Куда-то выслали потом и саму княгиню, и ее след потерялся. Соловьев объяснял, что она не княжна, а замужняя княгиня по первому мужу. Соловьева на нее не навело ЧК, они случайно встретились в Третьяковке, и Темирева тихо, удивленно спросила его: “Это вы, Александр Михайлович?” Так встречаются на том свете. Меня почему-то эта встреча волнует и сегодня. Я знал несколько мужчин с такими роковыми судьбами, как у Соловьева. Это коллекционер Величко, Соловьев, Даниил Андреев, поэт Коваленский и еще один белый офицер, которого я знал очень давно и фамилию которого не хочу называть.
Став деканом факультета живописи, папаша стал наводить там элементарный порядок. Он требовал, чтобы студенты не пили водку в мастерских, не совокуплялись с натурщицами прямо на подиумах, собирали объедки своих нехитрых трапез и курили только в особых комнатах. За это студенты прозвали его КГБ-Смирнов, просто добавив к его инициалам еще одну букву. Папаша всегда ходил с тростью-дубиной и, когда злился, стучал ею по полу, студенты его боялись, были уверены, что он может этой тростью запросто ударить и по лбу. Раздражаясь, папаша багровел и имел устрашающий вид. Когда они с Соловьевым шли по коридору, студенты-коковцы жались к стенам. В те годы папаша уже отъелся и был довольно грузен. Соловьев хоть и постарел, но все время случайно отрывал дверные ручки и ломал двери, открывая их в другую сторону. В первые годы их появления в институте студентов учили рисунку без дураков, на уровне Петербургской академии, и появились такие крупные рисовальщики, как Жилинский, родственник князей Голицыных и внук царского генерала. Жилинского оставили преподавать в институте. В общем, все их годы пребывания в институте были мрачны, но довольно приличны. Единственным, кто безобразничал, был проректор Кузнецов. Он постоянно произносил такие речи: “Пикасса – яврей, Сязан – яврей, Писсаро – яврей, и все они явреи”. Его своеобразный ивановский выговор передразнивали все студенты. Видно было, что слово “яврей” было для него синонимом предателя и негодяя, и он объяснял, что всех “явреев” сразу после рождения надо топить в поганых глубоких лужах. Кузнецов писал длинные голубоватые пейзажи, явно под Александра Иванова. Он подружился с президентом Академии Герасимовым, ездил к нему в мастерскую в чум, ел там плов, приготовленный Тамарой Ханум, и устроил в институт ее дочку Ванцетту. Водку, как старообрядец, Кузнецов вообще не пил, не курил. Под свою ответственность он оставил в институте ассистента Фалька Лейзерова, который перед ним пресмыкался, подавал ему пальто и надевал на ботинки галоши. И даже сделал его профессором. Ежедневно вечером они вдвоем пили подаваемый секретаршей чай с лимоном, и если при этом присутствовал кто-то третий, Кузнецов непременно задавал Лейзерову свои традиционные вопросы: “Какое основное дело сделали “явреи” в истории?” И тот так же традиционно и бойко отвечал: “Распяли Иисуса Христа, и за это проклят их род до седьмого колена”. Кузнецов довольно кивал и задавал следующий вопрос: “А кто такой выдающий себя за художника Фальк?” Лейзеров: “Гнусный пачкун и скрытый агент американского империализма”. Далее следовал любимый вопрос Кузнецова: “А где теперь Роза Люксембург?” – “Ее утопили в канаве, как шелудивую кошку”. – “А почему она не всплыла?” – “Потому что ей привязали к шее камень”. И так продолжалось несколько лет. И Кузнецов, и Модоров, и Дейнека, и Корин, и другие внушали мне уже тогда отвращение и ужас. По-видимому, Кузнецова в молодости очень сильно унижали какие-то евреи-коммунисты, и теперь он, получив власть, отыгрывался.
Однажды Кузнецов рассказал папаше, как в Нижегородской губернии чекистские отряды во главе с евреями громили староверческие скиты и расстреливали наставников и чернецов.
Папаша Лейзерову руки не подавал и говорил, что он не может переносить, когда при нем унижают человека с его же согласия. В последние сталинские годы антисемитизм был государственной политикой, ненавидящие евреев люди повылезали из своих нор повсюду. Папаша еще по ВХУТЕМАСу хорошо знал Фалька. Как-то они вдвоем сидели в очереди к зубному врачу, и Фальк спросил папашу: “Ну, как там Лейзеров?” Папаша пожал плечами, а Фальк улыбнулся и сказал: “Ты, Глеб, наивный, а Лейзеров – мудрец и всех нас пересидит. Я на него не обижаюсь, он и при мне был подлецом, и мне это даже нравилось. Я его тоже за подлость держал – он мне обо всем докладывал. С подлецами легко жить: знаешь, что не будет неожиданностей”.
Кузнецов открыто заявлял, что при нем ни один “яврей” не поступит на живописный факультет. Но вот к скульпторам сухой немец Манизер принял Эрнста Неизвестного. Отец Манизера был немецким академистом, и сам Матвей Генрихович заполнил своими идолами всю Россию и станцию московского метро “Площадь революции”. Лепил он с женой и тоже любил, как Герасимов, все делать сам, не доверяя ученикам. Свое дело он знал хорошо, но был скульптурный комфашист (хорошее слово я придумал, однако, – “комфашист”, пожалуй, с моей Эрэфией пойдет гулять).
Сжившись со своей жертвой Лейзером, Кузнецов сделал его не только профессором, но и устроил его племянника (человека способного, но психически больного) на графический факультет. Папаша и Соловьев разогнали всех спавших со студентами натурщиц эпохи Грабаря и набрали огромных, за сто кило, кобыл с огромными тяжелыми грудями и задами, словно чемоданы. От одной из них стареющий Соловьев прижил дочку, которую холил и лелеял.
До войны институт находился в другом месте, и, говорят, там было даже уютно. Потом он переехал в мрачное здание в Товарищеском переулке за Таганкой, где, кажется, до революции была семинария. Помещения напоминали заводские цеха, всюду бродили мрачные, небритые, запущенные студенты, в основном живописцы, смахивающие на завсегдатаев пивных и опустившихся рабочих. В подвалах и во дворе стояли разрушенные статуи рабочих и героев революции, все было серое, казенное и мрачное. Все-таки каким отвратительным было официальное советское искусство! Сегодня так же отвратительно официальное государственное православие, заменившее агитпроп ЦК КПСС, – та же зловещая мертвечина и отчуждение от жизни.
Каждое черное дело Господь видит и воздает за содеянное. Наказал он за ночную сходку у нас дома и папашу. Каждый год мы ездили к художнику Василию Павловичу Шереметьеву, ученику того самого грабаревского института, в Новодевичий монастырь на крестный ход. Было красиво, звонили в колокола, и до утра мы разговлялись и трапезничали в башне у Шереметьева. Папашу с его бородой, тростью и черной шляпой (у него была внешность депутата царской Думы от партии кадетов) сфотографировали чекисты и передали в райком. Модорова там спросили: “Почему религиозный фанатик у вас декан и воспитывает молодежь?” Модоров и Кузнецов с неудовольствием, кряхтя и сопя от злобы, попросили папашу уйти, что он и сделал. Спустя пару лет Модоров хоронил в селе Мстёра свою мать, зашел за гробом в церковь и по привычке перекрестился. И его тоже как религиозного фанатика попросили уйти по собственному желанию с ректорской должности.
Папаша вскоре возглавил кафедру рисунка в педагогическом институте и взял к себе Модорова профессором-консультантом. Кузнецов остался и сделал Лейзерова деканом живописного факультета. Потом, при воцарении Хрущева, Кузнецов с его “явреями” стал излишне одиозен и сам ушел работать в отдел методики Академии художеств, где активно сотрудничал с Элием Михайловичем Белютиным, полуевреем, выдававшим себя за поляка, и его антисемитизм как-то улетучился.
После всех этих дел в Суриковский институт поступил я, на графический факультет, где занимался линогравюрой и литографией. Об этом периоде и тогдашнем институте надо писать отдельно. В мое время в институте преподавали какие-то серые мосховские люди и из приведенных Соловьевым реалистов уже никого не осталось. Искусствовед Алпатов, ведший историю искусств, у которого диапозитивами ведал Васька-фонарщик, т. е. авангардист Василий Ситников, говорил о времени Модорова, что это был век Перикла, такой там был потом упадок.
Учась, я несколько раз видел Соловьева на улице: он шел, выпучив глаза, думая о чем-то своем и давя прохожих своей тушей. Я к нему, конечно, не подходил. Раз в институте он меня окликнул: “Лешенька, неужели это ты? Как ты возмужал, однако! Почему не заходишь ко мне на Масловку?” Я не заходил, так как увлекался тогда совсем другим, да и боялся я его и его ауры. Внутренне, интуитивно я ждал его смерти. Потом я о нем забыл надолго. Он давно уже был для меня тенью моей юности и детства, но я его любил и люблю по сей день, это чувство выше нас и иррационально.
Умер Соловьев глубоким стариком, все его ранние ученики о нем напрочь забыли, и его очень пожилая вдова Нина Константиновна мне позвонила и попросила отобрать для выставки его работы и надписать сзади фамилию, год и название. Что я и сделал. Многие пейзажи я помнил. Нина Константиновна подарила мне связку его щетинных кистей, которые я со временем истер, потом она предложила мне графинчик водки и закуску, и мы помянули Соловьева. Сама она почти не пила и говорила, что если бы не она, Александр Михайлович спился бы и умер под забором. И еще она рассказала, что он часто во сне, не просыпаясь, плакал, как ребенок, и она его будила, и он, просыпаясь, говорил: “Я не хотел, не хотел, Нина!” Вспоминала она и их омский кафешантан и как английские и французские офицеры уговаривали их бросить Россию, уехать в Париж или Лондон.
От этюда Соловьева на память я отказался – мне было бы тяжело видеть его у себя на стене.
Москва, 2005
* Мой отец и дед были баре с кисточками, а не этими мазилами.
** Акума – домашнее прозвище А. А. Ахматовой.
© 1996 - 2016 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал"
Вокруг "Розы мира"
Приближается столетие со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева, старого и верного друга нашей вырождающейся смирновской дворянской семьи. Помимо отца с Андреевым по-своему дружили и моя мать-казачка, урожденная Абрамова, и бабушка по отцу, урожденная Долматова, и все их друзья и знакомые.
Мой дед Борис Васильевич Смирнов уже в тридцатые годы окончательно спятил после двух отравлений, от которых чуть не помер, – и он либо от всех прятался, либо страшно подвывал, поглядывая из-под лысоватого лба горящими глазами затравленного зверя. Начинал он свои рулады с фразы “Молитесь, люди русские!”, а дальше молол всякую чушь, намекая на то, что его снова хотят отравить и постоянно воздействуют на него невидимыми лучами. Установки же, запускающие эти лучи, вмонтированы под кожу его гостей, поэтому ее желательно вскрыть острым ножом.
Психоз деда был семейный, булгаковский, так как его бабка происходила из Ольгердовичей Булгаковых. Один из Булгаковых имел кличку Голица (то есть рукавица), и от него пошли князья Голицыны, гордящиеся своими корнями Ольгердовичей и Гедиминовичей. Сами же Булгаковы в Московии князьями не считались.
Внешне мой бесноватый дед был очень похож на Никиту Михалкова, но без михалковского наследственного специфического выражения. Прабабка Михалкова была заезжей не очень дорогой француженкой, певшей в хоре на сибирских “ярманках”. Суриков так к ней привязался, что выкупил ее из хора, женился на ней и, когда она умерла, часто приходил на ее могилу и, выпив изрядно водки, часами лежал на могильном бугре и горько плакал. Когда я вижу по “ящику” Михалкова, всегда вспоминаю деда – у них общие “южные” глаза. Правда, дед унаследовал их от своей матери, наполовину грузинской княжны Баграташвили, племянницы автора поэмы “Амирани”.
У деда был родственник – Владимир Васильевич Смирнов, генерал от инфантерии, командующий Третьей армией Западного фронта в германскую войну. Ему вместе с другими генералами, предавшими Николая II, красные отрубили шашкой голову. Произошло это злодейство в Кисловодске, в генеральском пансионе, где проводили отпуска командующие армиями и фронтами той изначально несчастной для России Первой мировой, в которую совершенно напрасно ввязались последние Романовы, защищая чуждые славянам Францию и Англию.
Вообще среди потомственных дворян Смирновых, за двести послепетровских лет переженившихся на итальянках и француженках, было много генералов и особенно полковников.
Другой родственник деда по матери – генерал от кавалерии князь Николай Николаевич Баратов, командовавший армией в Персии, хотел свергнуть большевиков в Закавказье. В одном из боев ему бомбой оторвало ногу.
Но сам дед, сын полковника и генерал-майора в отставке, был народником и давно уже сочувствовал эсерам, сидел из-за них в тюрьме. Бывал он в Полтаве у Короленко, часто встречался с Николаем Федоровичем Анненским, одним из столпов народнического либерализма, братом предтечи символизма Иннокентия Анненского. Его жена, моя бабка, сама до революции дружила с Потемкиным, Луначарским и другими будущими крупными большевиками. Оба они любили читать Горького, Леонида Андреева и всех скандинавских писателей и поэтому хорошо относились к Даниилу Андрееву – как к сыну близкого им левоватого писателя, одного из дореволюционных кумиров народнической интеллигенции.
Леонид Андреев сделал себе имя рассказом “Бездна”, повествующим о том, как один студент, у которого бандиты изнасиловали невесту, тоже залез на ее бесчувственное, в обмороке тело. Меня когда-то удивил его рассказ о гимназисте, пырнувшем ножом в живот проститутку, к которой он пришел для удовлетворения похоти.
Андреев-старший, как художник Врубель, часто рисовал демонов и Сатану и, как наставник тогдашних писателей Горький, был предтечей целой плеяды певцов темных сил и зверств большевизма.
Моего отца родители и их окружение также воспитали как народника, готового положить свою голову на плаху просвещения русского народа. Чем он и занимался до конца своих дней, преподавая рисование в различных учебных заведениях и издавая серию книжечек, которую в Москве называли “В помощь беспомощному художнику”.
Все эти послереволюционные беседы и общения происходили в основном на нашей даче в Перловке по Ярославскому шоссе, куда в те годы к нам ездило много интеллигенции из “бывших”, как-то пристроившейся при большевиках. В шутку они называли Перловку Смирновкой. Всех этих господ-товарищей бабка поила на террасе чаем с вареньем и кормила яичницей с жареной картошкой. В Перловке тогда было много старых дореволюционных дач, хозяев которых или выслали, или расстреляли. В опустевшие дома чекисты вселяли своих доверенных людей. Тогда на соседней с нами улице появились семьи Бонч-Бруевичей, Тухачевских, Кржижановских, чьи потомки гнездятся там и по сей день. Некоторые дачи стали явочными квартирами тайных агентов ОГПУ-НКВД.
За нашим домом, как за гнездом, где собираются “бывшие”, издавна было установлено пристальное наблюдение, но нашу семью не трогали, так как хозяин – мой дед – был явным психом, постоянно и громко выл, пугая соседских собак, поддерживавших его собственным воем. Все это внушало соседям страх, и они, выходя по ночам из домов, злобно шипели: “Опять дядя Боря воет” или “Опять Борис Васильевич спать нам не дает – надо бы его пристрелить!” Но пристрелить или поджечь дачу боялись, зная, что старый вытик имеет прямой доступ в Кремль: когда-то на его петербургской квартире размещалось землячество грузинских студентов и одно время там проживал Сталин вместе с грабителем европейских банков Камо – Тер-Петросяном. Дед мог напрямую писать Кобе, которого он знал по этой кличке с очень давних лет. Насколько я знаю, он не обращался к этому усатому господину, так как давно, как и многие ему подобные либералы, разочаровался в режиме большевиков, но о старом знакомстве порой для самозащиты вспоминал. Позднее, уже в послевоенные годы, постоянно читая “Огонек”, дед возненавидел Америку и регулярно посылал заказными письмами на Лубянку толстые черные клеенчатые тетради, исписанные тушью четким крупным почерком стареющего человека и озаглавленные “Заговор американских шпионов в Перловке”. В этих опусах дед запутывал в свои шизоидные сети всех перловских дачных соседей.
Однажды отца вызвали на Лубянку, и он с ужасом пошел туда, думая, что уж на этот раз его обязательно заберут, но был приятно удивлен, когда следователь, открыв шкаф, показал ему стопку тех самых тетрадей и очень вежливо попросил как-либо повлиять на папашу, чтобы он более не посылал к ним своих сочинений, которые они, тем не менее, обязаны хранить. Поселившись на даче лет пятнадцать назад, я сполна унаследовал шизоидные традиции нашей смирновской семьи и, по примеру деда, завел пять кошек и несколько собак, которые, к нерадости моей белокурой жены, полуприбалтийской немки и крайней чистюли, постоянно валяются в ногах постели и гадят по всем углам, хотя зимой для них посреди комнаты всегда стоят тазы с чистым песком. Как говорится, семейные традиции надо поддерживать...
По ночам я пока еще, правда, не вою, так как не слабонервен, и клеенчатых толстых тетрадей на Лубянку не посылаю. Но, возможно, все еще впереди, и от семейного безумия зарекаться нельзя, оно может настичь любого из нас неожиданно, как глыба льда или сосулька с весенней крыши. Наследственность, скажу я вам, штука страшная. Да и кроме того, все мои предки были в прошлом вояками и убивали множество людей, которые перед смертью наверняка проклинали своих губителей...
Дед рассказывал, что в их тамбовском имении после осенних охот гости традиционно трапезовали без дам, с собаками, и никаких правил гигиены при этом не соблюдалось: собаки хватали кости и объедки со столов захмелевших дворян. А утром многие гости просыпались на одной подушке со своими четвероногими друзьями, вылизанные ими из самых дружеских чувств. Мои кошки тоже любят вылизывать мне бороду и усы перед сном и часто спят у меня прямо на голове.
Я иногда бываю в ветеринарной больнице и встречаю там постаревших кошколюбителей и кошколюбительниц, переносящих, как и я, своих подопечных в сетчатых пластмассовых коробках, которые я называю ловушками. Таким подобным себе людям я объясняю, что животных теперь в России любят только потомки недорезанных дворян, и, к своему удивлению, почти всегда оказываюсь прав: хозяева хвостатых воспитанников сообщают мне о своем благородном происхождении. Наше простонародье в своей массе очень жестоко обращается с животными, детьми и стариками.
Даниил Андреев тоже очень любил кошек и постоянно спал с ними у нас на даче. Кошки ходили по цветникам и кустарникам, как звери в вольере. Около клумбы рос куст белых роз, посаженный бабушкой на могиле любимой кошки Пашеньки. Пашеньку какой-то пролетарий стащил со столбика калитки, где она грелась на солнце, и зарезал финкой. Соседской собаке разрезали пополам нос за то, что та лаяла, высунувшись в заборную щель. Бабушка рассказывала, что в Екатеринославе, где они жили в годы революции, махновцы отрезали груди у директрисы гимназии, тоже отъявленной народницы, под началом которой бабушка и сеяла разумное, доброе, вечное в души детей рабочих и городских обывателей – половина учениц гимназии была из простонародья и училась бесплатно.
Жил Андреев во флигеле, который не так давно пришлось разобрать, сняв с него наличники, расписанные дедом в сказочном стиле. Флигель полностью прогнил: он не был поставлен на кирпичный фундамент и ушел в землю.
Андреев всегда отчаянно курил дешевые крепкие пролетарские папиросы, и около его письменного стола всегда стояло ведро с водой, полное окурков. Наши кошки всей стаей собирались к Андрееву во флигель и постоянно сидели у него на спине, когда он писал, и спали на нем, как самолеты на палубе авианосца.
Три года до моего рождения (1934, 1935, 1936) Андреев подолгу жил у нас в Перловке, приезжая ранней весной и топя на ночь железную печку-буржуйку, подвесная труба которой была выведена в форточку. На своем медном примусе он постоянно кипятил крепкий, черный, тюремного пошиба чай. У Андреева был ключ от флигеля, он появлялся неожиданно и так же неожиданно, не прощаясь, уезжал в Москву.
Рядом с флигелем стоял построенный из горбыля дровяной сарай, а под ним – схрон, землянка со скрытым воздуховодом. В этом схроне периодически прятались катакомбные монахи и священники, днем спавшие во флигеле вместе с Андреевым на старинных черных железных кроватях с набитыми сеном тюфяками. Если появлялись подозрительные прочекистские люди, монахи уходили через люк в схрон. По ночам бабушка носила еду и для катакомбников, и для Андреева. Питались все в основном рисом с овощами и очень крепким бульоном из телятины, который варили в огромных кастрюлях и для кошек, и для людей.
Периодически по ночам в доме около иконы начала XVIII века “Знамение” вполголоса служили молебны. Икону спас от сожжения дед, когда в Москве из закрываемых церквей вывозили в кострище целые иконостасы. Он остановил груженную церковной утварью телегу и в обмен на денежную купюру получил от возчика большую икону Богоматери, которую быстро уволок в ближайший двор. Там дед купил у дворника мешковину, запаковал образ и увез на извозчике на дачу.
Среди скрывавшихся катакомбных священнослужителей были люди весьма образованные, к примеру, архимандрит Арсений, в прошлом человек из хорошего общества, закончивший в молодости какой-то привилегированный лицей и учивший потом в немецких университетах. С ним Андреев обсуждал религиозные и философские вопросы. Архимандрит по матери происходил из остзейских аристократов и настроен был во многом пронемецки, объясняя Андрееву, что вся петербургская культура была полунемецкой и что две великие страны уже очень давно срослись в сверхгосударство. Андреев был не согласен с такой трактовкой русского пути и все больше толковал об Индии, Тибете, о гималайской расе, об иранских и индийских ариях.
Перезнакомившись со многими катакомбниками, Андреев потом ездил по адресам их единоверцев в глухие места Брянской, Петербургской и Новгородской губерний, служившие прибежищем и утешением для многих врагов красного режима. Вроде уедет человек в глушь – и забудет о большевистском скотском хуторе. Он восторгался тогда еще не изгаженной большевиками природой тех мест.
К 1937 году, году моего рождения, в Перловке стало совсем беспокойно. Ночами по поселку ездили черные “эмки” – арестовывали людей. Сосед, лубянский офицер, входивший в расстрельную команду, усиленно наблюдал за нашей дачей. Часто наведывался к нам участковый милиционер, подолгу проверял домовую книгу и паспорта. Насколько мне известно, Андреев не любил красные власти, чекистов, милиционеров, боялся их всех, поэтому в те годы коротко стригся и носил кепку, кося под пролетария. Он стал искать более спокойное место для уединения и поэтому в последние предвоенные годы редко бывал в Перловке и постоянно не жил там. Я знаю, что по своим каналам, не через нашу семью, Андреев познакомился с родней генерала Джунковского, тоже жившей в Перловке, и бывал у них, расспрашивал о Распутине, которого те наблюдали в Петербурге достаточно близко. Джунковский занимал высокий пост в царской полиции, а потом насильственно, под залог семьи, перешел “по наследству” к большевикам и активно помогал им создавать большевистскую охранку – Чека. Он был очень близок с Рувимовым-Дзержинским, их союза очень боялся Сталин: эти многоопытные господа могли запросто скрутить и ликвидировать усатого уголовника, в прошлом полицейского осведомителя. Дзержинский, опасаясь быть отравленным агентами Сталина, принимал противоядия, подорвал организм и умер сам. После его смерти Джунковский скрывался на даче своих родственников в Перловке, но был выдан их бывшим дворником и вскоре расстрелян.
Мой отец предупреждал Андреева: опасно посещать семью жандармского генерала! Но куда там! Андреев вообще был человеком рисковым и мог спокойно засовывать голову в пасть льва. Дед, как бывший “борец за правду народную”, активно ненавидел жандармов и казаков, избивавших демонстрантов и студентов нагайками, и, конечно же, не верил в то, что Ленин в Первую мировую получал деньги от германского генштаба на свою революцию, а Троцкий и Носарь, возглавившие Петербургский совет, принимали японскую финансовую помощь на революцию 1905 года. Сегодня деятельность этих шпионов доказана документально, и не на основании русских архивов.
Когда дед узнал, что отец моей матери – казачий генерал-лейтенант, вешавший после японской войны железнодорожных служащих и студентов, мешавших эвакуации русской армии из Сибири в Центральную Россию, то люто ее возненавидел и называл “говном генеральским”, хотя сам был сыном армейского полковника и генерал-майора и внуком артиллерийского штабс-капитана – севастопольца, в молодости громившего из своих пушек в сорок восьмом году венгров и чехов, восставших против Габсбургов. Ох как давно русские армии ходили воевать в Восточную Европу, и с тех пор в этих краях клич “Русские идут!” равносилен кличу “Татары идут” в русских и польских землях. Очень неевропейские штучки делали крепостные армии императоров и рабские скопища большевистских косорылых ваньков на узких древних улочках Будапешта и Праги.
Андреев не был завзятым монархистом, просто сочувствовал расстрелянной царской семье. И Горький, и Леонид Андреев, и Иван Бунин, и Скиталец, и Чирикеев, и другие знаньевцы – все, как могли, готовили февральскую революцию и свержение династии Романовых. Мой дед хоть и был поражен жесточайшим шизоидным маразмом, но ума у него хватало, чтобы частенько, как бы про себя, приговаривать: “Не эту революцию мы ждали!”
В России были только две реальные силы – Романовы и дворяне и исконно враждебные им крестьяне. Среднего класса почти что не было, а рабочий класс и буржуазия болтались, как дерьмо в проруби. Большевики победили, опираясь на озлобленных инородцев и ожесточившихся за триста лет рабства крестьян. Мне кажется, что Андрееву во многом были близки эсеры и тот режим, который они могли бы установить в России, не вырви у них власть Ленин со своей бандой. Сотрудничая с большевиками, уцелевшая часть народнической интеллигенции через школы и институты подготовила себе смену – добрых, порядочных юношей и девушек неопределенно левых взглядов, почти поголовно истребленных в годы Второй мировой войны. Лейтенантская проза и интонации послевоенных стихов Винокурова появились именно среди случайно уцелевших воспитанников народнической интеллигенции. Они, наивные дурачки и дурочки, всерьез верили в социализм с человеческим лицом и гуманными идеалами. Остатки воспитанников народнической интеллигенции стали горючим материалом, который грел и оттепель, и перестройку, и ельцинский бунт девяносто первого. Душок этих господ-товарищей, наполнявших большевистские университеты, институты, издательства и прочие места, где красные готовили свои кадры и влияли на подрастающее поколение, я всегда нутром чувствовал.
Оселком для выявления людей с народническими тенденциями была оценка Второй мировой войны и участие русских в боевых действиях в рядах вермахта. Далеко не все, надевшие немецкую форму, разделяли взгляды нацистов, они просто хотели мстить красным и были рады получить оружие из любых рук, хоть от самого дьявола. Разъезжая по России, я познакомился со многими власовцами и неглавными участниками оккупационных администраций. Среди них не было ни злобных антисемитов, ни человеконенавистников. Они долго не могли понять, что вермахт пришел не освобождать Россию, а завоевывать ее. Тогда еще можно было спасти страну, были живы поколения, помнившие старую Россию, еще не появились законченные “хомо советикусы”, создание которых было завершено в послевоенный период.
Большевистская номенклатура, вывезшая своих самок и детенышей в Ташкент, Свердловск и Новосибирск (в Тюмень вывезли также “копчушку”, как в шестидесятые Геннадий Снегирев называл маринованную в уксусе мумию Ленина), вела последовательную войну на истребление своих подданных, водя в лобовые атаки плохо вооруженные и необученные толпы новобранцев.
Сейчас, в путинской России, официально шипят на Гавриила Попова за его новую книгу “Три войны Сталина”, приравнивая маленького седенького экономиста к власовцам и полицаям. По Попову первая война Сталина – разгром в западных военных округах кадровой Красной армии; вторая война Сталина – это война русского крестьянина, разочаровавшегося в немце, не давшем ему земли; третья – захват Восточной Европы. Две последние войны Сталин выиграл, а первую позорно проиграл. Шипят в путинской России и на умершего солдатского писателя Виктора Астафьева, заявлявшего, что большевики воевали солдатским мясом. Свыше двух десятков миллионов людей, по семь на одного убитого немца, положила ленинско-сталинская номенклатура для обороны Ташкента и Свердловска, где сидели, дрожа от страха, детишки красных начальников. Эти детишки потом раздербанили при Ельцине советскую промышленность и нефтяные прииски.
Мне совершенно не жаль красного рейха и всех его “достижений” и “завоеваний”, рычавших на площадях под красные тряпки, бодренькие мотивы Дунаевского и хрипы Утесова. Но жаль отдельных людей, как и я, злосчастный идиот, робко надеявшихся, что что-то может измениться к лучшему еще в течение жизни наших поколений.
Люди, сотрудничавшие с немцами, разочаровавшиеся в гитлеровской Германии, – те из них, кто выжил после сталинских лагерей, – не боялись в старости, в семидесятые годы, открыто говорить о своей трагедии.
Когда вермахт осенью сорок первого пер на Москву и многие в городе ждали немцев, у Андреева с моим отцом-народником, настроенным антинемецки, состоялся весьма любопытный разговор. Андреев сказал: “Ты, Глеб, так боишься и ненавидишь немцев – и совершенно напрасно. Немцы придут и уйдут, а Россия останется”. Поразительная и удивительная наивность! Так же рассуждали обыватели в гражданскую войну, говоря о большевиках. Но России, к сожалению, почти не осталось. Возможно, что на месте Российской империи, СССР и Эрэфии со временем появится небольшая страна, в которой будут жить остатки восточных славян, и эту страну, быть может, и назовут Россией.
Но перебегать к немцам Андреев не спешил и, уйдя на фронт со своей портативной пишущей машинкой, благополучно служил штабным писарем на Ленинградском фронте, стуча приказы, и даже не был ранен или контужен. У меня есть военная фотография Даниила Леонидовича в солдатской форме, он на ней тощий, как высушенная амазонскими индейцами человеческая голова. В землянках и окопах Андреев по ночам, как всегда, много курил и в тишине думал о своем, разрабатывая свои мистические системы и вырабатывая свой проиндийский “птичий” псевдоязык. Вообще словесно Андреев был очень развит и литературен – и наследственно, и от постоянного книгопоедания. Но образного и ассоциативного настроя, как его отец, не имел. Он был идеальный работник для периодической печати, только вот печати подходящей для него не было. Наверное, Андреев, как я предполагаю, был последним искренним – не для позы и желания продать себя в проститутной советской псевдолитературе – носителем народнического мировоззрения. Постсимволист Блок, самая яркая и быстро сгоревшая звезда русской провиденциальной и мистически озаренной литературы, как прозаик и гражданин России был сугубо народнической личностью – заседал в следственной комиссии над царскими сановниками в Петропавловской крепости, потом сотрудничал с Горьким, потом написал свои позорные бандитские частушки – “Двенадцать”, произведение кощунственное и антихристианское.
В революцию народническая либеральная интеллигенция оказалась совершенно не у дел, и ее регулярно пинали и белые, и красные: белые – за левизну, красные – за неприятие ими всеми насильственных методов большевизма. Самое смешное и паскудно неприятное состояло в том, что оставшаяся на территории России народническая интеллигенция всячески сознательно закрывала глаза на зверства большевиков и упорно их идеализировала.
Это закрывание глаз на мерзости большевизма было профессиональным и стало национальным массовым психическим заболеванием. Только две социальные группы закоренелых многовековых диссидентов, никогда не любивших ни царскую Москву, ни императорский Петербург, в гражданской войне воевали за свое свободное дело – казаки и старообрядцы. Для них, людей без особых иллюзий, ленинское хамодержавие было еще одним витком исконного московского и петербургского ига. К прятавшимся в нашем дачном схроне настоящим врагам советской власти, прошедшим гражданскую в рядах белой армии, Андреев был в общем-то равнодушен. Он не особенно сочувствовал белым, и будь большевики существенно либеральнее, он не имел бы к ним существенных претензий. Конечно, он тосковал по свободной либеральной прессе, в которой мог свободно печататься и как поэт, и как публицист. Вся проза Андреева насквозь политически публицистична. Он изначально антипод атеистического материалистического советизма.
Воспитывался Андреев в семье либерального прокадетского доктора Доброва и впитал в себя все прокадетские розовые бредни людей этого круга. Другой брат Даниила, Вадим, тоже воспитывался в либеральной семье профессора Рейснера, дочь которого стала, наряду с мадам Коллонтай, известной красной проституткой, комиссарившей в кожанке, с маузером на боку, на волжских и камских речных флотилиях. Как-то странно, что молодые женщины, воспитанные в приличных семьях, связались с уголовной шпаной и стали слабыми на передок комиссаршами. Большевизм изначально был сугубо бандитским сообществом, где убийцы и отребье всех народов, населявших погибшую от их рук Россию, безжалостно и беспрепятственно вершили свои кровавые тризны и собачьи свадьбы. Я часто почитываю мемуары Милюкова и удивляюсь их общей политической наивности – эти господа думали, что старая Россия была европейской страной, и не учитывали того, что половина ее населения всегда были ворами, душегубами, ночными татями и разбойниками. И этих разбойников власть держала на цепи, как хищных зверей. Отпусти жесткий ошейник с шипами – и эта стая зверья тут же начинает всех бить, душить, жечь и грабить. Само русское простонародье в тех губерниях, где было когда-то крепостное право, не способно управлять своими территориями и ждет, когда придет западная элита и снова организует здесь государство. Тогда, под защитой этих новых правителей без примеси угро-финской крови, снова постепенно восстановится порядок и даже появятся условия для возникновения науки и культуры. Суть большевистской революции – в уничтожении очень тонкой европеизированной прослойки, делавшей Россию только отчасти похожей на страну Северной или Восточной Европы. В той же Польше или Чехии население монолитно в своей славянности, а в России на одного белого европеидного великоросса приходилось двое-трое угро-финнов, тюркских и сибирских инородцев.
Удивительная быстротечная и почти молниеносная гибель России в значительной степени обсуловлена варварским составом ее населения. По своим взглядам Даниил Андреев тоже антизападник. Он обуславливает это тем, что один из его предков, уездный предводитель дворянства в одном из уездов Орловской губернии, был женат на таборной цыганке, так сказать, родилось дитё Феди Протасова и его упадочной кровосмесительной декадентской любви. Когда я вижу толпу советского и постсоветского цыганского простонародья, то содрогаюсь и отворачиваюсь, чтобы не запоминать. В Подмосковье и Нечерноземье цыгане массово торгуют героином и анашой и глубоко завязли в уголовщине. Андреев из своего частичного цыганства создал целую странноватую теорию о своих индийских корнях, полностью забыв о том, что цыгане – потомки низшей, неприкасаемой касты. Идя по пути многих русских сектантов и хлыстов, Андреев увлекся иными незнаемыми языками, т. е. ассоциативной звуковой речью, на базе которой действовали в двадцатые годы так называемые ничевоки и имажинисты, беспощадно раздавленные красными литразбойниками (некоторых их представителей я встречал в Москве шестидесятых, где они доживали в убожестве свой человеческий век). Меня в них пугало то, что в их речах за рюмкой дрянной советской водки проскальзывали фамилии некоего Халатова, Троцкого, Луначарского, супругов Брик и прочих большевистских деятелей той ужасной кровавой эпохи. Андреев был литдитём тех же лет, но несколько моложе, ходил на все их вечера и читки и все о них знал, но брезговал ими. Как человек (а я знаю, что говорю) Андреев завидовал гонорарам советских “инженеров человеческих душ”, но духовно хотел быть независимым. Прикорми его коммуняки в молодости, он стал бы обычным “встолописателем”. То же могло быть и с Солженицыным, но тот через Струве, старого, хорошо натасканного волка, знал, что на Западе ему заплатят неизмеримо больше, но для этого надо пострадать и потравить палкой в нос лубянского зверя. Вот теперь, вернувшись в Эрэфию, Солженицын сидит тихо-тихо и лишь изредка посапывает из своей барсучьей норы в Троицком-Лыкове. Хотя старцу терять нечего – мог бы перед смертью порычать, но жена, детишки, внучки – все живут не здесь, и поэтому особо не повякаешь, хозяева отвели ему строго определенную роль, которую он успешно отыграл. При тотальном контроле над средствами массовой информации очень легко сделать человека никем, дав закрытую команду не печатать о нем ни строчки ни в левых, ни в правых изданиях. Вот все и вертят головками у своих норок, как суслики, и очень даже стерегутся, зная, что нельзя. Твардовский, свободолюбивый литсатрап и придворный пиит Кремля, как-то сказал об авторе фильма “Калина красная” Василии Шукшине, что у него очень хорошее ухо и он многое слышал и воспроизводил в своих рассказах. Шукшин вполне красный автор, но он любил свой убогий, духовно кастрированный советский народ и жалел его, но так же поэтизировал традиционно русскую уголовщину. Не исключено, что жизнь Шукшина была прервана досрочно или его конкурентами, или секретными спецслужбами, боявшимися его руссизма советского розлива. Ведь самое опасное для всех этих людей – не традиционный православный руссизм, а советско-пугачевский вариант славянизма. У Андреева, как и у Шукшина, было чуткое ухо, и он, как птица-пересмешник, или ученый ворон, или попугай, многое перенимал у своих старших современников.
Литературно и поэтически Андреев был, несомненно, эклектик. Он тащил в костер своих вдохновений весь окружавший его интонационный мусор. Это свойство всех душевнобольных, занимающихся писательством, – по характеру их творчества можно поставить диагноз автору. Душевно здоровые люди обычно пишут ясно, просто, заняты сами собою, а не мечутся между чужим. Да, несомненно, Даниил Леонидович был не психически нездоровым, а душевнобольным. Душевнобольной – это не традиционный псих, а личность с горбом или язвой в душе. Таким же душевнобольным был и его отец Леонид Николаевич, и многие крупные литераторы предреволюционной эпохи, когда на таких субъектов была большая мода. Вот Лев Толстой, Чехов, Куприн или выбросившийся в лестничный пролет Гаршин были душевно здоровыми людьми, а душевнобольными были и Блок, и Андрей Белый, и сам Максим Горький, не говоря уже о Бальмонте, Игоре Северянине и их наследнике Вертинском. Душевнобольным и половым психопатом был Владимир Маяковский, до конца своих дней (а точнее – до выстрела в висок) управляемый своими чекистскими бабами и их лубянскими шефами. Творчество душевнобольных и половых психопатов – очень интересная и богатая тема для литгробовщиков. Наш “маленький классик”, по определению Блока, Иван Бунин не был ни душевнобольным, ни половым психопатом, и он очень хорошо разбирался в той компании психов, в которой он оказался, вторгшись в дореволюционную литературу из своей орловской и ефремовской глуши, которую он до конца дней только и любил. Отдельный человек может быть психически болен или страдать маниями и фобиями, но, берясь за перо, делается совершенно здоровым человеком и писателем, полностью адекватно воспринимающим и прошлое, и настоящее. Ярчайший пример тому – Ницше, человек нездоровый, но писатель абсолютно здоровый и даже сильный, если не сказать – мощный. Душа у него была без горбов и язв. Я бы вообще издал в одном огромном томе Ницше, Вайнингера, Шпенглера, Гитлера и Розенберга, чтобы наглядно видеть, как душевнобольные авторы исказили и дискредитировали мысли сильного и абсолютно душевно здорового мыслителя и поэта.
Обо всем, что писалось и пишется на территории бывшего Советского Союза, страны изначально дефективной и социально извращенной, я вообще говорить и писать не хочу и не буду. Был, правда, душевно здоровый писатель – Варлам Шаламов, есть автор одной повести – Лидия Корнеевна Чуковская, есть еще несколько авторов, писавших на советском материале, в чем-то близко подошедших к правдивому описанию окружавшего их нездорового и извращенного мира. А так все писали со страшной цепной собакой в конуре своей души. Я имею в виду внутреннюю цензуру. Я сам с величайшим трудом в конце концов отточил напильник, сделал острую заточку, полез в свою внутреннюю будку и зарезал эту страшную собаку. Эта внутренняя ложь похожа на совокупление с нелюбимой партнершей: как ее ни переворачивай, а удовольствия нет, и поневоле из сожаления имитируешь страсть, как имитируют ее порой с помощью стонов и криков, подсмотренных в дешевых завозных порнофильмах, женщины, не испытывающие оргазма со своими мужьями-алкоголиками. Вот так же жили и живут советские и постсоветские литераторы, обманывая себя и своих читателей. Постылая жизнь и постылая холодная литература, своего рода продукт принудительного, несвободного творчества, вроде стенгазет и “боевых листков”, по определению Ильи Кабакова. К тому же Россия – страна литературно молодая, относительно недавно напялившая на себя камзол псевдоевропейской словесности: все писали, особенно Пушкин, старательно прикидываясь органичными европейцами. У нас раньше, до XVIII века, писали только “по Божеству”, и только Курбский, Котошихин и сожженный в срубе протопоп Аввакум хоть немножко, не от хорошей жизни, заговорили на человеческом, каждодневном разговорном языке, без “высокого штиля”. Со времен Верлена, Бодлера, Рембо и Летриомона стало модно быть и прикидываться душевнобольными и желательно одновременно педерастами. Я против этих секс-меньшинств, а теперь и секс-большинств, ничего не имею. Пускай делают, что хотят, это такой же интимный процесс, как сидение на унитазе – не происходит объединения лиц, страдающих запорами или хроническим расслаблением желудка. Кроме темы лесбоса и педерастии активно используется идея венского доктора Фрейда о том, как каждый малыш хочет поиметь в зад свою дорогую мамочку и поэтому очень хочет убить своего папочку, а также творчество художников Гогена и Ван-Гога. Ван-Гог отрезал себе бритвой ухо в борделе, а у Гогена был очень большой половой член, и он сбежал к таитянкам и произвел от них кучу диких детей, потомки которых по сей день ползают на потеху туристам по пляжу острова вместе с черепахами. Ничего нового эти господа зазывалы не произвели, и используется та же истертая колода карт. В России в нее добавляются Неточка Незванова, Анна Каренина с ее паровозом, дочка Сталина Светлана, Солженицын с его раком желудка и ГУЛАГом, а также доктора Живаго и Чехов, удачно лечившие геморрой, и киевский венеролог Булгаков с его ведьмами. Под эту шарманку вертят и перестройку, и чубайсовскую приватизацию, путинскую чекистскую вертикаль суверенной демократии. Мы все уже очень давно, весь двадцатый век живем в совершенно удивительной, непрекращающейся, колоссальной, дотоле невиданной социальной и идеологической провокации. Есть несколько центров возникновения этих провокационных волн. Одним из таких очагов гигантской псевдолевой провокации был СССР, и внутри этого гигантского пузыря лжи работала масса, целое сообщество профессиональных лжецов и идеологических провокаторов. Их ценили по степени ядовитости и воздействия на слабые умы как самих подданных красного Кремля, так и западных и азиатских интеллигентов, уверовавших в эту ложь. В мире нигде и никогда не было столь рабского государства, как СССР, – для того чтобы прокормить себя и свою семью, надо было на любой работе, в любой сфере деятельности в унизительном порядке участвовать в поддержании этой лжи: участвовать в их выборах, присутствовать на их сходках и собраниях. Я, по матери донской казак, человек свободолюбивый, участвовать во всем этом скотстве не пожелал и сознательно избрал для себя роль парии и изгоя в советском обществе. Я с детства любил храмы всех конфессий – и православные, и католические, а потом и ламаистские, и буддийские. Мне синагоги с пением канторов и хоров мальчиков тоже всегда нравились своей древностью. А вот в мечетях мне было неуютно, и в протестантских молельных домах – тоже, наверное, из-за холодного прагматизма этих сооружений Бога. Наверное, поэтому я стал вначале юродствовать, а потом вошел во вкус – крестился на все храмы (закрытые в том числе) и часто падал на колени и полз по улицам и площадям к закрытым и оскверненным церквям (меня за это иногда возили в милицию). Потом научился писать православных святых и стал зарабатывать в храмах деньги, и часто очень неплохие, так как стал писать только землями и довольно быстро. Андреев тоже задолго до меня стал добровольной парией советского скотообщества – ходя по жэкам и красным уголкам и беря шрифтовую работу, за которую ему тогда платили сущие копейки. “Я не вдумываюсь в то, что пишу, – говорил он, – только количество знаков по тарифам”. У него эта шрифтовая работа хорошо и быстро получалась, и он на эту жалкую мзду мог довольно скромно питаться. Андреев был высок ростом, всегда безмерно худ и от постоянной работы за письменным столом у портативной пишущей машинки и корпения над шрифтами несколько согбен и сутул. Одна из его поклонниц подарила Андрееву гардероб покойного мужа (он был нэпманом и любил щеголевато одеваться), и он до самой войны донашивал несколько костюмов из прекрасной английской шерсти и шикарное черное осеннее пальто. В войну домашние обменяли все эти вещи на продукты, и они перекочевали к хищным подмосковным молочницам, которые в голодные годы буквально обирали москвичей. И, вернувшись с Ленинградского фронта, Андреев долго, как и многие фронтовики, ходил в потертой гимнастерке и шинели.
Семья Добровых страшно бедствовала и голодала первых два военных года. Из дома было вынесено все, что можно было обменять на еду. Безмерно расширяя Москву, большевики создали экономический город-паразит, который не могли прокормить московская и другие расположенные по соседству губернии. Сегодня этот процесс раздувания города зашел так далеко, что население московского региона представляет собой огромную пугающую страну, которую кормят дешевой эрзац-пищей из модифицированной сои. Не дай Бог, если городу придется переживать социальные потрясения и осады, как в сорок первом, – несколько миллионов умрут с голода и из города снова потянутся вереницы беженцев с узлами за спиной. Ах, это осеннее бегство из Москвы сталинских холуев в сорок первом! Все дороги были забиты “эмками” и грузовиками с людьми с белыми от страха глазами. А весной, когда стаял снег, около помоек обнаружились горы корочек партбилетов с вырванными страницами – они заметали следы. Андреев в это время был уже на фронте штабным писарем. Он рассказывал, как пришел в военкомат со своей портативной пишущей машинкой, мешком папирос “Беломорканал” и тремя книгами – буддийскими текстами, Евангелием и томом Шопенгауэра “Мир как воля и представление”. Книги безвозвратно пропали во время прорыва немцев на Волховском фронте, когда Андреев был срочно переброшен в другой штаб. А машинка вернулась с ним домой после войны, и он печатал на ней даже после отсидки во Владимирском централе. Ее как железный хлам не конфисковали лубянцы и она сохранилась у одной из поклонниц поэзии Андреева. Такими поклонницами были все дочери знаменитых московских профессоров, дамы чистые, нежные, старавшиеся подкормить тощего поэта, одеть в обноски своих близких и особенно старавшиеся купить ему носки и ботинки, так как он вечно ходил в стоптанной обуви с отваливающимися подошвами, которые он привязывал веревочками, и в носках с голыми пятками. Дочери профессоров да и сами профессора были тоже полунищими и годами собирали деньги на приличное пальто, и им было трудно накопить деньги на хорошие ботинки для поэта, поэтому покупали недорогую полурабочую обувь. Да о чем говорить? В те далекие годы будущий академик и будущее знамя горбачевской перестройки Лихачев ходил в белых парусиновых туфлях, которые подбеливал мелом. На очень тощем пайке жила советская довоенная интеллигенция – по системе академика Павлова, того, который в специально построенном для него Ягодой под Петроградом поселке Колтуши мучал собак. Портрет Павлова очень хорошо написал певец продавшейся большевикам интеллигенции художник Нестеров, создавший целую галерею портретов этих господ.
Нестерову протежировал академик Щусев, построивший ленинский мавзолей, а до него – множество прекрасных церквей в стиле модерн. Щусев был давно связан с западными мистическими обществами типа Гурджиева и антропософов и пользовался их покровительством и заступничеством.
Мучитель собак Павлов, сын священника, как и большинство детей русского духовенства, был человек политически темный и опасный (вспомним Чернышевского, Нечаева, Ленина и иже с ними). Павлов с детства пел на клиросе, специально для него Ягода построил в Колтушах единственный в сталинской России храм, где он подвизался псаломщиком.
Женат Павлов был на чистокровной еврейке Сарре, которую он крестил, и она получила новое имя – Серафима. Их сын, в отличие от низкорослого, похожего на заросшую шерстью макаку Павлова-отца, – высокий, стройный, черноволосый, с очень неприятным взглядом. Одевался он модно, по-европейски, всегда носил бабочку, стал, как и отец, физиологом и тоже мучил несчастных собак. Павлов-сын дружил с Ягодой и его людьми и лично знал Сталина, который поручил ему вместе с отцом разработать теорию, как советских людей вечно держать впроголодь, по их жаргону – “в подчинении условных рефлексов”. Сталина павловская теория весьма радовала и негласно была введена всюду. У нас сейчас в Эрэфии строится госпародия на Советский Союз, и совсем не до этого. Здесь каждое утро играют михалковский гимн, и военные под дудки и барабаны носят алые стяги, телеэфир переполнен фильмами и передачами, показывающими, каким мудрым вождем был товарищ Сталин. Причем чем дальше, тем мудрее, и погост с Красной площади никто растаскивать не спешит. А до тех пор, пока кости и пепел красных упырей на своих местах, Москва будет проклятым Богом местом. Павловская теория о содержании населения впроголодь, державшая советскоподданных в абсолютном подчинении начальству и заставлявшая их истошно работать, дабы им и их отпрыскам не лишиться куска еды и не сдохнуть с голода, действовала более десяти лет, вплоть до разгрома Финляндией Красной армии в тридцать девятом году.
Абсолютное послушание Красной армии в дни финской войны привело к тому, что красноармейские колонны втягивались в финские леса, и финны расстреливали их на марше, причем красные командиры и их подчиненные даже не делали попыток рассредоточиться – все боялись начальства. К этому времени НКВД в ходе предвоенных чисток истребило более девяноста процентов красного кадрового офицерского корпуса, и частями Красной армии командовали ваньки из деревень, часто даже не умевшие читать карты. С роты на полк, с полка на дивизию и корпус – таков был путь красных командиров в последние предвоенные годы. А в вермахте почти все командиры полков, дивизий, корпусов и армий имели опыт Первой мировой войны в рядах рейхсвера. Царский офицерский корпус в гражданскую войну большей частью сидел дома, не воюя ни за белых, ни за красных, и, тем не менее, его истребили до тридцать третьего в ходе так называемой регистрации офицеров: пуля в затылок – и в яму! В годы гражданской войны у белых воевало 85 тысяч генералов и офицеров, а у красных – 72 тысячи, причем офицеры генштаба оказались почему-то в большинстве своем у красных. Вот такая удручающая картина наблюдалась в России в предвоенные и военные годы, когда проходила юность, молодость и зрелость и Андреева, и моего отца.
Если наша смирновско-абрамовская семья была в основном кадрово-военная, то андреевская и все ее окружение не была связана ни с царской, ни с рабоче-крестьянской армиями. Я немного знал единоутробного брата Даниила Леонидовича – Вадима Леонидовича – и замечал разницу в их опыте. Вадим Леонидович был суше, прагматичнее своего брата, долго жил в Америке, работал монтажером в Голливуде, а до этого – в Париже техническим работником в издательстве. Политически он был намного опытнее младшего брата и юношей воевал в белой Северной армии. Вадим Леонидович был женат на сестре жены Владимира Брониславовича Сосинского, тоже давнего парижского эмигранта, про которого говорили, что он был агентом многих европейских разведок. Я немного знал и этого Сосинского, знал, что он получал кресты в деголлевском сопротивлении немцам, играл какую-то роль в обществе советско-французской дружбы и его немного побаивались как человека вполне определенной политической ориентации.
Даниил Леонидович был сам себе и вселенная, и политика, а его брат и Сосинский были людьми из уже готовых политических клеток и загонов, где они и хрумтели своими корочками со столов хозяев и князей мира сего. Страшный век прожили все эти люди, да и наши поколения тоже – двадцатый век был ужасен своей кажущейся неопределенностью: под разными ярлыками (теперь – брендами) пряталось совершенно иное, чем то, что декларировалось. Сейчас, в результате опыта двадцатого века, все спутано: например, в СССР на самом деле не было никакого социализма (а в Швеции был и есть); в постсоветской России не было и нет левых движений и партий, а есть только преступные сообщества номенклатуры.. А на Западе под видом чисто декоративной демократии все более усиливается диктатура транснациональных корпораций, разъедающая изнутри, как рак, традиционные западные общества. В общем, мы всё более видим декорации без содержания. Начавшиеся конфликты цивилизаций и сдвиги расовых глыб континентов помогут сбросить шелуху лжи, и двадцать первый век станет веком голых конфликтов: мусульмане, азиаты и латиносы будут воевать за себя, и европейцы будут вынуждены снова начать борьбу за традиционные европейские ценности, забытые с крахом империй после Первой мировой войны.
А вот в России европейское начало ослабело почти полностью, и теперь здесь возникает расово темное и всесторонне диковатое государство типа империи Митридата.
Все это совсем-совсем недолговечно, и Андреев был человеком хаоса, чувствовавшим самые мрачные прогнозы. Он носил в душе хаос, распад и подвижность окружавшей его псевдоцивилизации.
Как бы ни был странен, инфантилен, потенциально двупол великий Блок, страдавший сексуальным инфантилизмом и нарциссизмом, он признал в Андрееве-отце своего человека – человека величайшей интуиции и большого чувствователя мрака и хаоса. Это ведь дано очень немногим: один пройдет по улице и увидит красивых женщин и ласковых детей, а другой на лице каждого десятого прочтет следы преступлений и тайных кровавых жертвоприношений.
Я пишу кое-что о Данииле Леонидовиче не потому, что приватно видел его в юности, и не потому, что он жил в комнате, где я теперь доживаю свои дни, а потому, что сам ношу в душе предчувствия величайших катастроф, и их появление для меня никогда не становится неожиданностью.
Живший в одном особняке с Андреевым его ментор, поэт-мистик Коваленский – троюродный брат Блока, воспитанник Эллиса (Кобылинского) и Бориса Бугаева (Андрея Белого), в значительной степени повлиял на Даниила Леонидовича, но своим учеником не считал и отмечал его некоторую стихийную народническую самостоятельность и отсутствие систематической образованности в познании мистики. Коваленский был человеком тени, несомненно, посвященным в тайны некоторых мистических европейских сообществ, ему было что скрывать. К сожалению, весь его архив и вся поэзия погибла в топке “дела Андреева”, которое его совершенно напрасно выставило на след и подставило под смертельный удар. Коваленский рассказывал мне, что был знаком с Альфредом Розенбергом, тогда еще русским студентом, много с ним беседовал и был убежден в том, что фашизм возник в России, а не в Германии, где его изуродовали и исказили невежественный Гитлер со своим уголовным окружением. Я, может быть, даже напишу статью “Коваленский и Альфред Розенберг”, в которой изложу и взгляды Коваленского на духовную трагедию Германии и России, и мои впечатления от книги самого Розенберга “Миф двадцатого века” как произведения, написанного на русской почве и русском материале.
Октябрьский переворот повлиял на остзейских немцев, фактически создавших немецкую по духу Российскую империю последних Романовых. Обо всем этом и о роли немцев в русском госстроительстве все теперь молчат, да и с самими немцами-меннонитами, переехавшими в Россию, в Крым, на Украину и Поволжье при Екатерине Второй, большевики расправились чудовищно жестоко. Сами прибалтийские немцы уцелели в странах Прибалтики, а потом их репатриировали по пакту Молотова–Риббентропа. До появления довольно сплоченных групп остзейских немцев в Мюнхене и Берлине никакого фашизма в Германии вовсе не было. Именно остзейцы подобрали в пивнушках Гитлера и его людей, которых потом финансово поддерживали сам Великий князь Кирилл Владимирович и его супруга. Эта группа ставила своей целью не допустить в Германии того, что произошло в России. Я помню напечатанную фразу Розенберга о том, что он задумал свою книгу, глядя на чернь, беснующуюся на улицах Петрограда. Известно, что Ленин и его доверенное лицо Карл Радек отправляли в Германию вагоны со слитками русского золота. Но вернувшиеся с проигранной войны немецкие солдаты перебили своих офицеров и убили руководство немецких социал-демократов.
В дневниках Блока много фраз об арийстве, Блок посещал собрания философского общества в Петрограде, на которых присутствовал и Розенберг. Мережковский и Гиппиус ездили к Муссолини; Коваленский знал Розенберга и наверняка обсуждал с ним проблемы арийства в России. Все это звенья одной цепи, и недаром Шульгин говорил, в том числе и мне лично, когда я с одним пожилым монархистом посетил его во Владимире, что фашизм – русское изобретение. Наверное, основная причина возникновения фашизма именно в России связана с крахом в горниле большевистского пожара европейских организующих начал.
С Розенбергом был близко знаком и мой дядя, старший брат моей матери, генерал-лейтенант Ф. Ф. Абрамов-младший, по своей охоте готовивший для вермахта казачьи сотни из эмигрантов, своих бывших подчиненных. Я знаю, что он и устно, и письменно внушал Розенбергу, что Гитлер проводит в России неправильную политику. В сорок третьем дяде было семьдесят три года, и он был самым популярным генералом русской армии, сочувствовавшим немцам. Дядя вошел в число учредителей КОНРА (конгресса освобождения народов России) в Праге; сам своими боевыми сотнями не руководил, к убийствам евреев отношения не имел по семейной традиции – его отец, мой дед, неоднократно предотвращал погромы и в Польше, и в землях Всевеликого войска Донского, считая евреев обычными подданными Российской империи. Дядю выпустили из Европы в Америку, где его в 1963 году все-таки убили чекисты, так как правительство США не выдало СССР старого генерала для повешения вместе с его боевыми друзьями – генералами Красновым, Крым-Гиреем и Шкуро. Краснов был такой же германофил, как и дядя, и они пригласили на Дон кайзеровские войска для совместной борьбы с большевиками. Как-то так получилось, что проблема фашизма с его религиозной архаикой очень близка и самому Андрееву, и Коваленскому, и членам нашей семьи, да и сам я мальчишкой очень хорошо помню части вермахта и в Тарусе, и в Поленово. Я всю жизнь интересовался национал-социализмом и все старался понять, что же именно меня в нем интересует. Конечно же, не пучеглазый ефрейтор и то, как он погубил свою армию в России и перебил и перевешал массу славян и евреев. Потом я понял, что меня привлекало в этой кровавой неприятной истории, – скомпрометированная и проваленная идея сохранить Европу как европейское обиталище, не допустив туда мусульман и монголоидов. Эту же задачу долго пыталась решить Россия, но сама монголозировалась и стала одиозной антиевропейской страной. Угроза мусульманизации и монголоизации висит сейчас и над остатками России, и над Европой, недаром на въезде в Берлин уличные хулиганы и стеномараки написали: “Вас приветствует турецкий город Берлин!”
Белое движение было идеологически совершенно бесплодным – ну, поймать большевиков, перевешать их, собрать Учредительное собрание, избрать новую, желательно двухпалатную, Думу, справедливо переделить землю, учредить некую западного типа демократию, продолжить войну с немцами, взять Берлин, войти в Версальский заговор, захватить Дарданеллы и Константинополь. Наши всякие Алексеи Толстые, Бунины, Чириковы, двуполые Мережковские-Ропшины и другие им подобные, оказалось, умели только шипеть, как прокисшее пиво: ни одной национальной сверхидеи, способной хоть как-то сплотить культурную Россию. О некультурной России я и говорить не буду – это чисто грабительская стихия. Русские крестьянские массы вообще не имели никакой идеологии: жечь имения, убивать помещиков, колоть офицеров и т. д. – вот и вся их программа. Крестьянство не пожалело своих хозяйственных и зажиточных собратьев, так называемых кулаков, и разорило их не хуже помещиков. Города и заводы русские крестьяне всегда рассматривали как объект для грабежей и поджогов. Всю революцию в деревни шли обозы и телеги с награбленным имуществом городских обывателей. Сейчас, при втором, “советском”, разгроме цивилизации на евразийской равнине население громит советскую промышленность, всюду выламывая алюминий и медь. Без электричества остаются целые районы, а на проводах висят обгорелые трупы людей с зажатыми в кулаках кусачками. Были проданы в Китай на металлолом совершенно новые заводы, купленные за границей и не успевшие еще поработать; некоторые продавали, даже не распечатав ящики с оборудованием. Кое-как еще теплится ВПК, но комплектующих уже нет. Недавно продали под склад фаллоимитаторов завод, производивший микроподшипники для стратегических ракет. И что еще хлеще – чуть не упал самолет самого Путина, так как запчасти к нему делали в кустарной мастерской, а завод продали на металлолом.
Варваризация в современной Совдепии носит повсеместный характер: закрываются исследовательские институты, на глазах гибнут целые направления науки, безнадежно падает уровень образования. В какой-то степени продолжает развиваться только наука о книгах и писателях – какой-то разгул и шабаш литературоведения. Новых писательских имен нет – есть только хорошо адаптированные жанры. Недолгая великая предреволюционная литература была во многом интересна беспощадным социальным анализом, который теперь вообще выветрился и стал полностью запрещен. Ну а при таких запретах ничего толкового не напишешь, надо оглядываться за плечо хуже, чем при большевиках.
Вот это действительно прискорбно: оказалось, что русского народа со времен крепостного восемнадцатого века вообще нет. Есть, а вернее – были отдельные этнические образования, которые объединяло только желание выть под гармошку свои заунывные песни и совместно грабить чужую собственность. Разграбят что-нибудь, выпьют ведра самогона, повоют песни и разбредутся по своим норам сажать картошку и огурцы. Потом они насильственно собираются новыми империями в колонны и гонятся куда-то на убой. Там, перебив большое число восточно- и западноевропейских народов, перевешав их интеллигенцию, скопища племен перли назад в свои болота и там в грязи размножались и порождали новые толпы солдат и рабов. Так было и при Александре I, и при Николае I, и при Николае II, и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве. А мы, дворяне, до семнадцатого года со шпагами в руках вели эти скопища на поля Европы. Что забыли орды диких славян в Китае и Корее с их каменными водопроводами и канализацией со времен средних веков и зачем их туда привел бездарный генерал Куропаткин?
За годы советский власти русское простонародье засрало и превратило в сортиры большинство своих храмов. Я помню, как бродил с отточенным, как топор, альпенштоком и острыми кинжалами по Хевсуретии вдоль грузинской дороги и часто встречал разрушенные базилики и часовни из сланца. Внутри было чисто, лежали сухие цветы, бычьи рога, обломки серебряных кинжальных ножен, на алтарях – засохший хлеб и оплывшие старые свечи. Никаких осквернений – запущенные ветхие пристанища Бога. А вот куда бы ни приходили советско-русские скопища простонародья, свою деятельность они сразу начинали со зверского изнасилования женщин и осквернения храмов любых божеств. В Германии Красная армия изнасиловала более полутора миллионов немок, загадила все католические церкви, и даже на мраморном надгробии Эммануила Канта в Кенигсбергском соборе кто-то вырубил зубилом: “Правильно тебя ебал Ленин!”
Неоскверненные старообрядческие часовни я встречал только в Карелии, где население целиком бежало от финнов. В своих одиноких скитаниях я частенько ночевал в них, предварительно очистив березовым веником полы от засохших листьев и узенькие, как бойницы, рубленые окошечки от обломков птичьих гнезд. Один раз я нашел в такой часовенке тело мертвого старика-охотника, усохшего, как мумия. Я вырыл ему в песке кинжалом неглубокую могилу и завалил ее от лис и енотов огромными валунами. В часовню хищники почему-то не вошли и тело не тронули. Но когда я ночевал там, куницы, хорьки и лисицы забегали в помещение и смотрели на меня и даже иногда обнюхивали. До сих пор помню их черные глазки и мокренькие носы.
Большевистский Тургенев – разрешенный советами писатель Михаил Михайлович Пришвин. Его низкорослая русоволосая толстая дура-жена держала одно время на Арбате масонскую ложу, где собирались лубянские провокаторы. До революции Пришвин написал о русском Севере хорошую книгу “В краю непуганых птиц”. Он тогда жил в Дорогобужском уезде Смоленской губернии, был женат на старообрядке и имел от нее детей. В революцию Пришвин бросил семью и бежал в Москву к масонской толстожопой дуре, переписывавшей его рассказы о перепелках и кротах. Бывшая жена и дети голодали, питаясь корнями и лесными орехами.
Сестра моей бабки по матери работала главным врачом дорогобужской земской больницы, и Пришвин – бородатый, в болотных сапогах – приходил иногда к ней читать свои рассказы, пожирая при этом ее сахар.
Старая Россия, к сожалению, погибла без остатка, и “Роза мира” – это изысканный андреевский Белый Лотос, выросший в воронке от взорванного храма Христа Спасителя или оскверненного красным зверьем храма в любом другом губернском городе. Из-под листьев андреевского цветка торчали ржавые прутья, изломанные и сгнившие в сапогах человеческие кости, проломленные черепа. Да и сам автор “Розы мира” был с очень большой ржавчиной в мозгах. Его индуистская абракадабра, которую он подмешивал в любую жидкость, – это чаша с крюшоном, в который подмешаны ржавые кривые гвозди и острая металлическая стружка. Другого пойла нет, и приходится невольно читать, ломая язык о новоязовские изобретения. Да, к сожалению, другого такого коктейля больше в России не будет – его писал сочинитель из той, старой, России, откуда больше уже не раздастся ни одного голоса.
Помню, я как-то завел разговор о Галине Кузнецовой с ее многолетним сожителем, почти мужем, Вадимом Леонидовичем Андреевым, с чьего тюфяка она и переехала на бунинскую грассовскую перину. Вадима Леонидовича такой оборот речи неприятно поразил, он зло на меня посмотрел, потом улыбнулся и сказал смешливо: “Я забыл, что вы еще молоды и еще практикуете. Кое-что я вам скажу. Галя была из Киева, где смешана польская, украинская и еврейская кровь. Эротически она была не слишком требовательна, молодыми людьми сильно не увлекалась, зато у нее были весьма опытные подруги. Человек органически литературный, она много читала, понятие “русский писатель” для нее значило очень много. Я всю жизнь писал стихи, а надо бы было прозу, но (и тут он сказал важную для меня вещь. – А.С.) мы все боялись оскорбить русский народ, в высшую роль которого мы все излишне долго верили. А как можно писать прозу, боясь оскорбить партнера? Это невозможно”.
“Ну а старик?” – спросил я его о Бунине. “Он ревновал меня к моему прошлому с Галей; и потом – он не любил моего отца и завидовал ему, его славе в России, которая была почище чеховской, а он был так – орловский дворянчик в картузике. В привычках своих он был вполне приличен и даже доброжелателен, но прошлого не забывал никогда. Он вообще был злопамятным, я бы даже сказал, органически недобрым человеком. Был один случай (Вадим Андреев махнул рукой), когда он меня довольно несправедливо оскорбил и смотрел на меня своими глазищами – съем я или не съем? Я съел, и с тех пор он стал вежлив даже излишне”.
“А как у него было с евреями?” – пристал я. Вадим Леонидович расхохотался: “Это целая сказка! Ведь это евреи добыли ему Нобелевскую премию, которую он так молниеносно прожил в Грассе. Евреи Бунина любили, и он любил евреев. Как ни приедешь в Грасс – на террасе Бунин с целым сообществом евреев, все хохочут, всем весело. Потом он долго жил в Одессе, в Крыму, в Ялте – там полным-полно евреев, греков, армян. – Вадим Леонидович вдруг замолчал. – А вот у Чехова с евреями дело было трудное. Он их никогда не трогал, был с ними очень вежлив, но смотрел на них с тоской и печалью и после их посещений часто тосковал и все вспоминал несчастного Левитана. Это я вам первому говорю. К тому же я не один раз видел, как Бунин засовывал в карманы пачки денег, которые без отдачи давали ему евреи. Но в своих произведениях Бунин о евреях ничего не писал, ни хорошего, ни плохого. А Чехов один раз описал еврея-паломника в монастыре, и сделал это хорошо. Мы с Буниным несколько раз говорили о евреях, тем паче что я ехал в Америку – страну еврейскую с его точки зрения, и он мне дал немало советов, как себя вести с евреями. Старик имел очень большой опыт в этом деле”.
В это время мы подходили к ресторану, где собирались ужинать, и Вадим Леонидович закончил нашу беседу так: “Галя очень жалела Старика и все ему прощала, а с Верой Николаевной, эмансипированной барыней и сумасбродкой, было довольно тяжеловато даже самому Ивану Алексеевичу, хотя он к ней привык, как к любимому халату, пропахшему табаком. – Он немного помолчал и продолжил: – А для меня Галя – это молодость, и в ней было много хорошего и чистого. Это вы когда-нибудь поймете. Она была как будто из воска: из нее все всё лепили, а потом все распадалось”.
У странных писателей часто бывают странные сыновья, у них обычно нет зоологически цепкого дара отца, но на мир они смотрят шире, умнее и терпимее, и обычно у них у всех страшные судьбы, переломанные, как кухонная мебель в неблагополучной семье, участие в чужих эпопеях и событиях. И самое страшное – они выпадают из своего времени и своей судьбы. Взгляните на семьи Цветаевой, Андреева, Горького, Есенина и т. д. Этого нет только у еврейских писателей – они древние люди книги, а славяне все интеллигенты в первом поколении, несмотря на рыцарские гербы в прошлом.
Я этот давний разговор с довольно чуждым мне человеком и не вспомнил бы, если бы не зверское сходство с его покойным братом Даниилом. Я познакомился с ним в солнечный весенний день на улице около фонтана; тогда в Москве еще иногда бывало уютно и даже не противно присесть возле пушкинского памятника с лицом африканской усталой задроченной бабами и поэзией обезьяны. Разговор этот интересен тем, как двое людей очень разных возрастов, судеб и взглядов, но все-таки сохранивших традиционную русскую вежливость и мягкость (была такая, ныне совершенно забытая, мягкость общения людей определенного уровня и культуры), говорили о женщине, закоренелой лесбиянке, которая была любовницей одного из собеседников и давно умершего друга его покойного отца, уже стариком отбившего у сына своего приятеля любовницу, годящуюся ему в дочери. Конечно, не очень удобно мне было затевать этот разговор, но он был мне любопытен не из-за “клубнички”, а потому, что эта история весьма напоминает роман жены Пушкина с Дантесом.
Иван Бунин был последним крупным русским писателем – на нем российская словесность закончилась, около его разложившегося и растекшегося тела развелось нескончаемое число русскоязычных писателей. Чехов сказал: “Вот Толстой умрет – и все кончится”. – “А что кончится, Антон Павлович?” – “Все кончится”, – ответил Антон Павлович. Ну а потом умер Бунин, описывавший осенний дождик лучше, чем сам Толстой, в чем он признавался. Вот я и приставал к Вадиму Леонидовичу, давнему знакомому Бунина и сожителю их общей любимой женщины.
Из этой беседы я понял очень важную вещь – оба эти интеллигента не хотели иметь ни семьи, ни детей. Этого же не хотела и лесбиянка Галя Кузнецова. Во время нашего разговора она, кстати, была еще жива и доживала свой век на крохи, перепадавшие ей в системе обслуживания ООН. Там, пока был цел СССР, всегда кормили такие человеческие обломки – авось понадобятся на всякий случай.
Насчет живучести СССР ошибались – на поверку он оказался огромной армией алчных номенклатурных воров в погонах и без погон. Всегда были страшны рожи на мавзолее, но теперь среди самых богатых людей страны появились физиономии чисто апокалиптические, взглянешь – вздрогнешь. Я почти перестал смотреть телевизор: сплошной поток кровавого насилия и высокопоставленной шпаны носит тотальный характер.
В современном эрэфовском безвременье, при полном одичании и безмозглости населения, возможно абсолютно все. И больше всего попахивает новой Мариной Мнишек с новым “воренком”. Великая княгиня Мария Владимировна Романова-Гогенцоллерн, разведенная жена принца Прусского и мать его сына, тоже претендента на два имперских престола, дама телом массивная, подвижная, чернявая, разбитная, которая была бы идеальной хозяйкой бара где-нибудь на юге Германии или около Одессы, – тоже не прочь поцарствовать. Она особа симпатичная, ловкая, умеет с мужиками поговорить. А вот ее мать – оплывшая старуха, княгиня Багратион-Мухранская-Романова – дама со страшенной политической биографией. Ее папаша, проигравшийся армейский офицер князек Георгий Багратион-Мухранский, женился на дочери богатого тифлисского еврея Золотницкого, и от этого брака родилась дочь Леонида, толстенная девица с пальцами, как сосиски. Оказавшись в Европе, она вышла замуж за еврейского банкира Кирби, человека, близкого банкиру Якову Шиффу, наставнику Льва Троцкого. И вместе с Шиффом он продавал барахлишко убитых Романовых. Потом Леониду Георгиевну вербует ОГПУ, и Кирби, узнав об этом, разводится, а Леонида Георгиевна охмуряет Великого князя Владимира Кирилловича, чахлого, худенького и слабохарактерного. И у них рождается нынешняя Мария Владимировна, дама-танк, у которой, кстати, красивые романовские глаза при очень южном подвижном теле.
Андреев всю жизнь, до последнего дня, был иделистом и мечтателем. Он так и умер, ничего не поняв. Да это для него и к лучшему – он смотрел на мир, как кроткий ручной олень, не знающий, что к обеду его зажарят. Ну и зажарили – его самке он нужен был мертвым, а не живым: Алла Александровна чувствовала себя еще в силе и собиралась замуж за какого-то профессора, а тут очень больной, разбитый инфарктом человек. Она была ловкая и разнузданная вдова поэта, от ее имени можно было легко манипулировать его мертвым телом.
В моем сердце всегда, кроме прочего зверья, жил зверь-вещун, и, прислушавшись к нему, я понял, что поэта очень быстро уморят. Ни на отпевание в храм, ни на похороны я не пошел. Мне эта лагерная подстилка Алла Александровна, жуткая потусторонняя смесь латышки, цыганки, дворянки и еврейки, с косящим сатанинским взглядом и маленькими козьими грудками всегда казалась полузверем, приведенным из дикого прибалтийского леса, где ведьмы обмазывали себе груди кровью жертвенных животных, медом диких пчел и мужским семенем.
Такие женские существа следовало бы селить в приморских городах, где они обслуживали бы целые изголодавшиеся корабельные команды, а не трудились бы в кабинетах поэтов и мастерских художников. Странная все-таки судьба была у Даниила Леонидовича – лагерные сидельцы его прекрасно информировали о том, с какой яростью его супруга предавалась разврату с лагерной охраной и ею все брезговали как сексуально бесноватой. И, тем не менее, он радостно с ней встретился и вскоре умер от излишних сексуальных эксцессов, о нежелательности которых его предупреждали врачи. Об этом я говорил и с Сосинским, и с его братом Вадимом, который только развел руками и сказал: “Это профессионалка”. И добавил: “Брат и сестра Даниила от второй, еврейской, жены нашего отца хотели вывезти его на длительное лечение в Англию, но для КГБ это было, по-видимому, нежелательно – они боялись появления Андреева на Западе, где он мог бы сыграть значительную роль. И Алла Александровна сработала им на руку”.
Фактически издав Андреева в России, а не на Западе, его идеологически обезвредили. Возьмусь, однако, за пожелтевшие страницы “Розы мира”. Я очень не люблю рецептировать чужие книги: человек написал – и ладно. Другое дело – взять чужую сырую рукопись и дописать ее так, чтобы автор не понял, что именно написал он, а что я. Это забавное занятие. Все, что написано в перестроечный период, в эпоху гласности и ельцинской революции и тем более позднее, чудовищно пожелтело не только в прямом смысле. Было когда-то выражение, аналогичное “желтой прессе”, – “рептильная пресса”, происходящее от творчества змей, ящериц, крокодилов, жаб, саламандр и прочих земноводных журналистов из болотной жижи. В одной из моих комнат лежат несистематизированные пожелтевшие стопы всех скандальных изданий эпохи Горбачева, когда все назревало и чудились варианты. Эти газеты и журналы, которые тогда читали, буквально трясясь, оказались желтой липой и обманом. Взять издания девятьсот пятого года. Тогда прослойки и сословия общества боролись за свои финансовые и экономические права: крестьянам была нужна земля, рабочим – улучшение условий труда, интеллигенции – свобода печати и т. д. Или возьмем издания 1917–1920 гг. Также реальная борьба за экономические интересы классов. В каждом регионе – особые, неповторимые, с огромным накалом страстей. Потом все захватили большевики, и на восемьдесят лет воцарилась гробовая тишина. Обрывки той прессы я всю жизнь собирал в особые папки и ценил на вес золота. И тут вдруг плешивый ставропольский воришка (кликуха “Конверт” – взятки брал в конвертах) объявляет о конце советской власти. Я начинаю, как старая архивная крыса, все выписывать и собирать. И оказывается – все пусто! Землю крестьянам не отдают, казакам тоже, нет даже намека на реституцию, хотя бы крошки какие-нибудь дали лавочникам, мещанам и капиталистам. Кое-что можно вернуть и помещикам, хотя именно наш дворянский класс своим вековым экономическим эгоизмом довел страну до национальной и расовой катастрофы.
Когда я сегодня смотрю на портреты холеных дворянских самочек, у меня в штанах ничего не шевелится (и не по причине возраста), а шевелятся в голове всякие поганые мыслишки вроде: “Обожрались, сучки, отъели гузна, а потом драпали в Константинополь, и генерал Яша (Сланцев) со своими юнкерами спасали ваши задницы от красноармейских штыков. Недаром Сланцев издал свой знаменитый приказ: “Тыловая сволочь, можете снова распаковывать чемоданы, я в очередной раз спас для вас Крым”. Это только в песенке ресторанного жулика и барда Звездинского пелось про поручика Голицына и корнета Оболенского. В армии Корнилова не было офицеров с такими фамилиями: по степи шли студенты, внуки обрусевших иностранцев, фельдшеры, лавочники и казаки. А хозяева дворцов давно драпанули со своим толстожопым бабьем в Европу, гордясь своими гербами и титулами перед европейским блядьем, покупавшим их, как породистых проституток. Теперь они иногда ездят в Россию и ахают: “Как все засрали и опоганили!” А если спросишь: “А ваши отцы и деды в рост, с винтовкой наперевес в промерзшей донской степи ходили цепями колоть красных?” – молчат, стервы. В одной Москве при Керенском пятьдесят тысяч кадровых царских офицеров у своих баб грели под перинами жопы и выглядывали из окон: когда для них юнкера возьмут Кремль? Среди этих профессиональных жопогреев был и главнокомандующий, генерал от кавалерии, герой Галиции и Львова Алексей Алексеевич Брусилов, тоже ждавший, когда красные перебьют юнкеров. Брусилов потребовался большевикам еще раз – дать генеральское слово бывшим врангелевцам, по наивности оставшимся в Крыму, что им сохранят жизнь. Слово-то он им дал, а Землячка и Бела Кун десятки тысяч московских и петроградских студентов уложили из пулеметов в овраги вокруг Феодосии. И эта старая усатая галоша после этого посмела не застрелиться! Вот это и есть то русское говно, о котором говорил Ленин.
Когда мне притащили несколько изданий “Розы мира”, я почитывал и, как почитываю всё, – сначала просматриваю всю книгу, а потом отдельные куски. Затем в собрание сочинений Андреева перепечатали из газеты мои воспоминания о нем. Со мной хотела встретиться уже тогда почти что слепая его вдова, но я, конечно, уклонился. После смерти Андреева я видел ее всего два раза, а до того – пару раз в Перловке при жизни Андреева. Она все время его сторожила или вела за руку, как полуслепого (хотя видел он гораздо лучше ее) или выжившего из ума полукретина. Очевидно, ей так было поручено на Лубянке, и она играла роль сторожевой чекистской собаки. Я знаю, что один раз Киселевым, друзьям юности и соученикам по частной гимназии, удалось увести Андреева к себе. Как бесновалась Алла Александровна! Почему это сделали без ее ведома и без ее обязательного присутствия?!
Есть два классика антисоветской особой литературы – Солженицын и Андреев, оба писали не за деньги и оба верили в русский народ. А ведь это страшно, господа, это свидетельство скудоумия по-своему честных мужей и кое-каких идеалистов. Как тут ни собачь и ни лай Солженицына, а он сам сел в засаду и стал своим идиотским мелким почерком по-своему, по-дурацки изобличать коммунистов. Я достоверно знаю, что он – частично оседлый на земле еврей, что его отец – выкрест Исайка Солженицын, студент математики и артиллерийский офицер, умерший, по-видимому, от тифа, а мать – русская учительница и библиотекарша, верившая в Некрасова и Добролюбова. И вот этот ненормальный, но очень писучий субъект до сих пор, хоть сам уже весь окостенел, как мумия, верит, что русский народ по-прежнему во всем прав и что любовь этого идиотского народа к личности государя разрушили гнилые поповские интеллигенты, дворяне и масоны. Этими чувствами пронизаны все тома его произведений. Окостенелый старец множит и множит свои пасквили. Вот он накропал “Двести лет вместе” о евреях, он так и не понял, что евреи совершенно напрасно забрели в нашу несчастную страну, где хорошо не будет ни русским, ни евреям, ни другим проевропейским народам.
И еще у Солженицына и Андреева есть такая общая скрытая поганая идея: так как русский народ во всем морально прав, то и в недрах самого большевизма есть какая-то скрытая правда, и сама советская власть в чем-то исправится, прозреет и сделает правильные шаги в нужном направлении. Эти пошлые банальные места присутствуют в их книгах, написанных от чистого сердца, не на заказ, в народнических идеалах.
Солженицын – общественно-политический писатель, а Андреев – литературно-эстетический эссеист. Разный стиль и жанр изложения, но народнические идеалы – общие. Книга Андреева во многом профашистская, он и Альфред Розенберг решили слепить из довольно поганых историй собственных народов, их правителей и господствовавших тогда идей некий общенациональный мистический мир. Ведь получилась довольно поганая бульварная история: баварский король-педик Рудольф II, затравленный еврейскими критиками сам Рихард Вагнер, его трилогия с серебряными лебедями и возвышенными глуповатыми героями, Адольфом Гитлером и самим повешенным русским интеллигентом Розенбергом, газовыми камерами и прочими сгнившими окровавленными тюремными матрасами.
Я с глубочайшим омерзением и страхом отношусь к послетатарской Московии, всем этим Рюриковичам – Даниловичам и Романовым. Недалеко от тех мест, где я пишу эти строки (версты две), на Троицкой дороге есть бывший путевой дворец Ивана Грозного, а в нем – засыпанная после раскопок содомская палата, где на потеху царю Ивану плясали голые “кромешники”-опричники, имели друг друга в зад, а потом мучили своих жертв. Еще при Карамзине вдоль дворцового пруда находили скелеты в цепях; в сырых камерах содержали русскую родовую аристократию. Опричники также очень любили распиливать пополам пилами через промежность русских боярынь или перетирать им веревками половые органы до внутренностей. Нравилось им также связывать пленных новгородцев пуками, как снопы, и топить в Волхове. Я десятилетиями с ужасом присматривался и вчитывался в постепенное отатаривание Московии, приведшее ее к ленинизму и сталинизму. Вот из всего этого Андреев и слепил свой храм Духа, новый Китеж мистической России. А на паперти этого храма выл лупоглазый курчавый Александр Блок: “О, Русь, жена моя!”, а вокруг него бегал маленький поганенький сопливый Луначарский в пенсне и все советовал агентам: “Сыпьте побольше мышьяка, чтобы сдох скорее, и не сбег за границу от нас, большевиков, и не рассказал, кто мы такие на самом деле”. Блок – талантливый апостол мистической соловьевской ветви русского символизма, несмотря на его абсурдистский шаг в сторону Горького и знакомство с руководством Смольного. Страх Смольного перед Блоком, его отравление петроградским ЧК с ведома Луначарского и Ленина – это шаг тех же иллюзий о моральной правоте русского народа.
Мне эта вера в своей основе страшна и пугающа. Когда я выхожу на русскую улицу, оказываюсь в русской толпе – мне не страшно, наоборот, мое ухо наслаждается любой формой живой русской речи, но я ощущаю, что нахожусь среди нездоровых, психически больных людей. Я присутствовал на застольях, где все, и гости, и хозяева, были тяжело психически больными, хотя и более нормальными, чем русская простонародная толпа, которая нынче пришла в такое состояние, что готова растерзать любого, кто вызовет раздражение или чем-то выделится.
К сожалению, литературный процесс в бывшей России и бывшем СССР и в настоящей Эрэфии носит точно такой же характер: все, что пишется и издается на темы окружающей действительности, носит психопатологический характер и представляет собою интерес для психопатолога. Государство со времен Сталина делает все, чтобы доказать, что СССР (а теперь Эрэфия) – нормальная культурная страна. Для этих целей держат придворный балет с кремлевскими суперблядями, заставляют старых театральных обезьян играть в здании бывшего Художественного театра пьесы самого Чехова, который в одном из писем Суворину писал, что если в России к власти придут социал-демократы, то их с Сувориным времена покажутся золотым веком, а на литературном Олимпе будут восседать чудовищные земноводные. Что и случилось, и теперь Россия не страна Чехова, а страна имитаторов Чехова, готовых разорвать и героев драматурга, и его самого. Здесь не нужна ни симфоническая музыка, ни литература: это страна опасных человекообразных обезьян, которые имитируют наличие какой-то культуры. И в кино, и в детективной литературе пропагандируются только одни сюжеты: как славянские и инородческие выродки убивают и разделывают трупы детей, девушек, женщин и просто знакомых и прохожих. Это же нескончаемо демонстрируют милицейские хроники. Уже окончательно ясно, что изнутри эта страна (и не Россия, не СССР, не Эрэфия), или точнее – территория, если угодно, никогда не сможет самоорганизоваться, покончить с повсеместной уголовщиной и бандитизмом и в недалеком будущем сгниет на обочине не собственной истории (которой у нее больше нет), а в придорожных ямах соседних государств, куда бульдозером будут спихивать останки морально сгнившего населения. Никакие национальные движения на территории бывшей России уже более невозможны по самым разным причинам (их можно оценивать позитивно или негативно), моральная деградация угро-финнов достигла пределов немыслимых, у них просто не сохранилось национальных идеалов и способности попытаться самим решить свою судьбу. Не так давно Солженицын, который не очень политически наивен и к тому же окруженн целым сонмищем политически ожесточившихся на весь свет, в том числе и на евреев, личностей, раздающих премии его имени, изрек: “Похоже, от России останутся великие мысли великих людей о том, чем бы она могла стать”. Этим закостенелый старец, вермонтский лесовик, полвека сосавший в лесной чащобе лапу белых архивов и, кроме колючек, ничего не высосавший, фактически подвел, как Сципион Африканский, черту под Россией: Карфаген наконец разрушен. Не учитывают и не хотят до конца верить в это только некоторые излишне упрямые господа, вроде меня самого (во мне, правда, не бродит народническая касторка, но хватает имперско-византийской желчи все политически проигравшего человека). Надо помнить, что уцелевшая здесь после всего номенклатурно-инородческая помесь будет драться за русские недра, как тарантулы и сколопендры, совершенно забыв о том, что когда-то была Россия. И в этом качестве противоречиво-поэтический облик России иссякнет до конца, и вместо нее будет лужа змеиного яда, остатки трапезы цивилизационного мангуста двадцать первого века, перекусившего подземными змеями России.
Добрый облик хоть отчасти христианизированной и гуманизированной России исчезает с каждым днем, наверное, окончательно исчезли и последние литературные проявления той доброй русской России, когда жизнь отдельного человека, его судьбу ставили превыше всего. Именно на этой попранной ныне стезе сочувствия к Акакию Акакиевичу, Неточке Незвановой, князю Мышкину, чеховскому Фирсу, булгаковскому Лариосику, пастернаковскому Живаго русская литература как-то пролезла в мировую. Кстати, у Толстого, кроме Феди Протасова, я как-то мало нахожу героев-индивидуалистов, все остальные – представители каких-то общественных движений и вооруженных шествий по земле. Мне вот непонятно, почему лермонтовский Печорин не послал к черту колониальную войну империи на Кавказе и не снял эполеты. Непонятно, почему Пушкин не бросил трех сестриц Гончаровых и не сбежал в деревню доживать свой век. Даже самая лучшая русская литература – имперская по сути, часто вместо одной империи строят вторую или третью. Как мне кажется, если возникнет новая русская современная литература, она будет не просто злой, а бесконечно злой к себе самим и себе подобным и к остальным. Страшно даже подумать. Новая русская современная литература должна быть страшной – ее должно быть опасно взять в руки во всех смыслах; она – продукт крайнего ожесточения, ее хрен подделаешь, как человека с топором, который собирается зарубить. Я таких видел, видел и их еще дергавшиеся жертвы. Это все настоящее. А что теперь? Кто под чьим матрасом вконец слежался, кто у кого откусил полголовки полового члена и что испытывал человек, переехавший из Перми в Ганновер. Подобная русскоязычная тягомотина, часто очень качественно сделанная, а меня интересует почвенный опус без оглядки на заранее задуманное на Западе издание.
Андреев писал о Небесной России. Ее розово-белый город на высоком берегу над синей речной излучиной. Небесная Россия или Святая Русь связана географией трехмерного слоя, приблизительно совпадая с очертаниями нашей страны. “Общая численность обитателей Небесной России мне неизвестна, – писал Андреев, – но я знаю, что около полумиллиона просветленных находится теперь в Небесном Кремле”. Эти представления Андреева связаны не столько с православием и православной эсхатологией, сколько с фантастическими трудами философа Н.Ф. Федорова и его трудом “Общее дело”, где трактуется всеобщее воскресение мертвых. Федоров, будучи главным хранителем Румянцевской библиотеки, часто встречался с А. Н. Толстым, руки ему не подавал, считая его варваром и террористом, так как Толстой хотел взорвать динамитом старый храм Христа Спасителя.
С точки зрения Синодального православия и сталинско-бериевской Патриархии РПЦ, книга Андреева – сплошная крамола и черное разоблачение. Андреев сам входил в общины Непоминающей Антисергианской церкви и этот вопрос знал очень хорошо, из первых рук. Для меня книга Андреева – памятник погибшей цивилизации, погибшей страны, погибшей русской интеллигенции со всеми ее идеями и заблуждениями, и я к ней при всем том отношусь с уважением: писал, курил ящики “Беломора” и “Примы”, увлекался, страдал, хотел успеть закончить до смерти, всерьез думал, что он главный пророк и Мессия. Сейчас такого типа и психолгического склада люди появляются только в некоторых сектах и среди крайне правых движений – у них есть ответ на все вопросы. Левое подполье в России до конца выдохлось, и фанатиков там не водится. Эклектик, как Гауди, Андреев тащил в сорочье гнездо и блестящие гайки, и медные пуговицы, и случайно найденные бриллианты. Для меня таким подобранным Андреевым бриллиантом является его мысль о том, что, скитаясь в годы молодости, Иисус Христос изучил учение Будды и переработал его для иудеев. Я в это верю всей душой и со всей серьезностью. И ессеи, которых я долго изучал, и дохристианские течения самого иудаизма достаточно далеки от всех официальных и неофициальных Евангелий. Христианство Иисуса, а не апостола Павла, было и в Европе, и в Иудее революционной книгой, и для меня все первоначальные христианские тексты пронизаны буддизмом. За эту мысль я Андрееву бесконечно благодарен и считаю ее абсолютной истиной.
В кругу судеб
Из времени Фалька
Известна фраза советского рабочего, напечатанная в одной из газет во время травли Пастернака за его “Доктора Живаго”: “Роман Пастернака я не читал, но за его предательство я его осуждаю”. Я Фалька практически не знал, но дважды видел его еще при жизни и оба раза разговаривал с ним: один раз в магазине, второй – когда он показывал свои холсты одному обществу.
Ходивший к нам в дом Василий Павлович Шереметев – Вася, как все его называли, – знал Фалька по Суриковскому институту, в Козах, в довоенные годы, Фальк хвалил Васины работы и считал его одним из самых талантливых студентов. В войну Васю призвали в армию рядовым, и он честно прослужил до ее конца, помня боевые традиции своей семьи. Но фронт измотал его психологически, он перестал спать, и у него, по-видимому, проявилась наследственная психическая болезнь, свойственная представителям многих древних родов. В поведении Васиного предка графа Николая Петровича Шереметева, театрала, меломана, строителя останкинского театра и содержателя сераля крепостных актрис, женившегося на Параше Жемчуговой, было уже очень много странного. После петровского фельдмаршала Бориса Петровича род Шереметевых больше не породил ни одного крупного государственного деятеля или военачальника – только художников и музыкантов, и все с большими странностями.
Во время осеннего наступления вермахта на Москву всех мужчин Суриковского института построили во дворе тогдашнего помещения на Собачьей площадке, за театром Вахтангова, разделили на роты, выдали старые трехлинейки и повели пешком на передовую. Впереди шел князь Чегодаев – искусствовед с европейским образованием, знавший несколько языков, происходивший из военной семьи.
Роты суриковцев немного повоевали, часть из ополчения призвали в настоящую армию, а часть вернулась на Собачью площадку рисовать толстозадых натурщиц и малевать плакаты против немцев. Насколько мне известно, живописный факультет не эвакуировали из Москвы в Ташкент, как, например, МИПИДИ (Московский институт прикладного и декоративного искусства). А вот факультет графики во главе с Фаворским и Чернышевым жил одно время в Средней Азии и рисовал верблюдов и мечети.
Чегодаев был женат на дочери дореволюционного еще литературоведа Гершензона, от этого брака родилась Машка Чегодаева, маленькая черноволосая пронзительная дамочка, сегодня – ядовитая, разоблачающая всех старушонка. Она тоже училась в Суриковском институте и все время ходила с дочерью поэта Сельвинского, дамой весьма модерновой и прогрессивной, носившей челочку под француженку.
И Фаворский, и Корин, и некоторые другие левоватые художники считали своим долгом помогать молодым людям из преследуемых большевиками аристократических семей. Фаворский опекал князей Голицыных и Шаховских; в новом Суриковском Павел Корин, а в старом – и Фальк, и Грабарь, и Сергей Герасимов пестовали действительно большое живописное дарование Васи Шереметева. Им всем было приятно, что у них ученики из известных всей России семей, и главное – их всех было очень жаль: большинство родни расстреляно или выслано на Север.
Вася был заядлый охотник, имел несколько охотничьих ружей и повадился, подпоив сторожей, ходить на болото, образовавшееся на месте бывшего Храма Христа Спасителя, и стрелять там водоплавающую птицу, куликов и прочих птичек поменьше. Моя мать терпеть не могла кухонной работы, и когда один раз он приволок целую кучу битой птицы, она пришла в ужас и еле-еле от него отделалась. Свою добычу Вася унес в особняк Нарышкиных, где жила старая-престарая кухарка, она-то птиц ощипала и зажарила. Хозяйки особняка, три сестры, были Нарышкиными по матери, а их отец-профессор лечил кремлевских владык. У них иногда бывали и мои родители – со мной и сыном одной из сестер, бывшей до войны замужем за одним прохвостом, перебежавшим потом к немцам. Проходимец владел несколькими языками и считал для себя нормой прямо при жене щупать всех приходивших женщин. Во время войны он в красноармейской форме перебрался через фронт в Москву и хотел забрать жену и сына.
Старая-престарая нарышкинская кухарка прекрасно готовила огромного гуся с яблоками и черносливом. Его запивали водкой и белым кавказским вином. В те довольно голодноватые годы это было очень вкусно. Сидели при свечах в шандалах и бра на фоне больших блеклых зеркал конца восемнадцатого века, ровесников особняка, в оставленных временем пятнах. Эти зеркала отражали и всю русскую аристократию, и наполеоновских офицеров, живших в особняке, евших за этим же столом и сидевших на тех же ампирных стульях. С мистической точки зрения очень важно, когда зеркала висят на одном и том же месте несколько веков. Они – свидетели ускользнувших в ничто жизней.
На этих ужинах Вася обычно перепивал и сидел с поблекшими безумными серо-голубыми аквамариновыми глазами. Моя мать, тогда еще молодая женщина, чувствовала себя на таких ужинах прекрасно: ей, лишенке (лишенной прав и состояния), дочери донского генерала, было радостно, что ее не ловят, чтобы выслать в Сибирь.
Подобная бытовая свобода происходила из-за того, что особняк всерьез не уплотняли по причине близости профессора к правящим кругам. И все же обитатели особняка всего боялись и держали двери постоянно запертыми.
Вася был тонко организованным человеком с милой, всепрощающей улыбкой на мясистых губах. С фронта же вернулся запойным алкоголиком. Был он живописцем от Бога, и я у него подсмотрел палитру: все охры, окись хрома, английская коричневая, капут-мортрум, – он все время копался в землях, и все у него получалось художественно и со вкусом на фоне варварски-яркой советской живописи с ее несмешанными синими, изумрудкой, краплаком с киноварью. “Больше грязи – больше связи”, – говорил кто-то из преподавателей еще ВХУТЕМАСа, по-моему, ныне совершенно забытый Синезубов. Я тогда закончил СХШ (среднюю художественную школу при Академии художеств) и поступил на первый курс графического факультета Суриковского института. К тому времени папашу уже изгнали с должности декана живописного факультета, он год преподавал на графическом факультете на Кировской, в доме с ротондой Баженова, где когда-то размещался ВХУТЕМАС, а потом – МИФИ, физический институт, построивший там маленький реактор. Папаше там не понравилось и он ушел в педагогический институт, куда потом перетащил и ректора Модорова, тоже изгнанного за “религиозное мракобесие”, хотя тот и был закоренелым партийцем.
Одно лето папаша ездил на Клязьму со студентами с Кировской рисовать дояров и доярок. Я там тоже недолго повертелся, меня не раздражали преподаватели – в них не было московского хамства и сохранялся оттенок интеллигентности эпохи Фаворского и Чернышева. Там даже уцелел раритет эпохи Фаворского – маленький рыжий лупоглазый гравер Коган, в качестве дипломной работы вырезавший на самшите историю еврейских погромов в Европе. Он все время озирался, будто боялся, что его поймают в высоких баженовских коридорах и растерзают. Он боялся даже студентов, никому не делал зла, и все его любили за природную доброту. Если бы мой папаша остался преподавать в Суриковском, я бы не стал туда поступать, а отправился бы учиться в Строгановское училище. Этим рисованием, или, как говорят по-украински, малерством, занимался по семейной традиции, но всегда не очень-то любил и перепачканных краской и пахнущих табаком и водкой художников и само это ремесло. Меня всегда тянули к себе медицина – психиатрия и терапия, профессия уголовного следователя – докопаться до мотивов и обстоятельств преступления. А так как дед мой был живописцем-шизофреником, а папаша – сухарем-портретистом и обучателем рисования, то и я безвольно покатился по семейной колее и ухабам советского, антисоветского и просто искусства. Учиться в заведении, где преподает отец, мне было, как теперь говорят в путинской приблатненной России, западло. Есть такой живописец, могильщик СССР, Эрик Булатов, я его немного знал, бывал в его квартире на Таганке, и он бывал у нас на Никольской. А вот в Суриковском я его избегал: он был человеком официальным, связанным с комсомолом, вообще Соловьев выдвигал его в официальные художники, а Эрик почему-то любил Фалька и Фаворского, хотя всю жизнь рисовал мрачные, холодные, чисто земноводные картины, от которых отдает замерзшим террариумом, – мертвые во льду змеи и ящерицы. Недавно в журнале “Зеркало” Булатов опубликовал статью о том, как он проводил комсомольскую революцию в Суриковском институте, откуда изгоняли педагогов-реалистов, в том числе и моего папашу. И что интереснее всего – впервые о данной истории я узнал именно из этой статьи. Скорее всего, она произошла до моего поступления: о том, как Таганский райком изгонял папашу за “реакционное мракобесие”, знали все и всюду и бурно переживали, а вот о “комсомольской революции” Булатова не говорил никто.
Я-то убежден, что в СССР изобразительное искусство вообще было не нужно – оно являлось составной частью агитпропа. Не было необходимости и в художественных институтах вообще, и надо было поганой метлой гнать из них и реалистов, и леваков и вместо этих заведений организовать по всей стране своеобразные тенишевские курсы для обучения художественным ремеслам и рисованию. В свое время княгиня Тенишева, купец Морозов, графиня Панина, барон Штиглиц правильно взялись за это дело, пытаясь вырвать искусство из мертвящих лап государства. А ВХУТЕМАС и Суриковский – обломки большевистской диктатуры и фактический отзвук Октябрьской революции, и внутри этих заведений вечно кипели гнусные интриги и псевдоборьба за право ублажать партийных бонз. Ведь вначале Гитлер ориентировался на живописцев-экспрессионистов, и только потом в фавор у коричневых террористов вышли псевдореалисты и псевдоклассики, и между обоими направлениями началась смертельная борьба. И чета экспрессионистов Грундигов оказалась в концлагерях.
Булатов – самый воспитанный и вежливый человек среди модернистов, но он, как и я, довольно немолод (он старше меня) и что-то путает в датировке события, оставившего след в его памяти.
Однажды я напросился пойти с Васей охотиться на уток в котловане на месте Храма и так и не возведенного Дворца Советов (во время войны я видел, как резали на броню для танков стальной каркас этого, задуманного как сакральное, большевистского сооружения, в проекте которого было заложено немало чисто сатанинских символов). Напротив стоял Дом на набережной, тоже сатанинское логово, в котором прослушивались все квартиры и красные пауки истребляли друг друга. Об этих кровавых пакостях писал покойный Юрий Трифонов, и читатели должны были, непонятно из каких соображений, сочувствовать героям этих романов, их родственникам, страданиям их осиротелых семей. То, что эта сволочь пожирала и истребляла друг друга, было судом Божьим, ибо он всегда неожидан, суров и беспощаден. Точно так же можно сочувствовать семьям штурмовиков Эрнста Рема, истребленных головорезами Генриха Гиммлера в “ночь длинных ножей”. В Доме на набережной находился штаб, руководивший сносом Храма, – мастерская главного архитектора Дворца Советов Иофана и бригада собранных со всей красной Европы его единомышленников. Один мой знакомый архитектор разбирал архив покойного Иофана и наткнулся на жуткие сатанинские антихристианские документы. В них, кроме Иофана, фигурировал академик Минц, со статьи которого в защиту Ленина и Троцкого начался “Огонек” Коротича. Семья Иофана не знала о документах, но как только они были обнаружены, их тут же спрятали. Щусев с его мавзолеем (ах, до того он был таким уж православным!); Иофан со сносом Храма Христа Спасителя и Дворцом Советов; Мухина с ее идолом на набережной Сены в Париже; нынешний Храм Лужка-спасителя – это все дыхание Сатаны. Русское простонародье, увидев мухинского серпастого и молоткастого идола, тут же сочинило гениальную частушку:
Вот вам молот, вот вам серп –
Это наш советский герб.
Хочешь – жни, а хочешь – куй,
Все равно получишь хуй!
Эта частушка, к сожалению, актуальна и по сей день для постсоветских граждан.
Мне с Васей на том болоте было весьма любопытно: кругом полное одичание и озера среди брошенных и проржавевших механизмов, балок и свай. Пейзаж в марсианском стиле Герберта Уэллса. С небольшим, складывающимся пополам дробовым ружьем и заплечным рюкзаком, в который он складывал дичь, Вася не производил на милиционеров впечатления охотника. Часть добычи он отдавал сторожам.
В угловой продуктовый магазин, где мы с Васей покупали водку, вошел немолодой, слегка грузноватый, чуть сутулящийся мужчина с грустным лицом явно еврейского типа. Вася схватил меня за руку, вывел из очереди, и мы подошли к вошедшему. Вася, согнувшись, поцеловал ему, как священнику, руку. Вася легко впадал в экзальтацию. “И ты целуй, Алеша, – сказал он (что я и сделал). – У Роберта Рафаиловича руки пахнут скипидаром и краской. Запомни, Алеша, ты видел живого Фалька, смысл жизни которого – каждый день на палитре мешать краски. Это настоящий живописец”.
В ответ на Васины несколько выспренние выражения, которые слышал от него не раз, Фальк иронически улыбнулся: “Ты, Василий, несколько ошибаешься. Я часто лежу и читаю книги, или хожу в магазин, или жарю птицу, или говорю с гостями. Мешать краски без перерыва нельзя – глаза устанут, ослепнешь. А ты бы перестал пить водку, ты талантлив, а водка – это яд. Сейчас все художники пьют водку, этому их московские передвижники научили”.
Вася представил меня: “Это Алеша, сын Смирнова Глеба Борисовича”. Фальк улыбнулся: “Я Глеба хорошо знаю, он мог писать у Осмеркина очень светло, но они решили употреблять черную краску и ультрамарин или смесь ультрамарина с коричневыми и не понимают, что старые мастера очень почернели от времени. Вот Леонардо изобретал свои краски, потому что масляные коварные, чернеют. Когда не можешь быть большим писателем, молодой человек, то невольно мешаешь краски”, – сказав это, Фальк почему-то похлопал меня по плечу и взлохматил мне волосы. Наверное, вспомнил что-то из своей молодости. С грустным видом он слегка поклонился нам и ушел, чуть шаркая и сутулясь.
“Ты ему понравился, Алеша”, – сказал Вася, и мы с ним купили водки, вышли во двор, и он налил мне в свой плоский хрустальный стаканчик с гербом Шереметевых из трех крестов граммов восемьдесят, сам выпил две стопки, и мы распрощались. Я попросил Васю взять меня с собой, если он пойдет как-нибудь в мастерскую Фалька.
Когда-то кварталы вокруг Храма были элитными. Даниил Андреев, вспоминая свою молодость и детство, с трепетом воскрешал в памяти как символ погибшего города и родины белый храм у реки, в котором всегда мерцали лампады и свечи. Рядом с большим Тоновским храмом стояли церковь нарышкинского барокко и памятник Александру III – массивный бородатый царь на троне, хозяин земли русской, а точнее – как купец-сиделец в своей лавке. Сбросом этого сидельца с его постамента руководил Ленин, он же сокрушил памятник генералу Скобелеву напротив дома генерал-губернатора, а заодно еще ряд памятников родне последнего царя. Интересен тот факт, что, расстреливая духовенство, Ленин не был инициатором сноса церквей, это делали уже после его ухода в иной мир. Теперешний лужковский бетонный храм с гранитным стилобатом и гаражами напоминает сталинскую высотку и станцию метро пятидесятых годов. Среди модерновых домов начала двадцатого века, выходящих окнами на Храм Христа Спасителя, стоит Перцевский дом, построенный в стиле скандинавского модерна с элементами русизма по проекту академика Сергея Васильевича Малютина; он же спроектировал в этом доме несколько квартир для художников с мастерскими под крышей. Академик Малютин, по определению Александра Бенуа, был универсальным талантом: в Талашино – имении княгини Тенишевой в Смоленской губернии – он создал в древнезверином стиле мастерские народных промыслов; иллюстрировал книги, писал портреты маслом и пастелью. Сам Сергей Васильевич, его дочь Ольга Сергеевна и зять Михаил Васильевич Оболенский (не из князей) были большими друзьями нашей семьи. Как живописцы все они были между Коровиным, Жуковским, Туржанским, Петровичевым – были когда-то такие художники-постимпрессионисты. Писала эта семья ярко, сочно, но совершенно не по-советски. Они хорошо знали и Кончаловского, и Фалька, и Куприна, и Машкова, и у них с бубновaлетчиками были дружественные отношения. Это были прекрасные, суперрусские, очень даровитые люди, глубоко порядочные и независимые от красных. Большевиков они совершенно справедливо считали дикарями и варварами. Секрет их независимости от власти состоял в надежно запрятанной где-то хорошей кубышке золота. Не пропади в свое время в Русско-Азовском банке сто пятьдесят тысяч рублей в реальном золоте, принадлежавших моей бабушке по матери, жизнь нашей семьи была бы несколько иной.
Брат Ольги Сергеевны, тоже способный художник, был несколько иного замеса. Он связался с чекистами еще в революцию, накануне войны дружил с германским военным атташе и все мечтал, когда же немцы войдут в Москву и передавят красных. Таких, как он, было довольно много. Ольга Сергеевна его откровенно боялась. Интересно, что о евреях в этой семье никогда не говорили ни хорошего, ни плохого, как будто в Москве таковых вообще не было.
В Перцевском доме поселились трое художников-сезаннистов – Куприн (из дворян), Рождественский и Фальк. Куприна я хорошо помню: стройный, поджарый, с небольшой бородкой, чисто офицерской наружности. Он писал всякие крымы: тополя, татарские сакли, фиолетовые горы, тусклые луны, минареты, а также натюрморты с кактусами, алоэ, кувшинами, персиками и грушами. Фигур я у него не видел. И все – с оттенком сезаннизма, суховато, стилизованно, вполне по-европейски. Вообще-то сезаннизм – это набор приемов, в который входит кристаллизация предметов, особая система асимметричных мазков, а также особая гамма. Есть варварский сезаннизм раннего Кончаловского, Машкова, Лентулова – смесь русского лубка с сезаннистскими приемами. Беда русских сезаннистов в том, что они перестали наблюдать живую природу, надевая на себя чужие очки. Такими был переполнен ВХУТЕМАС. Потом они стали плохими соцреалистами. Русский сезаннизм – это униформа: “мы враги всего остального”. Конечно, как массовое движение сезаннизм мне не нравится. Сам Сезанн был патологическим типом с особым видением цвета. Но при чем здесь вся провинциальная Восточная Европа, которая тащит на себя его одежды? Это как если бы вдруг стал популярным какой-нибудь заика и все вокруг тоже начали бы заикаться. Скульптор Джакометти, каждый день обедавший с Пикассо, говорил: “Он был монстр”. Монстры должны быть штучны, и сезанны – тоже.
Фальк преодолел налет сезаннизма и уже в двадцатые годы стал самим собой. У Куприна был приятель, скульптор Кардашов, лепивший голых натурщиц и зверей несколько в стиле Матвеева. Матвеев высекал статуи в стиле Бурделя и Майоля, но более стилизованно и ближе к статуям Модильяни. Он автор надгробия Борисову-Мусатову в Тарусе: мертвый мальчик на квадратном камне. Второй сезаннист, Рождественский, писал заросшие мхами северные леса, деревни, заборы, лодки – все дикое, заброшенное, безлюдное. По цвету все красиво – северные яркие закаты, белые ночи. Я, конечно, видел Рождественского на вернисажах, но не запомнил.
Вся эта троица была одного возраста, поклонялась одним богам, жила одинаково бедно и в прошлом имела отношение к “Бубновому валету” и ВХУТЕМАСу. Дарование этих живописцев было приблизительно равноценным, но в сталинские годы и Куприн, и Рождественский стали реалистичнее, а Фальк остался верен себе, фактически вступив в эстетическую оппозицию к сталинской псевдореалистической живописи. И потом, Фальк был очень последовательным евреем, чего отнюдь не скрывал, двое же его коллег-славян имели другие корни и в силу инстинктов гнулись перед властью.
“Бубновый валет” давно развалился, Кончаловский и Осмеркин капитулировали перед соцреализмом, а Фальк законсервировался в стилистике начала тридцатых годов. Соцреализм Кончаловского и Осмеркина очень далек от соцреализма, но они хотя бы не деформировали изображаемое, как это было раньше. Зрелый Фальк вообще не деформировал предметы, его интересовало совсем другое: передача при помощи живописи определенного психологического настроения. Осмеркин уже в пожилые годы влюбился в молодую красивую женщину, женился на ней, но от плотских утех его стало парализовать, и он вскоре умер, волоча последние годы ногу и опираясь на палку. Фальк всю жизнь женился и разводился, объектами его привязанностей были в основном еврейки. После его смерти образовался целый коллектив вдов Фалька, но про детей от них что-то не было слышно. Может быть, в поздние годы детей у Роберта Рафаиловича быть уже не могло, и браки носили, так сказать, околополовой характер. Муж сестры моего деда по отцу, черноглазой красавицы, бывший царский полковник и врангелевский генерал, тоже после смерти тети Маруси женился очень много раз, и детей у него тоже не было, по-видимому, он производил со своими дамами различные манипуляции и был весьма оживлен в их присутствии. Из семейных источников было известно, что как мужчина он давно и полностью износился. Умер он восьмидесяти трех лет, оставив после себя сорокалетнюю вдову с плотной фигурой. Но я думаю, что фальковские вдовы имели совсем другую основу: они были поклонницами его таланта и брали на себя домашнюю работу, чтобы облегчить ему жизнь. Кое-кого из них я видел, и у них у всех стены квартир были завешаны работами Фалька. Это была такая должность и звание: “вдова Фалька”.
Так как в условиях большевизма были уничтожены и русская церковь, и русское искусство, то я начал интересоваться еврейским, но не официальным, а национально еврейским, и как-то посетил вдову режиссера еврейского театра Грановского. Ей, бедняжке, машиной отрезало ногу, а муж эмигрировал с другой актрисой. Она была очень мила, типичная, в прошлом красивая, актриса, но никаких материалов о своем муже не имела. Она жила с сестрой, одной из “вдов Фалька”, на стенах, конечно же, висели его картины, но довольно второстепенные. Есть, как говорят в Одессе, две разницы – между советским русским искусством и просто русским, между русскоязычной советской литературой и постсоветской, между русскоязычной еврейской литературой и просто еврейской. От всего этого идут совершенно разные запахи, часто достаточно тяжелые и зловонные. Очень многие современные пишущие всячески прикрываются мертвыми позеленевшими телами Толстого, Достоевского и Чехова. Сейчас, словно в предчувствии апокалиптических времен, есть тенденция выработать всемирную философию, всемирную литературу, всемирную живопись, чтобы всюду все было одинаково. А я люблю продукты с национальным душком и сочувствую людям, громящим “Макдональдсы”, где одинаково, как пелось в советской деревенской частушке, “от Москвы и до Калуги все танцуют буги-вуги”.
Вася Шереметев сдержал свое обещание и месяца через два после нашей встречи с Фальком в магазине зашел ко мне и сказал: “Завтра, Алеша, приходи к трем дня на паперть храма Ильи Обыденного, и мы пойдем в Фальку. Я веду к нему одного академика с семейством. Академик очень богат и может заказать ему свой портрет. Так хочет его жена, она собирает живопись”.
Дело было в пятницу, перед субботней службой. На паперти и под колокольней храма Ильи Обыденного, располагавшегося прямо за домом Перцева и единственного в центре Москвы не закрытого и не снесенного большевиками, с двадцатых годов собирались перед службой с Воздвиженки, Остоженки и Пречистенки “бывшие” – в основном старики с палками, женщины всех возрастов с испуганными лицами, а также различные религиозные молодые люди с просветленным, на грани слабоумия, отстраненным от всего земного выражением чуть блуждающих глаз. Эти молодые люди во время службы усиленно крестились, падали на колени, целовали образа. Большинство из них впоследствии стали священниками и псаломщиками.
В тридцатые годы этот приход вообще захватили церковные оппозиционеры – “непомнящие”, то есть не молившиеся о благополучии советской власти. Долгие годы настоятелем храма был священник, дружно живший с “бывшими” и сам предупредивший их, что “стучит”. Именно он рассказал о том, как после войны приходил к нему исповедоваться старик, в прошлом зубной врач, и он признался, что чекисты заставили его ввести патриарху Тихону через десну яд, от которого тот через три часа тихо умер. На Большой Лубянке, в переулке, ведущем к Рождественскому монастырю, на первом этаже углового дома с эркером долгое время работала чекистская лаборатория, где на заключенных испытывали различные яды. Руководил лабораторией Глеб Бокий, расстрелянный потом своими как опасный свидетель. На его дочери был женат старый диссидент и один из основателей “Мемориала” Лев Разгон. Бокий был выдающимся садистом и изувером. Садистами и людоедами среди первых большевиков были не все, поначалу многие выглядели внешне прилично и добродушно. Но принципиально палачами являлись абсолютно все, включая пучеглазую идиотку Крупскую и ленинских сестер-калмычек. Вся эта банда держалась только на одном чувстве – желании физического уничтожения семьи Романовых, дворянства, буржуазии и, конечно, “долгогривых”, то есть попов, особенно ненавистных этой кровавой мрази. Все эти марксистские и народнические шакалы готовились к роли массовых убийц еще с гимназических времен. Живя во Франции, Ленин с женой специально объездил на велосипеде и обошел пешком те места, где якобинцы казнили свои жертвы (ах, милая демократическая Франция!).
В храме Ильи Обыденного большевики надолго оставили островок свободомыслия – чтобы был полигон для сыска и наблюдения. Мне не нравился этот храм, его восторженные прихожане и тем более настоятель, и я редко туда ходил. Но в ожидании служб познакомился там с одним старичком – искусствоведом Дурылиным, автором книг о Нестерове. Он жил напротив храма и в солнечные дни выползал в церковный дворик погреться, но в храм не заходил, сидел на лавочке или под колокольней. Узнав, что я учусь в художественной школе, Дурылин подарил мне цветную дореволюционную открытку-репродукцию с Нестерова и подписал: “Алеше от собеседника по церковному дворику. Дурылин”. Много лет спустя я узнал, что старичок-искусствовед был одной из ключевых фигур катакомбной церкви, ее епископом, хранителем многих тайн и архивов, которые он где-то прятал. Только недавно начали кое-что о нем печатать. Со мной Дурылин вел разговоры о том, что православие в России вскоре вообще умрет, и я проживу жизнь в полностью безбожной стране. К сожалению, так и оказалось. Показательно, что, кроме моего имени, мой собеседник ни о чем меня не спросил – ни фамилию, ни из какой я семьи, ни об отношении к православию. Узнал лишь одно – живы ли мои родители. Я тоже его ни о чем не спрашивал. Мы оба не хотели конкретности общения: просто вечер, церковный дворик, голуби, остов Дворца Советов, чекисты, попы, продавшиеся мерзавцам. Я давно отношусь ко всему современному миру как к большой мусорной свалке, в которой, словно сороки, собирающие блестящие пуговицы и пивные крышки, роются люди, забывшие, для чего они родились. Я и сам напоминаю себе порой сошедшую с ума птицу, которая кружится над ускользающей из памяти темой – живой Фальк.
Я посещал район взорванного Храма Христа Спасителя как очередное место русской скорби. Пока существовали яма с останками Храма и даже построенный на ее месте хрущевский бассейн – была надежда. Но когда там воздвигли лужковский бетонный объект – надежда умерла, все кварталы вокруг застыли в безмолвии, как руины Помпеи. И Фальк, и его друзья-сезаннисты, и Дурылин, и Вася Шереметев были последними третьеримлянами, бродящими среди развалин, словно персонажи Пиранези. К концу двадцатого века их всех уже не было на свете. Скоро вымрет поколение мужчин, родившихся в тридцатые годы и знавших их, и наступит полная немота и духовное одичание. На территории России некому будет помнить, что когда-то здесь была хоть какая-то не эрзац-культура.
Мое свойство самому не идти на контакты, но поддерживать их, когда они возникают сами, давало результаты. Помню, сидел я на лавочке около Пушкинского музея, а рядом со мной сидела Анастасия Цветаева, милейшая старушка, мечтавшая замолить грехи своей сестры и ее мужа Сергея Эфрона, бывшего врангелевского офицера, занявшегося в Париже убийствами по заданию ЧК. И сама Цветаева повесилась, и у Эфрона в семье вешались, и вообще эта революционная эсеровская среда была для лубянских пиявок любимым болотом, где они выискивали себе очередные жертвы. Я не люблю русскую поэзию, ее серебряный (почему не оловянный?) век, и только несколько стихотворений Лермонтова, Алексея Толстого, Тютчева и Есенина меня радуют. Наша великая поэзия – это поэзия русского колониального империализма и поддержания нашего простонародья в скотском состоянии. Наши поэты – сплошь славянские Киплинги. Лучше бы помещики строили дороги и больницы, а не писали, как Фет и другие, о соловьях, липах и зарослях сирени. Глядишь, и большевиков бы не было как таковых...
В назначенное время к паперти Ильи Обыденного подъехал черный ЗИМ, следом за ним – небольшая иностранная машина-малолитражка, в которой сидели грузный мужчина с красным апоплексическим лицом и крашеная блондинка со вздернутым носиком. Из ЗИМа мне махнул Вася: “Иди, пора!” И я отправился на квартиру Фалька. Долго звонил, пока мне не открыла будущая вдова с явно потревоженным лицом. Я представился: “Я с Васей Шереметевым и академиком”. Будущая вдова неприятно дернула щеками и проводила меня наверх. Там я застал довольно безобразное и унизительное для любого человека зрелище (я смолоду, как сын казачки и внук казачьего атамана, ненавижу всякое унижение человека человеком): академик сидел в кресле, на его коричневом пиджаке красовалась звезда Героя социалистического труда, Фальк с особенно грустным лицом показывал ему портрет какого-то интеллигента тоже невеселой наружности. Академик распинался: “Нет, мне такой портрет не подходит! Ко мне домой приезжают маршалы, генералы, члены правительства, а вы меня селедкой посиневшей изобразите. Если Елена Николаевна решили у вас полотно купить, то покажите что-нибудь повеселее и поярче. Вот мы тут недавно к академику Кончаловскому ездили – вот у него цвета повеселее и поярче. Мы у него купили натюрморт с сиренью на солнечной террасе”. Фальк стал показывать парижские пейзажи с барками, какую-то московскую речушку с кустами. А академик разливался, как на партсобрании: “Ну вот эта еще куда ни шло, тут бы еще двух пионеров с удочками подрисовать – совсем хорошо было бы”. Он обратился к Васе: “Шереметев, ты бы мог подрисовать двух пионеров с удочками?”
Мне стало совсем тошно, я сказал Васе: “Знаете, Василий Павлович, я вас буду ждать на паперти” и попросил будущую вдову проводить меня и запереть дверь. Фальк улыбнулся мне вслед и помахал пропахшей скипидаром рукой. Ненавижу, когда унижают нищих художников, и вообще в СССР при большевиках это проклятая профессия. Чтобы заниматься живописью, надо быть или принципиально нищим (о Филонове я тогда не знал), или очень богатым человеком. Вот в России богатый купец Остроухов писал пейзажи, или помещик Венецианов изображал своих крепостных.
Мы договорились с Васей после всего на той же паперти немного посидеть и выпить. Вася оправдывался: “Я и не знал, что академик такой хам, его супруга Елена Николаевна купила у меня пейзаж, я туда на этюды ездил – у меня друзья – их соседи по даче”.
Приблизительно через полчаса на паперти показался Вася вместе с гравером по линолеуму Илларионом Голицыным. Мы были крайне возмущены поведением академика, привыкшего по-хамски обращаться с людьми. Но за пейзаж он заплатил довольно приличную сумму, Фальк остался доволен – к унижениям со стороны советской системы и ее представителей он, наверное, уже привык.
Иллариона я встречал в одном религиозном катакомбном доме. Он принадлежал к дмитровским Голицыным, с которыми, так получилось, наша семья была в очень далеком родстве: в Россию при каком-то из царей Иванов выехал Булгаков, потомок князя Ольгерда. Один из Булгаковых носил кличку Голица (то есть рукавица), и от него завелись князья Голицыны. Моя прапрабабка была Булгакова, носительница древней фамилии и наследственной шизофрении. Булгаковы в России не стали князьями, а вот Голицыны хорошо прижились при дворе и размножились. Я знал, что Илларион Голицын – ученик Фаворского и хорошо рисует в стиле своего учителя твердым карандашом на хорошем ватмане и режет гравюры. Внешне он был похож на большого еврея – сутулый, черноволосый, в роговых очках, немного гундосящий, – в общем, то, что называется “губошлеп”. Хотя, конечно, никакими евреями в их семье и не пахло, у него была сильная кровь графов Майендорфов из прибалтийских немцев, и, насколько я помню, дед Голицына по матери, генерал, был командиром всего петербургского гвардейского корпуса и был близок к последнему царю.
Голова у Иллариона была посажена неудачно, роста он был большого, с сильно развитой грудной клеткой. Я говорю о нем в прошедшем времени потому, что недавно его тело обнаружили в морге среди неопознанных трупов: вероятно, Иллариона ограбили и избили бомжи и бросили умирать где-нибудь на помойке. Родные долго не могли его найти. Сейчас в Москве могут зарезать за бутылку водки, мобильник или куртку. Фактически многие районы захвачены урками всех поколений начиная с подростков, и миллионы беспризорных детей вскоре превратят Эрэфию в урочье царство.
Смерть Голицына, крупного линогравера и доброго малого, напоминает ранние годы революции, когда интеллигентов могли затоптать насмерть за надетые очки, пенсне или шляпу. Мне рассказывали, как в Петрограде матросы-кокаинисты остановили трамвай и проверили всех пассажиров: у кого руки были в мозолях – отпустили, остальных расстреляли из пулемета из стоявшего рядом грузовика.
Голицыны, выселенные из Москвы в Дмитров, за сто первый километр, сохранили много семейных раритетов. Не меньше их было и у Шереметева, но он их прожил за бесценок, когда к нему подваливал с коньяком антиквар Вишневский. Один подлинный Рембрандт из шереметевского собрания – портрет юноши – оказался у Вишневского, а другой – библейская сцена – бесплатно перекочевал в Пушкинский музей. Дело было так: при выселении Васи из башни в Новодевичьем Фурцева вызвала Васю и сказала: “Хотите остаться в Москве и получить квартиру напротив парка культуры на Фрунзенской набережной – добровольно жертвуйте Рембрандта, иначе заселим вас в бараки”. После смерти Вишневского государство ограбило его, отняв все произведения западной живописи, а из русской создав музей Тропинина.
Совсем недавно снова вспомнил про семью Голицыных в связи с очередным сожжением огромного дворца в Гребнево – их подмосковного родового имения, случайно уцелевшего в революцию. Недалеко от Гребнево сгорел киноархив, располагавшийся в бывшей церкви, и после пожара здание передали патриархии. Одни мои знакомые художники взялись привести церковь в порядок, смыли копоть – и обнаружили живопись XIX века. Но у них не хватило умения дописать погибшие части, и они обратились ко мне. Дело не вышло по деньгам, но волею случая я снова был в Гребнево. Там уцелели два роскошных, не сельских, а столичных собора с великолепными резными иконостасами, один из которых строил Старов. Туда возят иностранцев, и рыжеватый батюшка на хорошем английском проводит экскурсии. А в дни моей юности там служил священник, оппозиционный патриархии, лагерник. В те времена дворец Голицыных, достроенный Бибиковым, с оградой в стиле казаковской готики, был режимным лубянским объектом, обнесенным колючей проволокой, с вышками, на которых сидели автоматчики. Чекисты по всей Европе выкрадывали ученых и, накачав их наркотиками, вывозили в СССР, где заставляли работать на себя. Вышел человек в кафе – и пропал навсегда и объявился в Гребневском дворце. Когда сталинский режим вместе с Берией и Меркуловым загнулся, ученых увезли куда-то подальше, а обслуга потом говорила, что некоторых особо обиженных ликвидировали. Среди этой обслуги были горничные – красивые грудастые и задастые тетки, постоянно лазившие к ученым в койки. Этих фигуристых теток гребневское население называло “коровьими мамками”. Когда я был в Гребнево последний раз, дворец стоял без окон, его охраняли две пожилые женщины. А потом его сожгли. Новые русские (а фактически старая номенклатурная райкомовская и обкомовская сволочь) создали особые разгромные команды, которые ездят по бывшим усадьбам и при помощи современной техники разбивают на кирпич для забутовки уцелевшие помещичьи дома XVIII–XIX веков, записанные как памятники архитектуры. И население это радует: выжечь последнюю память о помещиках, чтобы, не дай бог, не вернулись. В Восточной Пруссии тоже разбили все уцелевшие немецкие замки и дворцы. Эмигранты создали организацию, которая занимается консервацией разгромленных церквей, устраивают в Париже благотворительные балы и на эти деньги кроют крыши и штукатурят разломы стен, чтобы население прекратило растаскивать церковные стены на фундаменты.
Вернемся к моему неудавшемуся визиту. Выяснилось, что сын хамоватого академика женат на родственнице Голицыных, молодой девице, которая хочет бежать из этого семейства. Я уже знал о моде женить детей элиты на девицах с русскими историческими фамилиями. Это продолжение моды чекистов и троцкистов жениться на дочерях расстрелянных аристократов: в нынешнем московском дворянском собрании очень много “дворян”-полукровок, потомков таких браков. Встречаешь человека с княжеской или графской фамилией – а вид у него потомка выходца из Ковно или Винницы. И некоторые “бывшие” также пытались пристроить своих дочерей за академиков. Такое происходило и при татарах, когда боярышень пристраивали за знатных мурз. Вся сущность кремлевско-татарской системы состоит в союзе кремлевских террористов (владыки, ЧК, военные) и ученых-техников, которым кое-что разрешалось в сравнении с остальным населением. Ох, не люблю я всех советских ученых, особенно работающих на ВПК. Тот же пучеглазый Капица-отец, который ездил из Англии в СССР и обратно, пока его, как заложника, не заперли в клетке, – далеко не безобидная личность. Когда собачий мучитель академик Павлов стал болеть, он вызвал к себе Капицу и завещал: “Я скоро умру, мне одному разрешалось говорить правду, теперь твой черед”.
Ученые вооружали Красную армию, и без них террористического режима не было бы, и в Европе, царил бы Версальский мир, и Гитлер с его дикарством вообще бы не появился.
...Я человек впечатлительный и не мог в неблагоприятных условиях моего краткого визита в мастерскую Фалька спокойно рассматривать его живопись. Я быстренько выкатился из мастерской и оказался в ней снова уже спустя несколько лет, после смерти ее хозяина. Тогда я уже смог внимательно ознакомиться с некоторыми его полотнами. Видел я работы Фалька и после – и в музее, и на выставках – и составил о них свое особое мнение, которым и поделюсь с читателями.
До войны существовала и еврейская культура идишистского направления, но нацисты уничтожили ее вместе с самим народом, писавшим и думавшим в основном на идише. Те из музыкантов, писателей и художников, которые согласились участвовать в деле фальсификации искусства, могли уцелеть физически, прокормить самих себя и свои семьи и даже получить на грудь медальки с профилем узколобого тирана. Но некоторые артистические личности не пошли на компромиссы и стали работать так, как им хотелось. Ярчайшим примером такого подвижничества является судьба живописца Филонова.
Ранний Фальк был знаком и с Луначарским, и с другими большевистскими вождями, был профессором ВХУТЕМАСа, но после воцарения соцреализма оказался в оппозиции, и в оппозиции сознательной. Для меня представляют интерес те художники, которые стали относиться к живописи как к религиозному проявлению. К сожалению, и в постсоветской России, и на Западе распространен лживый миф об эстетической значительности советской живописи: пока продажные авангардисты малевали рабочих и матросов под Сезанна и в кубистической манере – это хорошо и здорово, а как они стали писать в реалистическом направлении, превратились в бяк и сталинских холуев. Это глубочайшая эстетическая, имеющая политическую основу ошибка, в лучшем случае – миф, и он будет развенчан только тогда, когда Геную приравняют к Мюнхену. Европа в целом с самого начала шла на аморальное сотрудничество с большевиками, как она позже сотрудничала с Гитлером. В основе всех этих предательств лежит глубочайшая застарелая ненависть “латинян-папистов” к Византии, православию, славянам и всей восточновизантийской цивилизации. Западноевропейское искусство со времен Возрождения пошло по фотопути, занимаясь иллюзорными эффектами. Дело закончилось фотомонтажом и композициями, имитирующими цветные фотографии, а также различным хламом с помоек и из заброшенных кухонь, из которых строят композиции – инсталляции. Это свидетельство бездуховного католического и протестантского Запада.
Более того, значительная часть западной молодежи стоит на принципах поддержки ислама и африканских племен, забыв о значении креста – символа распятого страдальца.
Фальк (я имею в виду Фалька сороковых-пятидесятых годов) был гуманистическим российским культурным деятелем, прекрасно знакомым и с великой русской литературой, и с моральными учениями и Толстого, и Шестова, и Розанова. Вася Шереметев слышал некоторые его беседы в Козах, в Крыму, где их учителя старой закалки иногда расслаблялись и говорили довольно открыто. Васю на эти трапезы допускали, учитывая его происхождение и то, что он по своим взглядам был православный юрод и относился к окружающему миру безразлично и без всякого предубеждения, воспринимая его как Божью данность.
Мне совершенно ясно, что нельзя рассматривать официальное советское искусство и искусство, созданное в кельях художественных отшельников, как единое целое. Так можно дойти до того, чтобы фигуры гитлеровских валькирий и нибелунгов ставить в один ряд с уцелевшими рисунками лагерников. Колоссальная неправда и обман заложены в том, что официальное советское, антисоветское и потаенное искусство рассматривают как нечто целое, и за этим обманом стоит целый класс советской номенклатуры.
Зрелый Фальк относился к своему искусству как к религиозному акту, и в этом магия его творчества.
Да, я люблю религиозное отношение к живописи, которое было у очень немногих моих современников – например, у Володи Вейсберга и у Володи Яковлева, которого не дает забыть старый камрад Гробман. Такое отношение было у зрелого Фалька, у скульпторов Коненкова и Эрзи (Эрзю убили скульпторы-конкуренты – сначала зарезали его бульдога, а потом прибили и его самого). Вот, пожалуй, и все. Некоторые реалисты писали свои пейзажи без всякой надежды их продать, но я их не очень люблю – суховаты.
К картинам Фалька необходимо относиться как к религиозным актам эстетической свободы в условиях тоталитарного государства. Бывают эпохи, в которых художнику существовать невозможно – он творит по законам своей интуиции, а интуиция рисует перед ним довольно страшные картины, которых он сам пугается. Ярчайший пример – Кафка, предугадавший судьбу чешского и немецкого еврейства. В России ни накануне, ни в ходе революции не было ничего подобного. Вот уцелели некоторые документальные рассказы Варлама Шаламова, но это только этюды, фрагменты чудовищно страшных хроник. Русские и народы, живущие на этих просторах культуры, – очень талантливые люди, но ни настоящей культуры, ни цивилизации в России никогда не было. Были только народные явления вроде угро-финской орнаментики и старообрядческие скиты и поселения, где существовала своя старообрядческая субкультура. Новгород и его земли, самое большое государство средневековой Европы, культурная провинция Византии и Балкан с государственностью, данной норманнами, зверски погублен Москвой к концу шестнадцатого века. Всю элиту связали веревками в пуки и перетопили в Волхове. Нашему простонародью культура была не нужна. Узорчатый быт – это да, а светской литературы, музыки, живописи не было. Это почти уровень лопарей и эскимосов. Высококачественное искусство заказывало государство, империя. Для иконописи приезжали греки, для архитектуры – итальянцы, для религиозной философии – опять греки: Феофан Грек, Аристотель Фиораванти, Марко Руффо, Алевиз Новый, Максим Грек и множество других, ныне забытых. А в петербургский период искусство было только государственным. Когда случилась революция (она в России всегда тлеет, как торфяной пожар под землей), и два миллиона погрузились на пароходы и драпанули через Константинополь и Францию в Европу, то появился огромный табор ресторанных певцов, плясунов, балалаечников, остатков императорского балета, варварских живописцев типа Гончаровой и очень-очень мало крупных литераторов и композиторов. В основном, доживали свое люди типа Бунина, Куприна и даже “самого” Набокова – духовно больные еще в России, изломанные, боящиеся своих издателей и читателей. Они не предпринимали даже попыток осмыслить произошедшую расовую, и только частично – социальную, катастрофу, свидетелями которой они стали. Нельзя строить европейскую империю на расово чуждой варварской почве, вначале надо эволюционно сменить расовый состав населения, чтобы все крупные города заселяли европейские полукровки. Старая Россия была для Европы чем-то наподобие современного Таиланда – красочное экзотическое место для удивлений, ничего более, они до сих пор ездят в путинскую Россию пить водку и путаться с русскими блядями: все веселей, чем дома, погулять от души можно.
Было, правда, в России несколько блестящих европейских писателей и великих композиторов, но все они – потомки европейских полукровок, как и сам последний император, только на одну стодвадцатьвосьмую Романов и славянин. Самое выдающееся, что совершил русский народ за свою историю, – истребил свою цивилизацию, национальные культурные классы, уничтожил храмы и духовенство и превратился в морально дикий анклав в центре Европы, каким и продолжает оставаться по сей день. Но это варварское косоглазое чудище антицивилизационного анклава по-прежнему прикрыто конкурсами скрипачей и виолончелистов, шахматными турнирами, гориллообразными боксерами и борцами, томами заказной кремлевской литературы. Где-то в подвале под Тайницкой башней, в бочках со спецрассолом вот уже почти сто лет вымачивают удобных номенклатуре “культурных” деятелей. Раньше непослушных писателей, художников, музыкантов или расстреливали, или морили голодом, или держали на коротком поводке, внушая: “Дернешься – сразу удавим!” В общем, театры, кино, эстрада, опера стали кремлевскими гаремами, где подбирали женщин на разные сроки использования. На фоне общей ужасающей картины – целый ряд художников, композиторов и, реже, писателей (специфика труда опасная), которые в условиях большевистского рабства пытались сохранить творческую независимость. Это и Шостакович, и Нейгауз, и Рихтер, и частично Платонов и Пастернак. В живописи – Фальк, умерший от голода в Ленинграде Филонов, акварелист Фон Визен, Жегин (Шехтель) и еще ряд забытых и умерших в безвестности. После смерти Татлина содержимое его мастерской выбросили на помойку, часть его работ спасла одна художница, увидавшая их среди мусора.
Все эти редкие независимые творцы были носителями традиций русского европеизма. Очень трудно быть независимым художником и писателем в рабской стране, до сих пор живущей по законам Чингиcхана.
Власти фактически морили Фалька голодом, но он вопреки всему писал и писал и все женился и женился. От полотен зрелого Фалька исходит обаяние таинственности и огромной тоски: все время Фалька – в его колорите, в его особых фонах, играющих такую же роль, как и лица портретируемых.
Я неоднократно бывал в квартирах, где жил Фальк, один раз даже видел его со спины (он прогуливался, часто останавливаясь), но, конечно, по своей привычке не подошел к нему: шапочное знакомство, всего один раз разговаривали – нет повода подходить и навязываться. К тому же я всегда помнил урок импрессиониста Дега – он прикидывался слепым и глухим, чтобы не здороваться со знакомыми на улице и избегать нудных разговоров. В этом районе у меня была приятельница моих лет, брюнетка с польской фамилией, сестра ее бабки дружила с Анной Ахматовой. У брюнетки была большая коллекция немецких довоенных пластинок с записями Вертинского, Морфесси и многих других (их потом случайно разбила сама хозяйка). В артистической Вертинского мне удалось несколько раз побывать после концертов и в перерывах между ними – моя знакомая, учившаяся в Суриковском на театральном факультете, знала его жену Лилю. Мне нравилось его слушать, но в нем самом было очень много страшного и фальшивого. Глядя на него, я начинал понимать, почему в старину комедиантов хоронили в поле за церковной оградой.
Я по-прежнему приходил на паперть храма Ильи Обыденного и еще несколько раз встречал Дурылина. Он мне рассказывал о том, какие картины были в снесенном Храме Христа Спасителя, как там служили до революции, особенно на Пасху. Говорили мы о Врубеле и о мирискусниках – некоторых из них Дурылин знал и бывал на их выставках. Я объяснял ему, что Врубель – безвкусный, салонный по сути художник русского модерна для оформления конфетных коробок, гостиниц, ресторанов, и что купчихи, самовары и кошки Кустодиева – это китч, и что “потревоженные” похотью дворянские девицы Сомова – это завуалированная порнография, как и его провинциальные недоросли в штанишках, облегающих их очень большие члены. А про Бенуа я читал забавный факт. Приехали после войны советские туристы в Париж, пошли в Версаль, а там согбенный старичок акварели пишет. Туристы посмотрели ему через плечо и говорят: “Совсем как наш Бенуа...” Бенуа, как и Блок, долго сотрудничал с усатым упырем Горьким и через него – с большевиками. Бенуа пытался спасти в красном Петрограде музеи, а Блок – театры, так как сам он жил с актрисами, а его жена Менделеева – с актерами. И сам Блок, и его жена были с примесью еврейской крови. Дед великого Менделеева – крещеный николаевский солдат Менделевич, а предок Блока – немецкий врач Блох, пожалованный Павлом I в дворянство. Когда Бенуа сбежал во Францию, в Петрограде остался весь его архив – рукописи и рукописные справочники по искусству (он называл их “брульоны”). Он тщетно просил большевиков вернуть их ему. Куда там! Архивы при живом авторе объявили национальным достоянием и сдали в госархив. Дурылин прекрасно разбирался в художниках-мирискусниках, знал о них массу интересного – сам Нестеров был мирискусником. Это были все люди декаданса, включая самого Николая II, которые хотели построить некую Россию “а-ля Рюсс”, в духе “царского” Федоровского собора в Царском Селе или Марфо-Марьинской обители на Ордынке. Этой же идее служили слащавые картинки Нестерова, Рябушкина, Константина Маковского и других подобных им сказочников о никогда не существовавшей “святой Руси”. Очаги православия, конечно, существовали, как и старообрядцы, но в целом великороссы были полуязыческими варварами, крещенными насильно и не воспринявшими христианской морали. Великороссы построили дикий варварский социализм, теперь строят дикий варварский капитализм.
Из Фалька Илья Григорьевич Эренбург слепил политическую фигуру, своего рода знамя, в своей повести “Оттепель” выведя его одним из ее героев. Хрущевское отмывание номенклатуры от кровавых подвигов Сталина и Берии получило название “хрущевской оттепели”. Илья Григорьевич был очень талантливым писателем и культурным человеком, но по своему призванию являлся провокатором общеевропейского масштаба. Не думаю, что он был сотрудником Лубянки или ГРУ, но он выполнял их работу, когда закладывал “Еврейский комитет защиты мира” и всячески отмежевывался от любых национальных еврейских тем. Один крупный переводчик взял меня, молодого, с собой в гости на дачу Эренбурга. Я сидел в мансарде с камином, выложенным новоиерусалимскими, никоновскими изразцами, и слушал байки самого Ильи Григорьевича. Эренбург был циником еще дореволюционного разлива, в отличие от другого сталинского холуя – Симонова, князя Оболенского по материнской линии, служившего Сталину от всей души. Помню, как Илья Григорьевич пыхал трубкой и резко вглядывался в собеседника, словно оценивая его. Я привез Эренбургу пару своих маразменных рассказиков, которые мы тогда придумывали на пару с Ковенацким и которые потом повлияли на Мамлеева. Илья Григорьевич меня напутствовал: “А вы, молодой человек, пишите, у вас есть хватка, вы наблюдательны. Вот только печатать вас никогда не будут”.
Меня смолоду интересовали люди, перепачканные в крови, – что они чувствуют, как ведут себя, когда на них не смотрят посторонние. Эти поездки к Эренбургу, на машине моего знакомого, ранней весной в дачные поселки Нового Иерусалима мне запомнились в основном из-за этой весенней поры. Переводчик вместе с Ильей Григорьевичем часа полтора-два что-то редактировали и перепечатывали, а я тем временем прогуливался. Эренбург порекомендовал мне познакомиться с кланом Бриков, но при их упоминании он как-то морщился. С его подачи я одно время ходил в библиотеку музея Маяковского в Гендриковом переулке и кое-что там прочитал.
Илья Григорьевич угощал нас с переводчиком бутербродиком, наливал настойки – и мы уезжали. Я ездил туда, наверное, раза три, и Эренбург меня не заинтересовал – это была чисто советская государственная фигура. Тогда выходили его мемуары “Люди, годы, жизнь”, но я им не верил, единственная запомнившаяся фраза из этого опуса: “В Париже цвели каштаны, и Шанталь ждала меня”.
Зрелый Фальк был художником чистейшей воды и никем больше. Когда номенклатура решила сменить свою шкуру и появились коммунисты-реформаторы (это как будто в Германии возникли нацисты-реформаторы), Москва превратилась в захудалую южноамериканскую столицу вроде Каракаса с эпигонством под современный Запад абсолютно во всем и еврейская интеллигенция стала обслуживать разжиревший новый класс (формулировка Милована Джиласа), то из Фалька и его стойкого эстетического затворничества сотворили новый миф и он стал культовой фигурой.
Но вернусь к пятачку вокруг Храма Христа. В одну из наших последних встреч Дурылин много рассказывал мне о внуке и внучке Тютчева, о том, как он уговорил Нестерова написать их портреты: грустный, весьма пожилой господин и грустная седая дама на фоне пленэра. Говорили мы с ним и о Тютчеве, я его и о нем неплохо знал и удивлялся его отстраненности от обязательной, как призыв в Красную армию, пушкинской традиции. Меня Тютчев интересовал как пронемецкая эстетическая и человеческая фигура. Я еще не имел тогда своего собственного мировоззрения и идеализировал погибшую романовскую империю. Это уже в совсем немолодые годы, после пресловутой “перестройки” и переворота девяносто первого, я окончательно разочаровался в русском простонародье: для того чтобы окончательно выветрить из себя народнические замашки, мне нужно было изъездить и истоптать всю Россию. Только тогда я стал смотреть на настоящее и будущее Евразии более или менее реально.
Несколько раз подряд – раза три, не больше – я ездил в Мураново. Там тогда было пустынно, журчал ручеек, камни от разрушенной мельницы, парк, переходящий в лесок, часовня при доме и много музейных молодых дур, обожавших Тютчева, – псевдокультурных и псевдообразованных идиоток. В Мураново царил культик Тютчева – третий в России поэт после Пушкина и Лермонтова. Для меня же из всех троих на первом месте стоит Лермонтов, универсальный литературный талант во всех жанрах. Толстой сам признавался, что без Стендаля и прозы Лермонтова у него не было бы своего собственного стиля.
Биологический отец Лермонтова был дворовым, сожительствовавшим с барышней, поэтому у папаши поэта была поротая задница, оттого и сын умнее всех на сто голов. И Пушкин и Лермонтов – поэты социальные, пушкинское определение “Народ безмолвствует” или лермонтовское “Страна рабов, страна господ” – это не тютчевcкий уход в сторону от истории. Все понимая в России, Тютчев, живя среди варваров и дикарей, чтобы успокоиться, или жил с подругой своей дочери по Смольному институту, или придумывал идиотские славянофильские теории (православный папа в Риме, православный император в Константинополе). Без реального русского имперского народа. Славянофильство, придворные бредни, и ничего больше.
Помню, в один солнечный осенний денек я привез в Мураново две большие бутылки портвейна “Массандра”. Сотрудницы музея на тютчевской террасе соорудили бедный столик с салатиками и консервами (тогда они еще были съедобны), и мы стали пировать. Сначала говорили о Тютчеве вообще. Тютчевы – татарский род, их предок – мурза Тютча. Они всегда вились около царского двора. Есть хорошие мемуары дочери Тютчева, фрейлины “при дворе двух императоров”. Она воспитывала дочерей Николая II и ненавидела Распутина. Потомство Тютчева через его жен-немок было уже почти что немецким. Пресловутое высказывание поэта о невозможности понять Россию умом цинично по своей сути. Получается, маркиз де Кюстин Россию понял, а Тютчев нет, хотя жили в одно время. Получается, невозможно разобраться в социальной и расовой структуре страны, в которой живешь. Такая сентенция – своего рода индульгенция для людей, живущих бездумно и подчиняющихся любым формам власти. Верить в Россию призывал и Сталин… Призывают в нее верить и нынешние ее властители. Сам житейский хитрец и придворный льстец, Тютчев, конечно, величайший пантеист, лирик, прозы не писал. При его громадном уме он бы со своей прозой моментально в Сибирь угодил, как Радищев. В России писать правдивую прозу об окружающей действительности – опасное для жизни занятие.
Потом мы говорили о последних Тютчевых – внуках, живших в советские годы при мурановском музее, и о дружившем с внуком поэта Дурылине, и о том, как при его участии были написаны Нестеровым портреты брата и сестры. И вот музейные сообщили мне, что у них на чердаке стоят ящики с обувью покойного внука Тютчева, они боятся, что эта пересохшая обувь загорится, и спрашивали меня, что с ней делать. Меня тогда знали в некоторых музеях, я присматривался, где бы пристроиться, но музейные крысятники мне не нравились. Мамонты и бизоны музейного дела вымирали, а следующие поколения – чистое порождение большевизма во всех его ипостасях. Музейные дамочки звали меня тогда Бледный Алекс, просто Алексис и Герцог Альба за сходство с портретами Веласкеса. Но я с музейными дамочками не путался, предпочитая более низкий жанр. Для них все эти портреты, миниатюры, сабли, шашки, штандарты – финансовые и музейные ценности, но не духовные. Мои предки за эту ветошь кровь проливали. Когда я беру в руки сложенное знамя или рукоять сабли, во мне все содрогается до слез. Кстати, наследников исторических раритетов в России больше нет, население абсолютно безразлично к своей истории, к настоящему и будущему. Большинству населения бывшей России дорого только то, что сегодня в миске и граненом стакане. Это потом все кому-то достанется как реликвии вымершего народа, вроде тех штучек, что теперь раскапывают в заросших джунглями заброшенных городах майя. Или же уцелевшие где-нибудь в Австралии или Новой Зеландии потомки русских спустя века, как евреи в Израиле, соберутся в стаю где-нибудь, выклянчат у азиатов кусочек бывшей России и устроят там новую Россию миллиона на два-три жителей. Конечно, это будет чисто археологическое государство, и собравшиеся там русские будут думать и говорить по-английски и только официально – по-русски. Вот им-то все уцелевшее в музеях и коллекциях понадобится, – прикасаясь к подлинным вещам старой России, они будут черпать вдохновение для собственной жизни и государственного строительства. Потомкам же угро-финских и монголоидных племен ни кровавая русская история, ни беспощадная русская проза, ни лукаво-двусмысленная лирика не понадобятся. Они будут ходить, как лошадь с шорами на глазах, вокруг ежедневной пайки, как уже ходят сегодня.
Собранные в Московию Рюриковичами-Даниловичами полуевропейцы всегда жили в Великороссии, как оккупанты, у них все было свое: и женщины, и дома, и свой домашний (не обязательно французский) эзопов язык, и свои императоры, и своя литература и музыка. И все это спалили сиволапые мужепесы, для них все это было чужое, враждебное и вредное. Точно так же погибнет и нынешняя англосаксонская по сути псевдомодернизация России.
В тот осенний день в имении оказались двое перемазанных в саже печников, они спустили с чердака кучу картонных ящиков с обувью, какой-то допотопный баул и квадратные плетеные корзинки и сложили все это на полянке перед домом. И я, стоя на расстоянии, чтобы не замараться в пыли, стал руководить разбором этой ветоши. Обычно когда человек умирает, его вещи раздают нищим в церкви, а в Мураново все барахло внука Тютчева подняли на чердак, не разбирая. В ящиках находилась совершенно высохшая французская обувь начала двадцатого века – сотни пар, в плетеных корзинках – масса манжет, стоячих пристяжных воротничков, манишек, белых и цветных жилетов. В паре манжет музейные дамочки даже нашли запонки – одни золотые, с яшмой, другие серебряные, с черными квадратными камнями, и, как дикарки, даже прыгали от радости. Для такой “работы” они надели синенькие халатики и повязали косынки. Зрелище получилось убогое – дворня роется в барахле покойного барина. В одном из баулов они нашли лайковые и шелковые перчатки и смятый, как голенище сапога, белый цилиндр. Была там и коробка с письмами и поздравительными открытками на многих языках. Была и стопка порнографических открыток: безобразно коротконогие француженки демонстрировали свои задки и прочие части тел. Письма и открытки (конечно, за исключением порнографических, которые разобрали сотрудницы, жившие, вероятно, на скудном сексуальном пайке) уволокли в музей, а кучу тютчевского добра подпалили, предварительно облив бензином. Небо между тем стало шелково-растянутым, как фиолетовая кашемировая шаль с отдельными павлиньими перьями и всплесками заката, кое-где стали заметны звезды. Кострище загорелось, затрещало и стало отбрасывать плящущие отсветы на розоватые стены небольшого баратынско-тютчевского дома. Я вспомнил портрет старого господина с темным морщинистым лицом и по-английски, как я всегда это делал, ушел, не попрощавшись с женсоветом, впавшим в некоторое буйство. Мне было грустно, и, отходя от усадьбы и оглядываясь на огонь костров, я почему-то подумал, что жгут не вещи – жгут самого господина, жившего в усадьбе своих предков. А ведь Мураново все равно сожгут, подумал я тогда, ведь домик небольшой и бедный и уцелел-то случайно… Между Февральской и Октябрьской революциями мужики сожгли тридцать две тысячи дворянских усадеб, и почти в каждой были портреты, миниатюры, книги, дневники, письма…
В тот день, покидая Мураново, как оказалось, навсегда, я покидал и мир Тютчева и его современников. Подсознательно я ощущал, что вижу все это в последний раз, что этот случайно уцелевший очаг дворянской культуры погибнет, в труху превратятся скрипки, фарфор, старинные рисунки, мебель редких пород дерева. Физически уничтожив дворянство, наследники большевиков решили восстанавливать дома, в которых жили дворянские поэты и музыканты. Мой отец назвал такие дома макетами. Для таких макетов скупали по комиссионкам кое-какую мебель красного дерева и обязательно – письменные столы, ведь на чем-то писатель или поэт должны были творить! Так создали макет чеховского дома в Мелихово, а недавно – Батурино Бунина. Признаюсь, появлению такого макета в блоковском Шахматово поспособствовал и я, написав когда-то Федину об одичании места, где стояла в свое время сожженная потом крестьянами усадьба. В молодости я увлекался дневниками Блока и наивно полагал, что в СССР как-нибудь все обойдется и возникнет социализм с человеческим, а не звериным лицом. Не обошлось – все решили жулики, воры и обкомовские тупицы. Конечно, того большевизма, что был раньше, уже нет, красная малина обосрана окончательно, и советские танки больше никому не угрожают.
Отстроили даже макет Ивановки Рахманинова, говорят, хотят сделать макет наследственного имения Тютчева в Брянской губернии. Профанация памяти старых писателей в таких вот домах-макетах достигает размеров поистине чудовищных.
…С того события прошло много лет, и я уже подзабыл и Фалька, и Дурылина, и парализованного от водки Васю Шереметева, как вдруг новость: Мураново сожгли! Вокруг Мураново был так называемый исторический пейзаж – “тютчевские холмы”. Постепенно эти холмы стали зарастать краснокирпичными особняками новых русских. Нищие музейщики протестовали, шипели, как змеи, но строительство продолжалось. Точно так же сегодня застраивают пушкинское Михайловское, Богом проклятое болотистое место, дельцы из Питера (язык не поворачивается сказать “Петербурга”). Шипение музейщиков услышали сверху, и хозяева особняков послали бомжа плеснуть керосином (у очень многих богатых людей, строящих особняки, живут в подвалах на положении рабов с отобранными паспортами таджики и бомжи). Спасая из огня музейные экспонаты, обгорел мужчина – сотрудник музея. Ну ладно, восстановят Мураново снова, заменят пострадавшие вещи копиями, но нет никаких гарантий, что дом снова не подпалят. Мои предчувствия в те далекие годы меня не обманули: красный мужицкий петух прогулялся по единственной уцелевшей помещичьей усадьбе, где шкафы и зеркала не сдвигали со своих мест со времен жизни их владельцев. Останкино, Кусково, Архангельское – это дворцы, а обычные дворянские усадьбы все разорены и сожжены. Мураново было последним.
Теперь я расскажу о том, как я был в мастерской Фалька уже после его смерти и вдоволь насмотрелся на его холсты. История эта отчасти скабрезная, как, впрочем, и многое, о чем я пишу.
Жила в Москве на Васильевской улице, около Белорусского вокзала, супружеская пара – Лена Строева и Юра Титов. Юра – архитектор, мужественный, похожий на актера МХАТа Белокурова; у Лены было подержанное еврейско-украинское лицо, вздернутый носик и ноги, поросшие мягкой козьей шерстью, как у царицы Савской. Люди они оба были милые, жили в одной большой комнате с альковом, выкрашенным в синий цвет. На одной из стен их жилища висела очень хорошая работа Харитонова, изображающая апостолов, сидящих среди скал и деревьев. Картина выдержана в особой зеленовато-коричневой гамме, больше я таких работ у Саши Харитонова не встречал: его творчество отдает наивкюнстом.
Большая строевская семейная комната была местом встречи диссидентов и им сочувствующих. Там бывали Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, его мать, брат матери кинодраматург Вольпин, Николай Робертович Эрдман (он, правда, появлялся там редко), Юрий Витальевич Мамлеев (правда, редко), Андрей Амальрик и Володя Буковский и еще целый ряд личностей, по разным причинам недовольных советской властью. Хозяева ни на кого в КГБ не стучали. Лену как тунеядку преследовал горком комсомола и хотел выселить из Москвы на сто первый километр, в Александров. К сожалению, Лену и Юру, людей симпатичных и мягких, вынудили (наверняка не без помощи КГБ) уехать в Париж, и там комитетчики стали принуждать Лену делать всякие гадости. Она этого не выдержала и однажды после выпивки (вообще-то они оба не пили) повесилась в уборной. Юра без нее превратился в слепого без палочки или без собаки-поводыря, помешался, был помещен в психиатрическую больницу под Парижем и вскоре скончался.
Так вот, Юра и Лена были близко знакомы с полуамериканской семьей Стивенс – Эдди (Эдмоном) Стивенсом, его женой Ниной Андреевной и дочкой Аськой (Айшей). Еще у них был сын-архитектор, но он жил в Нью-Йорке, и я никогда его не видел.
Строевы оказывали Стивенсам разные мелкие услуги, и те расплачивались с ними всякими мелочами – американскими презервативами, порнографическими журналами, сигаретами и жевательной резинкой. Нина Андреевна мне потом сама об этом рассказывала и показала ящик, набитый таким товаром, которым она расплачивалась с подобными помощниками. Мне она ничего такого не предлагала – я был тогда хорошо одет, носил итальянскую обувь и благоухал дорогим одеколоном.
У Стивенсов, правда, поили хорошим виски, которое разводили пополам с апельсиновым соком (нужные этой семье люди выпили такого напитка наверняка не одну цистерну).
Эдди и Нина Андреевна меня не сильно раздражали, они были людьми довольно простецкими. Стивенс представлял в Москве какую-то американскую бульварную газету, но на самом деле выполнял важную функцию советской внешней политики: через его газетенку Кремль прокатывал свои “утки”: “как сообщает московский корреспондент…” и т. д. Все это знали, и он всем был удобен. Эдди был здоровый лысый мужик лет за пятьдесят, с неопределенным слюнявым ртом, обросший жиденькой рыжеватой шерсткой, долженствующей изображать бороденку (сам Хрущев как-то сказал ему: “Ты, Стивенс, это сбрей, тебе не идет”). Нина Андреевна и Эдди познакомились еще в тридцатые годы, и их брак благословил сам дедушка Калинин. Тогда же, наверное, их и завербовали. Скорее всего, они были двойными агентами, работавшими и на Лубянку, и на ЦРУ.
Стивенс к тому же, по слухам, был женатым гомосексуалистом. В воспоминаниях Эренбурга есть эпизод: английский журналист, полуфранцуз, бьет Эдди по голове пустой бутылкой за его рассказ о том, как хорошо француженки спят с немцами. Произошло это в поезде, когда журналистов везли в Мурманск, на Северный фронт. Я напомнил Стивенсу за столом об этом эпизоде, и он взорвался: Эренбург – профессиональный лжец, этого не было, и вообще Илья Григорьевич прикидывался, что не знает английского, чтобы было удобнее подслушивать. При этом Эдмон Эдмонович, как я его называл, постоянно прихлебывал виски и не очень-то контролировал свои движения.
Мадам, худощавая, стройная, в молодости была, очевидно, симпатичная и привлекательная, по-старомосковски простецкая и приветливая и житейски, несомненно, очень опытная и циничная. Семья ее, наверное, была из мещанско-купеческой среды. В комнатах второго этажа мелькала ее мама, невысокая полная старушка, старавшаяся не появляться на людях и, как я потом узнал, ядовитая на язык.
Нина Андреевна держала маленьких брехливых курчавых собачонок, а пьяный Эдди все время придавливал их дверьми. “Эдмон опять собачку раздавил”, – сообщала мадам, и мы везли хоронить несчастное животное в лесу.
Увидев, что я понравился Стивенсам, Лена, которая и привела меня к ним, предупредила – мол, Нина прижимистая и дает не очень много. Я посмотрел на Строеву с удивлением, так как в приживальщиках, тем более у иностранцев, никогда не был.
У Стивенсов мне понравилась гостиная – метров восемьдесят, отделанная мореным деревом и устланная коврами, с диванами вдоль стен. Посреди гостиной стоял рояль палисандрового дерева, на стенах висели чиновые поясные иконы действительно рублевского круга начала XV века. Иконы эти поставлял некто Мороз, темная личность, опекун душевнобольного художника Васи Ситникова, ученика моего отца по Учительскому институту. Вася был похож на обросшего первобытного человека, со скошенной нижней челюстью и хитрыми глазами безумца. В годы войны его держали в Казанской психиатрической больнице, большинство пациентов которой умерло от голода. Вася выжил, приспособившись есть лягушек, жаб и ужей, водившихся в прудах около больницы. Он сам с удовольствием рассказывал об этом.
Мороз этот жил где-то на Лубянке, рядом со зданием КГБ, и, по-видимому, был туда вхож. Его потом все равно посадили по уголовной статье.
Мадам Стивенс я был необходим для того, чтобы написать предисловие к выставке наших авангардистов, которую она решила устроить в Нью-Йорке. Я написал предисловие с кратким обзором художественных группировок двадцатых-тридцатых годов, тем более что мой отец их всех хорошо помнил, и все его рассказы я зафиксировал.
Мне нравилось у Стивенсов, нравилось их пойло и то, как нежна и внимательна была ко мне Нина Андреевна. Я думал, что она и ее муж решили меня завербовать в ЦРУ, и мне это даже как-то льстило. Но все оказалось намного прозаичнее и пакостнее. Мадам решила заманить меня к себе в постель, приручить и сделать частью их семьи. Я понял это не сразу, ведь у меня, естественно, не было опыта того, как пожилые дамы заманивают молодых мужчин, годящихся им в сыновья. Хозяйка всячески пыталась меня споить и оставить ночевать на диване в гостиной. Однажды она принимала меня в своей спальне в полупрозрачном газовом пеньюаре, а муж приносил туда мартини, смешанное с сухим вином. Как-то Нинина старушка-мама, проходя мимо нас, сидевших в креслах в одной из комнат второго этажа, сказала ехидно: “А ты, Нина, все с молоденькими, хорошенькими…” До меня кое-что стало доходить, и я решил все это прекратить. Жили мои американцы в двухэтажном старомосковском купеческом особняке на две квартиры. Их соседкой была какая-то негритянская художница, которую я никогда не видел.
Во дворе размещался добротный отапливаемый гараж, где Нина хранила коллекцию московских авангардистов. Были в той коллекции хороший Тышлер, букашки Плавинского, много Васи Ситникова, черные кружки с серыми фонами Краснопевцева, пара рисунков на картоне Эрнста Неизвестного и еще какие-то голые бабы работы учениц Васи. Его ученицы сухой кистью на ватмане рисовали стилизованных баб – без контуров, врастирку (этой технике Вася научился, рисуя по ЖЭКам в послевоенные голодные годы портреты Сталина и Ленина). Васины картины были большей частью просто похабные, а излюбленный сюжет – за голой женщиной с выпуклыми грудями бежит голый, заросший шерстью мужик. Подобных рисунков он сделал много, один из них висел у Костаки, а один якобы купил музей Гуггенхейма. Мадам Стивенс все-таки вывезла свою коллекцию в Нью-Йорк, но выставка провалилась (судя по всему, это была первая такая выставка за океаном). Перед отъездом из СССР Вася жил в однокомнатной квартире на Семеновской площади, и я разочек у него побывал. Он рисовал голых баб, а его полуголая жена в прозрачном газовом белье сидела рядом. Все стены, как чешуей, были увешаны иконами. Когда Васю КГБ выжило из Советского Союза, он был вынужден все свои иконы пожертвовать в музей Рублева. Среди этих икон оказался Спас двенадцатого века, записанный в шестнадцатом, предположительно выкраденный из Кремля старообрядцами при нашествии Наполеона. Вася и не знал, что за доска была у него.
Выехав в Америку, он опять окружил себя сексуально помешанными ученицами и вскоре умер, перепив в окружении их обнаженных тел. К концу жизни Вася рисовал соборы, московскую толпу и снежинки, как на старых поздравительных открытках. Снежинки эти очень аккуратно выписывали Васины ученицы.
И вот однажды Нина предложила мне отправиться в мастерскую Фалька (он к тому времени уже умер) и попытаться купить у вдовы художника “Обнаженную” – ту, что была на юбилейной выставке МОСХа и к которой почему-то привязался Хрущев. Посиневшая от холода натурщица Осипович была в жизни еще страшней, чем ее изобразил Фальк, но она гордо заявляла: “Мое тело стоит в Лувре”, намекая на то, что с нее резал из дерева Коненков и статуя попала во французские музеи.
Мадам Стивенс поручила мне торговаться от десяти до тридцати тысяч долларов. Тогда, в той Москве, это были огромные деньги. Она дала мне телефон вдовы художника, я позвонил, сказал, что мой отец – коллекционер из Тбилиси и хочет приобрести картину Фалька с подписью. Вдова согласилась принять меня, и я оказался на памятной мне лестнице в уже знакомой мансарде. Вдова, заметно постаревшая от перенесенного горя, показала мне несколько портретов – я их горячий поклонник, в них есть большая психологическая нагрузка сталинского периода, они мне ближе, чем “свободные” полотна парижского периода Роберта Рафаиловича, в которых есть молодая беззаботность. Вскоре население Земли составит девять миллиардов человек, в основном азиатов, мусульман и негров, которым станет нечего есть, пить и нечем дышать, и вот-вот начнутся расовые беспорядки по сокращению населения хотя бы до двух миллиардов начала XX века. Век XXI станет, по-видимому, последним веком существования европейского искусства, и в глазах фальковских сумрачных портретов читается огромная трагедия – и его времени, и будущих эпох.
Я взял с собой блокнотик и набросал в нем несколько композиций, главным образом парижских пейзажей. Попросил показать мне и ставшую знаменитой “Обнаженную” и спросил, не продаст ли она это полотно. “Нет, оно должно висеть в Третьяковке”, – ответила вдова. Другого ответа я и не ждал. Тогда я спросил, не продаст ли она что-нибудь еще. Вдова сказала, что она надеется открыть музей Фалька.
Я, конечно, знал, что “Обнаженную” мне не продадут, а другой Фальк мадам Стивенс не интересовал. Но я ей сказал, что мне, вероятно, удастся уговорить вдову. Я твердо решил перестать бывать у Стивенсов, роль чичисбея (так в Венеции называли второго мужчину в семье при пожилой даме) была не для меня. Чтобы закончить с ними дело с Фальком, я отыскал на чердаке нашей дачи старое неоконченное большое полотно моего папаши времен ВХУТЕМАСа, где была только намечена фигура обнаженной натурщицы, и написал на ней по сделанным во время визита наброскам три работы – два парижских пейзажа Фалька и небольшую уродливую обнаженную. На том же холсте я тогда подделал два небольших портрета Петрова-Водкина. Все это мой приятель-аферист продал каким-то иностранцам, и эти мои подделки потом даже выставлялись в Европе и попали в каталоги. Пытался я однажды по чьей-то просьбе подделать и Шагала, но ничего не получилось: присущий ему еврейский дух мне, еврославянину, не давался.
Порвать с Ниной мне удалось так: я пришел к ней в гости с женщиной по имени Кира, с которой познакомился незадолго до этого. Нина сразу все поняла, и когда я в следующий раз позвонил Стивенсам, Нина сухо ответила мне, что в посольстве прием и меня она принять не может. Потом я слышал, что чете Стивенсов правительство выделило отдельный особняк где-то около Остоженки, и они продолжали свою деятельность. Недавно по телевизору я видел их дочку Аську Стивенс: обглоданное страстями и виски подержанное лицо. Она рассказывала о том, что ее родители были меценатами поэтов и художников шестидесятых годов. Они действительно всячески заманивали и угощали поэтов, когда-то читавших в Политехническом. И наверное, небезуспешно – вот, например, главный комсомольский глашатай тех лет Евтушенко – сегодня профессор какого-то американского университета, живет на тамошнюю зарплату…
Старик Харон переправил через воды Стикса большинство персонажей, описанных в этих лоскутных, как деревенское одеяло, записках. Но в моем ядовитом от подагры и желчи мозгу стареющего маразматика-шестидесятника они, как в цветном калейдоскопе, по-прежнему ярки и подвижны, как прыгающие цветные стеклышки…
Москва, 2007 г.
Около склепов и могил
Москва – это город победившего зла, уже очень давно – гнездилище Сатаны и его прислужников. Еще во времена Аристотеля Фиорованти, возрожденческого строителя стилизованного под византийскую старину Успенского собора, по тогдашней вполне дикой Московии раздавались вопли: “Татарам выдали резать всех иностранцев и они их тащат, как баранов, к прорубям на Москве-реке!” И Аристотель, и другие иностранцы в ужасе попрятались. На самом деле оказалось, что европейские врачи неудачно залечили нескольких московских царедворцев, среди которых были татары, и им выдали несчастных иностранцев, которых действительно зарезали на льду напротив посада. То, что веками происходило внутри и напротив Кремля, – это неописуемые по жестокости и мерзости картины. Переориентация Москвы на Золотую Орду и превращение ее столицы в славянский филиал Сарая – странное событие, из-под пепла и обгорелых костей которого по сей день не выбралось все европеидное население Евразии, почти на тысячелетие оказавшееся под татарским сапогом и камчой. Наш шустрый негроидный кузнечик Пушкин, скакавший и по русской истории, и по банькам провинциальных барышень и постелям жен своих петербургских приятелей, кропал свои исторические опусы весьма поверхностно, так же плохо зная русскую историю, как и его ментор и наставник Карамзин, тем не менее сочинивший многотомную русскую псевдоисторию. Он уткнулся носом в Смутное время (поближе по векам) и понял, что как царедворцу, дабы не попасть в опалу, дальше ему писать опасно: Смутное время – прообраз и пугачевщины, и большевизма, и, возможно, нашей современности. Пушкин – наш национальный герой с его африканскими бакенбардами и донжуанским списком, писатель очень литературно разнообразный, почти Евтушенко своего времени, – изобличая в “Борисе Годунове” неудачливого царя Бориса (кстати, умнейшего из государей своей эпохи), патетически воскликнул:
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач...
Такое определение должно было бы стать девизом Кремля после падения императорской России. Именно здесь большевики плели свои паучьи и змеиные заговоры против всего мира.
Романовы начали свое правление в Москве с еще одной кремлевской гнусности: повесили на воротах Спасской башни четырехлетнего сына Марины Мнишек, причем мальчик был не от Лжедмитрия, а от последующих тушинских персонажей. Этот факт публичного удушения ребенка Романовы и их штатные историки-фальсификаторы всячески скрывали. Потом Романовы мочили и друг друга, и своих родных. Петр I уничтожил законного наследника Алексея Петровича, но все началось именно с повешения четырехлетнего мальчика как факта самоутверждения новой династии. Потом много чего еще было в таком же роде – и пресловутое утро стрелецкой казни, и расстрел юнкеров, пытавшихся защитить Кремль от красных, и расстрел Кремля красной артиллерией, и убийство и сожжение несчастной Фанни Каплан. В постсоветских средствах массовой информации рассматриваются два варианта сожжения ее тела. Один – в бочке с бензином в Александровском саду, другой – напротив Потешного дворца, где находились квартиры хозяев захваченного Кремля. Второй вариант более вероятен, потому что на запах горелого человеческого мяса выбежал живший там Демьян Бедный (бывший царский офицер Придворов, юнкером учившийся в Киеве у моего прадеда), и его начало тошнить. Бензин взяли из машины Ленина, его сливал в бочку личный шофер вождя Гиль. Тело Фанни рубили топорами на куски стрелки кремлевской охраны. И все это – на фоне византийских икон Феофана Грека, Прохора Городца и Андрея Рублева. Какое явное страшное противоречие между византийской оболочкой Московии и татарским беспощадным ядром. Это противоречие, пугающее, противоестественное и поэтому все разговоры о некой византийской политике в условиях большевистской скотобойной страны и императорской России, а тем более допетровской царской, вообше неуместны. Царь Иван Грозный лично сам посохом, кинжалом и мечом в мирное время вырезал пятьсот человек из своего окружения и прислуги – так сказать, “бытовуха”. Николай II не отменил торжественного приема в Кремле по случаю своей коронации в день трагедии на Ходынском поле, когда были затоптаны насмерть четыре тысячи человек. В Кремле Сталин и Молотов готовили и подписывали довоенные расстрельные списки. Горбачев в Кремле принял решение не отменять первомайскую демонстрацию в Киеве после сообщения об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Кремле было решено расстрелять из танковых пушек перестроечный Верховный Совет, которому присягал Ельцин.
Если не перенести столицу России на совершенно новое, морально не зараженное место, кремлевские ужасы никогда не прекратятся. Один мой старый знакомый, диссидент, недавно сказал, что в Кремле есть что-то мистическое, каждый, кто в нем поселяется, превращается в диктатора. В диктатора сарайского образца – добавлю я.
Недалеко от Кремля всегда располагались пыточно-карательные места, где изощренно мучили и убивали людей. Одно из таких мест – всемирно известная Лубянка, где давно уже пора организовать музей советского тоталитаризма и человеконенавистничества. А вот опричные дворы Иоанна Грозного находились в районе Арбатской площади и на территории нынешней библиотеки имени Ленина. Мой дед, пока окончательно не свихнулся и был коммуникабелен, вместе с Апполинарием Васнецовым и искателем библиотеки Иоанна Грозного психопатом и знатоком подземной Москвы Стеллецким состоял в “Обществе старой Москвы”. Общество это существовало в 20-е годы до того самого момента, когда архитектору Иофану поручили воздвигнуть Дворец Советов. Иофан – автор советского павильона на парижской выставке, для которого мужеподобная скульпторша Мухина воздвигла две идиотские фигуры, символизирующие советский экономический смысл: хочешь – жни, а хочешь – куй, все равно получишь хуй. Эта хуевая скульптура надолго стала символом СССР. А воздвигли ее специально для французских литпроституток вроде Арагона и его жены Эльзы, чтобы те восторгались и травили несчастных белоэмигрантов, служивших в Париже лакеями и шоферами такси.
“Общество старой Москвы” закрыли, некоторых его членов посадили, а затем уничтожили и сам объект изучения – старую Москву. А ведь удивительно красивый и уютный был город в начале ХХ века, пока еще стояли сорок сороков.
Мой папаша до войны и до переворота в институтах, откуда при его участии изгнали остатки ВХУТЕМАСа, долго преподавал в Архитектурном институте. В свободное время он ходил по дворам вокруг института, который размещался в бывшем дворце Воронцовых на Рождественке рядом с превращенными большевиками в развалины Высокопетровским, Сретенским и Рождественским монастырями. Папаша тогда делал очень неплохие карандашные рисунки в духе Пиранези (к сожалению, он их все раздарил своим ученикам и прихлебателям). Рядом с ним усаживался и я и делал свои робкие акварельки. Моя мать, казачка, дама шумная, периодически крикливая, бывшая лишенка, любила бегать с палкой за домашними и прислугой и бить посуду, как это делал ее отец-атаман, гонявшийся с нагайкой за денщиками. Она орала на папашу: “Ты зачем, Глеб, таскаешь Алешку за собой по разрушенным церквам?! Он должен быть советским художником и зарабатывать много денег!” Но мы все равно ходили по запущенным московским дворам, часто ездили в Донской монастырь, где папаша и зять Поленова Сахаров устраивали для студентов выезды на пленэр. В Донской монастырь свозили и вмуровывали в крепостную стену фрагменты лучших спасенных московских и не только московских церковных зданий. Там же были исторические каменные фризы со снесенного Храма Христа Спасителя. В Донском некрополе, который чудом уцелел, гегемоны отбили носы и изуродовали лица у всех мраморных статуй на памятниках. Папаша показал мне памятник со статуей коленопреклоненного ангела работы скульптора Мартоса и объяснил, что Мартосы – наши родственники. Исправные служаки, потомственные дворяне Смирновы весь XVIII и XIX века женились на средиземноморских европейках, часто титулованных, среди которых были и госпожа Мартос, и Смирнова-Россет, и еще потомки напрочь выродившихся маркизов Коленкуров, сыгравших большую роль в революционной и наполеоновской эпопеях. Родством с маркизами мы обязаны Булгаковым: мать моего прапрадеда была урожденная Булгакова. От Булгаковых Смирновы унаследовали шизофрению. Мой дед по отцу был классическим пациентом, а болезнь моего отца выявил психиатр еврей Цурмюль, который, только увидев молодого тогда еще отца, сразу заявил, не задав ни единого вопроса: “Вашему отцу место в сумасшедшем доме, а вам не место в рядах московского ополчения”. В ополчение тогда большевики сгоняли на убой московскую интеллигенцию. Цурмюль вызвал мою мать, долго учил ее, как надо сдерживать отца, чтобы тот не набрасывался на домашних, и выдал справку, которая до сих пор цела: “Глеб Борисович Смирнов не может быть призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии ввиду наследственной психостении”. Я смолоду боялся шизофрении, как боятся наследственного сифилиса, проказы или диабета, и поэтому всю жизнь старался дружить с крупными психиатрами из Соловьевки (так называли клинику неподалеку от Донского монастыря. Тамошние столпы, ученики Ганушкина Кербиков и Ягодка, очень хорошо ко мне относились и даже советовали, учитывая мой уровень знаний, сменить профессию художника на психиатра. Но я ограничивался, организацией на кафедре выставок московских модернистов, в чем мне помогал Алик Гинзбург, дававший некоторые работы Володи Яковлева, которого я тогда еще лично не знал.
Шизофрении у меня врачи не нашли – выявили только некоторые паранормальные способности и наклонности, а также периодическое раздвоение и растроение личности и периодический полный паралич воли, когда у меня было (и по сей день бывает) ощущение, что душа покинула тело. В силу этих особенностей у меня всегда сложное, не цельное реагирование на любые события – возникает ощущение, что я где-то лечу, глядя вниз на происходящее, в том числе и со мною самим. Но я никогда не теряю реальной оценки происходящего. Я все это называю для себя комплексом палача и жертвы в одном лице: наше физическое тело – палач собственной души.
Расписывая церкви во многих российских губерниях, я подолгу беседовал с юродивыми, и эти странные люди, которых почитает русское простонародье, говорили мне, что я мог бы быть одним из них, так как знаю, кто сейчас войдет в церковь, в дом, что ему будет нужно. Они меня проверяли по многу раз. Я могу, например, бродя по кладбищу, рассказывать о жизни усопших, лежащих в безымянных могилах. Особенно сильно я ощущаю массовые захоронения насильственно убиенных. У меня есть небольшая рыжая беспородная собачка Библос, и вот, когда я подъезжаю на автомобиле к своей даче, она за триста метров чует меня, визжит и бежит встречать. А таким качеством обладают далеко не все собаки. Когда умер советский маршал Малиновский (капитан Малинов в Испании), в прошлом царский офицер, у него остались две собаки и три кошки. И все они вскоре после смерти маршала издохли в его кабинете возле дивана хозяина. После этого осуждают египтян, мумифицировавших животных вместе с их умершими хозяевами и укладывавших их вместе в гробницы.
Буддизм в вопросах душ усопших подошел к мистическим и житейским реалиям гораздо ближе христианства, и вообще первоначальное христианство было плодом опыта пребывания Христа в Иране, Индии и на Тибете. Просто после смерти Учителя апостол Павел, как писал о нем Даниил Андреев, тринадцатый апостол, никогда не видевший Христа, очень хорошо почистил все архивы и тексты первых учеников Христа, слышавших его (Спаситель, как известно, только говорил и не писал), и создалось то учение, которое есть. Причем апостол Павел вначале запрещал принимать в христиане неевреев, всячески стараясь сблизить христианство с тогдашним иудаизмом. Христиане никогда бы не свалили Римскую империю, если бы в учение Христа не было заложено новое понимание собственности и государственного устройства, основанного на морали. Эта проблема до сих пор не решена, и поэтому и христианство, и буддизм по-прежнему актуальны в мире и будут привлекать миллионы новых адептов, упирающихся в те же тупики человеческой низости и алчности, с которыми боролись и Будда, и Христос.
К Кремлю я привязан еще во время своего нахождения в утробе матери. Мои родители жили в номере на Никольской в бывшей гостинице “Славянский базар”, в бельэтаже, где когда-то были самые дорогие номера. Этот номер дали моему деду в Наркомпросе его старые друзья либералы, но он не оправдал их надежд, разочаровался в руководстве большевиков и к тому же активно помешался. И вот моя мамочка, вынашивая меня, регулярно ходила гулять по Красной площади и в Александровский сад. На Красной площади ее однажды задержали агенты НКВД, проверили документы и подобные прогулки запретили, сказав, что около Спасской башни нельзя регулярно ходить – это место дежурства сотрудников органов. “Понимаете, гражданочка, враги могут составить график движения машин и бросить бомбу в машину товарища Сталина”.
В Кремле московским государям служили (именно служили) мои предки. Среди них – и византийский патриций, бежавший от турок в Московию и заведовавший всей казной великого князя, и мой татарский предок, касимовский царек Симеон Бекбулатович, и многие другие, чьи послужные списки и судьбы потерялись в темной глубине веков. Одно мне известно: поляков среди моих предков не было, все ветви наших семейств их активно не любили и считали предателями славянства. Польша – исторический конкурент Московии, но ее притязания были навсегда погублены активной ненавистью к православию. Ведь Литва, или точнее Великое княжество Литовское, мощное православное государство, чуть не объединило Украину, Западную Россию, Новгород и Псков в одно западнославянское государство. Тогда бы история России развивалась по-другому. Но, увидев, что Московия пошла по татарскому пути развития, разгромив Новгород и Псков, Литва решила перейти в католичество и войти в состав Польского королевства. Повидимому, именно тогда потомки великого князя Ольгерда Булгаковы решили переехать в Московию, чтобы не менять веру. До сих пор в Эрэфии есть люди, тоскующие по тому, что Россия не вошла в Литву, а потом отвергла Лжедмитрия I
и поляков, отвергнув тем самым западный путь развития. К сожалению, Восточная Европа – это не Европа, а ее задний двор, скорее всего – европейский скотский хутор, где испокон веку творились безобразия, хотя татарского ига там не было. Теперь вот восстановили маленький Казанский собор, поставленный нижегородским посадским ополчением, освободившим Кремль от поляков; велено заменить торжественную траурную дату октябрьского переворота праздничным выходным днем освобождения Москвы от проклятых поляков. Кстати, в самом октябрьском перевороте принимала активное участие масса поляков, так как в России находилось более двух миллионов беженцев из Царства Польского и привисленских губерний, не пожелавших оставаться под кайзеровскими войсками. Большинство из них потом вернулось в Польшу, и в Варшаве по личному пожеланию Пилсудского взорвали огромный роскошно отделанный внутри православный собор. Потом был идиотский поход Ленина и Троцкого на Варшаву, имевший целью, подмяв Польшу, ворваться в Германию и Венгрию и устроить там большевистские ужасы. Поход провалился, французские генералы, опытные вояки Западного фронта, польскими руками разгромили красные орды, взяв в плен 120 тысяч красноармейцев, из которых поляки умертвили голодом и кровавым поносом 80 тысяч. Так же действовали и эстонцы, загнавшие в лагерь численно маленькую армию Юденича. Там от истощения погибли три тысячи белых офицеров и добровольцев. Так что и у русских, и у большевиков с прибалтами были свои кровавые счеты. Оставшихся в России культурных поляков и ксендзов чекисты вылавливали, как диких зверей, и сразу же расстреливали, даже не отправляя в лагеря. В лагерях почти не сидели поляки – их сразу запихивали в неглубокие ямы вокруг Москвы, Петрограда, Киева и других городов Западного края. Потом поляки еще раз проявили себя, устроив дикий еврейский погром в Кракове, после которого уцелели только те, кто спрятался у сердобольных людей. Они и попытались потом вернуться в свои квартиры и лавки в Кракове.
Такая же картина была при немцах и после них в Латвии и Эстонии, где из местных еврейских общин уцелели единицы.
В Польше же, как и в России, среди шляхты и магнатов в XVII–XIX веках была камерная дворянская культура, и в этом есть некоторое сходство двух культур и микроцивилизаций. Польская шляхта, как и русское дворянство, была истреблена – в Польше истребление проводили чекисты, гестапо и оуновцы – украинцы, устраивавшие резню не только во Львове и в Галиции, – в общем, старая чекистская и гестаповская забава – кто больше прострелит черепов культурнх восточных и западных славян.
Явившись в Чехию, СМЕРШ арестовал 80 тысяч культурных русских людей и отправил их в Сибирь, откуда вернулись только немногие. Все эти загубленные судьбы и тени невинно убитых вьются вокруг Кремля и поднимаются от него высоким столпом в небо. Но мистически страшен не только Кремль, но и его ближайшие окрестности – пыточные места Кремля – это и сама пресловутая Лубянка, и дома вокруг нее, где целые кварталы были заселены чекистами; территория вплоть до Сретенского бульвара была задействована этой организацией, а под зданиями вырыты огромные спецподвалы, переходящие в подземное метро Сталина, ведущее на Юго-Запад. Весь старый центр города изрыт подземными туннелями и бункерами. Об этом много писали вскоре после девяносто первого при аресте полковника Бакатина, тогдашнего хозяина Лубянки, передавшего схемы электронной подслушивающей начинки нового здания американского посольства, чего ему простить до сих пор не могут. Хотя простили ведь генерала Шебаршина, не выполнившего приказ о расстреле кортежа Ельцина при выезде его с дачи в город, и простили генерала Филиппа Бобкова, передавшего архив личных дел группе Гусинского “Мост”, куда он перешел по найму служить вместе со своими подчиненными.
В Донском обычно после пленэра со студентами архитектурного института папаша отправлялся перекусить к Васе Шереметьеву в башню, где когда-то сидела под стражей царевна Софья. Под окна этой самой башни ее ласковый братец Петруша вешал стрельцов и они висели там до полного разложения, привлекая тучи ворон, клевавших человеческую падаль. Это все хорошо написал Репин, имевший вкус к неприглядному изображению московских царей. Да и вообще все портретируемые Репиным мужчины и женщины старого Петербурга похожи на упырей и вурдалаков. Когда смотришь на эти лица, пышущие животной сытостью и самодовольством, становится как-то не по себе. А репинское “Заседание государственного совета” – это вообще приговор романовской монархии. Вообще Репин был очень хитрым, лукавым и саркастичным как живописец человеком, прикидывавшимся дурковатым простачком, вегетарианцем, жующим репу и лебеду под руководством своей действительно дурковатой жены мадам Нордман-Северовой. Ее он, впрочем, в конце концов, выгнал и стал снова жрать мясо вместе со своим сыном-алкоголиком Юрием, тоже способным живописцем. Юрий Репин не мылся и носил рубашки до их полного истлевания на теле, надевая новую на клочья предыдущей. Но это было уже в Финляндии, куда отошли по новой ленинской границе дома Репина в Куоккале. В войну дачный поселок петербуржцев дотла сожгли. Репину подражали и Герасимов, и Юродский, и Иогансон, и Ефанов, изображая всякие съезды партии и массовки сталинских обер-палачей и гауляйтеров. Но в этих огромных полотнах не было даже намека на репинскую иронию по отношению к изображенным.
Обычно папаша посылал меня в магазинчик купить недорогой вареной колбасы и сахара. Васе кто-то поставлял хороший самогон и он настаивал его на клюкве и разных травках. Все это было в старинных хрустальных штофах с царскими и шереметьевскими трехкрестовыми гербами. Папаша и Вася немножечко выпивали. На эти трапезы очень часто приглашали архитектора Барановского с супругой (к сожалению, я забыл их имена). Они жили в старинном деревянном доме на территории монастыря, напротив удивительно красивого, с часовней, в стиле модерн захоронения купцов Прохоровых – владельцев Трехгорки. Когда чекисты взяли Прохорова, то все рабочие Трехгорки построились в колонны, пришли на Лубянку и потребовали отпустить своего хозяина-благодетеля. Прохоров умер в своей постели, его дочерей не забрали и не выслали.
Я по сей день помню каждый камень в Донском и Новодевичьем монастырях. Еще я хорошо знал разоренный Новоспасский монастырь, Крутицы, Выскопетровский и Рождественский монастыри; Коломенское и Царицыно. Кусков и Останкино – уцелевшие Васины резиденции, превращенные в музеи, я никогда не любил, там пахло крепостными.
Еще сильнее я не любил юсуповское Архангельское с его театром несчастных девок князя Николая Борисовича. Его хорошенький потомок педик Феликс Юсупов и Великий князь Дмитрий Павлович и другие, вроде Маркова-второго и усатого киевского бонвивана Шульгина, своей политической тупостью и довели Россию до февральского переворота. Николая II давно было пора убрать и передать трон Николаю III, как его тогда называли, Великому князю Николаю Николаевичу младшему – главнокомандующему в Первой мировой. Но он был от природы трусоват, как и все последние Романовы. Последний смелый представитель этой семьи – пруссак по матери Александр II, царь-освободитель, которому бомбой оторвало ноги.
Для меня путешествия в мир романовских теней и персонажей заканчиваются “симпатичным курноской”, как себя называл Павел I. Когда скульптор Шубин представил ему свой гениальный беспощадный бюст, Павел погладил свое мраморное лицо и пожаловал Шубину бриллиантовый перстень.
С московской мистикой я сосуществую и как-то даже с ней свыкся, как сживаются со страшными рыжими крысами, живущими в некоторых старых домах. Петербурга же я боюсь как искусственного создания сатанистов из окружения Петра I – самого страшного русского царя. Там каждый дом – склеп. Я как-то даже подружился с одной летучей мышью, сородичи которой жили на полузаброшенной колокольне, где я ночевал в одном соборе на юге России, который я расписывал. Летучая мышь прилетала ко мне на стол и подъедала обрезки пищи, которые я специально ей оставлял. Причем прилетала она, когда я просыпался и начинал смотреть в угол под крышу, где вилось много ее сородичей. Я молча, не шевелясь, смотрел на это милое мистическое создание, оно хрумтела объедками и глядело на меня. Меня никогда не грызла ни одна собака, самые зловещие всегда шли за мной след в след, садились, когда я останавливался и внимательно слушали то, что я им говорил. Правда, одна старая охотничья собака-сука укусила меня за локоть, но она была уже фактически слепая и, помешавшись от старости, грызла даже своих хозяев. Теперешних азиатских и бойцовых собак, привезенных в Россию новыми русскими, я боюсь, как и из хозяев – эти люди и их звери в большинстве своем полностью бешеные.
У Васи Шереметьева было много царских портретов работы лучших мастеров, а на стеллажах – целый музей живописи, который он постепенно пропивал. Я заходил несколько раз к Барановским и, слушая разговоры супругов, чувствовал себя полным невеждой и профаном. Жена Барановского, очень обходительная дама, работала в историческом музее, в отделе портретов и иконографии русских исторических деятелей (со времен Петра I русская аристократия стала себя портретировать). Она поименно знала все родовитые семьи России и сразу же определяла, кто изображен на том или ином портрете. У нее дома хранились папки с репродукциями и старыми пожелтевшими фотографиями массы портретов. На папках были надписи – Голицыны, Шереметьевы, Толстые, Трубецкие и менее известные старые фамилии. К каждому изображению была приколота страничка – даты жизни, кто на ком был женат, то есть фактически картотеки русской аристократии. Кроме папок с портретами, в доме была кое-какая старинная поломанная мебель, на нее нельзя было садиться. Оказывается, жена Барановского участвовала в качестве эксперта в ликвидации подмосковных дворянских музеев – Яропольца Апраксиных, Яропольца Гончаровых, Ольгова, Вяземы, Дубровицы, Остафьева и некоторых других, которые после революции устроили жена Троцкого Седова и Луначарский. Луначарский даже жил в Остафьево Вяземских, как в своем поместье, а отец Васи, граф Павел Сергеевич, был директором этого музея и всячески пресмыкался перед Луначарским. Часть антиквариата отправили в музей, самое ценное – в Торгсин, а остальное – в комиссионные магазины. То, что постарее, просто сжигали. И жена Барановского кое-что из сжигаемого взяла себе, в том числе выбрала самое интересное из сжигаемых библиотек. У нее хранились потрепанные журналы “Старые годы”, “Столица” и просто альбомы по истории с портретами и репродукциями. Носительница семейных тайн Московской аристократии и дворянства, она знала всех в лицо, была в курсе всех родственных связей (вплоть до внебрачных детей), могла назвать все особняки. Ее знания, впрочем, имели одно ограничение: все, что происходило после освобождения крестьян, в последние два царствования, ее мало интересовало. Она также особенно не увлекалась интерьерами усадеб и особняков, ее интересовали люди и лица, их родство и судьбы. Это была очень культурная женщина, носительница коллективной памяти погибшего при большевиках дворянского класса. Ее основной идеей было создание в Москве музея портретов ее прежних обитателей. Большинство портретов после разгрома подмосковных усадеб-музеев скопилось в историческом музее, и на его базе вполне может быть открыт музей портретов. Но нынешнему номенклатурно-чиновничьему капитализму это совершенно неинтересно. Сейчас господин Батурин с супругой ставят вопрос о сносе филиала Третьяковки и Дома художника, так что вопрос о музеях вообще не стоит, Москва переживает новый приступ ярости к древнему городу.
Сам Барановский был живой легендой реставраторов допетровской Москвы. Он был близок с архимандритом Суховым, пожилым господином еще дореволюционной школы, и с византистом графом Олсуфьевым, который тогда или уже сидел в лагерях, или же погиб в заключении. А в “Общество старой Москвы” Олсуфьев играл важную роль, тогда все читали его блестящие статьи об иконописи, ныне совершенно забытые и не переиздаваемые. Олсуфьев был монархистом, так же, как и посаженный в тюрьму директор Русского музея петербуржец Сычев, ученик Кондакова (известнейший в старой России византист, академик с мировым именем). Таких, как они, в последние двадцать лет вспоминать не любят. У них своя собственная псевдоиерархия – Яков съел Владимира, Владимир – Якова, Иосиф съел Льва, Никита съел Иосифа, Никиту съел Леонид, Михаила съел Борис. И так до бесконечности. При том все они псевдомонархи и постоянно оглядываются на Романовых и Рюриковичей-Даниловичей.
У Барановского была идея – обмерить все сносимые большевиками здания допетровской Москвы. Всех этимх людей объединяла мысль о том, что город когда-нибудь перейдет в русские руки и древние здания восстановят по их чертежам. Об этой своей генеральной идее они боялись говорить откровенно, но она все время проскальзывала в разговорах. Впрочем, на отдельное национальное развитие России или ее остатков надеялись очень и очень многие и в разные десятилетия большевистского ига, но надеялись всегда по-разному. Мне кажется, что это если и возможно, то только ценой отделения от России ее дальневосточных колоний и создания мусульманских государств в Поволжье и на Северном Кавказе. Вымирающее население Великороссии вряд ли сможет сохранить свой контроль над этими бывшими колониями российской Империи. Ведь за Уралом живет всего восемь миллионов не только славян, а с Кавказа славян уже фактически выселили. Ни царская Россия, ни тем паче большевики не создали единой славянской имперской нации, а только имперскую элиту, презиравшую своих славянских рабов – мужепесов. Правящая верхушка татаризованной Московии подавила, где только могла, вечевые демократические традиции восточных славян, которые ранее были повсеместны, и только казаки и старообрядцы, разбежавшись от тлетворного деспотичного государства, сохранили кое-что от древних укладов народоправства.
Барановский был фанатик, легендарная личность среди любителей русской старины – его дважды чуть не взорвали чекисты. При сносе церкви Параскевы Пятницы, что в Охотном ряду, была уже подложена под храм взрывчатка, а Барановский все висел на веревках и мерил. Когда он спустился, его арестовали, избили и отвезли в тюрьму. За него кто-то тогда заступился как за бескорыстного фанатика и юрода. Церковь Параскевы Пятницы находилась на теперешней проезжей части между гостиницей “Москва” и нынешней Госдумой, бывшим Госпланом (оба здания – типичные сталинские уроды).
На месте Госплана и был, собственно, Охотный ряд – кирпичное здание, где торговали различной убоиной, свозимой сюда со всей России: и медвежатиной, и олениной, и мясом диких кабанов, – всем, что водилось в русских лесах.
Барановский сбил всю штукатурку и под ней оказался красавец-дворец князя Василия Васильевича Голицына – любовника и соправителя царевны Софьи, которого спас от петровского топора его брат Борис, наставник молодого Петра. Дворец отреставрировали и он был архитектурным чудом центра Москвы до тех пор, пока его все равно не взорвали и на его месте не построили Госплан. Во дворце Госплана сохранились палаты бояр Троекуровых, менее интересные, чем дворец Голицына. Теперь в них размещается музей истории музыки, где хранятся редчайшие музыкальные инструменты.
Другой раз Барановского чуть не взорвали при сносе собора Чудова монастыря в Кремле. Собор датировался началом XVI века, весь украшен фресками. Чтобы сохранить самые интересные фрески, реставраторы выдолбили стены за ними и зажали между металлическими досками. Барановский тогда тоже измерял собор; взрывчатка для подрыва была подведена, и его с трудом выманили из здания, убедив, что завтра утром он сможет продолжить свое дело. Но едва Барановский вышел из Кремля, раздался взрыв. Собор взорвали вместе с подготовленными к вывозу фресками. Когда Барановский пришел утром к оцепленным развалинам, один младший офицер НКВД, дружески похлопав его по плечу, сказал: “Дядя, если бы ты не ушел из церкви, то тебя бы взорвали. Был приказ рвать с тобой, если ты упрешься”. Это вообще стиль большевиков – рвать динамитом церкви со всей утварью. Посередине Преображенской площади стоял знаменитый Преображенский храм, давший наименование и древнему селу, и петровскому Преображенскому полку, самому элитному в русской армии, полковником которого числился наш последний незадачливый император. Храм был очень почитаем населением, его не закрывали в тридцатые годы и все иконы и утварь (кроме изъятого золота и серебра) были в целости. Саперы подвели под храм траншеи с взрывчаткой и ждали только случая. Дело было при Хрущеве и в Москве тогда был митрополит Крутицкий и Коломенский, будущий патриарх Пимен. Верующие установили в храме круглосуточное дежурство. Пимен приехал со свитой в храм, крестился и целовал крест, что храм не взорвут и он гарантирует его сохранность. Верующие поверили Пимену и разошлись по домам. Храм тут же взорвали. Вот какие в ССП были митрополиты, такие были “органы” и такая была церковь, посылавшая такого псевдомитрополита лжесвидетельствовать и обманывать верующих. Сам Пимен – не самый плохой представитель этой порочной системы. В молодости был чтецом в Ногинском соборе (у меня есть фотография Ногинского клира, и там – молоденький чтец правого клироса Извеков, будущий патриарх Пимен). Его в тридцатые годы писал для своей “уходящей Руси” Корин. Потом Извеков куда-то скрылся, его призвали во время войны, он объявился в политотделе одной из частей, делая успешную карьеру. Его разоблачили, и чекисты схватились за голову – кто у них служит в политотделе. Ну а потом он пошел в гору, хотя начинал совсем в другом политическом лагере. Отец Дмитрий Дудко, проповедник и автор антисоветской книги, рассказывал моему приятелю, который учился вместе с “Димкой” Дудко в духовной академии, что когда отца Дмитрия арестовал КГБ и посадил во внутреннюю тюрьму на Лубянке, к нему прямо в камеру приезжал патриарх Пимен и уговаривавал публично отказаться от книги. Начинал патриарх свои обращения так: “Откажись, отец Дмитрий, ведь лбом стену не прошибешь”. Это аргумент человека, много думавшего о сути советского режима, насчет которого у него не было никаких иллюзий. Как тогда говорили, чекисты обещали убить сына отца Дмитрия в первом же бою – он был тогда в Афганистане. И отец Дмитрий по телевидению отказался от своей книги.
Такое насилие над людьми вызывает глубокое отвращение и сострадание. Сегодня все в абсолютной темноте шарят руками по мокрым осклизлым стенкам коридора. Стоит выйти за его пределы – и тебя уничтожат. По всей эрэфии из этого коридора уже вышли почти триста журналистов, описавших вольеры и заказники, где гужуется разбогатевшая номенклатура. И вот имеется почти триста трупов с простреленными в подъездах черепами. Таковы условия свободы печати в нашей стране: все время помни о скрытом коридоре, который они установили. Интересно, когда все это закончится, останутся ли в качестве музеев дворцы на Рублевке? От советского периода осталась ближняя дача Сталина. От старообрядческой купеческой Москвы уцелели три особняка – Рябушинских, Носовых и Морозовых (в особняке Рябушинского, построенном Шехтелем, чекисты поселили Горького, в особняке Носовых живут теперь послы США, а в особняке Морозовых разместился дом приемов МИДа). А дворянские интерьеры в Москве вообще не уцелели – все разорили.
... Материально Барановские жили очень скудно: мясо варили только раз в неделю и ели суп несколько дней. Питались в основном вареной картошкой с кислой капустой, иногда хозяйка делала блинчики и гренки из черного хлеба. Чай пили вприкуску, на столе стояла вазочка с маленькими кусочками сахара. Такая интеллигенция, как Барановские, в послевоенной Москве еще очень долго жила впроголодь. Когда моя мамаша по осени один раз в год добывала на базаре огромного гуся и антоновку – это было событием. Гуся мамаша тащила в Остоженские переулки к нашим друзьям сестрам Нарышкиным (по их матери), которые жили в части принадлежавшего их семье деревянного особняка конца XVIII века. Их отец, профессор, работал в Кремле врачом, поэтому их не выселили. Его дочери долго прятали у себя от чекистов мою мать-лишенку, пока Лубянка не забыла о ней, а потом выдали за моего отца. В старинном зальце с мутными зеркалами, которые там стояли уже двести лет, над этим гусем священнодействовали, из гостей приглашали только Васю Шереметьева, чтобы на всех хватило мяса. Гусятину ели с жадностью, как эскимосы после зимовки, и часть с гузкой относили доедать состарившейся кухарке. Барановская покровительствовала двум молодым людям – Лене и Коле. Они были, по-видимому, из хорошей дворянской семьи – их родителей и всю родню арестовали, а их самих взяли в детский дом НКВД тюремного типа. Лена как-то все это перенесла, а вот Коля нет – он был заторможен, не смог окончить среднюю школу, а в ремесленное училище его как психически больного не взяли. Колю в детском доме регулярно били воспитатели-тюремщики и злые товарищи, часто сажали в холодный карцер, где он спал на полу, простудил почки и поэтому часто бегал в уборную. Потом подростков отпустили, и Барановской удалось прописать сирот у одной своей знакомой, очень родовитой старухи, у которой чекисты убили двоих сыновей и уморили внука голодом в своем детском доме. Старуха объявила сирот своими родственниками и отдала за их прописку милиции старинный большой семейный золотой крест с драгоценными камнями. В благодарность Коля и Лена ухаживали за ней до самой ее смерти.
Коля в те годы работал сторожем и подсобником на овощной базе, приносил и к себе домой, и к Барановским капусту и морковь, которые ему давало начальство. Коля также помогал Барановскому в обмерах. Лену устроили учиться в учительский техникум. О том, чтобы с ее биографией поступить в институт, и думать тогда было нельзя. Из нее Барановская готовила себе преемницу и мечтала устроить ее в Исторический музей. В Историческом музее, расположенном на Красной площади, хозяйничали чекисты, контролировавшие всех сотрудников, среди которых было множество стукачей по подписке.
К своим обмерочным работам Барановский привлекал и Васю Шереметьева, регулярно возил его в Армению, где обмерял какой-то очень ранний, еще средневековый, округлый по форме, храм, который рассыпался при землетрясении. Барановский мечтал его собрать. Я несколько раз бывал у Барановских, приносил с собой бутерброды с сыром и пил в уголке чаек. Я себя чувствовал не совсем уютно в обществе людей, одержимых своим делом – портретами московской знати и древнерусской архитектурой.
Алкоголик Вася Шереметьев был для меня понятнее Барановских – в нем не было фанатизма, он был живой, открытый миру человек. Его предок – Николай Петрович Шереметьев – держал в Кускове крепостной театр, к нему в спальню по расписанию ходили крепостные актрисы. Одной из них была Параша Жемчугова (конечно, псевдоним простецкой русской фамилии). Граф очень возлюбил эту Парашу, обрюхатил ее и женился. Московское барство стало его презирать – испортил породу. А другой граф, Лев Толстой, гостивший в имении у своего приятеля, указывая на задастую бабу с ногами-тумбами, внаклонку обрабатывавшую клумбу, сказал: “Вот если бы дворяне с такими экземплярами кровь не мешали, то давно бы выродились”.
Жемчугова долго не прожила, сгорела от чахотки, оставив после себя сына. Как говорят, она была талантлива и ее портреты, в том числе в полный рост в красном капоте и с пузом, оставил придворный художник Шереметьевых Аргунов, которого граф так и не отпустил на волю, как это сделал граф Марков, освободивший уже немолодого Тропинина. Аргунов в свое время считался лучшим портретистом Москвы.
Как все Шереметьевы, Вася был очень хорошим солдатом, но увиденное на фронте сразило его больную психику и он перестал вообще спать, если сильно не выпивал перед сном. Потом его парализовало, одна студентка стала за ним ухаживать, вышла за него замуж и родила трех дочек. Я его в этом жалком виде не видел, говорить он уже не мог и только мычал и иногда улыбался своей действительно очаровательной искренней улыбкой. Рисовать он перестал, так как правая рука не действовала. Он ползал по комнате. Вася всегда носил золотое кольцо с локоном Параши Жемчуговой, которое ее муж Николай Петрович оставил сыну. Когда личный друг Николая Петровича, “симпатичный курноска”, подъезжал к Останкино, крепостные дровосеки свалили заранее подпиленные деревья и императору открылась просека с видом на имение. Шереметьев и Павел I были членами одной масонской ложи и мальтийскими рыцарями. В Останкино останавливался Император Александр II, подписавший там указ об освобождении крестьян. Если в России когда-нибудь вновь возникнет конституционная монархия, то тот император, который освободит народы России от ига постбольшевистской номенклатуры, его тоже назовут царем-освободителем.
Меня еще смолоду интересовали вопросы геополитики евразийского континента от Тихого океана до Атлантического, я прочел множество томов на эту тему, вопросы эстетические меня волновали гораздо меньше. Наверное, это потому, что я еще карапузом лежал в кустах и по лучами осеннего солнца сквозь мерцающую блестками паутину смотрел на колонны немецких танков, шедших на Тулу. А потом зимой сорок первого, когда отец вывозил нас на двух дровнях из Поленова в Серпухов, видел на просеке колонны разбитой немецкой техники и окоченевшие трупы немецких солдат. В самом Поленове, в селе Бехово подростки, облив немецкие трупы водой, с дикими воплями катались на них с горок, как на салазках. Это – самые яркие впечатления моей жизни, реальное столкновение двух архаичных империй, обеих – со звериным садистским оскалом. Говорят, что дети, первыми впечатлениями которых был пожар Москвы, нашествие и гибель наполеоновских полчищ, тоже на всю жизнь остались несколько психически пришибленными. Мне кажется, такое же потрясение испытали римские дети при взятии Рима варварами и византийские малыши, когда турки захватили Константинополь. Империи и их атрибуты – это прежде всего сакральные и глубоко архаичные явления. Коммунистические империи Китай и Корея – архаичные по сути и форме общества. Япония тоже никогда не переставала быть архаичным государством, и именно из-за архаичности так продвинулась в техническом отношении. И в будущем возникнут все новые архаичные имперские образования; чем архаичнее, чем древнее – тем сильнее, ибо человечество совсем не меняется, но только видоизменяется. Иллюзии XIX века о гармонии технического прогресса и европейского гуманизма были предсмертной улыбкой католической и протестантской старой Европы, у которой эта улыбка быстро прекратилась в предсмертный оскал окопов Вердена и Сталинграда, где полегло будущее Европы.
Похоже, не только в России победили азиатские формы правления и все меньше и меньше остатков кустарного и ремесленного производства, о чем так мечтали Джон Рескин, прерафаэлиты и весь декадентский европейский модерн, построенный на штучных художественных произведениях. Стиль арт-деко было уже упадком европейского модерна, а дальше началось бездушное массовое производство и изделий, и людей.
Особенно ужасно видеть штампованных женщин и оболваненных псевдоцивилизованных детей. Обо всем этом я в те молодые годы догадывался, почти с детства читая Ницше, Уайльда, Патера и всех их остевропейских подражателей.
Благодаря Барановскому и Коле, который ко мне иногда заходил в “Славянский базар”, я был в курсе всех событий “Общества старой Москвы”. Однажды Коля прибежал ко мне с радостным известием (не хочу неправильно называть имя-отчество Барановского, грешен, забыл, но Коля его звал только так): “Барановский нашел опричный дворец Ивана Грозного, и мы уже обстучали крыльцо!” Мы с Колей тут же отправились на Арбат и действительно увидели довольно большое здание XVI века, с крыльцом, как у Василия Блаженного. Оказалось, что при строительстве новой станции метро Арбатская было решено снести несколько старинных особняков, но так как в одном из них когда-то долго жил Чайковский, его решили обследовать. Вошли и ахнули: древние своды, полезли в подвал – там тоже своды с крючьями и кольцами, на которых опричники подвешивали и пытали свои жертвы. Появился Барановский, стали по его методу обстукивать штукатурку – появились сбитые наличники, карнизы, узорчатые пояски. Началась обычная предсносная суета, письма, обращения, но все безрезультатно. Палаты снесли – вместе с памятью о Чайковском. А с его именем связано вообще очень много трагического.
Был у Чайковского почитатель и друг великий князь Константин Константинович-младший. Высокий, красивый мужчина с маленькой рыцарской головой (у породистых немцев головы были небольшие, это видно по шлемам). Великий князь был неплохим поэтом, подписывавшим свои сочинения псевдонимом К.Р. Он дружил со многими музыкантами, писавшими романсы на его стихи. У великого князя была жена, красивая немецкая принцесса, подарившая ему пятерых тоже очень красивых сыновей. Константин Константинович также был шефом кадетских корпусов. Вот тут-то и произошла роковая ошибка: пустили козла в огород. Его высочество был педофилом и создал из своих “единомышленников” систему, по которой красивых кадетов растлевали и доставляли ему лично и его приятелям-музыкантам. Одним из его клиентов был и наш гениальный композитор Петр Ильич Чайковский, который как-то особенно постарался и разорвал мальчику-кадету анус, отчего тот умер от кровотечения. Чайковского должны были судить, но он упросил жандармов дать ему еще годок жизни, чтобы закончить Пятую симфонию, после чего сам отравится.
А великого князя Господь покарал по-другому: двое его сыновей были убиты на фронтах Первой мировой, трое расстреляны большевиками. Их тела эмигранты вывезли в Китай и теперь на месте их могил китайцы сделали парк и устроили пруд. Сам Константин Константинович успел умереть до большевистского переворота. Недавно показывали по телевизору его виллу в неоготическом стиле. Великая княгиня Елизавета Федоровна, расстрелянная вместе с семьей последнего царя, была очень достойной женщиной и теперь признана святой. Ее мужа взорвал Каляев, и на месте взрыва в Кремле стояла массивная часовня.
Вот какие тени, кроме Ивана Грозного, витали над Арбатскими палатами.
Несомненно, Иоанн IV был слугой антихриста, и так называемая первопрестольная уже давно являлась гнездом государственных змей, и это еще до пришествия сатанистов-большевиков. Основное гнездо опричников было недалеко от Арбатской площади, но ближе к Пашкову дому, нынешней библиотеке имени Ленина. Палаты, конечно, снесли, но Барановский их обмерил. Когда-то Арбатская площадь была интересным местом, здесь стоял барочный храм, по-видимому, работы архитектора Бланка, а рядом с ним арбатский рынок, где после революции арбатские остатки русской аристократии меняли свое барахлишко на маслице и творожок у алчных и хищных подмосковных молочниц, слетавшихся на некогда богатые кварталы города, как воронье на брошенные трупы. Напротив площади помещалось Александровское пехотное училище, ныне советский генштаб, в последнем нынешнем правительстве обобранной армией командует не служивший в армии министр обороны, в прошлом торговец кухонной мебелью и сантехникой. Ныне он распродает коммерсантам здания всех военных академий, штаба московского военного округа и здание генштаба. Рядом был военторг, бывший царский дом офицеров. Его продали коммерсантам и уничтожили очень интересный интерьер в стиле модерн со статуями витязей, витражами и прекрасными мраморными лестницами и полами. От военторга открывался очень красивый вид на Кремль, но он исчез – его загородило здание дворца съездов, отвратительный стеклянный ящик.
Когда в Москву из ссылки вернулся сын помещика Илья Михайлович Картавцев, от которого как монархиста отказалась семья, то он по привычке пошел в Кремль и не узнал его: половина церквей снесена, а на их месте построены безобразные советские здания. Илья Михайлович был членом Петербургского общества библиофилов, половину которого большевики расстреляли, половину отправили в Сибирь, где Илья Михайлович, выросший в сельском имении, успешно заведовал лагерным охотоведческим хозяйством, кормя и зэков, и начальство. Илья Михайлович жил до глубокой старости и разрабатывал генеалогию дворянских родов. К нему иногда обращался МИД. Его сестра была выдающейся катакомбницей, о ней упоминается в разных мемуарах.
У меня в жизни было еще несколько самых разных историй, связанных с центром Москвы, с ямой в Зарядье, которую выкопали для сталинской высотки, со старой частью Замоскворечья. В общем, я хорошо знал старый, в те годы еще частично уцелевший город, в котором жило много знакомых мне людей. Но за последние двадцать лет господин Батурин с супругой все это разорили и старых кварталов, переулков и улиц почти не осталось, здесь выстроен безвкусный буржуазно-мещанский город спятивших от бешеных, задарма доставшихся денег советских обывателей.
...После окончания Суриковского института я оказался в прострации, которая была связана с тем, что я испытал большие унижения, бегая за иностранными дипломатами и их капризными женами и продавая свои модернистские картины. Конечно, я не лучший торговец своими опусами, уезжать из России я никогда не хотел, меня что-то здесь всегда держало, а в Москве в эпоху холодной войны были собраны далеко не лучшие иностранцы, и они совершенно не понимали сути здесь происходящего, и того, что художники торгуют здесь не картинами, а своей душевной болью за разгромленную и распятую большевиками страну. В конце концов, они разменяли на медяки и фальшивые купюры третий русский авангард. Первый, дореволюционный, русский авангард частично пошел служить большевикам, но они его быстро выгнали, второй русский авангард двадцатых годов был разгромлен уже МОСХом, а третий русский авангард (нонконформисты моего поколения) пал безымянной пехотой на забытых теперь полях сражений проигранной СССР холодной войны. Художники рыцарям холодной войны были нужны как среда, где выводились особые звери – профессиональные писатели-антисоветчики, в основном имеющие комсомольское и коммунистическое прошлое. Ни одного антисоветского писателя в бывшем СССР из среды потомков белогвардейцев, дворян и крупной буржуазии не вышло. Все – из красной среды, включая и классика антисоветской литературы Солженицына. Один только Варлам Шаламов не имел ярко выраженного красного прошлого и красной семьи. Это все знаменательно и глубоко не случайно. Россия в роли мирового игрока уже давно сброшена со стола, ей там больше места нет. Как пел Вертинский: “Там шумят другие города, и живут чужие господа, и чужая радость и беда, и мы им чужие навсегда”. Как оказалось, в холодной войне проиграли обе стороны. Оставшись без красного жупела, Запад в целом оказался один на один с воинствующим исламом, Китаем, Индией и почувствовал себя очень неуютно. Ведь Киссинджер, увидев, что вместо СССР образуется черная бездонная дыра, всерьез обеспокоился – что же будет дальше? Европейцы сами по себе уже очень сильно разложились и больше всерьез воевать не могут: выродились и генетически ослабели, беспрерывно воюя с конца XVII века.
Петербургская птица-Гамаюн Блок, с его пропитым лицом, поредевшими кудрями, недаром ходил по улицам красного Петрограда и бил в свой медный таз половником, завывая: “Россия щит меж двух враждебных рас, монголов и Европы”. А оказалась Россия не щитом, а большевистским худым коммунальным сортиром без дверки, и вопрос в моральном праве народом России владеть ныне существующей страной, так как младшие поколения выбрали для себя путь самоунитожения повальным употреблением дешевого алкоголя и афганского героина.
Я в те годы понял, что ни в официальном советском искусстве, ни в нонконформистском искусстве пути для меня нет. Надо было приспосабливаться и зарабатывать деньги, и я нашел для себя временный выход, взобравшись на леса расписывать церкви. Но мой роман с Москвой не закончился. Художнику нужна мастерская, и я стал ходить по дворам старого города и искать себе место. Потом эти поиски приобрели совсем другой, я бы сказал, инфернальный, скорее – литературный характер. Когда-то, учась в простой школе, расположенной позади бывшего купеческого клуба, ныне пресловутого Ленкома, я исходил все дворы между Садовой и Москвой-рекой.
Во дворах около Пушкинской площади когда-то состоялся и мой первый антисоциальный дебют: на большой перемене я, заранее подобрав здоровый округлый булыжник, пошел бить зеркальное окно в бывшем купеческом особняке. Особняк был весь резной, как шкатулка, с большими цельными зеркальными окнами, уцелевшими с дореволюционных времен. В наше время таких стекол уже не резали. Как сейчас помню, за стеклом сидела большая несимпатичная мне семья: лысоватый, среднего возраста мужчина и полные женщины. Они все привстали за обеденным столом, видя, как мальчик с большим камнем в руках идет именно к их окну. Я же, подойдя довольно близко, с силой бросил булыжник, который, пробив два зеркальных стекла, упал на стол и разбил супницу. Всех обедавших обдало красным жирным борщом. Я убежал, но имел глупость рассказать о своем героическом поступке двум приятелям, и мы пошли во двор полюбоваться содеянным. Там уже сидел в засаде лысоватый мужчина, он поймал меня и за шиворот потащил к директору школы, довольно культурному, как я сейчас понимаю, пожилому человеку. Директор вызвал родителей. Те не придали большого значения этому случаю и особо не карали меня, зная, что я в Снегирях летом ложился на рельсы перед товарным поездом и имел привычку выскакивать перед не очень быстро ехавшим грузовичком и бросать в лобовое стекло ком глины. Стекло не разбивалось. Глиной я также в темноте забрасывал из кустов дачников, усевшихся на открытой террасе попить чайку. Меня ни разу не поймали, но пакостил я регулярно. Не всем, а тем, которые мне по каким-то причинам не нравились. “А вот этих не трогайте, – поучал я сотоварищей, – они разговаривают между собой тихо, руками не машут и не матерятся”. Особенно от меня доставалось тем, кто после выпивки любили под аккордеон хором петь популярные песни. Я, помню, приготовил кучу глины, чтобы обстрелять одну дачу, а там немолодой мужчина играл на гитаре и пел старые песни – так я его весь вечер слушал.
В поисках места для своей мастерской я зашел и на свой бывший школьный двор. Резной деревянный особняк был недавно снесен, не нашел я и разрушенных каретных сараев. Мне вспомнились двое моих друзей детства, Коля, и Петя, с которыми мы вместе таскались по этим местам. К четвертому классу их уже посадили в колонию для малолетних преступников. Оба паренька росли без отцов: у одного отца убили на фронте, у другого – расстреляли. Ребята были из культурных семей, пострадавших от большевиков, и как я, рано начали читать. По таким же дворам недалеко от нас таскался и маленький Володя Высоцкий, но он был из кодлы громогласной шпаны, а мы – тихие, мечтательные пакостники.
Потом я потерял год, сильно заболев к весне, поступил в СХШ и мои скитания перенеслись в Замоскворечье, которое все-таки не стало мне родным. Я рассматривал дворы между Садовым кольцом и площадью Пушкина как высокохудожественные комплексы, я любил залы особняков и дореволюционных доходных домов. Обычно парадные старых зданий выходили во двор и очень редко на улицу. Я воспринимал конгломерат дворовых каменных объемов как кубистическую скульптуру. Москва старой части города застраивалась хаотически – рядом с перестроенными ампирными особняками соседствовала урбанистика доходных домов с элементами модерновых украшений. Вся эта лепнина привозилась из Мюнхена или Берлина, как и разноцветная облицовочная плитка, изображавшая ирисы или лилии. Я искал или заброшенную мансарду или место, где можно ее построить. Кое-что находилось, но возникали препятствия со стороны ЖЭКов и отдела нежилых помещений исполкомов. Ну а заодно я проводил первые в своей жизни социологические наблюдения.
Обычно во дворах сидела компания кумушек – пожилые женщины и старухи. Они были живой летописью дворов и домов. Я подсаживался к ним и заводил разговоры. Я был смолоду смазлив, ухожен, любил красивую обувь и со мной как с непьющим они охотно разговаривали. Я нашел ключ к тому, чтобы развязать им языки: якобы здесь до революции жили мои дедушка и бабушка по матери, но они умерли, пока я с мамой жил в эвакуации в Свердловске. Я их расспрашивал на интересующую меня тему – не уцелел ли кто-нибудь из семей прежних хозяев домов или из тех, кто жил здесь всегда, то есть до революции. И передо разворачивался страшный свиток старой Москвы. Кумушки и старушки помнили, когда кого арестовали и выслали. Большая часть современных жителей были заселены в опустевшие квартиры в тридцатые и в первые послевоенные годы. В одном только дворе мне указали на некую “мадаму”, как они ее называли. Одна старушка знала “мадаму”, и меня отвели к ней. Она оказалась очень приличная пожилой дамой (именно дамой) знакомого мне по катакомбной церкви круга. В углу ее комнаты висели семейные иконы, на стене – семейные фотографии и хорошая копия с натюрморта Хруцкого – цветы и фрукты. Видно, что здесь ничего не менялось все эти десятилетия. Муж “мадамы” был инженером, он давно умер, а единственный сын погиб на фронте во Второй мировой войне. С этой женщиной когда-то жила ее сестра, мужа которой, царского офицера, расстреляли в тридцатые годы. Сестра умерла пять лет назад и”мадама” прописала в квартиру ее дочку, свою племянницу. Та ей раз в неделю возит с рынка продукты. Я услышал рассказ о том, как уничтожали коренных москвичей, некогда заселявших этот двор: “...Вон в том флигелечке жил капитан первого ранга, из немецких баронов, он отстреливался, когда его забирали, а потом выстрелил себе в висок. Жену его и детей всех забрали, а туда заселился полковник ПВО. Страшный был человек, у него на лице был шрам от сабельного удара, все его боялись. Потом его свои же расстреляли, а семью выслали. А под нами одни адвокат жил, у него большая квартира была. У него всякие артисты, художники собирались, одна певица там под рояль цыганские романсы пела. Это ведь часть нашей квартиры, большую половину в соседнюю выгородили, там теперь коммуналка. А адвоката и его семью всю выслали в тридцатые. Сама мадам Пшебытовска (муж из поляков был) такая красивая и культурная дама была. Вообще в нашем доме раньше культурные люди жили, почти у всех – рояли и пианино. Поднимаешься вверх по лестнице – лифта у нас не было – и, как в консерватории, из всех дверей – музыка...”
Я понял, что коренных москвичей почти не осталось. В город переехала деревенская Россия. Я вспоминал, как с тоскою ходил по старому еврейскому кладбищу Праги, где было несколько старых синагог еще XVI века, как посещал заброшенные остатки еврейских кладбищ вокруг Львова.
Я часто ездил к катакомбникам и древлеправославным в Брянскую губернию. Во время войны катакомбники повылезали из схронов и сараев и перебили советскую власть, установив там свое антисоветское самоуправление с центром в одном из сел. Немцы не знали, что делать с этими людьми. В их замыслы превратить всех славян в рабочий скот такая автономная территория не вписывалась. Испокон века в Новозыбкове был центр старообрядчества, называвших себя древлеправославными. Там были и свои архиереи, рукополагавшие священников, и своя школа иконописи. Лики у их икон очень светлые, поля обычно красные, а фоны сделаны из стилизованных листьев, вчеканенных фигурно в левкас. Позолота на таких иконах бывает редко, вместо золота – серебро и олово. Желтый лак создает, как на хохломских деревянных ложках, иллюзию позолоты. В отличие от катакомбников, новозыбковское старообрядческое духовенство, конечно, ненавидело советскую власть, но плотно с немцами не связывалось, создавали свои воинские части-дружины. Там объявился некто Каминский, сын немки и дворянского выходца из Польши, ненавидевший евреев и большевиков. Он объединил дружины катакомбников в свою особую “бригаду Каминского”. Сам он получил эсэсовский офицерский чин, а члены бригады присягнули Гитлеру и обмундировались на немецкий манер. Они с ужасной жестокостью воевали с партизанскими отрядами Брянщины. Перед боями служили молебны и поражали немцев своим, по их определению, “средневековым фанатизмом”. Когда Советская армия подошла к местам их проживания, то они погрузили семьи на подводы и переехали в Польшу. Близких в своих селах они оставлять не могли – их расстрелял бы СМЕРШ. В Польше бригада Каминского страшно свирепствовала над польским сопротивлением, одинаково карая и Армию Крайову и Армию Людову. Они не щадили и мирное население, грабя беспощадно и мотивируя это тем, что лишились имущества на родине. В конце концов немцы ликвидировали самого Каминского, имитируя покушение, а бригаду расформировали, передав добровольцев частям СС. Потом большевики беспощадно карали уцелевших и вернувшихся на родину каминцев.
У них сохранились подпольные катакомбные общины, и я там бывал, заодно посещал древлеправославных, с которыми очень быстро нашел общий язык. Ехал я через Почеп, имение графов Разумовских, где у них когда-то был дворец, и к нему примыкала доныне сохранившаяся дворцовая церковь. Очень красивое, стильное сооружение. В этих местах Брянщины когда-то жило много евреев, которых потом уничтожили немцы. Многие катакомбники и древлеправославные евреев не трогали, считая их носителями Ветхого завета – общей с христианами религии. Я, помню, жил в одном православном доме и, как оказалось, до войны там жили евреи. Родственники погибших евреев почему-то не вернулись в эти места, дома стояли брошенными и их заселяли тамошние славянские жители. Когда-то здесь была и старинная деревянная синагога, которую немцы облили бензином и сожгли вместе со связанным раввином и служками.
Заговорили о евреях, и новые хозяева показали мне две квадратные плетеные корзины с фотографиями прежних хозяев, их письмами и открытками. Открытки были и на русском, и на иврите, и на польском, и на немецком, с польскими, немецкими, русскими имперскими марками. Люди поздравляли друг друга с праздниками, письма начинались с обращений: “дорогая Розочка”, “дорогая Ривка”, “дорогой Арон”...
И во время моих хождений по дворам старой Москвы, и сейчас, десятилетия спустя, у меня возникают ассоциации со старыми плетеными еврейскими корзинами – такие же поблекшие, выцветшие фотографии, такие же прически, такие же открытки, такие же марки. И так же нет их детей, внуков – все прервалось. А точнее – прервали, перебили, выслали. Центр старой Москвы – это территория аналогичная Варшавскому и Пражскому гетто. По этим ступеням из мягкого, стершегося в середине камня уводили на расстрел, на высылку мужчин, женщин, детей.
Во дворе между метро Кропоткинская и Зубовская я нашел спятившего старика, бывшего драгунского офицера. Он жил один, голодный, брошенный семьей. Он ютился в узенькой комнатке для прислуги в квартире, принадлежавшей когда-то его родителям. Я принес ему хлеб и дешевую вареную колбасу (тогда она еще была), и старик ел, давясь, запивая сырой водой из-под крана и обсыпая запущенную бороду хлебными крошками. Кто-то подарил ему парадный мундир танкиста, который спереди был весь облит остатками пищи, которую он доедал из тарелок в закусочных. На стене около продавленной кровати с матрасом в пятнах и без простыни висело несколько семейных фотографий, среди них он сам, в полевой форме времен германской “великой” войны, с Анной и медалями на гимнастерке, сбоку, конечно, шашка с темляком-клюквой. Уцелел старик потому, что, по-видимому, помешался очень давно, и его маленькая восьмиметровая комнатенка около кухни никому не была нужна. В этой же комнатенке когда-то умерла его мать, отца-полковника и старшего брата штабс-капитана красные давно расстреляли. От матери у старика осталось красивое, семидесятых годов, резное ореховое трюмо. Он открыл один их ящиков и показал мне фотографии: милые культурные лица с совершенно другим выражением, чем у нынешнего алчного и тупого населения. На всех лицах печать затаенной грусти, словно предчувствие того, что их вскоре вырежут, как опаршивевший скот.
...Потом я перестал ходить по дворам в поисках места для строительства или аренды мастерской. В подвалы мне почему-то лезть тогда совсем не хотелось: я мечтал о виде из большого окна на старую Москву, к которой был смолоду привязан.
Вообще-то я сам себе порой напоминаю бездомную кладбищенскую собаку, живущую около склепов и могил и подъедающую остатки закусок, которые пьяницы оставляют на могилах.
Единственное, чего я несколько испугался в то солнечное лето, – это своей способности вглядываясь в лицо незнакомого человека, угадывать его прошлое и дальнейшую судьбу. Без подобной интуиции писателем стать невозможно – ведь мы лепим вымышленных людей из отдельных черточек реальных персонажей, доведя себя до такой галлюцинаторной одержимости, что появляются на свет нереальные персонажи, которые как бы тебя просят: опиши нас! В России писателей, пишущих с псевдонатуры, порожденной их воображением, не так уж много. Я убежден, что Достоевский читал в газетах уголовные хроники своего времени, Чехов на время переселялся в свои креатуры, Лев Толстой вообще болел своими персонажами. Таких западных писателей, как наши конца девятнадцатого века, в Европе почти не было. Правда, я европейских писателей читал только в русских переводах, но кроме Жоржа Сименона, в общем-то, уголовного хроникера, перевоплощений не так много, и поэтому в основном убедительна многоперсонажная проза, а наблюдения над самим собою – своего рода эгоцентрическая умозрительная литература. Русские писатели очень сильно повлияли на холодных европейцев и заставили их задуматься над тем, что же такое настоящая литература.
Вот был такой довольно мерзкий старикашка Жан-Жак Руссо, очень убедительно писавший о самом себе и ставший духовной первопричиной французской революции. “Не надо стесняться самого себя” и “Не надо стесняться описывать окружающих” – это то, что оставили нам после себя два последних века попрания людей. Почему-то так получилось, что павшие откровенно палаческие режимы наследовали потомки палачей и их духовные преемники. По крайней мере, так случилось в Германии и России. В обеих странах никто не описал животного ужаса жертв перед государственными садистами. Люди почему-то стесняются описывать свой страх перед государством.
После летних путешествий по московским дворам и тщательного наблюдения за классовым и расовым составом нового советского населения Москвы я впервые стал всерьез думать о том, как описать все эти необратимые процессы. Меня и сейчас, и тогда не устраивают современные описания в духе Андрея Белого, Достоевского и даже Зощенко. По-моему, опыт великой русской литературы может проявляться только в одном – в описании степени унижений человеческой личности. Не сдавшийся и не капитулировавший участник событий девяносто первого года Юрий Николаевич Афанасьев, внук сестры Каменева, недавно заявил: “В России все силы современных людей всех национальностей уходят только на адаптацию к насилию, которому подвергает их государство”.
...Уже после девяносто первого года где-то полгода я кое-что сочинял и рисовал в квартире, принадлежавшей до революции деду моего приятеля. Дед, польский граф из Каменец-Подольска, учился в Петербурге у Куинджи, состоял в обществе куинджистов, был прямо в этой самой квартире арестован и выслан в Среднюю Азию и расстрелян. Доходный дом в Кривоарбатском переулке стоял почти что напротив дома архитектора Мельникова, где тогда еще жил его сын, живописец, всеми силами пытавшийся сохранить оригинальное сооружение. Здание было построено в конструктивистском стиле и чем-то напоминало, как и все здания московского конструктивизма, промышленную архитектуру. Мельников был ярким представителем классического русского авангарда, проявившегося больше в архитектуре, дизайне, графике, отчасти – в живописи. Судьба этого авангарда не менее трагична, чем судьба первого, сформировавшегося еще до революции. Корифеи первого русского авангарда, его лидеры – кроме Малевича – покинули Россию и продолжили свою деятельность на Западе, а советский авангард был тихо удавлен внутри страны.
...Куда ни повернись – всюду простреленные черепа, такой уж город Москва. На Арбате, где распродаются остатки советской империи – знамена, вымпелы, фуражки, ушанки – можно в том числе найти и генеральские мундиры с шитьем. Один опытный человек при мне перебрал несколько таких мундиров и указал на два из них: посмотрите на спины, это мундиры, выкопанные из гробов, у них другой цвет, чем спереди. Еще при Горбачеве служил в Кремле маршал Ахрамеев. Он прошел войну, на которой сделал свою карьеру. В ящике его письменного стола всегда лежал заряженный пистолет. Ахрамеев был решительный человек, он мог принять самостоятельное решение и по Варшавскому договору, и по выводу советских войск из Германии и стран Восточной Европы. Единомышленники Горбачева повесили его на крюке для люстры при помощи электрического шнура в собственном кабинете. Насколько я помню, это было последнее политическое убийство в Кремле. А могилу маршала кладбищенские хорьки раскопали, сняли с трупа маршальский мундир и отволокли продавать на Арбат.
Когда началась массовая эмиграция евреев в Америку и Израиль, некоторые отъезжанты, зная, что я разбираюсь в старине, рекомендовали меня в качестве эксперта. Я побывал тогда в самых разных еврейских семьях, в самых разных квартирах, иногда попадая к родственникам очень известных людей, чьи отцы и деды были расстреляны при Сталине. Потомки этих красных сановников были большей частью крайне невежественны и не понимали, какими эстетическими ценностями владеют. Частенько не могли отличить олеографию, привезенную из Германии, от подлинной голландской картины. Обычно около отъезжантов вертелась масса жулья в надежде что-нибудь схватить на халяву. Я честно объяснял владельцам, сколько это может реально стоить. Я как бы попадал в чрево красной Москвы. Я всегда умело выспрашивал, откуда родом семья владельцев антиквариата, и большей частью оказывалось, что их предки жили или в Одессе, или в Бессарабии, или в примыкающих к этим местам районах Украины. Я всегда интересовался, откуда в их доме старинные вещи. Мне уклончиво отвечали: от папы или дедушки. Только одна женщина честно сказала: папа это все покупал еще до войны в комиссионном, где его брат работал оценщиком. Правда, помню одно исключение: некая дама, пытавшаяся продать портрет школы Рубенса, рассказала, что у ее деда, крупного киевского торговца хлебом, были и старинные испанские гобелены, и резная мебель шестнадцатого века, и много другое. Но все уже давным-давно продали. В основном все упиралось в так называемые спецмагазины, склады вещей, конфискованных у бывших владельцев, где их за смешную цену продавали новым властителям.
Сын Курилко на меня обиделся за описанную мной историю его отца-антикоммуниста и обещал даже меня убить. В одной бульварной газетенке он опубликовал интервью, в котором упоминул интересный факт. Оказывается, Курилко-сын был приятелем некой Людмилы Ильиничны Баршевской, последней жены красного графа Алексея Толстого. По-видимому, эту многоопытную даму “графу” в постель подложили органы для того, чтобы контролировать доходы писателя и его имущество, которое потом отошло государству. Курилко-сын писал о том, что старинную мебель Алексею Толстому и Людмилке (как называли ее московские знакомые писателя) помогали доставать органы. Существовал в Москве такой закрытый для посторонних магазин, куда свозили конфискованные у расстелянных вещи. Точно так же нацисты обзаводились еврейским барахлишком, а то, что на этих предметах кровь убитых, их не волновало. Но вещи хранят память об их прежних владельцах.
...Каждое поколение, уходя, уносит с собой в могилы свои маленькие и большие тайны. Сейчас активно уходит поколение, а точнее, целый куст поколений, рожденных до войны, и большинство уходящих не рассказало правды ни о себе, ни о своих семьях, ни о способах выживания, ни о компромиссах с властью. Вот Луи Селин, в общем-то средний писатель, писал правду о себе и о режиме маршала Петена – людях, спасших Францию от красной чумы, Народного фронта Леона Блюма и Мориса Тореза. Вот в России кое-что о себе самом писали Александр Блок, и Замятин. Пробовал о себе писать и Иван Бунин, но боялся левых евреев, кормивших его во Франции с рук, как белого голубя, и давших ему Нобеля. Конечно, и Толстой, и Достоевский, и Чехов много о себе и своем опыте рассказали, и поэтому они интересны и по сей день. Человек-то не меняется, он просто приспосабливается к новым условиям и мимикрирует под современные поветрия, именуемые почему-то прогрессом и новым толерантным мышлением.
Вот я сам, ставший подагрической развалиной, почему-то вспоминаю себя в разные эпохи своего существования, по мере сил, естественно и непредвзято, не стесняясь собственного ничтожества и убожества.
Москва, 2009
«В России первичен звук, согласный стихии беспощадного ветра»
Славянство, русское славянство – вневременной и внеисторический фактор в истории человечества. Эволюции, революции, Дарвин и прочий европейский хлам – ветошь, набрасываемая Западом на древний остов Тавро-Скифии. Путь славянства – одинокий и древний. Зовы и голоса предков – не прошлое, а будущее славянства. Там, за пределами славянской равнины, другие критерии морали, времени, искусства. У нас, русских, они вечны и одинаковы. Вся сила славян в том, что они не подвержены духовно эволюции и цивилизации. Организованные формы, которые Россия примеряла периодически на себя, были всегда ей чужды, и она сбрасывала их легко и царственно. Сбрасывать будет и впредь. Славяне по своей сути маги и теурги. В основном, маги, черные маги. Не знаю, верили ли когда-нибудь русские в бога или нет, а вот в черный нечистый пантеон верили всегда, верят и будут верить, пока существуют как отдельная нация. В пантеон русского мистицизма вошли норманны – жестокие язычники и византийцы – ласковые язычники христианизированной Эллады. Византийский Христос – повзрослевший и уставший Дионис. Богоматерь – смиренномудрая Гера с бесстыдным взглядом поистомившейся Афродиты, родившей в преклонном возрасте еврейского младенца. Вековое стремление русских в Константинополь – зов детской крови, мечтающей вернуться в отчий языческий дом. Антихристианство, язычество русских глубоко органично и запрятано в любых внешне христианских формах русской культуры. Иконопись, Толстой, Достоевский, Тютчев – это по сути глубоко языческие искусства, спрятанные в раковины христианской стилистики и этики. Россия много раз целиком горела дотла, казалось, погибала навседа, и снова вставала и звучала чистым аккордом славянской гармонии. Конечно, Россия – это огромная лирическая величина, нечто столь политически огромное и трудно познаваемое, что порождало и будет порождать невиданные и ни на что не похожие художественные и поэтические явления. В первую очередь, конечно, поэтические, а не художественные, потому что в России первичен звук, согласный стихии беспощадного ветра, материя же и пластика, останавливающие движение, вихрь, – вторичны. Музыка и поющее слово – основные стихии русского искусства. В пластике русские художники прежде всего подчеркивали статику. Рядом с русскими иконами византийские полны экспрессии и движения. Во всяком же русском фигуративном изображении первичен идол – Идолище поганое. Идол, Спас, Илья и все русские святые – на иконах. Женственность – округлую порочность форм, возрождающих в грехе и сладости жизнь, русские воплощали в изображениях и культе Богоматери. Округлость, женственность Богоматери сближает ее изображения с языческими глиняными и каменными статуэтками, отчетливо подчеркивающими признаки женского пола – круглый живот, груди, ягодицы. Нимбы русских богородиц похожи на языческие ягодицы.
Даже позднее, когда Россия приняла на себя западное обличье, изображения людей на дворянском портрете неподвижны, идольны. Почему сие? В чем особая неподвижность, окостенелость русской пластики? В желании запечатлеть вечное, чисто славянское, ушедшее в себя, особого вида славянскую созерцательность. Вообще трудно отличить русскую примитивную икону XIX века от иконы XII века. Такая же традиционность и неизменность есть и в тибетском искусстве. Попробуй-ка отличи статуэтку Будды X века от статуэтки Будды XIX века! Неспециалисту сделать это крайне трудно. Неподвижность, статуарность, созерцательность, углубленность в себя – эти качества характерны и для изобразительных русских искусств. “Все самое ценное – в прошлом”. Это понимали все славяне. Мифы Праматери – отчизна духа. Славянство как духовная сила, чистая, не испятнанная чуждостью, была таковой на заре славянской цивилизации. Там таятся основные клады духа и музыки славянской культуры. Остатки сожженной татарами древнерусской литературы – чистейшие свидетели музыки. Таковы же былины, плачи и сказы. Русские же пословицы и сказки – продукт позднейшей культуры. По своей морали они чужды славянству – их породили холопство и крепостное право с их примитивизмом, грубостью и хамством.
Для древней Руси, наоборот, характерна особенная простота и свобода. Почти вся “великая русская литература” XIX века заражена чуждыми России западными утилитарными идеями. Эти народники, Чернышевские, Петрашевские, Белинские, Марлинские, Успенские, Михайловские, Писаревы, Благолеповы и Добролюбовы… Много их было. Еще больше осталось. Их цель и задача – отравление воздуха и климата российской словесности. Они травили Фета, Полонского, Григорьева, Тютчева, русских символистов. Страшная, темная сила волосатых, чахоточных сектантов. Изуверское сектантство – это та цена, которую платят славяне за тридцать христианских серебреников князя Владимира. Непокорные созерцательные язычники, надевшие на себя вериги православия, бунтовали до самого конца православия в 1921 году. Бунты, революции русских – кровавые языческие мятежи. В какие формы эти мятежи выливаются – надо спросить у Запада, а не у Россию. Запад уже давно вскармливает русский мир своей духовной жвачкой. А сектантов в России всегда хватало. Единственное оригинальное, что внесли русские в так называемое революционное движение, это анархизм Кропоткина и Бакунина. Впрочем, родственные этому анархизму идеи можно найти в древнерусских исторических документах. Да и что другое, кроме язычески-анархического бунта, могли внести русские в революцию?
Тяжелы, ох как тяжелы оковы Запада для славян, для русских! Последние триста лет Россия живет под гнетом западных форм государственности и не только терпит это сама, но и распространяет западные формы повсюду – и на Востоке, и в Азии, и в других доступных ее влиянию районах. Большой, очень большой грех взяла на себя послепетровская Россия. И еще неизвестно, чем это насилие отрыгнется для русского народа. Зло родит зло. Камень родит камень. Слезы родят слезы. Кровь родит кровь. Татарское иго не так пагубно отразилось на России, как иго западное. Языческое татарское иго было ближе и понятнее, чем иго цивилизованное, западное, отравляющее в основном не внешнюю, физическую, форму жизни, а ее суть, духовное ядро. Русская революция – это просто судорога отвращения к западным формам жизни. Много, очень много впереди крови прольется, прежде чем новая Россия отделается от западных форм жизни.
Рассмотрим же те немногие и великие ростки славянской поэзии, которые пробились сквозь ледяной покров петербургской поэзии.
Первой фигурой, предтечей всей русской поэзии, был Тютчев. Тютчев в силу обстоятельств личной жизни оказался в фактической эмиграции в Германии, где он смог выключиться из общего потока российской словесности и в стихах на русском языке органически осознать свою славянскую особость и исключительность.
* * *
Тютчев – одна из самых поразительных фигур русской поэзии. Причем его исключительная цельность и своеобразие связаны с тем, что он лучшие двадцать пять лет своей жизни прожил в Европе. Он был избавлен от темноты, косности и невежества русской жизни. В молодости Тютчева очень волновала идея непросвещенной и духовной окостенелости России. Потом он надолго покинул родину, дружил и был близок с лучшими умами Европы – Шеллингом, Гейне, слушал лекции Гизо в Париже, был женат дважды и оба раза на немках и стал в своих привычках скорее восточным европейцем, нежели русским. В Россию он вернулся уже доживать, и ничего, кроме разочарований, второй русский период его жизни ему не принес. Рядом с Тютчевым непререкаемый авторитет Пушкина начинает бледнеть и меркнуть. По своему возрасту, опыту, детским, юношеским впечатлениям Тютчев – современник Пушкина, но как разнится этот опыт и какой разный итог принес он обоим. У колыбели обоих стоял Жуковский, но на Пушкина Жуковский не мог нарадоваться, как на свое дитя, а Тютчеву удивлялся и поражался, как некоему совершенно не понятному ему явлению.
Пушкин в своем “Современнике” дал тютчевским стихам название “Стихи из Германии” и тем самым подчеркнул их отличие от своей концепции русской поэзии. Столкнувшись с необычными для него формами поэзии и зная, что автор – дипломат и постоянно живет в Германии, Пушкин и окрестил стихи Тютчева немецкими. За исключением же нескольких переводов из Гейне и нескольких стихотворений, представляющих собой вариации на темы Гейне, в поэзии Тютчева нет ничего немецкого, тогда как поэзия Пушкина во все, даже поздние, периоды, испытывала влияние французского стиха. У Пушкина-поэта, не великого прозаика, а поэта, не учился почти никто – он сам блестящая, но “незаконная комета”, он почти французский поэт на русской почве. А у Тютчева учились Майков, Полонский – в буквальном смысле слова, при постоянном общении в Цензурном комитете, а далее – Фет, Григорьев и последний поэт России Блок. Русский символизм это только продолжение и дальнейшее раскрепощение поэтических приемов и методов Тютчева. К поэзии Тютчева очень близка и лирика Лермонтова – интонационно и по форме.
Совершенно замалчивалась в годы сталинской узурпации всего русского политическая и философская деятельность Тютчева, более чем гениальная. В ней величайший русский поэт выступает как провидец будущих судеб европейской цивилизации и славянского мира. Формула Тютчева “православный папа в Риме и православный император в Константинополе” есть Божие откровение судьбы и предназначения России. Тютчев пережил духовную катастрофу после позорного Адрианопольского мира и падения Севастополя в ходе Крымской войны. Он предугадал прусские притязания и предвидел Первую мировую войну. Он разоблачал бездуховный мещанско-буржуазный характер западной цивилизации, всесветный заговор социализма. Он современен и поныне – мы являемся свидетелями провидчества Тютчева, предсказавшего раздвоение мира и отчуждение личности.
* * *
Судьбы Польши и России очень разные. Польша – славянская страна, предавшая древнеславянское язычество и православие Риму, ставшая форпостом Запада в борьбе с Россией и в четырех разделах сполна получившая возмездие со всех сторон за свое предательство.
У Польши как у славянской страны есть только одно общее с Россией – это судьба русского дворянства и польской шляхты. Ориентированная на Запад польская шляхта начала расходиться со своим народом, с заветами предков очень давно – с начала 16 века. В 15 веке шляхта активно боролась с немецким Орденом, что отвечало интересам и чаяниям славян. Но с 16 века, после разгрома немецкого Ордена, Польша сама выступила против славян. Предпринятое ею насильственное обращение в католичество Белоруссии, Галиции, Украины было не менее жестоким, чем истребление немцами пруссов и кашубов.
Дворянская шляхетская республика, шляхетские восстания и революции в дальнейшем происходили при безмолвном безразличии польского народа. Славянский дух польской нации постепенно исчезал, большинство поляков равнодушно относилось к прозападным новациям шляхты. В послепетровский период русское дворянство пошло по пути польской шляхты. Так же, как и в Польше, барские усадьбы в России были островками европеизма в славянском море. Так же, как и в Польше, эти очаги западной культуры впоследствии были уничтожены. Погибло русское дворянство, погибла и польская шляхта. В сущности, погибли две великие культуры, давшие миру Чайковского и Шопена. И шляхта, и русское дворянство погибли трагически и не по своей вине. Их судьбу определили Ватикан и Петр Первый. Эти исторические силы толкнули дворянство обоих государств на антиславянский путь. Ватикан – в 15 веке, а Петр – в начале 18 века. Окончательное исчезновение русского и польского дворянства произошло, тем не менее, примерно в один и тот же исторический период с разницей в полстолетия. Уничтожение польской шляхты во Второй мировой войне и русского дворянства в гражданской войне – ужасные трагедии в истории России и Польши.
* * *
О Чаадаеве надо говорить и думать. Это такой мыслитель, который сам ничего не сказал, но зато задал поколениям несколько до сих пор не решенных вопросов. Вопросы эти Чаадаев сформулировал очень четко и беспощадно. До него вообще эти вопросы никто в русской философии и литературе не ставил. Чаадаев первым увидел, что за внешним лоском европеизации Россия представляет собой бездонную и никем не освещенную пропасть. Чаадаев испугался и сказал, что у русских нет прошлого. Сам этот испуг говорит о многом. Это мистический испуг и ужас. Он понял, что у России нет европейского прошлого. Сказав это вслух, он испугался. То, чего он не назвал, того он и испугался. Испугался он безграмотности и неевропейской пустоты. Но что-то в этой пустоте было. Осмыслить это он не мог. Но по размаху нигилизма своего мышления Чаадаев, конечно, отец русской новейшей философии. Философии в смысле отрицания всякой философии, всех видов материализма и всех видов метафизики. Теперь в космосе открыты “черные дыры”. В области мышления Россия такая же “черная дыра”. Нечто совершенно не укладывающееся ни в какие системы. Чаадаев первым открыл эту неукладываемость России в известные ему системы. Россия императорская и европейская объявила его чиновником.
* * *
Когда говорят о декабристах, то представляют себе тонких благородных офицеров и их умерших от чахотки жен. Очень страдальческие воспоминания. Бывали во Франции, многие женаты на преданных француженках. Ле Дантю, Полина Гебль, Александр Дюма, Жорж Санд с профессиональным романтическим бюстом, на котором умер влюбленный Шопен. Декабрист Лунин сильно любил полячек, они его тоже любили.
Пятерых декабристов повесили. Герцен – их духовный сын; Пушкин – африканский свободолюбивый брат; Ермолов, усмирявший кавказцев, – папаша.
Что, собственно, за публика топталась в ожидании расстрела на Сенатской площади? Судя по всему, порядочные люди: платили карточные долги, стрелялись исправно на дуэлях, были галантными любовниками. И только. Что они знали о России? То же, что и все в Петербурге. Не сильно секли своих крепостных девок, хотя их и брюхатили. Вернулись после ссылки в свои имения благородными старцами. Все очень похоже на Польшу. Та же слащавая сентиментальность, недомыслие и бесполезная храбрость. Программа? Да та же, что и в Польше, – шляхетско-дворянская республика. Вместо одного Николая Палкина – десять тысяч. И у всех нежные дворянские профили, усы и эполеты.
Конечно, их жалко. Но и только. Их оплакал карточный шулер Некрасов. Их любил Герцен. Их внуков русские мужики уничтожили под Перекопом. Белая Вандея гражданской войны могла бы видеть в них своих героических предшественников. Но не увидела из-за своей политической тупости. Дворянская революция. Александр Второй сполна выполнил их программу. Будь их внуки на их уровне, они бы намного раньше расстреляли Распутина, посадили бы в Петропавловскую Николая и Александру, заключили бы с Германией сепаратный мир и не допустили бы Октября, установив в России правление офицерской хунты. Но их внуки были намного глупее их. Вот, собственно, и все о декабристах.
Радищев – фигура трагическая. Он своей судьбою почти на два столетия показал, как должно обращаться в России любое правительство с писателем, позволившим себе сказать правду. Его, беднягу, морили, морили – недоморили, потом отпустили и обещали снова начать морить, когда оказалось, что он не утратил умственных способностей. “Путешествие” его книга слабая, но с пафосом и восторженностью, книга, несомненно, достойная и честная. Перед Радищевым всем русским, берущимся за перо, надо снять шапку. Ведь никто из русских в России не застрахован от судьбы Радищева, если он вдруг перестанет лакействовать и посмеет сказать правду. Пожалуй, во всей русской литературе есть только две обличительные нелитературные книги, все-таки вошедшие в литературу. Это “Путешествие” Радищева и “Сахалин” Чехова. По скрытому темпераменту и чистой правде они похожи. Проживи Чехов еще лет двадцать – и его судьба была бы похлеще радищевской. Радищев не вынес тяжести звания российского литератора, покончил с собой. Вспоминая Радищева, каждый пишущий должен помнить, что чаша с цикутой может быть и его выходом, и притом самым желанным. Выходом чести
* * *
Читал “первейшего” советского писателя Алексея Толстого. Враг. Принципиальный враг. Он до мозга костей материалист и хулиган. Очень талантливый разнузданный хулиган. Он таким законченным материалистом был задолго до революции. С самого начала. Русские эмигранты первой волны вопили, что Толстой продался большевикам. Так он им вовсе не продавался, это было взаимное стремление одной утробы к другой, заволжской Бойстромовской и мужицко-совдеповской. От обеих утроб плохо попахивает – хамством. От утробы Толстого с толстовским заволжским посапыванием, переваривающим историю России, попахивает не только хамством, но и заведомой чисто большевистской профанацией.
Какие бы трагические эпохи ни описывал Толстой, все он сводит к к историческим анекдотам, правда, расцвеченным талантливейшими деталями быта. Получается не живая история, а паноптикум, и весьма материально убедительный. Алексей Толстой – это действительно новатор в русской литературе. Что же он ввел качественно нового в русскую литературу? Во-первых, развязный, наглый тон всесветного хулигана, оскверняющего все, к чему он прикасается. Второе – это элемент скрытой порнографии. Рядом с ним Арцыбашев, Каменский – идеалисты-мистики. Эротика Толстого отдает конюшней, а не мистикой пола. По сравнению с Толстым Горький – высокий идеалист русской культуры девятнадцатого века. Впрочем, несмотря на разменное употребление Горького в нашей совдеп-эдемии, Горький держит в кармане ницшеанский кукиш либерального толка, и вообще он хоть и “столп” и все прочее, а в собственно писательской практике пишет по-русски обстоятельно и прочно. В общем, он, конечно, по всем своим писательским замашкам и по отношению к литературе совсем не советский писатель, а своего рода искатель сверхчеловеческих идеалов в русском мужике. В совдепии Горький, конечно, разочаровался. А вот Алексей Толстой, которого Горький поселил в своей дворницкой, носил не только личину допотопного дикого барина, закусывающего водку клюквой и валяющегося неделями на пуховых перинах своих крепостных дунек и палашек. На самом деле это была только удобная личина, позволяющая ловко хапать гонорары и авансы и изображать перед Сталиным стоящего на задних лапах медведя с блюдом “хлеб-соль”, вроде тех, что когда-то стояли в прихожих особняков, где на их подносы клали визитные карточки. Алексей Толстой прекрасно ужился в лакейской советской литературы, потому что он сам в душе лакей, любящий хватать с барского стола жирные куски и, чавкая, их пожирать. Те, кто видит в Толстом певца ущербного дворянства, вроде Терпигорева или же Бунина, глубоко заблуждаются: у тех трагедия на фоне чудачеств, а у Толстого – буффонада смешных уродств с подчеркиванием гнусно-похотливых моментов.
* * *
Много пишут нелепостей об Антоне Чехове. Мало кто хорошо понимает этого писателя и его современность и злободневность. Антон Чехов – это особое явление, а потому он и современен. Много пишут о патологии Достоевского. Чехов во сто крат патологичнее Достоевского. Рядом с Чеховым Бунин – здоровый кобелина-дворянин, грешащий по гумнам с девками и трескающий на псарне водку. Бунин не интересен, когда он пишет о людях, – он писатель “интерьерный”: усадьба, лес, дождик, и человек у него – часть обстановки, обретающий значимость только после смерти. О живых Бунин не умел писать и не понимал их. Сколько ни читай Бунина, никогда не почувствуешь своей плотью чужой жизни, скрытых пружин ее. Бунинские женщины – манекены, объекты сексуальных потребностей половых психопатов, в основном дворянско-мужицкого происхождения. Очень жаль, что у Бунина не описаны случаи некрофилии и скотоложеств, в этих жанрах он не имел бы соперников.
Чехов же, напротив, весь трепетно, таинственно живой. Его персонажи живут мучительно одинокой, полной таинственных порывов жизнью. Им все тягостно, им все трудно, они полны неосознанных импульсов и желаний. Они – сама тайна отдельного человеческого существования. Чехов откладывал частицы себя в раковины чужих судеб, и они превращались в жемчужины лучшего и правдивого, что когда-либо написано о людях. Ни до, ни после Чехова никто не писал такой страшной и мучительной правды о жизни людей. Рядом с ним Мопассан грешит фарсом и скрытой тенденцией недоброжелательства к двуногим. Чехов же величественно прост: “Я несчастен и одинок. Одиноки и вы. И никто ни меня, ни вас никогда не поймет”. И не понимают, и не понимали. А теперь, среди общего литературного гниения и подавно понимать не хотят. Отстраненность жизни человека от мертвенно-прекрасного величия природы – основная тема его творчества. Как мучительно и страшно копошатся души его персонажей среди величественной и милой среднерусской природы. Какое страшное противоречие. Невольно вспоминается раненый князь Андрей и бездонное небо Аустерлица. Чехов бессмертен. Доживи он до наших дней, он так же бесстрашно писал бы о дикости современной цивилизации, о варварском одичании, о потопе порнографии… Чехов – единственный, кто бы смог написать правду о русской революции, без тенденциозных вывихов влево и вправо. Чехов честен. Правда, он о многом молчал. Молчал не потому, что не знал, а потому, что знал слишком много. О русской революции и революционерах Чехов знал очень хорошо, но не писал – только в одном, не изданном в СССР, письме к Суворину он пишет о социал-демократах, об их самодовольстве, невежестве, о тех порядках, какие они установили бы в русской литературе. Не буду дословно цитировать, так как под рукой нет оригинала, а большевики его никогда не издадут.
К числу советских легенд о Чехове относится и легенда об идиллических отношениях его с МХАТом. У Чехова действительно были близкие отношения с Немировичем-Данченко, литературно тонким человеком, почитавшим его драматургию, и с некоторыми актерами труппы, например, с Артемом. Но Станиславского он неоднократно называл “любительствующий купчик Алексеев”, а многое, весьма лестное для МХАТа, говорил “чтобы не обидеть”. Русский варвар Островский действительно сделал Малый театр “домом Островского”, а МХАТ – место временного пребывания Чехова, но не “дом Чехова”. Правда, Чехов использовал МХАТ как “дом”, но определенного сорта, выбрав из среды “художественников” жрицу любви Книппер, когда понял, что скоро умрет, и пожелал умереть “с шиком” при такой семитически страстной профессионалке. Но это не больше, чем способ самоубийства чахоточного. Единственный, к кому всерьез относился Чехов, – это Лев Толстой. Толстой при его кроличьей плодовитости, толстой жене, куче детей – картежников и кутил – был в своем разоренном имении ужасающе одинок. Но за Толстым стоял миф его рода, клана, за Чеховым была пустота, нищета и унижение лакейской. В Толстом Чехов ценил его одиночество и беспощадность, которая была отлична от чеховской беспощадности. Толстой – дворянин, густопсовый, с высоты своего происхождения он судил все остальное. Чехов подглядывал за людьми, не возвышаясь над ними, безжалостным взглядом врача-аналитика. В его взгляде на людей нет предпочтения – он безразличен ко всем и одновременно сочувствует всем. “Мы все в ловушке” – это его скрытый девиз. Его социальные идеалы? Таковых у него не было. То есть, из существующих на земле социальных группировок он не сочувствовал ни одной. Ему хотелось верить, что со временем люди перестанут вести скотский образ жизни, жрать, убивать, растлевать женщин и детей, заставлять голодать половину человечества. Один современник Чехова, старый писатель, говорил мне: “В России интеллигенция – это класс”. И еще: “Мы (интеллигенция) жаждали революции, но не той, которая произошла”. Чехов, конечно, никогда бы не сказал таких благоглупостей, но в тезис о том, что культурные люди – это основная движущая сила будущего, ему хотелось верить. Со времени его смерти прошло почти семьдесят лет, и с тех пор в мире ничего не изменилось – по обеим сторонам “занавеса” царит такое же скотство, у власти все то же скопление обожравшихся эгоистов, а культурные люди сидят по углам, и их используют как проституток. Придет ли когда-нибудь культурный слой к власти – это очень и очень неясно. О власти Чехов писал вскользь – он вообще не был политическим трибуном, как художник он описывал явление, но не называл его. Однако пакостность и уродство, корысть власти он показал как никто. Поэтому Чехова не может любить ни одно правительство, он потенциально опасен любой власти, основанной на корыстном использовании большинства. Революционность Чехова – в его вере в конечную победу интеллекта над скотоподобным двуногим. Чехов враждебен и монополиям, и толстобрюхим адвокатам самого невежественного класса общества – пролетариата. Он враг всякой диктатуры, кроме диктатуры интеллектуальной целесообразности. Очень страшный для диктатуры пролетариев и буржуа писатель Чехов. Он будет еще очень и очень долго актуален и современен.
Если можно назвать интеллигенцию классом, то этот класс всегда будет иметь в Чехове вернейший “глаз”, оценивающий чудовищность окружающего. Модернизм как таковой Чехов всегда отвергал. Он подозревал модернистов, сделавших модернизм своей профессией, в скрытом предательстве и проституции. Основы модернизма лежат в эстетизме первых крупных фигур, плюнувших в лицо человечеству. Это Ницше, Уайльд, Ибсен. Этот ранний модернизм Чехов принимал. О Ницше он выразился приблизительно так: “Вот появился один оригинальный философ и сразу с ума сошел”. Надо знать и понимать Чехова, чтобы найти в этой сентенции скрытое сочувствие.
Величие Оскара Уайльда – в его утверждении, что искусство и художник могут преобразовать уродство и безобразие жизни. Отбросив парадоксализм Уайльда, эту же мысль можно найти и у Чехова. Позднейшие же модернисты, сделавшие надругательство над людьми своей профессией, стали теми “скорпионами” – лабазниками-торговцами типа Брюсова и Ко, – которые вызывали отвращение у Чехова. Да и сейчас (я не говорю об СССР, где нет вообще никаких свобод и условий для творчества) на Западе есть люди такого же размаха и такой же судьбы, как эстеты начала века. Но все они, включая экзистенциалистов, конформисты и вполне “домашние прирученные животные”. Их анализ общества эпатажен, но не несет в себе динамита для взрыва. Чехов же весь набит этим динамитом перемен. Опасно, очень опасно издавать Чехова, но издают – он хорошо раскупается и читается, и… и плохо понимается.
Драматургия Чехова – вершина его творчества. В ней он смог подняться над своим временем. В прозе, в беллетристике все-таки у него есть кое-какие предшественники – и Тургенев с его музыкальностью фразы, и Толстой, и “мужиковеды” – от Эртеля до народников – в разное время влияли на его творчества. Гауптман и Метерлинк также кое в чем сказались в его творениях – от них у него некоторый лирический мистицизм и таинственность. Все это в очень малой степени, но присутствует. В драматургии Чехов никому не отдает дани – он творец, первооткрыватель. Чехов в театре совершил несколько кардинальнейших открытий и реформ, взорвавших тот, прежний, театр, существовавший до его появления.
* * *
Мое знакомство с Чертковым отчасти приоткрыло для меня тайну Льва Толстого. Обломок истасканно-великолепного русского барства 60-х годов 19 века. Это человек с другой планеты. Он невероятно эгоистичен. Он занимает много места. Он имеет право занимать много места. Толстой тоже эгоистичен. Он по праву лендлорда занимает много места. Он никого не любит, он умеет замечать в людях все неприятное. Поэтому он любил Чехова – Чехов тоже никого не любил и умел замечать все неприятное. Но Толстой не любил никого, потому что слишком всех презирал, Чехов не любил никого, потому что не мог – он был сотворен из другой духовной материи, он талант, зависящий от наблюдаемой среды, – точнее, градусник, который сам по себе холоден, он нагревается от тела больного. Толстой не зависел от среды, он сам по себе, он хорош один. Толстой писал только о самом себе, Чехов писал о других. Достоевский писал об искусно созданных им марионетках, прыгающих в его христианско-шопенгауэрском балаганчике. Достоевский развивал проблему, Чехов писал истории болезни, без намека на окончательный диагноз. Толстой палачествовал над самим собой. Рядом с Толстым было нечем дышать – у него была зловонная пасть хищника, пожирающего чужие души от скуки – по праву и по привычке. Чертков тоже все презирает. Он со Львом мог быть дружить. Что их роднило? Духовные кризисы – это внешний контур. Основное – это нежелание себя изменять и измельчать, что роднило Толстого с Урусовым, Стаховичем, с великим князем Николаем Михайловичем. Как художник Толстой ничтожен, он только мемуарист собственной души. А душа его колоссальна. Толстой – бедствие для русской литературы. Он враг формы, всего, без чего нет искусства. Он презирает полунамеки. Для чего ему все это? Ему дай Бог описать все происходящее в нем самом. Недаром Стахович редактировал для него “Анну Каренину”. Но он презирает Достоевского за неряшливость слога, потому что Достоевский – художник, а художник не может быть неряшлив в форме. А Толстой не художник, как Жан-Жак Руссо, которому он поклонялся в молодости. Недаром он любил Стендаля, великого дилетанта-мемуариста. Толстой редактировал себя тщательно не из литературных соображений, а для того, чтобы в его фразы, в его мысли не проникло ничего извне, чтобы все звучало как его внутренний монолог мемуариста. Толстому подражать нельзя. Подражание Толстому – гибель для художника. Нужно родиться личностью – вот тогда можно учиться у Толстого способам самозаписывания и самовыражения. Великий Толстой. Он нечто большее, чем писатель, и одновременно нечто меньшее, чем художник-писатель. Благодаря Черткову понимаешь, что русскую литературу не создавали. Она просто росла, как липовая аллея.
* * *
Меня всегда волновал Александр Блок – этот гениальный предатель соловьевства. Болезненная, великая, демоническая натура. В основе его души лежит демонизм саморазрушения и мазохизм. Он строит храм, чтобы его разрушить. Его друзья упрекали его в предательстве. Они просто не понимали двойственность его природы. Враг материализма и животности, он окончил свою жизнь “Двенадцатью”, надругавшись над всем своим прежним сорокалетним путем. Он всегда гениально надругивался – в этом он гений. Его утверждение несет в себе уже бациллы надругательства. Он любит посторить здание на заранее шатком фундамента, а потом со сладострастием наблюдать, как появляются трещины, приводящие к катастрофе.
Что он любил? Я думаю, немногое – помосковную природу вокруг своего имения, одинокие прогулки по взморью, шелест снимаемого женского кружевного белья, Пяста, Евгения Иванова, может быть, немного певицу Дельмас. Свою жену вряд ли – это откровенная гавань его сладострастия. Понимал толк в смерти, разврате, болезни, самоуничтожении, садоводстве. Все презирал, все любил, был одинок и постоянно нуждался в женском теле. В сущности, женское тело заменял ему человечество. Был бесплоден, детей не было.
Пожалуй, Лермонтов, Тютчев, Фет, Блок – как их мало, органически однородных в своей странности и надмирности. Конечно, он никакой революции большевиков не принимал, был просто очень любопытен и одинок. Если бы вместо большевиков и Ленина Петербург захватил бы царь Дарий, или Ксеркс, или стада кентавров, то Блок так же бы “интересовался” и ходил бы по улицам, и слушал и написал бы что-нибудь еще и похлеще “Двенадцати”. А так как русский интеллигент наполовину Буренин, наполовину Дорошевич, а скорее всего Партеров или Амфитеатров, то Блок их всех испугал, и его облили помоями. А он был гений и античеловек. Да у нас в России античеловеки не новость. Не то бог, не то демон, оказывается – Блок. Потомок лейб-медика Павла I, может, даже еврей, как Афанасий Шеншин. Последний поэт России. И на него смеют указывать современные литературные шавки, эти крохотные советские бальмонты в красном краденом дамском белье из кремлевских подвалов. Эта свора лжепоэтиков, прикормышей Ассурбанипалов марксизма. Что им Блок и что Блоку они. Он мертв. Мертва Россия и навеки мертва русская поэзия. Блок – это могильный памятник русской поэзии.
Двадцать одна мимолетность о моем искусстве
1.
Да, я люблю пошлость. Она более всего соответствует изысканности моего воображения. Каждая конкретная женщина оскорбляет мой идеал женственности. Каждая конкретная форма оскорбляет мой замысел. Только откровенная пошлость достойна воплотить нечто неосязаемое, то, что составляет вечно ускользающий женоподобный лик моего искусства. Итак, да воплотятся в подмазанных, вихляющих бедрами формах стрелы мыслей моих, жалящие лишь одиноких. Мазохизм формы пусть истончит мысли мои, и пусть упадут они на живот самой прекрасной в мире пошлости.
2.
Наиболее присуща мне форма, наиболее далекая от меня. Только до конца чуждое, до конца враждебное может воплотить мои замыслы. Враждебность и непонятность формы есть лучший бодрящий стимул моего творчества.
3.
Я испытываю отвращение к бумаге, к краске, к перу, к шуршанию кисти по холсту. Сила, заставляющая меня преодолевать это отвращение, есть мое вечное желание доставить себе еще одну новую неприятность, еще один комплекс отвращения к себе.
4.
Русского искусства, собственно говоря, никогда вовсе и не было. Были и есть лишь последние золотые искры Византии в навсегда умерших и не видящих ничего глазах Запада.
5.
Мне нравится смотреть на грязные лужи. Они прекрасней всех Адриатик. Мне нравится смотреть на заборы с ободранными афишами. Заборы прекрасней всех полотен в музеях. На заборах нет золотых рам, на заборах нет ласкающих взглядов миллионноглавого зрителя, ибо заборы случайны. Да здравствует случайность! Я преклоняюсь пред случайностью. Только случайность грязная, как забор, может внушить мне истинное восхищение.
6.
Я стал художником не в силу традиционной инерции. Я всегда был слишком одинок, чтобы принадлежать какой-нибудь традиции. Моя человеческая ранимость одинакова с ранимостью искусства. Каждый может подойти и плюнуть в глаза Мадонне Леонардо, каждый может подойти и плюнуть мне в лицо. В этом мы с Мадонной Леонардо одинаковы, мы оба смолчим. Беззащитность искусства, поддающегося любому насилию, но не меняющего при этом вечной презрительно-скорбной улыбки, это то, что будет потрясать меня до конца дней моих.
7.
Один поэт с бородой сжег одну из моих лучших картин. Он приревновал свою жену к моей живописи. Сгорела одна картина, но сколько женщин сгорает тихо, незаметно, а ведь каждая из них стоит целого Лувра. Изгиб шеи, дрожание спины самоценней тонн гениально загаженных холстов. Это знал Рублев, знал Леонардо, это знал Пракситель. Этого не знает никто в Европе последних трех столетий. А в Византии это знал каждый иконописец.
8.
Когда я смотрю на византийскую икону, то в геометрических складках вижу кубизм, в ритме композиции – Матисса, в вихрящемся огне красок – Кандинского, в серебре и мир овеществленного искусства. Византийское искусство было и есть наисовременнейшим искусством, и Мондриан, и Пикассо, и Поллак только искали на грязных задворках современности утерянные разрозненные элементы византизма, чтобы вновь воссоздать величайшую мозаику европейского искусства. Мясные лавки Рубенса и хаос Делакруа были только долгим заблуждением спящих в животности веков.
9.
Россия – единственная страна музыки, музыки жизни. Скифские уши еще помнят пронзительные мелодии Диониса. Музыка улиц Константинополя, Равенны, Киева, Владимира-на-Клязьме еще звучит в пустых осенних полях России. Серое русское небо – единственный камертон моих материализованных ощущений.
10.
Москва снова делается столицей нового искусства. Современные московские художники – чистейшие в мире практические идеалисты. Отсутствие интереса и внимания к современному московскому искусству ставит московских художников в обособленное и «духовно невесомое» состояние, единственно естественное состояние творцов будущего.
11.
Периоды моего творчества похожи на горный ландшафт – короткая вершина активной работы и пропасти отчаяния и полной бездеятельности. Мне хочется спуститься с гор в край, где тихая музыка будет убаюкивать мое самоуничтожение.
12.
Я чужд современному искусству, я гораздо древнее его. Большинство современных модернистов напоминают мне орды гуннов, жарящих тела весталок на развалинах Капитолия. Современные модернисты – это незаконные дети отчаяния девятнадцатого века. Адюльтер великого европейского гуманизма породил поколения, зачатые в будуарах кокоток, философию отдающихся подряд всем насильникам свободного интеллекта. Не отсюда ли происходит универсализм современного искусства? Кандинский, Малевич, Шагал, Стравинский, Пруст, Шёнберг пришли к нам из девятнадцатого века, после них произошло качественное изменение искусства – в него ворвались стада жеребцов, чьи уши никогда не слышали тяжелой поступи латинских легионов.
13.
Мои рисунки – это раздавленные свинцовым прессом отчаяния нежные плоды дерева, которое никогда свободно не поднимется к небу, – оно слишком южно и свободно для сумрачной северной природы, поэтому оно стелется по земле и вслушивается опадающими листами в голоса, раздающиеся из-под точильных камней.
14.
Фиксация ощущения, скрепленная местом действия. Это почти как труп годовалой девочки, втоптанной проходящей толпой в горячий, мягкий от касаний спешащих ног асфальт. Мое ощущение растаптывается временем, местом, людьми. Остается след некогда бывшего, втоптанного безразличным отчаянием в бумагу.
15.
Я принадлежу к интеллектуальным художникам. Мои рисунки не более чем опыт познания. Когда отчаяние доходит до продела, то рука невольно выводит иероглифы на бумаге. Меня гораздо более занимает изобразить линию, не противоречащую музыке стиха или философской стройности, чем написать «сделанную» картину.
16.
Часто стихи опережают рисунок, или же рисунок предвосхищает стихи. Мне часто кажется, что только музыка и поэзия относятся к области искусства. Все же так называемые пластические искусства, в том числе и живопись, не более чем попытка приспособить грубую физиологию человека к величию ритма. Быть может, пластика вообще исчезнет, когда отпадет необходимость материализовать сексуальные фетиши, и музыка сможет восприниматься без опошляющих ее двуногих идолов. Не есть ли абстрактное искусство всего лишь новая форма нотной записи?
17.
Магический круг элементов моего искусства строится из изломов полуязыческих храмов Москвы, русских морщин усталости вокруг византийских глаз и эротомании ободранных туш в мясной лавке.
18.
Цель моего искусства – это поднести самому себе на раскрашенном по-лубочному блюде собственную голову, обезображенную абсолютным прекрасным, недоступным никому, кроме меня, страданием.
19.
Я счастлив, что уже почти десятилетие могу осуществлять собственный распад в России. Здесь стихийность духа и жизни создают колоссальный диапазон и глубину предчувствиям, эхом отзывающимся моему Знанию и ощущению собственной пластической гибели. Я не мыслю своего искусства вне России – это последняя страна стихии. Говоря это, я думаю о другой еще живой стихии – Испании.
20.
Единственно с кем я чувствую духовную связь, – это с потрескавшимися золочеными досками византийских икон. Они для меня служат и Родиной, и матерью, и женой, и даже домом. Обратная перспектива уводит меня в неизведанное и всегда близкое. Трещины на сумрачных ликах, как тропинки на теле русской земли: сколько по ним ни иди, они всегда обязательно приведут к белому храму и необъятной синеве далей.
21.
Русское искусство – мост из Византии в будущее. Внизу долины, полные тысячелетнего хаоса, экскрементов послевизантийской Европы. По этому мосту, минуя готику, возрождение, барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, уже шли многие. Быть может, мост рухнул, и я последний из идущих в пропасть? Не знаю, но все равно я иду.
Я родился в памятном для России 1937 году. Считаю поэтому себя принадлежащим к поколению тридцать седьмого года. Отец мой – профессор, теоретик рисунка. Если смотреть глубже, то в семье были разные: думный дьяк Долматов – присоединитель Пскова к Московскому княжеству; поэтесса графиня Ростопчина, академик скульптуры Мартос и прочие. Рисовать стал с детства, двенадцати лет поступил в художественную школу при Академии Художеств. Окончил ее в 1956 году. С 1957 года учился в Московском художественном институте имени Сурикова, который и окончил в 1962 году. Моим официальным учителем был профессор Евгений Кибрик, бывший ученик Филонова, гордившийся тем, что сжег все свои работы, сделанные в мастерской Филонова. В этом у меня, несомненно, есть общее с Кибриком – я тоже сжег свои работы, сделанные в мастерской Кибрика. В остальном не чувствую своей принадлежности ни к какой школе, ни к какому художнику. Мои единственные учителя – древние русские иконы. Мое творчество распадается на несколько периодов, связанных между собою только различными личными переживаниями: 1) период неоимпрессионизма и сезаннизма – 1954–1956 гг.; 2) период первых абстрактных композиций 1956–1959 гг.;
3) период мистического символизма – 1959–1963 гг; 4) период усиленного занятия графикой и линогравюрой – 1963–1967 гг. Сейчас вновь возвращаюсь к живописи, но об этом говорить еще рано – все еще впереди. Период мистического символизма считаю вполне очерченным человеческим явлением, обладающим цельной концепцией взглядов, представляющим интерес и для зрителей.
В Москве выставлялся на трех выставках молодых художников и на выставке, посвященной изображению памятников древнерусского искусства, в Манеже. За границей выставлялся в Польше (1985 г.) и в Париже (1965 г.). Основное направление приложения энергии в своем творчестве определить затрудняюсь: меня одинаково тянет к живописи, графике, рисунку и стиху, скульптуре, гравюре, драматургии. В изобразительном искусстве вижу один из выходов из одиночества.
1960-е гг.
Древнерусская иконопись и новое московское искусство
Древнерусская иконопись, открытая из-под почерневшей олифы в первых десятилетиях двадцатого века, сразу стала явлением колоссальным по своему значению. Совпадение открытия иконописи и появления русских авангардистов знаменательно и имеет внутреннюю, почти мистическую связь.
Действительно, огромные черные доски, веками коптившиеся чадом лампад, вдруг засияли драгоценными яркими цветами. Петербуржцы и москвичи, забывшие за двухсотлетний петербургский период, что Россия была когда-то страной духовного и пластического величия, были поражены цельной замкнутостью и духовной силой искусства своих непонятных им предков. Оказалось, что в исторически темном и глухом четырнадцатом веке, когда Русь была выжжена ордами Тохтамыша, возникло искусство более цельное и значимое, чем все то, что создавалось в России в течение последних пятисот лет. Правда, с самого начала раздались голоса о том, что это искусство не самостоятельно и все, что в нем имеет эстетическую ценность, заимствовано у Византии, но сами писавшие это, к своему большому разочарованию, не могли найти много примеров, подтверждающих правильность их гипотезы.
Действительно, влияние Византии создало искусство Киевской Руси и дало богатейший иконографический и сюжетный материал на столетия. Но уже с конца двенадцатого века русские иконописцы органически впитали в себя и переработали византийские традиции. С конца двенадцатого века Россия уже вполне самостоятельно развивала византийско-романский стиль. Причем развивала, в отличие от современной ей Европы, всячески сопротивляясь любым натуралистическим тенденциям. Романо-византийский стиль в Италии постепенно выродился в реалистическое искусство. Даже обособленная сиенская школа постепенно деградировала в готическо-натуралистическом направлении. Немецкий остро-ломкий готический стиль влиял и на чешскую иконопись, но здесь немецкие болезненно-натуралистические тенденции сталкивались со славянским мистицизмом, растворявшим их в своей отвлеченно-орнаментальной стихии. Одна только Россия семьсот лет была крепостью антинатуралистического искусства. Каким парадоксом звучит то, что во времена Рубенса, Ван-Дейка, Рембрандта в России создавали строго антиреалистические произведения, написанные по законам плоскостности и обратной перспективы. В этом эстетствующие мещане долго видели отсталую косность России, но эта традиционная вековая антиреалистичность вывела затем Запад на пути художественного авангарда. Роль допетровской Руси в борьбе с натурализмом не понята и не оценена так же, как и вековая борьба России против вечных азиатских проникновений и нашествий. О том, что эта борьба часто принимала крайне острые формы, говорят решения Стоглавого собора (XVI в.), направленные на сохранение византийских традиций и на борьбу с реалистическими тенденциями. Позднее, в семнадцатом веке, проникновение в Россию голландских реалистических традиций, называемых «фряжскими», русские художники расценивали как драму, как нарушение и поругание самой красоты. При патриархе Никоне (XVII в.) эта борьба приняла политический и общенациональный характер, закончившийся величайшей трагедией русского народа – расколом.
Русские семнадцатого века не признавали реалистических икон за произведения искусства и всячески боролись за традиционный стиль. Старообрядчество как мощное эстетическое национальное русское движение с семнадцатого по двадцатый век поддерживало и развивало византийские традиции в живописи. Вплоть до двадцатого века в России существовали старообрядческие иконописные мастерские, и далеко не случайно первым учителем Петрова-Водкина был иконописец-старообрядец. Русские иконописцы-старообрядцы предпочитали сжигать себя в скитах, чем видеть рядом с древней традиционной живописью натуралистически написанные иконы. В этом смысле опыт иконописца XVII в. Симона Ушакова, пытавшегося соединить старый стиль с голландским влиянием, интересен своей литературно-сюжетной стороной, в глубь пластики он не проник.
Ярославские фрески XVII-XVIII веков взяли от голландских гравюр и иллюстраций Библии Пискатора только сюжетную сторону, пластика осталась такой же условной. С начала петербургского периода традиционное условное искусство как бы уходит в духовное подполье. С этого времени надо разделять фрески и иконы на два направления: искусственно инспирируемое заказами Петербурга – в безжизненно натуралистическом направлении, и народное по духу – в условной иконописной манере. Причем традиционные произведения преобладали численно над реалистическими. Но все же долгие преследования и гонения привели к тому, что в середине девятнадцатого века иконопись частично потеряла прежнюю декоративность и эмоциональную силу, а школа «иконописного маньеризма девятнадцатого века» не была еще достаточно популярна. Поэтому раскрытие древних досок от почерневшей олифы было воспринято как новое открытие русского искусства. Чем же поразила современников древняя живопись? Прежде всего, отношением художника к объекту искусства. Русская икона – это не религиозная по тенденции католическая мадонна. Она нечто совершенно ей противоположное. Русская икона чужда и официальной восточнославянской церковности, приближаясь к ней только по иконографическому сюжету. Русская икона – это проявление религиозного отношения к самому процессу искусства. Иконопись есть концентрированнейшая из всего мирового искусства школа религии самого искусства. Мы знаем, что Андрей Рублев обожествлял процесс самой живописи, во время его пребывания в мастерской в Троице-Сергиевском монастыре прекращались все работы, и братия при колокольном звоне молилась о ниспослании успеха своему живописцу. Таких примеров мало в истории созданий живописных произведений. В формировании религии искусства сыграли и особые факторы русской жизни. Русские люди всегда жили в ужасных социальных и экономических условиях. Повальные моры, гигантские пожары, уничтожавшие целые города, вечные азиатские нашествия, бездарность государственного управления, массовые террористические акты правительства против населения (как, например, опричнина Ивана IV) и другие систематизированные потрясения всей жизни народа ставят Россию в особое положение в семье других европейских народов. К тому же православная церковь имела в России поверхностно-обрядовое влияние, она несла в себе слишком много язычества, и русские видели в своей церкви скорее националистическо-государственную формацию, чем духовно-религиозную общину. Именно мрак и страшные условия способствовали абсолютности акта творчества.
В русской иконописи ранних веков трудно найти тенденциозные проявления, вкусы церковных заказчиков очень слабо сказываются на характере творчества. Древние художники в те немногие мирные передышки между кровавыми погромами, которые давала им история, не пытались заниматься бытописательством или литературой в живописи. Русская иконопись лишена занимательности Дюрера и ювелирности Ван Дейков. Основное в ней – передать экстаз самого творчества. Религиозный канон – это канва, на которую набрасывается ткань свободной фантазии. В этом отличие русской иконописи от Византии и Сербии, где царство канона почти не нарушаемо. В свободности обращения с сюжетом к русской иконописи приближаются только два позднейших художника – Эль Греко и Франсиско Гойя. Кстати, эти художники не были жрецами натуры и управляемого творчества, а поклонялись неумолимой Астарте чисто художественного процесса.
Внутренняя раскованность русской иконописи, ее полная автономность от социальных, политических и теократических направлений приближает ее к нашему времени. Можно со всей смелостью утверждать, что древние иконы в России являются самыми современными произведениями. Новая московская школа авангарда стоит еще только на подходе к идентичному пониманию искусства.
В древней иконописи современных художников привлекает и сверхсовременное отношение к композиции – в ней нет центра, ядра композиции, вся поверхность доски одинаково важна для древнего мастера. Это в программированном творчестве лжехудожник разделяет процесс творчества на подготовку, на самое важное, главное событие, его выделение разными профессиональными приемами. Такой лжехудожник похож на лжемужчину, любящего в женщине только ее лицо или только ее бедра, все остальное для него аксессуары, дополняющее излюбленное. Для настоящей страсти нет самого важного, нет центра, важно абсолютно все, каждая пóра, каждый завиток волос и каждая пульсирующая жилка. Так и для иконописца лик Богородицы принципиально не отличается от перышек ангела или от складок одежды святого, часто даже незаметного на первый взгляд. Изображение всех предметов на одной пространственной плоскости, возведенное в принцип, исключало режиссуру живописцев-комедиантов, с ловкостью профессиональных шутов группировавших толпы наглых статистов вокруг главных лицедеев натуралистических трагикомедий, а отсутствие светотени не давало прибегать к выходкам режиссерских эффектов освещения. Для русских иконописцев детали композиции важны не менее, чем связь слов для Уайльда, Бодлера или Готье. Здесь аналогичное любование мельчайшими узелками Ея Величества «Формы». Сейчас я подхожу к изложению основного внутреннего конфликта русской и советской живописи: уникальная школа формы духа – иконописи и противостоящая ей школа субъективного и объективного натурализма, т.е. в России и в СССР были и есть два лагеря – непоколебимая рать иконописи и вооруженные всеми идеями века художники-натуралисты. Примирения между этими ратями никогда не было и быть не может. Между ними пролегла Непрядва[1]* России, ее особого пути в мир. Древняя иконопись, отмытая из-под олифы, заговорила с нами языком мощным и зовущим. Первым ее зовы услышал Врубель. Он первым приблизил ее к нам. Кандинский, Филонов, Шагал, Малевич подошли к иконописи еще ближе, сняли с нее еще одну пленку истории. Потом на нее вновь набросили покрывало натурализма, и вновь оно упало, и вновь мы увидели вечный лик русской иконописи. Достижения Врубеля, Кандинского, Филонова, Шагала для нас, современных советских художников, не в том, что они двинули европейское искусство двадцатого века, а в том, что их деятельность не противоречила иконописи, она создавалась по тем же законам. Я убежден, что в иконописи заложены величайшие принципы дальнейшего развития нового стиля русского и мирового искусства. Я позволяю себе так говорить о мировом искусстве, потому что в послеимпрессионистической Европе нельзя провести четкую грань между русским и европейским авангардизмом, как нельзя провести грани между русским и мировым балетом, между стилями Стравинского и новой музыкой. Иконопись для нас является эталоном духовной свободы художника, отсутствием голой тенденциозности и литературщины и знаменем борьбы с самыми различными видами натурализма. Если произведение не противоречит пластическим законам иконописи, значит, это произведение поднялось на ступень искусства, и от него можно идти дальше. И все-таки это значение иконописи для современной русской живописи было бы местным, чисто московским явлением, если бы русская иконопись оставалась всецело в рамках романо-византийского стиля, хотя бы даже преображенного древнерусскими мастерами. Но русская иконопись не только расцвела в рамках романо-византийского стиля, но и развила его до завершающего предела, создав залог становления нового стиля двадцатого века. Она была тем узким, но удивительно высоко поднятым над толпой акведуком, по которому до наших дней дотекла незамутненная вода Византии, обогащенная славянским нектаром экстаза.
Самое новое – это всего лишь возврат к более древнему и сильному. Кандинский и его современники смогли перешагнуть на триста лет назад, в глубь России, утолить жажду живой традиции и перешагнуть сразу через шестисотлетний период всех школ европейского иллюзорно-инфантильного натурализма. Они повернули искусство на новую прямую дорогу, выведя его из лабиринта темных комнат, где подсвеченный рембрандтовским светом и ренуаровскими рефлексами разыгрывался салонный фарс вместо великой пантеистической трагедии подлинного искусства. Мы, советские художники-авангардисты, пережившие за последнее десятилетие столько стилистических шатаний и колебаний, пришли к правильному и естественному пониманию иконописи сложным путем почти первооткрывателей уже открытого. Творчество Кандинского, Филонова, Шагала и др., не экспонировавшееся в наших музеях, было фактически нам незнакомо. Поэтому идти к иконописи через их уже открытые двери мы не могли. На многое намекнул Врубель – косноязычный титан, ежесекундно заикающийся модерном, говорил нам о подлинном духе Византии и иконописи. Врубель создавал свои картины в годы, когда иконопись была еще под черной олифой, он усвоил ее принципы, учась у византийских мозаик венецианского Святого Марка, но его славянский дух претворил увиденное в славянские формы. Опыт Врубеля, единично повторившего опыт всей русской иконописи в более позднюю эпоху, наглядно показал плодотворность этого пути. Петров-Водкин, гениальный, но нервный художник, шедший той же дорогой, стал экспонироваться в последние годы, когда фактически предыстория советского авангарда была уже окончена.
Нашим учителем стал художник пятнадцатого века Дионисий. У него мы учились постигать дух русской иконописи. То, что Дионисий, а не Рублев или Феофан Грек стал учителем советского авангардизма, закономерно. Рублев и Феофан Грек были неповторимыми мастерами, они дороги трепетом духа. Их пластика в духовной глубине, а Дионисий – это другая эпоха, его сила в показательной логике уже выработанных приемов. Росписи Дионисия в Ферапонтовом монастыре Вологодской области стали подлинной академией современного советского авангардизма. В 1958-1960 годах каждое лето, когда делались доступными грунтовые дороги, десятки молодых художников устремлялись в Ферапонтов монастырь. Их тяготение туда было похоже на весенний перелет птиц. Небольшое пространство древнего собора делалось похожим на мастерскую, все копировали фрески. Некоторые буквально, большинство интерпретировало. Богатство геометрических элементов, антилогичность пересечения овальных и горизонтальных композиций, ассонансные сочетания цветов ложились фундаментом будущей советской живописи на полотна современных учеников Дионисия. Внешнее стилизаторство было не страшно, слишком низко упала культура живописи и композиции. Бессмысленное повторение чужих слов может научить и глухонемого человеческой речи. Большинство молодых художников было именно в таком слепо-немо-глухорожденном положении. Другим детонатором потрясения натурализма была экспозиция картин из разогнанного музея новой французской живописи в Пушкинском музее. Здесь лучшая в Европе коллекция Гогенов демонстрировала в таитянских телах пластику романской Нормандии. Многие учились понимать иконопись через экзотически-монмартрские оранжевые очки Гогена. Как вы видите, пути постижения иконописи были различными и приносили самые разные результаты.
Об окончательных итогах говорить еще нельзя, большинство московских авангардистов только на подступах к творческой зрелости. Но решающее значение иконной традиции в творчестве московских художников новой волны очевидно. Художники-авангардисты приближаются сейчас к своему тридцатилетию, все они принадлежат к поколению, начавшему свой творческий путь в пятьдесят шестом году, все они шли своей одинокой дорогой сквозь нагромождения натурализма, и почти все они испытывали огонь встречи с искусством иконописи. Все они обожжены этим огнем. Зажженный же от этого огня не погаснет. Идеалом советских авангардистов является мечта экспонировать свои произведения на одних стенах с древними иконами и быть не менее современными, чем творения русских иконописцев четырнадцатого века.
1966 г.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
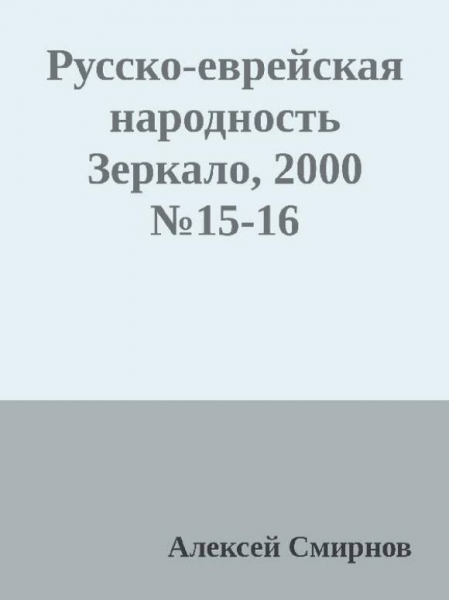

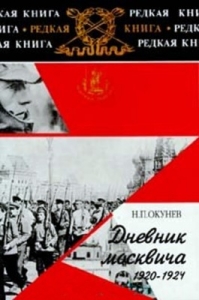
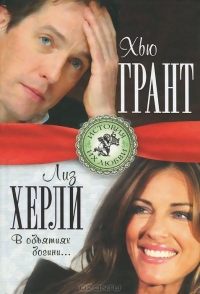


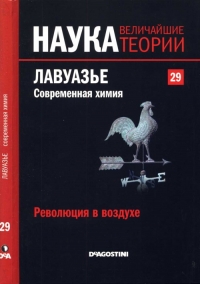
Комментарии к книге «Антология публикаций в журнале "Зеркало" 1999-2012», Алексей Глебович Смирнов
Всего 0 комментариев