AНДЖЕЙ ДРАВИЧ ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ
Максим Мальков
ОБ АНДЖЕЕ ДРАВИЧЕ И ЕГО КНИГЕ
Книга польского писателя, переводчика, критика, эссеиста, публициста, общественного деятеля Анджея Дравича (1932 – 1997) «Поцелуй на морозе» (1990), как подсказывает её название, посвящена любви. Любви к той демократической, свободолюбивой, восставшей против тоталитаризма и насилия России, которую открывал для себя (а потом и для других) в берутовской Польше молодой варшавский филологполонист, несмотря на старания властей вырастить его правоверным янычаром сталинщины и ждановщины. Национальный и собственный жизненный опыт позволил ему увидеть трагический контраст потухшего взгляда Маяковского и выдавленного из его горла «Хорошо!», картонного изобилия «Кубанских казаков» и возрожденного в советской деревне крепостничества. Свой выбор – выбор любимой им России Александра Герцена, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова, Андрея Платонова – Дравич сделал и благодаря своим русским друзьям, выразительные и психологически тонкие характеристики которых – главное в этой книге мемуарных очерков. Это создатель «нового и великолепного поэтического мира» Иосиф Бродский, друг Дравича с далекой ленинградской поры «полутора комнат», посвящавший ему затем шутливые польские и драматические англоязычные стихи (их беседы запечатлены в документальном фильме «С Бродским в сумерках»). Это сердечно близкие ему «приятели-москали» («Лица моих друзей»): «Вот крепкоскулый, с терпким чувством юмора, словно бы уже преждевременно «высунувшийся» на Запад «красный Хемингуэй» – Вася Аксёнов. Ослепительно улыбающийся, тогда черноволосый, а теперь седой Володя Войнович. Меланхоличный Жора Владимов, объясняющийся охотнее междометиями, чем словами, скрывающий интеллектуальную изощренность под внешностью портового грузчика… И сократовский лоб Дэзика Самойлова… Цветаевская чёлка Юнны Мориц и открывшая рот в бесконечной птичьей трели Белла Ахмадулина. И ещё столько других, кому я улыбаюсь…».
Упомянутый Дэзик (Давид) Самойлов, написав когда-то:
«И только мужество и нежность От пустоты спасают нас…»,словно специально обозначил главные признаки повествовательной манеры автора «Поцелуя на морозе»: «…Из всех русских женщин (кроме одной, на которой я женился) всего дороже для меня старушки. С морщинистыми лицами, дряблой кожей, редкими волосами, астматическим дыханием, шаркающей походкой. Согбенные под тяжестью креста русской судьбы, они несут дальше драгоценную память об усопших. Я склоняюсь, как прежде, к их рукам и целую их, как реликвии » («Иметь хорошую вдову…»).
«Выдавливать из себя раба» польскому русисту помогло в первую очередь чтение тех книг, которые в 5-й или 6-й копии «самиздата» портили зрение, но будоражили ум и совесть: «Ночные и дневные часы, проведённые за чтением таких книг, как «Всё течёт» Гроссмана, «Раковый корпус» и «В круге первом» Солженицына, «Чевенгур» Платонова, «Воспоминания» Надежды Мандельштам, были неповторимым временем эмоциональных и духовных потрясений. Я вставал, пошатываясь, от письменного стола, мир вокруг меня ходил ходуном и давил свинцовой тяжестью, в голове шумели бессонница и пляска мыслей, лопались, как мыльные пузыри, остатки иллюзий… Мне тогда оказали доверие. Россия подарила мне лучшую часть себя… Это доверие я буду оплачивать в течение всего того времени, что у меня осталось…»
Анджей Дравич выполнил своё обещание – его переводы книг М. Булгакова («Мастер и Маргарита», «Роковые яйца», «Записки на манжетах» и пр.; монография «Мастер и Дьявол» – 1987, на англ. – 2001), А. Платонова («Котлован»), Г. Владимова («Верный Руслан»), В. Быкова («Сотников»), Вен. Ерофеева («Москва-Петушки»), Б. Окуджавы, И. Бродского и др. сделали достоянием польской и международной аудитории те произведения нашей литературы, которые всколыхнули сознание общества и обрекли на поражение реваншистский путч 1991 года.
С автором этой книги можно соглашаться или нет, но неоспоримы благородство и значение поставленной им перед собой цели – «Моим стремлением было пробиться к чуть большему пониманию между Польшей и Россией. Или, скорее – к чуть меньшему непониманию… Я знаю лишь, что мы обречены друг на друга, а что с этим приговором судьбы сделаем, зависит и от них, и от нас – поляков… Вместе размышляя о нашем общем будущем, постараемся быть лучше и мудрее, чем люди, действия которых продиктованы саднящими обидами прошлого».
Анджей Дравич ушёл из жизни в день рождения своего любимого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (15 мая). Булгаковскую главу «Поцелуя на морозе» он заканчивает словами прощания с могилой автора «Белой гвардии» на Новодевичьем кладбище: «Я уходил, чтобы вернуться. Уходя, оставался».
Важно, чтобы теперь, уйдя навсегда, он оставался с нами…
Моей жене Вере
ОТ АВТОРА
«Россия!
Ты вся – поцелуй на морозе!»
В. ХлебниковВсе началось с самой банальной констатации: время уходит, мое поколение стареет. А из этого следовало, что людям более молодым, с которыми постоянно приходилось иметь дело, изрядная часть моей жизни не была дана «ни в каких ощущениях». А уж жизни русской – вдвойне, по причине ее непохожести, экзотичности. Рассказы о ней слушали как сказку о железном волке.
Это особенно поразило меня в пору вынужденной изоляции, когда в 1982 году нас «интернировали». Тогда мы имели довольно времени для бесед и обмена мнениями. Одновременно в атмосфере ощущалась неуверенность во всем, во многом связанная со страшным и гротесковым, дряхлеющим режимом брежневщины. Я понял, что не одному из моих коллег мрачный, хотя и потрескавшийся фасад империи заслоняет всё. Когда они слышали, что там еще что-то есть, искренне удивлялись: там? в самом деле? Конечно, уже знали о диссидентах, нелегально распространялись книги Солженицына, Буковского, Надежды Мандельштам. Кое на что можно было опереться. Но тем более укреплялось мнение, что всё гуманное в России сохранялось лишь в виде героических личностей, в лагерях, в изгнании, в глубокой изоляции. Остальное представлялось выжженной землей. Для понимания ее рядовых жителей не находили простейших ключей. Литературу официальную, традиционным для нас образом, недооценивали, хотя и в ней тогда были островки горькой и глубокой правды – у Шукшина, Абрамова, Распутина, Трифонова. Именно Трифоновым я прокладывал себе дорогу, подсовывая скептикам «Дом на набережной». Помогало. Просили дать еще что-нибудь. Но проблема полной неосведомленности вырисовывалась тем отчетливее.
Тут я подумал: надо эту мою Россию описать, другого выхода нет. Как сумею. Может, это пригодится.
Существовал еще один повод, коренившийся в более отдаленном прошлом. С пониманием, но и с раздражением следил я за тем, как борются с трудностями русской темы соотечественники, публикующиеся в официальной печати. Они были сдавлены клещами обостренной цензуры – почти неодолимой. Их маршруты совершались по заранее утвержденным программам и под тщательным присмотром. Некоторым удавалось отскакивать в сторону; они прилагали огромные усилия, чтобы что-то вложить между строк, высказаться небанально, намекнуть на нечто важное. Я знал, как отчаянно боролись за это даже очень хорошие и отточенные перья. Эффект же представлялся мне половинчатым. Несмотря на всю изобретательность и хитрость литераторов, описанная действительность соотносилась с подлинной, жесткой фактурой русской жизни, как европейская сладковатая горчица с той «Московской», что была на столах рюмочных и закусочных в СССР. А некоторые из пишущих, уже без всякой душевной борьбы, ограничивались точной информацией: как ехали, где их поселили, что было на завтрак, в Эрмитаже – замечательные картины, а на Кавказе – пейзажи… Это также был способ представления темы, но я не собирался им пользоваться; кроме всего прочего, мне не хватило бы тут самоуверенности.
Признаюсь здесь честно: в свое время я сам пописывал разные путевые очерки, скажем, для журнала «Литература». Теперь я перечитал их. Нет. Не то. Вроде бы даже, всё правда, но читать трудно. Во всем этом есть какая-то ложная бравада, какие-то «притопы», которых в измученной, заезженной, тяжело переводящей дух России нет. Подумалось: надо еще раз, с самого начала, без цензуры, всё как есть. Из тех давних текстов привожу здесь только один, без особых «притопов», как образчик непосредственного, репортажного видения жизни.
Эту книгу я писал в течение трех летних сезонов: 1986, 87 и 88. Тем временем моя Россия шевельнулась, начала отряхиваться, осознавать бедственность своего положения, очеловечиваться. Возникла новая перспектива для воспоминаний о прошлом. Этой перспективой – хочешь – не хочешь – пользуешься, но я стараюсь отчетливо разграничивать во времени то, что знал и чего дознался многие годы назад, от того, что думал позднее и знаю теперь. Хотя характеризуемая «материя» по своей сути подвижна, текуча, а последние, перестроечные события заставляют уже несколько иначе видеть то, что еще годомдвумя раньше представлялось застывшим и неколебимым. Насколько всё это вместе будет выглядеть достоверно, не мне судить. Я мог сделать одно – прежде всего старался не лгать.
Предметом размышлений является Россия, воспринимаемая, впрочем, и как преобладающая часть многонационального целого. Об этой, более широкой перспективе я стараюсь помнить. Тут и там предпринимаются эскапады за пределы России как таковой. Не могу отважиться писать на сей счет обширнее, поскольку для этого мне не хватает знаний и опыта, а не хотелось бы никого обижать поверхностностью суждений, верхоглядством. Касающиеся этого объяснения содержит очерк «Грузия как форма».
Основной корпус текстов относится к 1963 – 1976 годам, когда ездить в Союз – как официальным, так и частным образом – удавалось регулярно. Три заключительных очерка посвящены ситуации осени 1987 года, когда я вновь оказался в России после двенадцатилетнего перерыва. Эти материалы были опубликованы в еженедельнике «Тыгодник Повшехны» со следами некоторого вмешательства цензуры, обозначенными курсивом. Большинство остальных текстов оглашалось в независимой и эмигрантской периодике.
Название книги я одолжил у Велимира Хлебникова, прозванного Великим Дервишем русской поэзии, эпика, лирика, визионера, создателя новых масштабов мира, который до этих масштабов всё никак не может дорасти. О Хлебникове говорят, что у него были признаки гения, хотя это, понятно, недоказуемо. Если бы, однако, в подтверждение этого тезиса существовала только использованная мной метафора, думаю, было бы о чем дискутировать. Это определение России представляется мне всеохватывающим – надо только не объяснять его, а смотреть в него как в бездонный колодец.
Если кто-нибудь, читая эту книгу, подумает о русских несколько иначе, чем прежде, как бы в духе мицкевичевского высказывания «И немцы тоже люди», а еще – по прочтении станет порой отделять «русское» от «советского», свою программу-минимум я буду считать выполненной. Программа же максимум предусматривает дальнейшее развитие этих мотивов. Воспользуюсь цитатой из Александра Герцена, возможно, самого мудрого русского всех времен, который в книге «Былое и думы» описывал свои дружеские контакты с пермской колонией польских ссыльных. Так вот однажды, пишет Герцен, «…закоренелый сармат, уже пожилой человек, служивший под началом Понятовского и участвовавший в наполеоновских кампаниях, получил … разрешение властей вернуться в свое литовское имение. Накануне отъезда он пригласил меня вместе с группой поляков к себе на обед. После трапезы он чокнулся со мной бокалом, горячо обнял меня, после чего прошептал мне на ухо с откровенностью военного: «Ах, ну почему же вы – русский?». Я не ответил, но слова эти глубоко ранили меня…» – и здесь стоит фраза, достойная – в своей лапидарной и безошибочной глубине смысла – метафоры Хлебникова:
«Я понял, что это поколение не могло принести Польше свободу».
Что до меня, очень хотел бы еще немного пожить в свободной Польше, чего и всем вам от души желаю.
Анджей Дравич, Варшава, август 1988 г.
КАК ДО ВСЕГО ЭТОГО ДОШЛО
Попробую сначала объяснить, как и откуда взялась в моей биографии Россия.
Об этом спрашивают при разных встречах, причем глаза интересующегося обычно выражают доброжелательное сочувствие и готовность извинения. Прекрасно понимаю эти взгляды. Они скрывают в себе убеждение, что выбор профессии русиста – это Божье попущение или даже извращение: мол, вмешалась в дело суровая судьба, случилось какое-то несчастье, может, некий зов крови затмил разум. Разумеется, думает собеседник, у него есть какие-то смягчающие обстоятельства: родился в приграничной области, заработал срок советской ссылки, возможно, после войны несколько лет учился или работал там.
Так вот, должен признаться: ни одно из названных обстоятельств ко мне не имеет отношения. Я – родовитый варшавянин, вдобавок – по отцу – с жешувскими корнями. С Гулагом соприкоснулся только в детстве. Образование получил в Варшаве, к тому же это была полонистика. Во взрослую пору никогда не жил в Союзе больше шести недель подряд. За выбор профессии отвечаю сам, сделал его довольно поздно, около тридцати, сознательно и добровольно. Однако повторяю: эти взгляды мне понятны. Возможно, какое-то отклонение от нормы в моем случае и имеет место. Подобно братьям-полякам, разве что с меньшей доброжелательностью, посматривали на меня россияне, когда, заключив знакомство, при обмене обычной в таких случаях информацией узнавали, что я занимаюсь – по собственному выбору! – современной русской литературой. Если до этого мгновения я мог казаться им симпатичным и относительно нормальным, то тут начинались сомнения. Ведь примите во внимание, что целые поколения отечественных русистов по мере сил старались (и стараются) уйти от современности, наиболее отягощенной советской идеологией и догмами интерпретации. Кто умнее и талантливее – уходит в историю, к классикам (исключения не меняют правила), в теорию литературы, языкознание, куда придется. А этот поляк сам? добровольно? Зачем это ему нужно? Кто же он тогда? Неизлечимый идиот или редкий прохиндей?
Тем, русским знакомым, мне уже этого не объяснить, а своим теперь попробую. Впервые я столкнулся с Россией в 1939 году. Это была, безусловно, Советская[1] Россия, которая вторглась на нашу тогдашнюю восточную территорию.
Нас, беженцев из Варшавы, она настигла на Волыни. Отца арестовали, посадили в Луцке в тюрьму и там же, вероятнее всего, ликвидировали после начала войны с Германией. В то время проводились массовые расстрелы в тюрьмах пограничных областей, о чем с явным пропагандистским удовольствием сообщал оккупационный «Новый Курьер Варшавский». Помню страшные фотографии – горы трупов, а также вторящие им репортажи ; этого, впрочем, не принимали за добрую монету – дескать, гитлеровская пропаганда.. (Теперь я думаю: те, что лучше знали большевиков, принимали, но до меня – мальца истина не доходила). Мы с мамой бежали в феврале 1940 года, суровой зимой, перед официально объявленной депортацией (ее вызвали в НКВД и велели подписать заявление, что она добровольно соглашается выехать «в глубь России». «А если я не подпишу?» – спросила она. «Всё равно поедете, только будет хуже». Подписала, и в ту же ночь мы пустились в бегство. Этого русского урока я также, понятно, тогда не усвоил) – через Буг, в Генеральную Губернию. Из пережитого запомнился панический страх перед русскими, когда они ворвались танковым рейдом в Ченстохов в январе 1945 года: должно быть, отозвались воспоминания о тех февральских скитаниях по каким-то обледеневшим железнодорожным станциям, переездах, спрятавшись в крестьянских фурах, выжиданиях в сараях – пока пройдет патруль, безнадежного блуждания в сугробах над Бугом вместе с радостью поутру при виде немцев – равнодушнодоброжелательных, учтивых и спокойных. Тем временем оказалось, что этот почти уланский по духу танковый десант Советов – практически ровно пять лет спустя – спас нас вместе со всем Ченстоховом. Потом говорили, что немцы планировали крупную эвакуационно-репрессивную операцию и ясногурский монастырь был заминирован, с той поры часто вспоминается и это: солнечный морозный день, смрад гари и заживо сгоревших танкистов на черных остовах «тридцатьчетверок», застывших на ченстоховских улицах, а также тот воздух, который-что тут скрывать – был напоен свободой, какой бы она поздней ни оказалась; я знаю этот запах и не спутаю его ни с каким другим… Справедливый, личный итог включает и те, и другие воспоминания.
Те из молодых, что – по праву – стремятся собрать психологическую документацию иллюзий и ошибок моего и более старых поколений в эпоху сталинизма, чтобы понять, как мы могли купиться на топорную польско-советскую пропаганду, должны принять во внимание и еще один фактор. Элементарный, до боли, сводящей скулы, до оскомины мучающий духовный голод тринадцатилетнего подростка, который в сорок пятом дорвался после шестилетнего поста до кино! Мы упивались им по несколько часов в день, смотря, что придется, а приходилось смотреть почти исключительно польские довоенные комедии и разные советские ленты того времени. Это были непритязательные фильмы, в основном легкого жанра, сдобренные мелодиями Дунаевского, Милютина и им подобных, которые до сего времени, наверное, вспоминаются моим ровесникам, вроде, скажем, такой: «Хорошо на московском просторе, светят звезды Кремля в вышине, и как реки сливаются в море, так встречаются люди в Москве!…» из картины «Свинарка и пастух», которую я смотрел, помню, четыре раза подряд. Я не стал бы переоценивать, глядя из нынешней перспективы, воздействие этой индоктринации, поскольку мы ни о чем не задумывались и трактовали всё как сказку. Но, может быть, что-то из этих сентиментально-мелодичных картин осело в подкорке сознания, облегчая будущие доверительные признания в кругу русских?… Конечно, это являлось какой-то изоляционной лентой для мозга, так как вокруг шла грубая и жестокая жизнь, продолжались аресты, некоторые возвращались из лагерей и могли прокомментировать подлинные судьбы свинарок и пастухов. Однако для того, чтобы слышать, надо было иметь уши. У меня их не было, брали верх законы щенячьего возраста: в конце войны завершился тринадцатый год моей жизни.
За голодом киновпечатлений шел и сосущий читательский голод. Во время оккупации книги попадались всё старые, довоенные, плюс несколько нелегальных изданий, передачей которых мне оказали доверие друзья. После такого поста хотелось чего угодно, лишь бы нового. Это тоже была почва для любого зерна. К ужасу матери я глотал какие-то пропагандистские брошюры, жадно разглядывал витрины ченстоховских книжных магазинов. Одно впечатление осталось в памяти навсегда. С обложки дешевого издания на меня смотрел исподлобья человек с заложенными назад руками и выдвинутым подбородком. Он выглядел затравленным зверем, а крупная надпись крикливо гласила: «Хорошо!». Я стоял, смотрел и не мог разобраться в этом противоречии слова и изображения. Оно долго беспокоило меня, хотя смысл его уяснить не давалось. Может, внимание приковал именно этот мрачный взгляд Маяковского? («Ксёнжка» или «Ведза», тогда еще отдельные издательства, выпустила его поэму в переводе Артура Сандауэра с поздней, едва ли не последней фотографией поэта на открытии собственной выставки, вынесенной на обложку. Он и вправду был тогда затравлен, а противоречие заглавия и картинки, действительно, являлось значащим; впрочем, об этом я узнал гораздо позже). Попался на крючок, потянуло, уже не смог освободиться?
Не знаю, духовный мир – область слишком сложная. Если даже я оказался на невидимой жилке, то подсечь удочку судьба не торопилась еще в течение нескольких лет. Вплоть до университетской поры. С трудом (скверная биография с расстрелянным отцом) удалось всё же попасть на полонистику. Это был пятидесятый год, идеология ЗМП[2] отрывала уже нас от жизни. В соответствии с ее канонами все советское – самое передовое, а потому достойное подражания и, вдобавок, исторически неизбежное. Эта неизбежность коллективно пережевывалась, заставляя размышлять, когда наступит наш черед вести раскулачивание и массовую коллективизацию в деревне (выходило – где-то в пятьдесят шестом…). Любовь к СССР – абсолютно абстрактному, лишенному каких бы то ни было конкретных черт, никому не ведомому (кто знал, тот держал рот на замке), но посылающему нам издали ясный свет путеводной звезды, была элементом ритуала; мои ровесники помнят, конечно, характеристики тех дней, в которых заключительная фраза неизменно звучала: «Тесно связан с нашей идеологией, отношение к СССР положительное». Так вышло, что, став студентом, первые шаги я сделал, направившись на факультатив Леона Гомолицкого о Маяковском. Это была адова скучища, и теперь я понимаю, почему. Год был очень скверный, наступил после жуткого и предварял два, что оказались еще хуже. Бывший русский эмигрант, Гомолицкий наверняка проводил беспокойные ночи. Возможно, он старался этой лекцией заработать идеологическое алиби. Помню, как он бросал на немногих собравшихся слушателей короткие и настороженные взгляды, точно испуганная курица, и как медленно цедил слова, воспроизводившие возможно буквальнее самые тривиальные советские оценки. Для разговора о Маяковском момент был наихудший из возможных: как раз тогда, когда минуло двадцать лет после его кончины, поэта умертвили окончательно, пробив осиновым колом ортодоксии, чтобы уже не встал, и бедный лектор двигался по теме, как по льду или трясине, должно быть, гадая про себя, кто из нас донесет про его идеологические шатания. Но у нас и в мыслях этого не было, тупо уставившись на него, мы сонно внимали его патетически-усыпляющим речам и, кажется, до конца семестра не досидели; сонливость превозмогла чувство долга.
А мое пребывание на крючке, однако, продолжалось. Я начал самостоятельно вгрызаться в тексты хмурого человека с обложки дешевого издания, но в них почти ничего не понимал. Русскому языку до этого я не обучался, но любовь к Союзу заставляла нас самих стараться усваивать простые тексты. Эти, как оказалось, вовсе не были простыми. Лишь потом я узнал, как Маяковский измывался над официальным русским языком, изгибая и напрягая его до предела сопротивляемости материала, и что читать этого поэта следовало гораздо позднее – после многих других, как раз простых. Но те интересовали меня значительно меньше. Правда, я стал покупать глянцевые томики Гослитиздата – тогда начали выпускать серию стихотворцев эпохи позднего сталинизма с рисованными портретами авторов на обложке. Это стоило гроши, но, по правде говоря, не стоило и этого, так как публиковались либо обычные скверные стихи послушных графоманов, либо старательно подобранные худшие стихи поэтов хороших и неплохих. Соблюдалось равнение на дно, на самые слабые стихи в духе того мрачного времени. Поэтому, хотя их я понимал, но читал без всякого удовольствия, то и дело возвращаясь к загадкам «лесенки» хмурого поэта. Исключением был Степан Щипачев, нормальным человеческим голосом жаловавшийся на невзгоды сердца, советский Гейне для бедных. А поскольку даже самых закоренелых самоубийц собственных характеров и вкусов – таких именно, как мы, готовившихся стать янычарами режима, милосердная природа стремится спасти от гибели, подсовывая им в утешение хоть немного лучшее – мы полюбили этого Щипачева, значительно завышая степень его талантливости. Недаром у Витека Домбровского (его «Год рождения 33» верно характеризует сознание нашей среды) какой-то идеальный – польский или русский – солдатик хранит в ранце «фотографию и томик Щипачева». Даже девушкам на свиданиях мы пробовали его декламировать, используя эти стихи как элегантный и идеологически верный субститут, изящное иносказание скрываемых во имя мужской сдержанности чувств, но девушки – как правило, более трезвые натуры и – в особенности те, что покрасивее – с менее «запудренными» мозгами – только пренебрежительно прыскали в ответ. Но всё же в моей душе остался сентимент по отношению к сентиментальному поэту: все томики из этой серии сталинских классиков я выбросил, а его оставил и временами эту книжку листаю, улыбаясь своим воспоминаниям: времена были паршивые, но мы-то молодые…
Маленькое отступление: годы спустя «друзья-москали» расскажут Щипачеву, всеми любимому, довольно энергичному старичку – «Стёпочке», как он – сам того не ведая – спасал молодых поляков от поэтического «несварения желудка», каким грозили им Софронов с Грибачевым. Он растрогался, передал привет и приглашение – обязательно приезжайте, посидим-потолкуем. Стыжусь – все время возникали более важные встречи, прежний кумир уже не так привлекал, откладывал визит к нему на потом, вплоть до той поры, когда перестал ездить, а он скончался. Моя вина! А я ведь мог ему, старому лирику, которого обошла прыткая молодежь, хоть теперь, уже на отлете, попробовать отплатить за прошлое, и было бы изящное завершение этого сюжета воспоминаний… Пусть его тень сопровождает благодарная человеческая память.
Кроме этого мы были окружены русским (в основном, советским) творчеством скверного или еще худшего свойства. Конечно, выпускали и классиков, но таких, как я, влекло к современности. Как раз начал выходить журнал «Советская литература», верный канонам соцреализма. Мы читали «Далеко от Москвы» Ажаева, как потом оказалось, обычного зека, только что выпущенного из лагеря, который изо дня на день всё стремительнее въезжал на этой книге на высший официальный Парнас, что ознаменовалось Сталинской премией. Он прибегнул к простому, так сказать – оптическому, приему: описал мужественных строителей прокладываемого в тайге трубопровода, установив свой авторский объектив так, чтобы не было видно вокруг проволоки, сторожевых вышек и охранников с псами. Правда, поскольку милость фортуны, похоже, не вызвала у него «головокружения от успехов», он жил тихо, возможно, зная, что в конце сороковых многих освобожденных сажали заново (отсюда определение «повторники»), или просто наученный пониманию абсолютной относительности всего происходящего. Мы читали «Кавалера Золотой Звезды» Бабаевского с картинами немыслимого колхозного изобилия, когда деревня почти вымирала с голоду. Во всех студенческих группах вменялось провести обсуждение «Студентов», произведения совсем еще молодого автора, но также уже лауреата. Ничего удивительного – это был беллетризированный инструктаж по разоблачению идеологически враждебной профессуры, и молодой человек долгие годы горбился под бременем этой ошибки юных лет, покуда достойно не искупил ее. Звали его Юрий Трифонов. Позднесталинскую прозу пышно иллюстрировали снятые по ней фильмы. В памяти остались лишь немыслимые сочетания ярких цветов, неестественность интонаций, разухабистые – с «притопами» – «народные» персонажи и сцены колхозных пиров с ломящимися от преизбытка еды столами. Этому всегда сопутствовали песни, которые мы охотно пели при любой оказии, поскольку они легко западали в уши. Недавно я с пониманием и сочувствием прочитал умное эмигрантское исследование о том, каким пропагандистским успехом властей было создание в тридцатых-сороковых годах своего рода «второй действительности» в виде массовых песен, мир которых был прямо противоположен реальности и именно так – на правах субститута и самообмана – функционировал, а потому многие из тех, что проводили бессонные ночи, ожидая ареста, днем самым искренним образом распевали: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Я лично думаю, что чем хуже времена, тем песни, которые поощряет власть, звучат энергичней и веселей. В соответствии с этим положением тогда, во времена Сталина и Берута, отовсюду слышались динамичные марши, один зажигательнее другого.
Так все это гармонично уравновешивалось. Те, что догадывались о творящемся зле или, по крайней мере, испытывали некоторые сомнения, вели мучительно раздвоенную психическую жизнь; мы же (используя множественное число, я имею в виду большую часть ровесников-студентов) пребывали в комфорте гармоничного единства мыслей и чувств. Мы действительно любили Старшего Брата. Это было значительно опаснее, чем двуличие, ставшее результатом осмысления ситуации и выбора. Мы же ощущали себя избранниками, что предполагало особый род слепоты и глухоты. Верьте или нет, но я доселе помню изумление, вызванное одним из более удачных прозаических произведений, опубликованных «Советской литературой». Это был роман Веры Пановой «Ясный берег», где, в частности, фигурировал мотив супружеской измены. «Как это? При социализме? У советских людей?» – поражался я. Вокруг было немало людей, которые знали всё, но мы к ним с вопросами не обращались, полагая, что знаем достаточно сами. Действительность мы воспринимали так, чтобы она подтверждала наши представления, а то, что их не подтверждало, не замечалось. Поступать так совсем не трудно, ручаюсь.
Вот характерное приключение двадцатилетнего юнца. В конце 1952 года в журнале «Новый мир» был напечатан большой военный роман Василия Гроссмана «За правое дело» (восемь лет спустя КГБ арестовал его вторую часть, написанную уже без вмешательства внутренней цензуры – «Жизнь и судьба», сейчас эта книга делает фурор на Западе). Тогда я уже регулярно читал литературную прессу соседей, иногда сообщал о прочитанном в маленьких заметках, где с удовлетворением отмечалось, что удалось разоблачить того и сего, а это служит очевидным доказательством успешной работы социалистической критики и самокритики. О романе Гроссмана еженедельник «Нова Культура» заказал мне настоящую, нормальную рецензию. Книга эта – для своего времени, впрочем, действительно очень приличная – страшно мне понравилась, что я и выразил словами искренними, не слишком складными и исполненными пафоса. Рецензию опубликовали. А несколько недель спустя я пережил шок: на страницах центральной советской печати Гроссмана (прежде хвалимого) стали поносить во всю за серьезные идеологические ошибки и враждебную философию, проникнутую – да! да! – «пифагорейством». Никто меня, правда, публично не осудил – должно быть потому, что я был слишком мелкой сошкой, а ответственные товарищи достаточно хорошо знали непредсказуемость советских погромов. Я же наедине с собой вел жестокий разговор. «Дерьмо ты, Дравич, а не марксистский критик, если не смог вскрыть идеологические заблуждения! Где твоя бдительность? Где знание теории? Как ты мог не заметить пифагорейства?» – так бы я передал суть этого самоистязания. Мне не дано было тогда знать, что являлось истинной виной Гроссмана : он был большим писателем, честным человеком, а прежде всего – евреем. Его выбрали главной среди писателей жертвой после инспирированного дела еврейских врачей, «убийц в белых халатах», которое – по сталинскому замыслу – служило прологом к советской версии «окончательного решения» еврейского вопроса: процесс врачей, их «всенародное» линчевание, депортация евреев в лагеря, расположенные в северном Казахстане. А откуда пифагорейство? Просто: Гроссмана уже однажды били, правда, не так свирепо, вскоре после войны, за пьесу «Если верить пифагорейцам», где он выразил мысль, что в условиях нового общественного строя люди мало изменились – особенно карьеристы и конъюнктурщики, которых вовсе не стало меньше, чем прежде. Это и заставляло вспомнить учение Пифагора, утверждавшего, якобы, что история повторяется – отсюда и меланхолическое название произведения. Погромная критика обожала этикетки, особенно иностранного звучания, их беспрестанно, до полного отупения повторяли при любой оказии. На этот раз даже не пришлось напрягаться и выдумывать термин.
Василий Гроссман
Сразу после описанной истории умер Сталин, и последняя великая провокация, не осуществившись, почила вместе с ним. Спустя годы в «Архипелаге» у Солженицына я нашел описание момента, когда эта весть дошла до лагерей. Всё в нерешительности замерло: всеобщее отождествление тирана с системой концлагерей было столь явным, что заключенных в течение трех дней не гнали на работы, не зная, что будет дальше, а зеки радостно перекрикивались, сообщая от барака до барака: «Людоед сдох!». А мы? Мы примерно тогда же собрались в университетском Колонном зале на торжественнотраурном заседании. У меня и сейчас звучат в ушах рыдания девушек (мужчины героически сдерживали слезы, но судорожно глотали слюну); когда же в художественной части вечера мой приятель В.К. как крик сердца огласил посвященный Сталину поэтический монтаж (тогда еще не было принято название «монодрама»), закончив его срывающимся от волнения на фальцет возгласом: «Ведь Сталин – это жизнь, а жизнь вечна!», зал сотрясли единодушные, очищающие душу спазмы коллективного отчаяния.
Так было.
Потом начали появляться вестники какой-то новой поры, но они с трудом прокладывали себе путь к нашему янычарскому сознанию. Очередной пример. Летом пятьдесят третьего наступил конец Берии. Мы как раз сдавали офицерские экзамены в летнем лагере. Преподаватели были доброжелательны, ученики искренне старались заслужить погоны, и всё шло неплохо, к концу срока напряжение спало. Один из политруков, под руководством которого я идеологически подковывался, решив сделать атмосферу и вовсе доверительной, вдруг спросил меня: «А как вы оцениваете, товарищ Дравич, последние события, касающиеся Берии?». Я тупо уставился на него. «Ну, вы помните, наверно, дело врачей-евреев?». Я, конечно, помнил. «А вам не кажется, что тут может быть связь – между тем делом и этим?» Мое отупение усугубилось. Лицо Берии, знакомое по официальным снимкам, всегда казалось мне семитским по своим чертам (в действительности он был грузином, а говоря точнее – мингрелом). Тогда врачи… Теперь он… Тогда он евреев?… Теперь его, еврея?… Откашлявшись, я произнес деревянным голосом: «Не знаю. У нас еще не было официальных выступлений по этому поводу». Доброжелательная улыбка покинула лицо офицера: «Ну да, верно. Спасибо, вы свободны». Единственное, что могу сказать в свое оправдание: это случилось со мной один-единственный раз и сопровождалось глубоким отвращением к себе, грешить, правда, мне приходилось немало и позже, но я уже никогда больше не ссылался на отсутствие официальных оценок. Может быть, каким-нибудь чудом тот офицер прочтет эти строки? Тогда пусть знает, что его экзамен кое-чему меня научил. Прошу простить меня тогдашнего, давний товарищ.
Перевод железнодорожной стрелки на новые пути осуществлялся потихоньку, но всё же уже год спустя «Оттепель» Эренбурга стала сенсацией сезона. О ней знали даже закоренелые снобы, она была модной темой разговоров в салонах той поры, чего прежде с советскими книгами не случалось. Одна молодая девушка – завсегдатай этих салонов – прибежала ко мне с неотложным делом – подробно рассказать ей сюжет повести. Очевидно, без этого она не могла появиться в обществе. Я испытывал искушение сымпровизировать какую-нибудь чушь, но стало жаль девушку – еще вытурят из привычной компании… Надеюсь, она блеснула эрудицией.
Чуть позднее мое образование значительно пополнилось благодаря З. Его фамилию я впервые услышал в первые университетские годы, произносимую довольно таинственно и с оттенком смущения: «Есть такой З. Вернулся после нескольких лет пребывания в Советском Союзе, работал в посольстве. Представь себе – редкий эрудит и абсолютный циник. Удивительный тип! Ничего не хочет делать. Лежит на диване. Его интересуют только дамы и бридж». Когда мы познакомились, З. дал мне намеками понять, что в течение своего советского стажа работы увидел достаточно много, чтобы теперь руководствоваться принципами невмешательства и наплевательства. Но эрудитом он был действительно, знал массу такого, о чем мы и не подозревали, и охотно, хоть и по капельке, делился с нами этими знаниями. Мы гуляли с ним по вечерним мазовецким дорогам, когда он произнес фамилию – «Заболоцкий». У меня она рождала лишь ассоциации с какой-то газетной руганью по поводу идейных шатаний или формализма. «Это тот украинец, националист?» З. скривил губы, поднял бровь: «Нет, то Сосюра. А это русский. Замечательный поэт. Вот послушайте: Меркнут знаки Зодиака над просторами полей, спит животное Собака, дремлет птица Воробей…» Я прослушал «Знаки Зодиака», и звездная мазурская ночь ходуном заходила над моей головой. Потом прозвучало – «Цветаева». А тут уж ничего, никаких, даже самых отдаленных ассоциаций, чистая загадка и особая тональность этих звуков, шелест первых согласных – цветистость… Ранний Пастернак: Перегородок тонкоребрость пройду насквозь, пройду как свет, пройду как образ входит в образ и как предмет сечет предмет… У меня дух захватило. Пастернака З. знал лично. А в своем доме имел застекленный библиотечный шкафчик с сокровищами, собранными сразу после войны, когда к букинистам стали попадать книги умерших в блокаду ленинградцев. Первые томики Мандельштама, Цветаевой, Пастернака, Ахматовой. Официальные издания, которые в результате сталинской практики ампутирования народу памяти и вычеркивания из нее целых периодов истории сделались раритетами и диковинами. Я взирал на них с благоговейным восторгом. З. книг никому не одалживал, но позволял их смотреть и листать; мне и этого было достаточно. Сам он, похоже, не снимал их с полки: его удовлетворял сам факт обладания таким собранием. В те времена – без эмигрантских изданий, без сам-издата, без советских официальных публикаций более поздней поры, пусть и урезанных цензурой – это было неслыханным богатством. Но З. им практически не пользовался, сокровища томились за стеклом, рождая грустные ассоциации со спрятанными ото всех ожерельем или картиной. Книги разделяли образ жизни хозяина. Тогда мое восхищение смешивалось с завистью, теперь приходят в голову мысли о некоторой загадочности всего этого… Впрочем, довольно и сказанного.
Тем временем на крючок я уже попался, леска натянулась. Ровесники-русисты, сочувственно наблюдающие за моим любительским противоборством с русским языком (ему я никогда нормальным образом не обучался, если не считать нескольких часов, проведенных без всякой пользы на занятиях университетского лектората; кто те, тогдашние языковые лектораты помнит, согласится, что они были сплошной фикцией) и попытками декламировать стихи Маяковского на собраниях по торжественным случаям, уговорили меня, а затем и помогли устроиться после университета на работу в Польско-Советский институт. Этот институт был, в принципе, и научно-исследовательским, и популяризаторским центром довольно размытого профиля и явно сервилистского, угоднического назначения. Впрочем, получилось так, что из него вышло немало настоящих, серьезных исследователей. Сектором литературы руководил Самуэль Фишман, человек редкой культуры и такта, который посоветовал мне заняться темой восприятия творчества Маяковского в Польше. Я согласился – и подвел его самым явным образом, добрых полтора года чихая на свои обязанности докторанта и занимаясь студенческим театром и молодежной политикой. Это были 1955/56 годы, время великих потрясений, когда вся наша янычарская дрессировка и самотрессура, по счастью, пошли насмарку, хотя на смену пришла – также очень в моем окружении распространенная – вера в возрождение подлинного социализма. Мы прочитали тогда однажды ночью в СТСе (Студенческом Театре Сатириков – пояснение для тех, что его не посещали) секретный доклад Хрущева, пришли в ужас и решили – это никогда не должно повториться, нам выпало начинать всё заново. Происходившие события продолжали нагнетать эмоции день за днем, как и четверть века спустя: дискуссии о судьбе Союза польской молодежи, Познань, первые заграничные выезды, гастрольные выступления СТСа, какие-то обсуждавшиеся всеми статьи, польский октябрь 1956 года… И где тут было заниматься восприятием творчества? Фишман терпеливо ждал, потом утратил всякую надежду и при случае какой-то реорганизации тактично меня сплавил. На его месте я сделал бы то же самое, но раньше и с шумом.
Таким образом моя будущая судьба словно бы отодвинулась, но в действительности обстояло не так. Меня всё больше влекла литература России. Что здесь сыграло решающую роль? Искренне отвечу: не знаю. Несколько жизненных предпосылок здесь отмечено. Нетрудно заметить, что из них вовсе не вытекает некая неизбежность: это обстоятельства не слишком значительные и, по крайней мере, знакомые многим. Другие мои сверстники пели те же марши трактористов и энтузиастов, так же смотрели фильмы и читали книги, но эта советизация слетела с них, как шелуха, как только времена изменились. Слетела она и с меня, только иным образом – от погружения вглубь. Хочу избежать искуса изощренных ситуационных метафор. Если бы этот текст был кому-либо посвященным эссе, то в качестве ключа к интерпретации вполне подошел бы тот, впервые увиденный Маяковский с его противоречием между «Хорошо!» и трагизмом судьбы. Всё бы из этого и вытекало. Но это не эссе, а личные размышления о России в моей жизни, а значит – нельзя отрываться от земли, надо излагать то, чему есть доказательства, если не фактические, то психологические.
Какое-то время во мне, в нас говорил дух противоречия. Неумного. Мы, группа эстээсовцев, должны были осторожнее подтрунивать над обществом, особенно, когда дело касалось вопросов принципиальных. А ведь наша позиция выглядела как проправительственный нонконформизм, то есть достаточно подозрительно. Так поступали мы в раннем СТСе – назло публике включали в некоторые программы русские песни. Песенки были приятные, но тогда права оказывалась недовольная публика, хоть правота эта носила импульсивно-примитивный характер. Сам я после роспуска Союза польской молодежи колол глаза окружающим, нацепив значок Комсомола из-за той же строптивости. Но наступил 1956 год, свершились венгерские события, и до меня, наконец, дошло, во что я впутался. Значок больно уколол меня самого в самое сердце, и я снял его.
Дух противоречия скоро выдыхается. Сейчас я думаю: главное, что я ощутил тогда сквозь толстый слой яркой советской лакировки – это серьезность ситуации. Книги могли быть лучше или (в основном) хуже, но чувствовалось, что создаются они под сильным давлением, которому либо уступают, либо стараются противостоять. И ставка в этой борьбе очень высокая, наивысшая. Потом я прочел у Пастернака: И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба. Я знал совсем немного, но, склонившись над глубокой пропастью, догадывался о формах того, что маячило вдали. Это были вызов и обещание приключений. Надо было броситься туда, очертя голову – в современность, где давление сильнее всего…
Надо было броситься, а я медлил. Вскакивал на мгновение – и тут же возвращался на твердый, протоптанный многими островок польской литературы. Здесь, правда, толпилась куча народу, но люди были застрахованы от особых сюрпризов. Я пописывал какие-то рецензии.
Но меня в эту глубину столкнули. Это случилось в 1962 году. Мы были на офицерских сборах в довольно привилегированных условиях. Общество подобралось хорошее, свободного времени полно, тематический диапазон разговоров – широкий.
– Маршал, – обратился ко мне однажды Кшиштоф Помян, обаятельно игравший роль интеллектуально продвинутого польского Швейка. – Слушай, маршал! А ты бы не написал для нас историю советской литературы? Для серии «Омега». Может, это тебе подошло бы?
Историю? Советской? Литературы?
Мои познания были любительскими, отрывочными, приблизительными. В самый раз для рецензии, обзора, очерка. А тут история! Я почувствовал себя как Никодем Дызма в ненаписанном эпилоге романа Т.Доленги-Мостовича. Соглашусь, попробую написать, обнаружу полное невежество, и ото всей заработанной какой-никакой репутации останется полный пшик. Буду разоблачен.
Разве что…
Разве что по-настоящему овладею всем материалом. Изучу его как следует, с самого начала.
Прыгнуть?..
– Спасибо, Кшись, – сказал я. – Может, попробую. А какой даешь срок?
ПЕРВЫЕ УРОКИ НА МЕСТЕ
Но прежде, чем я самым серьезным образом взялся за русистику, мне довелось, наконец, встретиться с Россией на ее собственной территории. Это произошло несколькими годами раньше, а точнее – летом 1957 года, и к этой дате относятся события, которые постараюсь здесь припомнить.
Редакция газеты «Штандар Млодых», с которой я уже несколько лет систематически сотрудничал, предложила мне выехать в Москву: в августе там начинался очередной Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. Мне предстояло отправиться раньше и написать о подготовке к нему. Это был, как выяснилось, один из лучших вариантов приобщения к России. Но тогда меня охватила сильнейшая предвыездная лихорадка. За границей я уже успел побывать за год до этого. Мало того – в капиталистической стране. Но на этот раз в голове открылись шлюзы памяти и всё заколобродило: снежные сугробы над Бугом, фильмы, книги, доклад Хрущева, рассказы З., прошлогодние венгерские события. Прежние иллюзии лопнули, как мыльные пузыри, свежей информации не было, украдкой напоминали о себе разного рода страхи и опасения. Крепло убеждение – то, что предстоит увидеть, будет, во всяком случае, не похоже ни на что знакомое. За несколько часов до отлета я – нервно возбужденный – забежал к девушке, учившейся когда-то в московском вузе, с вопросом:
– Марыся, а как там вести себя?
– Нормально, – ответила она.
Мудрость этого совета я скоро смог оценить. Но на первых порах мне довелось – с легким посасыванием в подбрюшье – долго и низко (внизу показались Нарочь и Свитезь) лететь на чем-то допотопном (кажется, это была Дакота), да еще с промежуточной посадкой в Вильнюсе. Самого города не было видно, но зрелище оказалось поучительным: ряды сараев и хибар, а в их окружении – как черт из табакерки – увенчанный шпилями и поблескивающий краской аэровокзал в стиле позднего сталинизма. Копии таких сооружений попадались мне потом по всему Союзу, и их галантерейно-кондитерская внешность была так неподражаемо, демонстративно и нахально противоположна их назначению, так невероятно нефункциональна и абсурдна в аэропорту, что предположения подтверждались с самого начала: эта страна совсем не похожа на другие. Нас встречал форпост режима деспотизма, на котором словно было выписано: «А мне плевать, я так хочу!», как выразился один скромный поэт XIX века. Боковыми переходами, чтобы мы – упаси, Боже! – не соприкоснулись с аборигенами, нас провели в соответствующий великолепием – с колоннами, лепниной и позолотой – банкетный зал, где на снежно-белых скатертях громоздилось множество посуды: тарелищи, тарелки и тарелочки. Каждый получил глазунью из двух яиц.
Днем позже я уже ходил по Москве, да к тому же в одиночку. Всё началось с визита вежливости в редакцию «Комсомольской Правды», где заместитель главного редактора, то есть хрущевского зятя Алексея Аджубея, пока он не перешел в более престижные «Известия», справлялся о здоровье моего главного, спустя пятнадцать минут такого содержательного диалога мы, ко взаимному удовольствию, расстались. Разумеется, обещалась всяческая помощь, но действовать мне предоставлялось самому. Это и являлось лучшим вариантом знакомства с Россией. Если у меня и были опекуны, то вели они себя деликатно; никогда, впрочем, не принимал этого близко к сердцу. О том, что в гостинице ведется подслушивание, сомнений не было – такое соответствовало всему порядку вещей. Аудиальный контроль дополнялся более простым вариантом – визуальным: дежурная по этажу контролировала все приходы и уходы моих гостей, здесь-то как раз архитектор отличался высоким сознанием функциональности интерьерных решений, поскольку со своего места за столом дежурная могла видеть двери абсолютно всех номеров…
Но всё это было ерундой, поскольку я оказался хозяином положения. Газета не слишком торопила с доставкой не слишком обязательных материалов. Мне не хватало репортерского опыта, но и пороть горячку я не собирался, делая то, что в соответствии с моими представлениями должен делать журналист. Я выстраивал какие-то сюжеты, ставил себе разные цели, разыскивал по телефону организаторов фестиваля – всё без особого напряжения и натуги. Что-то выходило, что-то не получалось, впрочем, это уже не относится к теме.
К теме относится Москва – я был в ней, погружался в нее, двигался по ней несколько бильярдным образом: куда-то направленный, сталкивался с кем-то случайным, менял трассу движения, опять на кого-то налетал и иногда попадал в лузу. Память у меня, к сожалению, специфическая, филологическая. В ней застревают тексты, но не лица и произносимые слова. Заметок тогда я, похоже, не делал. Некоторые обстоятельства, люди, с которыми позднее не довелось встречаться, теперь проступают в сознании, словно в тумане. Что, однако, запечатлелось в памяти точно, с отчетливостью впечатлений часовой давности, так это первые общие ощущения от контакта с московскими улицами. Оказавшись в абсолютно незнакомой среде, именно при первом контакте человек особенно восприимчив: это ценные минуты, потом многое можно понять значительно глубже, но острота ощущений уже не та.
Я смотрел на лица прохожих – серые, озабоченные и в этом отношении связанные общим сходством. Люди в толпе, точнее – мужчины, носили два-три фасона пиджаков, типов пять рубашек, не больше и брюк – очень широких (зимой лишь темно-синий и черный цвета пальто выглядели еще более удручающе, точно вокруг тебя одни военные, но тогда было лето). Лица имели сходное выражение, интенсивность которого меня так поразила, что я тут же попробовал подыскать ему определение: словно весь город только что очнулся после долгой и очень тяжелой болезни или все вместе и каждый в отдельности избежали какой-то смертельной опасности («Ну что ж, пожалуй, так оно и есть…» – согласился Э., о котором речь пойдет дальше, внимательно выслушав мои первые впечатления).
Я уже знал тогда, что и мы, в Варшаве, выглядим довольно серо и невесело. Об этом меня прежде всего известила серия снимков, сделанных кем-то с Запада (может, Лизой Ларсен?) и опубликованных в нашем журнале (прежде, витая над землей в зэтэмпешном тумане, я искренне полагал, что мы искримся радостью и переливаемся всеми цветами радуги). Другим источником информации были иностранцы, приехавшие на предыдущий, варшавский Фестиваль: они веселились и развлекались повсюду, без всякого наигрыша, совершенно естественно, тогда как мы торчали среди них, как старые пни. Однако в сравнении с Москвой мы были карнавалом в Рио.
Самый изощренный и хитрый режим не скроет правды о себе от глаз прохожего-иностранца, который будет всего-навсего прогуливаться по городу и смотреть по сторонам (по крайней мере, в странах нашей цивилизации, где есть общая шкала сравнений). Я уже приехал сюда, порядком очистившись от былых иллюзий, но теперь меня со всех сторон бомбардировала правда куда более ощутимая. Лицо толпы было преждевременно состарившимся, отмеченным недоеданием, почти не скрываемыми раздражением и злостью. Эти люди беззвучно сообщали о своей усталости, о пережитых страхах, о тяжести повседневного существования. Старые нормы поведения оказались разрушены, а новых не было: народ пер напролом, люди толкали и пихали друг друга без единого слова. Когда, оказавшись в давке, я машинально произносил: «Извините!» – некоторые удивленно отшатывались и подозрительно косились на меня. Подумав, что эта форма устарела, я начал говорить: «Прошу прощения!», но реакция была той же, покуда я не сообразил: эти слова выходят из употребления. Судьба, словно тяжелый каток, подмяла под себя этих людей, расплющила и утрамбовала, двигаясь взад-вперед, их индивидуальности, они не ощущали потребности поразмыслить над тем, как выглядят, ведут себя, насколько к лицу им эта одежда. Их грубость была искренней, натуральной, рожденной самими условиями существования. Возможно, здесь сыграл дополнительную роль тот факт, что Москву тогда, как и теперь, наполняла, особенно в центре, масса приезжих из «глубинки» (их приезжало в день около миллиона). Это делало город местом плебейской толчеи: толпа была навьючена сумками и авоськами, каждый старался что-то купить, люди создавали огромные очереди, пропихиваясь к прилавкам и к вагонам метро, направлявшимся в сторону вокзалов. Так я уяснял себе – опосредованным, но очевидным образом, что Москва – это оазис благосостояния в сравнении с Россией деревень и маленьких провинциальных городов, так я, наконец, понял, почему моя свинарка из фильма Пырьева так захлебывалась от счастья, узнав, что поедет в столицу: «В Москву еду! В Москву! В Москву!» («Ну и что с того?» – удивлялся я в своей щенячьей наивности).
Недостаточно владевший русским языком, я получал теперь от самой жизни его подлинные уроки. И уроки советской системы одновременно. Серость и однообразие толпы несколько смягчали некоторые женские силуэты; тут и там встречались уже примеры с трудом реализуемого стремления позаботиться о внешности, о стиле, о моде. Но лишь при следующем приезде, несколько лет спустя, я заметил, что это принесло свои плоды: улица стала уже немного иной. А тогда – сразу, при первом взгляде – бросилось еще в глаза отсутствие мужчин среднего возраста, истребленных войной, и в лицах женщин, измученных непосильным трудом и одиночеством, – повторяющаяся гримаса горечи, боли и усталости. Война извещала также о своих страшных последствиях огромным числом калек и инвалидов. Урок продолжался, и жизнь открывала глазам всё новые учебные пособия. Повсюду, среди прохожих и над толпой, мелькали на оклеенных плакатами стенах, фресках, фотографиях в вывешенных на улицах газетах смеющиеся лица мускулистых героев, марширующих в светлое будущее рядом со своими дородными подругами в окружении атрибутов полного изобилия и громких лозунгов. Это были мои энтузиасты из маршей Дунаевского, превращенные в знаки «наглядной пропаганды» (существовал такой специфический термин культуры). Достаточно оказалось часок побродить по улицам, чтобы понять – это забавы с несуществующими вещами, ведь здесь вовсе нет этого – ни таких лиц, ни поз, ни жестов. Разве что на спортивных парадах. Или когда фотограф просит позировать для газетного снимка. А сам по себе никто так не ходит, не выпячивает грудь, не улыбается во весь рот. Известная скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», прообраз всего этого стиля – это чистый абстракционизм в точном значении этого слова. Со всех сторон о себе напоминал самый очевидный принцип здешней пропаганды – никакой связи с реальной действительностью, создаем иную. Я еще вернусь к этому.
Потом я размышлял, сколь полезно для властей создание подобной плакатной фикции. Изможденные, далеко не столь упитанные, часто вовсе искалеченные и больные люди, видя постоянно перед собой тех богатырей, вгонялись в комплексы, в смешанную с раздражением покорность, в ощущение своей ущербности, неполноценности. Это было как хлестание плетью. А вообще-то, думал я еще, во время учебы нас дрессировали подобным же образом. Мы были окружены галереей образцовых героев, которые при внимательном рассмотрении оказывались совсем не такими, какими их представляли. Но нас заставляли на них равняться, чтобы мы пытались достигнуть недостижимого воплощения фикции и чтобы нас всегда можно было обвинить (и дать нам возможность обвинять других) в недостаточном старании и энтузиазме.
Вернусь, однако, на московскую улицу. Еще одно бросилось сразу в глаза – специфический контраст, разделение цветов. Толпа, а значит, то, что носило признаки частного, индивидуального, была серой. Яркими красками кричали стены домов и не гармонировавшие между собой милицейские и военные мундиры, плакаты, автобусы и троллейбусы. Краски олицетворяли собой власть, их вызывающая резкость, рассекающая магму однообразной толпы, становилась функцией этой власти. Было ли это так задумано и использовано каким-нибудь сталинским специалистом по социотехнике (термина такого тогда, понятно, еще не использовали)? Выросло ли это на почве традиции и обычаев? Подозреваю, что замешано и первое, и второе, но с преобладанием сознательных действий. Об этих действиях, являвшихся исполнением деспотической воли самого диктатора, свидетельствовали его любимые детища – высотные здания. В прежние времена о них говорили с добавлением «сталинские». Действительно, такими они и были. Сталинизм воплотился в них столь же конгениальным образом, как итальянский фашизм в каботинских сооружениях римской Эспозиционе или в том, что предполагал сотворить гитлеризм по проектам Шпеера.
О строительстве «высоток», как их посвойски окрестила улица, нас в свое время информировали так интенсивно, что я был убежден – их здесь великое множество, а центр Москвы напоминает Манхеттен. Тем временем в одночасье воздвигли пять гигантов, но расставили их так искусно, что они визуально контролировали город, точно сторожевые вышки – огромный лагерь. Их титаническая безобразность царила надо всем, видимая под разным углом отовсюду: от них нельзя было укрыться нигде. Они заставляли думать о себе долго и неотрывно как о свидетельствах особого значения. Увлеченный конструктивист Маяковский предполагал, что «…геолог столетий извлечет идею наших дней» из бруклинского моста. Действительность, как оказалось, развивалась по собственным планам. Может, оно и к лучшему. Сейчас сталинизм всеми средствами пропаганды стараются постричь, причесать, преуменьшить, представить чем-то почти нормальным. Всё это ни к чему, поскольку стоят «высотки», созерцая которые, наш догадливый потомок дознается о прошлом. Упоминавшиеся ранее здания аэровокзалов были уродливым нонсенсом, но небольшого масштаба. Здесь же распоясавшееся чванство и полная безвкусица объединились, чтобы уйти за облака и непрестанно втаптывать всех в землю. Насилие над архитектурой становилось парадигмой всей системы деспотии. Город, облик которого определяли прежде «сорок сороков» церковных куполов, должен был после уничтожения многих храмов обрести новую пространственную форму, заданную этими антихрамами. Их сооружали в эпоху, когда почти (кроме домов для избранных) не велось строительство жилья, а люди в страшной тесноте гнездились в «коммуналках»; кроме того, они поглощали невообразимые количества самых дорогих строительных материалов, особенно, если учесть, что разворовывали их все, кто мог. Так – в расширенном, многоэтажном масштабе – должна была осуществляться функция смеющихся плакатных гигантов; гиганты архитектуры были призваны превращать людей в муравьев, утверждать их в сознании своей ничтожности, прививать бессильную, отупляющую, рабскую покорность.
Они атаковали не только масштабом, но и красками. Первенствовал среди них невероятный в своей аляповатости и нарушающий любые разумные пропорции Университет на Воробьевых Горах (это старое название; «Ленинские Горы» не выходят у меня из-под пера, ведь это место, освященное литературой, овеянное традицией, ставшее московской исторической реликвией. Топонимических абсурдов в переименованиях там полно, но это почему-то раздражает сверх всякой меры – представьте себе, что у нас в Варшаве вместо Замковой появилась площадь Берута…). Он вознесся выше остальных и был, пожалуй, наиболее абсурден в расположении массивов, глыб и плоскостей, да к тому же и самым крикливым: он вопил пестрыми цветами, бодал небо шпилями и звездами. При виде его мне подумалось, что он мог бы быть детской игрушкой каких-нибудь впавших в младенчество маразматиков-титанов; если это сравнение покажется вам нарочитым – что делать, но таковы мои ощущения. Однако прежде всего мое внимание привлекло здание Министерства Иностранных Дел на Смоленской площади, которое в свою очередь вызвало ассоциации с фонтаном подкрашенной воды, застывшей на лету и оставшейся в состоянии призрачной невесомости. Это сооружение уже не кричало, а пугало: его беспорядочно нагроможденные друг на друга и изломанные плоскости как бы скрывали окна, делая здание слепым, циклопически грозным, похожим на мрачную цитадель – и соответствие этого дома реализуемой в нем заграничной политике было по-своему гармоничным. В сравнении с московскими «высотками» варшавский Дворец Культуры и Науки представлялся мне воплощением архитектурного аскетизма и лаконизма, почти конструктивистским по стилю.
Я посвятил им здесь место, отвечающее степени ошеломления, вызванного увиденным. Пора, впрочем, вернуться к людям. Упомяну еще только об одном эпизоде из области наглядной пропаганды. Пожалуй, довольно поучительном. Дело в том, что Москва поразила и своей громадностью метрополии. Я думал: интересно, как с этим огромным масштабом управятся оформители праздника, тут надо действовать с большим размахом, принимать нетривиальные, сильные решения. Варшавский фестиваль, что о нем ни говори, был пластически, художественно выразителен, доныне он остался в памяти прежде всего как яркое сочетание форм и цветов. В Москве я со дня на день ожидал подобного преображения: вот проснусь утром, выгляну из своего окна на седьмом этаже гостиницы «Москва», в самом центральном центре столицы, и окажусь в ином мире… Но дни проходили, а на улицах по-прежнему висела пестрая галантерея флажков, вымпелов, плакатиков, искусственных цветов. Тогда я решил, выполняя свои репортерские задания, отыскать главного художника Фестиваля по фамилии, если не ошибаюсь, Кербель. Он оказался самым неуловимым из всех разыскиваемых лиц. Лишь однажды я услышал по телефону его голос, но и тогда он быстро меня сплавил, во всех остальных случаях он неизменно находился «на объекте». Как выяснилось потом, не только для меня. И у него были причины избегать прессы, так как в ситуации он очутился незавидной. Меня неофициально известили, что план декоративного оформления города был с большим размахом и фантазией заблаговременно подготовлен молодыми художниками, уже в то время взбунтовавшимися против мертвечины соцреализма и обратившимися к авангардистским традициям двадцатых годов (логично – к чему еще можно было обратиться?) – и что всё это незадолго до начала празднества было отвергнуто и осуждено как «формализм». Эту информацию, как говорится, за что купил, за то и продаю – она не подтверждена документально. Зато знаю точно, что Фестиваль начался, протекал и завершился в том же самом мелкогалантерейном, тряпично-клубном оформлении. Так выглядели бы Дворец Культуры, окутанный лентами серпантина, и Площадь Парадов, посыпанная конфетти. Своего художественного решения Фестиваль не имел. Лишь потом, спустя какое-то время, мне пришло в голову – ведь режим не мог поступиться своим стилем. Даже на две недели. Людей нельзя было выпустить из когтей системы. Поэтому не удивляйтесь, что я буду настаивать – цвета московской улицы далеко не случайно распадались на частно-индивидуальные и государственно-официальные.
Я тем временем по этим улицам бегал, чувствуя себя пришельцем из другого, лучшего мира и будучи достаточно неосторожен, чтобы эту непохожесть подчеркивать своим одеянием. Ничего особенного, впрочем, на мне не было – полотняные голубые брюки, кисейная, «дырчатая» рубашка и легкий свитер, купленный годом раньше на римской барахолке. Однако все это сразу выделяло меня из толпы, я чувствовал себя в каком-то подвижном отдельном мини-пространстве, образованном постоянными и настороженными взглядами: а это что за человек? Иностранец не был тогда обычным явлением. Лишь годы спустя я оценил пользу мимикрии, растворения в массе, превращения в одного из многих, подражания интонациям односложных откликов, что позволяло в связи с более твердым акцентом быть причисленным, скажем, к прибалтам. В те дни я бросался в глаза, но ни на миг не ощутил враждебного отношения к себе. Толпа была не слишком приветливой, резкой, занятой собой, но внутри нее ощущалась теплота. В таких оценках невозможно ошибиться. А ведь могло быть иначе – общество подвергалось суровой дрессировке в духе недоверия к иностранцам. Но достаточно было, как правило, обратиться к кому-нибудь, спросить про дорогу, чтобы хмурые лица смягчались и вам начинали подробно и долго объяснять, как и каким транспортом добраться. Аргументом в пользу сближения был, пожалуй, язык: странный собеседник старался всё же говорить, правда, далеко не безупречно, но по-русски. За эти усилия платили доброжелательностью. Иногда чужеземное убранство как раз помогало – легче было форсировать секретариаты и мягкую обивку дверей официальных кабинетов. Во время самого Фестиваля я привык изображать из себя англосакса, что открывало путь ко всем закрытым мероприятиям лучше, чем удостоверение журналиста.
А некоторую полезную работу Фестиваль проделал. Могу представить себе озабоченность советских властей – ведь в пропагандистском плане он был им, с одной стороны, нужен, а с другой – повлек за собой массу хлопот. Общество, распевающее песни о стране, где так вольно дышит человек, жило в огромной тюремной зоне, а полная изоляция от внешнего мира была главной гарантией спокойного правления партийной элиты. Ограниченная десталинизация в этом плане как раз почти ничего не изменила (вплоть до времени, когда я пишу эти слова), хотя, понятно, при Сталине о Фестивале нельзя было и подумать. А тут должны появиться свыше десяти тысяч иностранцев. Опыта не было, еще не умели, как научились поступать позднее, просто закрывать Москву, предварительно выселив из нее «нежелательные элементы». Впрочем, и так сделали немало. Делегатов поселили возможно дальше от центра. Их возили на мероприятия автобусами, а по завершении стремились собрать вместе и отвезти назад. Магнитом служило угощение, поскольку кормили с барской щедростью: каждый ел, сколько хотел и мог; мне известны случаи тяжелого несварения желудка у делегатов, принявших черную икру за некий вид каши и поглощавших ее столовыми ложками. Nota bene – приобретать расположение иностранцев с помощью обильной кормежки в этой хронически недоедающей стране – прием частый и эффективный. Места нашего обитания стерегли неумолимые церберы. Они же были организаторами мероприятий, для которых, как я вскоре сориентировался, старательно подбирали местную публику; обычный русский и не помышлял о том, чтобы попасть туда, и я с ощущением бессильного сочувствия нередко прокладывал себе путь в толпе, ожидающей счастливого случая или просто возможности посмотреть на недоступных иностранных гостей.
Стараний было много, но жизнь – это жизнь и – особенно в самом начале – установленные преграды сильно трещали под напором людей. Образовалось немало дыр. Делегаты расползлись, церберы за ними не поспевали. Допущенные на встречи избранники идеологически расслаблялись, поскольку верх брало любопытство. На улицах окружали гостей, спонтанно возникали дискуссии. Москва имеет к тому же свою традицию – здесь люди просто выходят пройтись, посмотреть, что делается вокруг; это гулянье – не просто прогулка, но и давняя форма человеческого общения, так как в немногочисленные кафе попасть нелегко. Но когда на прогулку выходит полгорода, то в центре создается толчея. Помню один из первых фестивальных вечеров (может, даже в день открытия). Просторной улицей Горького, расширенной давней Тверской-Ямской, во всю ее ширину, по тротуарам и проезжей части, текла вниз к Красной площади огромная толпа. Должно быть, не слишком часто ей разрешалось завладеть всей мостовой. Первомайские демонстрации были организованными, тщательно регулируемыми и контролируемыми, а перед трибунами манифестантам надлежало – при Сталине – пробегать (возможно, из соображений безопасности?). После смерти тирана народ поспешил на прощание с его телом, создалась (а, может, была создана – это дело загадочное и непроясненное) страшная давка, паника, задавили, затоптали, как рассказывают, сотни человек. Но теперь было иначе. Люди шли свободно, непринужденно, шутили и смеялись; во время этого гулянья их лица утратили напряженное выражение чудом выживших или спасенных. Я был там, шел с ними, впитывая эту новую атмосферу и радуясь. Неисправимый оптимист, я полагал, что так дела пойдут и дальше, что Фестиваль обеспечит глубокий пролом в стене отчуждения, что процесс этот необратим… Красную площадь заполнили люди, разделившиеся на небольшие группки, в центре каждой оказался один или несколько иностранцев. Поляки пользовались особой популярностью: вроде бы, свои, но и немного другие, подвергнутые в прошлом году резкой официальной критике, но продолжающие делать свое дело. А, собственно, что и как делающие? Слушали жадно, комментировали сдержанно, но в глазах обычно прочитывалось уважение, часто – искренняя зависть. Слово «Гомулка» склонялось во всех падежах. Нас охватила (преждевременная, ой, сколь же преждевременная!) гордость, даже уверенность, что мы прокладываем путь этим угнетенным братьям. Мы были окружены, в основном, молодежью, нашими ровесниками. Я и сейчас вижу выражение их лиц. Один меланхолически произнес: «Да-а, политика – это занятие мужчин, а я играю в футбол…», развернулся и отошел. Несколько других, основательно расспросив меня и, возможно, желая как-то отблагодарить, а то и показать, что сами не лыком шиты и знают зарубежный мир, затянули нескладным хором:
Задумчивый голос Монтана Звучит на короткой волне, И ветки каштанов, парижских каштанов…Ив Монтан, тогда еще официальный друг СССР, частый гость (допущенный к импорту фрагмент Запада), принес с собой такую пронзительную ноту тоски по неизвестной жизни, что волнение это передалось и мне, помогая преодолеть неловкость ситуации. Так мы могли бы петь о пейзажах Марса… «Да ну, ребята, бросьте! Это пошлость!» – вмешался тут кто-то, чувствуя (и справедливо), что модный эстрадный шлягер не передаст обуревавших нас чувств. Потом мы продолжили беседу, прошла изрядная часть ночи, у мавзолея Ленина недвижно стояли часовые, а над головами, как в фильме «Свинарка и пастух», светили «звезды Кремля в синеве-е…».
Этого я им, однако, не спел.
В эту пору я уже не был обречен лишь на случайные встречи. У меня имелся свой круг знакомств. От З. я получил пару адресов, открывавших перспективу дальнейших контактов. Это были, как правило, чрезвычайно милые дамы «полусреднего» возраста, которые при звуке имени З. мечтательно улыбались: «Ну и как он там сейчас? Передайте ему большущий привет…», или почтенные старушки, некоторые полупарализованные, ютившиеся в клетушках огромных коммунальных квартир и обремененные грузом испытаний, о жестокости которых я мог лишь догадываться. Живость их ума была прямо пропорциональна немощи тел, и именно благодаря им так полюбились мне вечерние московские разговоры, в сравнении с которыми варшавские начали казаться довольно пустыми. Более официально выглядел визит к другой старой даме – Елене Усиевич, дочери члена партии «Пролетариат» Феликса Кона, намечавшегося в 1920-м году на роль одного из большевистских правителей Польши (Дзержинский, Мархлевский, Кон). «Пани Хелена» была в молодости страстным критическим ортодоксом, размашисто громившим направо (в особенности) и налево; ее статья о Заболоцком имела удельный вес политического доноса. Теперь, как это часто бывает с теми, кого крепко потрепала жизнь и кому едва удалось спастись, она выглядела седой доброжелательной светской дамой. Разговор не очень клеился: слишком чужд ей был, похоже, этот приезжий из Польши. В ее глазах я прочел спокойную уверенность в том, что наши послеоктябрьские подскоки – всего лишь эпизод, пишу об этом без обиды, поскольку, обладай я ее жизненным опытом, думал бы то же самое. Лучше, чем разговор, запомнил я место встречи, так как им был знаменитый Домпр, как сокращенно называли Дом Правительства – огромную постконструктивистскую глыбу мышиного цвета, стоящую напротив Кремля, по другую сторону реки. Его построили для семей ответственных деятелей режима. Во времена ежовщины каждую ночь сюда подъезжали «черные вороны» и целые этажи, а затем и лестничные клетки извещали темными окнами об исчезновении жильцов. Это и был «Дом на набережной», и хотя замечательная повесть Трифонова, навсегда запечатлевшая Домпр, появится еще только двадцать лет спустя, я и тогда ощутил, по крайней мере, холод и страх, жившие в нем, словно зябкое дуновение из темницы, ведь то был дом-морг.
Попал я также к Э. – он скитался по каким-то углам, разводился и сходился, всегда широко улыбался и старательно скрывал от других собственные мысли, как говорят русские, был себе на уме. А знал он много – во время войны сражался в формированиях столь специального характера, что об их предназначении я никогда не услышал от него ни слова. Он расспрашивал меня обо всем и улыбался всё шире, когда я запальчиво доказывал, что будущее Союза – это модернизация и европеизация. «Почему у вас летом не носят шорты?». В глазах Э. вспыхивали веселые искорки, он молчал, очевидно, рассчитывая, что со временем я кое-что пойму сам.
Вообще, окрыленный нашими польскими успехами, я готов был предлагать русским собеседникам в качестве образца их собственное прошлое – двадцатые годы, эксперимент, авангард, многообразие направлений. Ба, мне, не знавшему еще ни Надежды Мандельштам, ни «Все течёт» Гроссмана, казалось, что ленинизм был чем-то качественно отличающимся от сталинизма. Мои дилетантские рассуждения выслушивались скептически. «А я думаю, Лев Толстой был лучше их всех» – констатировала одна из старушек. Я остолбенел от доказательства столь невероятной отсталости. Мне тогда было невдомек, что русский послереволюционный авангард слепо доверился своему времени, отказавшись от самостоятельного мышления, а потому кроме отдельных форм новая эпоха ничего в нем не почерпнет. На каких-то фестивальных выставках я объяснял случайным соседям-посетителям правомочность абстракционизма (картины были сплошь иностранные, абстрактные и скверные). Случайно я оказался у одного молодого художника – тот, заикаясь, шепелявя и трясясь от страха, продемонстрировал мне свое неслыханно нонконформистское творение – женский полуакт, изображенный в абсолютно академической манере. Я постарался придать ему бодрости, стянул с себя итальянский свитер – носи, брат, на память! Если б я знал тогда, какой советский король жизни вырастет из того бедолаги Ильи Глазунова… В какой-то мере оправдывает меня в этой ситуации тот факт, что новая, художественная волна оттепели по-настоящему не дала о себе знать. Евтушенко только-только зазвучал, и довольно тихо, Вознесенского еще не было, Окуджава начинал выходить, но в Калуге, а прозаики стартовали пару лет спустя.
Но и полезных знакомств было немало. Может, за каким-то из них скрывались и цели наблюдения за мной? Не знаю, отвергаю эту мысль, чтобы не задеть подозрением невиновных, доброжелательных и сердечных. Я попал даже в особняк Горького, тогда еще заселенный его потомками и родственниками – теперь это музей. И здесь, как в Домпре, вас окружали довольно мрачные тени, ведь это была золотая клетка, в которой основоположника соцреализма содержали в обстановке роскоши (вилла до революции принадлежала богачу Морозову[3]) фактически под домашним арестом. Сюда, как рассказывают, любил без предварительного уведомления заглядывать Сталин, при виде которого Горький, гостеприимно разводя руки, произносил: «Иосиф Виссарионович! Как хорошо! А мы как раз собирались обедать! Прошу к столу!», в связи с чем кухне приходилось быть всегда наготове – на всякий случай. Но Горький – это проблема слишком сложная, здесь целая мрачная пропасть человеческой натуры, заглянув в которую, чувствуешь, что голова идет кругом, тут не отделаешься анекдотами. Поэтому скажу лишь, что хотя хозяева были сердечны, а собравшаяся за столом фестивальная компания беззаботна и весела, временами я ощущал мурашки по спине, так как эта комната, расположение группы гостей, а в особенности оранжевый свет лампы-абажура ассоциировались у меня с двумя известными картинами – «Горький читает Сталину поэму «Девушка и смерть» и «Встреча Сталина с советскими писателями», поскольку события эти разворачивались именно здесь, и я уже терялся, не имитирует ли нынешняя жизнь искусство, которое в свою очередь имитировало ту жизнь…
Тем временем наша фестивальная жизнь продолжалась. Сталинские льды уже кое-где треснули, но время от времени я чувствовал еще дыхание застарелой стужи. В конце концов, миновали лишь четыре года. Помню побелевшее лицо какого-то юноши, в дом которого – конечно, в большой коммунальной квартире – меня привели с одной веселой компанией без всякого предупреждения. Он открыл дверь, гостеприимно улыбаясь, но тут же понял, что я иностранец. Улыбка исчезла, он затащил внутрь нашего провожатого, из-за прикрытой двери доносился свистящий крик-шепот: Ты что? С ума сошёл? Иностранца!… Инцидент, понятно, умяли. Через несколько лет я уже буду самым обычным образом ежевечерне ходить из квартиры в квартиру, но тогда память о времени, когда сказанное иностранцу слово могло сыграть роковую роль в жизни советского человека, была еще слишком свежа, недаром собирательный облик уличной толпы поразил меня суровостью и напряженностью.
Но Марыся оказалась права: вести себя следовало нормально. С пониманием специфики ситуации и по мере возможности не удивляясь ничему, что свойственно людям. Помню, как удивили меня, в самые первые дни, некоторые особенности быта и нравов: раз-другой мне в номер звонили незнакомые девушки с предложением познакомиться. Вовсе не проститутки, а нормальные русские девушки, для которых иностранец, нагоняющий на других столько страху, был чем-то столь непривычным и любопытным, что ради этого стоило преодолеть смущение и боязнь. А потом еще до меня дошло и то, что последствием истребления мужчин за войну и уравнивания всех русских в страхе, нужде и тяжелой работе стало трудное и безрадостное существование женщин, что поэтому русским девушкам надлежит проявлять инициативу, за что их нельзя осуждать. Уже много позднее я уяснил себе, что демонстративное и нахальное ханжество сталинской поры в области секса, в результате чего здесь воцарилось полное невежество в этой сфере, должно было в результате таяния льдов смениться расшатыванием нравственных норм, чрезмерной свободой морали. «Да поймите же, – говорил мне человек среднего возраста несколько лет спустя, – молодежь сегодня совсем другая, чем мы когда-то. И кроме всего прочего потому, что мы начинали сексуальную жизнь очень поздно. Ничего удивительного. Не было отдельных квартир. Одни коммуналки. Соседи же знали о соседях всё. Ну, а нынешние имеют уже нормальные квартиры». Всё это – слишком обширная тема, явления, слишком глубоко укоренившиеся, отложившиеся в сознании нескольких поколений неврозами, комплексами, бессознательно наносимыми обидами, поэтому я лишь слегка касаюсь ее, идя по следам давних воспоминаний. Добавлю только одно: даже в пору глупого комсомольского увлечения пропагандистскими книжками мы посмеивались между собой над «советской любовью», над всеми этими любовными объяснениями без единого поцелуя хотя бы, над этими долгими хождениями влюбленных, взявшихся за руки и только смотрящих друг другу в глаза, над страстными признаниями на приличной дистанции, над всей атмосферой унылой и стерильной «чистоты». Даже тогда мы чувствовали, что это – «туфта». А оказалось, что всё это, как говорят русские, не от хорошей жизни, что картина не была стопроцентно лживой, поскольку когда некуда пойти, остаются лишь прогулки… Последствия этого долговременны, и литература соседей до сей поры заикается и стыдливо опускает глаза, говоря о любви, с трудом обретая нормальную, человеческую интонацию, а некоторые из эмигрантов в силу естественного порядка вещей, напротив, гарцуют, как молодые жеребцы, на пространстве давнего табу. Фестиваль же продолжался, но был уже не таким, как вначале. Начало ознаменовалось первым ледоходом, и это должно было напугать власти. Дни открытия празднества как бы вышли из-под их контроля. Живые человеческие чувства брали верх, люди стихийно жаждали непосредственного общения. Потом, видно, спохватились, может, кто-то очень важный рассердился и топнул ногой – решили вернуть контроль над ситуацией. Отряды конной милиции (была такая еще в 50-е годы) напирали – медленно, но упрямо – на отдельные группы людей, предлагая разойтись. Число церберов значительно возросло. Те, что хотели слишком много и слишком сердечно общаться с иностранцами вне сферы официальных обязанностей, нарывались на неприятности, их вызывали для беседы. Тот и другой из нас узнавали, что его знакомого или знакомую уволили с работы. Некоторые мероприятия Фестиваля, хоть и указанные в программе, всё никак не могли состояться. Помню, как я упорно стремился попасть на концерт израильтян, а его всё переносили, потом наметили в каком-то очень далеком доме культуры, дело кончилось тем, что он был либо отменен, либо прошел без малейшего уведомления о нем публики. Вроде бы, ничего такого не происходило, а все же какие-то атомы перемещались, уплотнялись, срастались – и атмосфера стала иной. Повеяло холодом. А можно сказать иначе: я ощутил то, что позднее многократно испытывалось мной. Слишком большое давление. Не хватало воздуху. Надо было иметь специально подготовленный организм. Это так, словно ты – маленькая рыбка, плавающая на мелководье и вдруг попавшая на большую глубину, где раздувает жабры, а ниже маячит бездонная пропасть, в которой вырисовываются контуры чудовищ. Здесь нельзя жить. Назад, наверх, к свету! Меня охватило непреодолимое желание вернуться. Я был так избалован некоторой свободой? Ведь времена были, по словам Анны Ахматовой, вполне вегетарианские: людей уже не поедали. Но многие из приезжих, как и я, испытывали это чувство.
Я не стал дожидаться завершения Фестиваля. Состоялся еще прием для журналистов, известный хотя бы тем, что напившийся в доску хозяин, Алексей Аджубей, как говорят (меня это удовольствие миновало), хватал гостей за пуговицу и задавал им одинаковый вопрос:
– Скажи, кто я: зять или журналист?
Верный ответ, на мой взгляд, должен был звучать диалектично: и то, и другое. Журналистом он являлся, пожалуй, неплохим и превратил «Известия» в гораздо более живую газету, но, с другой стороны, не будучи зятем Хрущева, не имел бы и свободы действий, а после устранения тестя, в соответствии с советскими правилами семейной ответственности, тут же исчез с горизонта.
Еще я попрощался с Э. и на этот раз уже не превозносил достижения современности. Он же, взглянув на мою кислую мину, спросил: «Ну, а как с шортами?». Я раздраженно ответил: «Чушь! Тут не в шортах дело!». Улыбка Э. была грустной. Мы остались друзьями на много – много лет.
Перед отлетом я узнал, что одну девушку, похоже, тоже уволили с места службы и как раз за контакты со мной. Полной уверенности не было, но моральная изжога ощущалась. Как и чувство нехватки воздуха. Я приземлялся на аэродром «Окенче», словно возвращался на землю обетованную: как мог я прежде не ценить того, что живу в чудесной стране, оазисе всех свобод!
В аэропорту меня встречал Петр, самый близкий мне тогда человек. Вообще-то, мы не практиковали в наших отношениях подобных любезностей, но я сразу угадал смысл его приезда. Он прошел бок о бок со мной тот же путь университетской дрессировки, его подбрасывало на тех же качелях разочарований и надежд, а сюда пригнало нетерпение: ему хотелось тут же, от своего человека, из первых рук узнать, можно ли там на что-то рассчитывать.
Наш диалог в такси я запомнил точно:
– Ну и что?
– Старик, то, что я видел, это фашизм.
– Ах, чёрт возьми!
В этом отклике прозвучала безнадежность. До сего времени, к сожалению, оправданная. Свой ответ я также оценил бы сегодня как, в принципе, правильный. Хотя терминологически не совсем точный. Фашизм – это явление исторически завершенное, жестокое и страшное – вне всяких сомнений, но имеющее в своем итальянском воплощении элементы гротеска, буффонады, каботинства, притом привитое поверхностно, не натурализованное до конца.
То, что видел я, было всем чем угодно, только не потешной буффонадой. А чем, собственно, было?
Мы ехали молча. Потом в моих непосредственных контактах с Россией наступили 6 лет перерыва.
УРОК СОВЕТСКОГО ЯЗЫКА
Чтобы не выглядеть, однако, неженкой, которому достаточно было нюхнуть относительно нормальной, даже праздничной русской жизни и тут же ощутить тяжелое несварение желудка, опишу отдельно главные фестивальные события. Они врезались в память глубоко, со многими подробностями. Это были уже уроки не русского, а советского языка.
Занятого беготней по фестивальным мероприятиям, встречам, набрасыванием на лету заметок, звонками в редакцию и прочим, меня однажды пригласили присоединиться к группе наших делегатов, направлявшихся на встречу в Союз Советских Писателей. В группе были те, что более или менее активно действовали в литературе или где-то рядом. Среди них Ежи Брошкевич, Тадеуш Древновский, Анджей Мандалян, Кшиштоф Теодор Теплиц, а также мои коллеги из Студенческого Театра Сатириков Анджей Ярецкий и Витольд Домбровский, остальных уже не помню.
Подобных встреч было великое множество, они имели свой ритуал. Одной больше – какая нам разница. Мы шли туда, непринужденно болтая и не ожидая ничего особенного. Нас приняли в Центральном Доме Литераторов (в своем кругу ласково именуемом «гадюшником»), провели в конференцзал. С трех сторон длинного стола разместилась представительная группа хозяев во главе с первым секретарем Союза Алексеем Сурковым. С четвертой – свободно и не соблюдая никакой иерархии – мы, гости, предвкушавшие дружескую беседу и приятно польщенные тем, что нас здесь трактуют так серьезно.
Ну, а дальше началось. Сразу, без разминки, как удар в солнечное сплетение. Испытанный, выдрессированный в сталинской школе демагогии Сурков загрохотал голосом государственного обвинителя. Мы услышали перечень идеологических ошибок польской литературы времен оттепели. Одна другой страшнее. Нас били за Яна Котта, Адама Важика, Лешека Колаковского, Марека Хласко, за присутствовавшего, но еще не идентифицированного оратором Теплица, за «Поэму для взрослых», за газеты и журналы («Попросту», «Нова Культура» и др.), за постановку «Бани» Маяковского Казимежем Деймеком, где мы кощунственно и вредительски осмелились изменить текст оригинала. Клеймили за ревизионизм, оппортунизм, антисоветизм, антикоммунизм и опять за ревизионизм во всех его разновидностях, поскольку термин этот сделал тогда в Союзе невероятную карьеру в качестве ругательного определения.
Сначала меня разбирал смех, ведь ситуация была гротесковая: случайную компанию молодых поляков обстреляли per procura (как полномочных представителей руководства) из самых тяжелых политических орудий, словно Ежи Путрамента с Леоном Кручковским или даже Владыслава Гомулку с Зеноном Клишко. Вместо них на кремлевском идеологическом «ковре» оказались мы. Но кому-то эта демонстрация была явно нужна. А может, просто руководству Союза Писателей? Ведь как раз подморозило тамошнюю оттепель и проходило очередное разоблачение и бичевание уклонистов. Те, что годом раньше проявляли шатания, теперь отрабатывали прегрешения с удвоенным старанием. Не все, ясное дело. Но Сурков, похоже, относился именно к тем. Правда, он не был
наихудшим из литературных аппаратчиков, не участвовал в гнусных антисемитских кампаниях, даже занимался делами по реабилитации жертв сталинского террора. Стоит обратить внимание, что такой суровый судья людей, как Надежда Мандельштам, вспоминает Суркова с большой теплотой, говорит, что он действовал из хороших побуждений. За это ему, должно быть, и устроили порку, а теперь он отыгрывался на невинных (если не целиком, то почти) молодых поляках.
Это было комично, но не очень. Сурков сидел как раз напротив меня. Его широкая, плебейская, хотелось бы сказать – свойская физиономия, с зачесанными наверх пышными седеющими волосами, была бы даже располагающей к себе, если бы не одна деталь, сразу замеченная мной. У первого секретаря были прозрачные и холодные глаза, а частая на его лице широкая улыбка не содержала даже намека на сердечность, выглядела отработанной гримасой. Я видел перед собой лицо хищника, к тому же разозленного, с побелевшими от гнева зрачками. Называемый неофициально «гиеной в сиропе», что метко характеризовало эффект поддельного добродушия, он был теперь скорее похож на фыркающего дикого кота.
Тут же, не дав нам опомниться, ему начали вторить слаженным хором ругани другие. Но если он был демагогом вдохновенным, то остальные выглядели куда бледнее. Впрочем, я довольно точно запомнил еще выступление Валерия Друзина, ленинградца, редактора ряда крупных журналов. Незадолго до этого он приезжал в Польшу, где своим поведением и либеральностью взглядов произвел наилучшее впечатление. «Европеец!» – лаконично охарактеризовал его З. Друзин, похоже, решил резко сбавить обороты столь стремительно начавшейся встречи. Он встал, нацепил очки, достал блокнот и, не спеша листая его, заявил, что, к сожалению, должен согласиться с предыдущим оратором: зараза ревизионизма распространяется среди поляков. «Да вот! – он удовлетворенно отметил, что нашел нужную запись. – Например, когда я был в Польше, двенадцатого апреля критик Анджей Ставар сказал мне, что Горький – довольно слабый писатель».. Пауза, легкий шелест страниц, минутное размышление. «А ещё… тринадцатого… нет, четырнадцатого апреля критик Земовит Федецкий скверно, товарищи, отзывался о социалистическом реализме…». Наивный человек, я взглянул в этот момент на Суркова, ожидая, что тот произнесет что-нибудь вроде: «Ну, нет, Валерий Павлович, оставьте, какое это имеет отношение к делу». Вместо этого я увидел, что персек серьезно и одобрительно кивает головой. Остальные также согласно кивали, правда, без всяких эмоций – всё шло по плану. О доносах я уже был наслышан, но публичный рапорт стукача, трактуемый как нормальная процедура на собрании, – такое для меня было в новинку. Мурашки побежали по спине. Я взглянул на соседей-поляков: они ощущали то же самое. Смеяться расхотелось. Нам демонстрировали – gratis, бескорыстно – механизм классической советской массовой проработочной кампании. Я еще продолжал надеяться, что дальше наступит дискуссия и кто-нибудь из них скажет: это правда, но, с другой стороны… Или: на мой взгляд, в Польше не всё так плохо… Остатки наивности стремительно покидали меня: голоса звучали слаженно, один заводил другого, эстафету передавали друг другу в атмосфере священного негодования, а высокие ноты отдавали истерикой. Потом я узнал, что этот урок проходил по строгим правилам ленинской школы: сокрушать не аргументы противника, а его самого, используя любые приемы, сбивать с ног.
И тут наступил момент, которого загонщики – заводилы этой политической охоты не предусмотрели. Взыграла в нас сарматская кровь и гордость «обновителей» социализма. Были и дополнительные факторы: в нашей группе не оказалось случайно ни одного подлеца, кроме того, нам, молодым и легкомысленным, нечего было терять – ни карьеры, ни репутации, ни должностей. Не сговариваясь, мы дружно ринулись в контратаку. Мы защищали наш курс обновления, суверенитет, ревизионизм, Котта, Деймека и Гомулку: коли дискуссия, так дискуссия! Мало того, мы тут же перенесли огонь на территорию противника, опятьтаки не сговариваясь. Мы били врага его собственным оружием: решениями XX Съезда, докладом Хрущева, всеми констатациями и открытиями документов 1956 года, которых, ведь, никто официально не отменял. Мы брали слово друг за другом, выступали кто лучше, кто хуже, не в том дело, а в том, что – и это сразу все почувствовали – наша наглая непокорность сбила с тону хозяев. Этого не было в заготовленном сценарии. Genius loci (дух места) в этом зале сделался иным. Здесь лет двадцать, как минимум, травили, душили, топтали очередные жертвы в обстановке абсолютного комфорта: нападая кучей все на одного, пиная лежащих и теша слух предсмертными стонами самокритики. Здесь отрабатывались планы широких публичных собраний, участники которых по внесенным свыше предложениям единодушно осуждали, клеймили и исключали, после чего жертвам расправы оставалось лишь ждать ночного звонка в дверь.
Времена, конечно, изменились, но дух в этих стенах оставался прежний, ручаюсь вам, я ощущал это своей кожей. Тем временем Тадеуш Древновский сказал, что при Сталине советский народ «пережил ад»; это так напугало нашу переводчицу, доброжелательную и сердечную Зину Шаталову, что она, заботясь о сохранности наших шкур, начала смягчать текст – пришлось призвать ее к порядку. КТТ (Кшиштоф Теодор Теплиц) с непринужденностью enfant terrible говорил о ждановщине и уничтожении культуры, после чего ошеломил и нас довольно рискованным утверждением, что Марек Хласко – это Маяковский нашего времени. Сурков сначала остолбенел, а затем улыбнулся с видимым облегчением. Смысл этой мимической эволюции мне тут же прояснил наиболее опытный из нас Анджей Мандалян: «Смотри, они думали, что этот их враг номер один – старый, бородатый, идейно подкованный на все четыре копыта троцкист, а увидели пацана…»… Сам я тоже что-то говорил на своем рискованном русском языке, экая и мекая, но зато с большим запалом. Мне удалось мимоходом опровергнуть сурковское обвинение в недопустимом изменении текста «Бани» запомнившейся цитатой Маяковского, который требовал от будущих постановщиков пьесы актуализации ее содержания. Я с удовольствием заметил, как окончательно побелели зрачки моего визави от такого невообразимого нахальства, ведь только помазанники власти имели право решать, какие цитаты допустимы…
Словом, первый шок миновал, стало веселей, пошел обмен ударами – зуб за зуб. Хозяевам не удался, похоже, и задуманный воспитательный эффект, рассчитанный на внутреннее употребление. Как я теперь припоминаю, за первым рядом литературных бонз сидели несколько человек из обычной писательской братии. Их тоже, наверное, подвергли тщательному отбору, но были там и строптивые, среди них смелый и честный Александр Яшин, одним из первых правдиво рассказавший о жизни советской деревни и как раз тогда отчаянно поносимый за сильный рассказ «Рычаги». Они были приглашены с мыслью о своего рода идеологическом воспитании: пусть посмотрят, как громят ревизионистов, чай, потом сами будут крепче держаться официальной линии. «Фокус не удалси»: писатели сидели насупившись, сами не свои, но время от времени поглядывая на нас отнюдь не враждебно.
В какой-то момент случился инцидент, несколько разрядивший ситуацию. Взял слово как раз человек из второго ряда, и к тому же не абы кто: Александр Бек, хорошо известный в Польше автор «Волоколамского шоссе». Замечательный баталист имел вовсе не героический облик: взъерошенные волосы, нос картошкой, слезящиеся близорукие глаза за толстыми стеклами очков, суматошная жестикуляция, в голосе наивно-детские интонации. Он упрекнул польских писателей, что они ошибочно изображают Ленина (очевидно, кто-то из нас повторил модную тогда фразу о партии, которая «возрождает ленинские нормы») как – цитирую дословно – «такого добродушного интеллигентика»… «А ведь… – тут Александр Альфредович повысил голос и выбросил вверх и наискось руку знакомым всем ленинским жестом. – А ведь Владимир Ильич был вдохновенным поэтом классовой борьбы!». Щеки его раскраснелись, глаза блестели огнем, но уже тогда в меня вселилась уверенность, что у этого выступления есть какой-то лукавый подтекст. Бонзы из первого ряда одобрительно закивали, он же – в своей маске простодушного Иванушки-Дурачка – старался передать нам мысль, смысл которой я по-настоящему усвоил лишь спустя годы, прочитав «Всё течёт» Гроссмана и воспоминания Надежды Мандельштам: это Ленин создал Сталина, один стоил другого, а «возвращение норм» – это очередная «туфта». Умный и проницательный Александр Альфредович! Он изображал юродивого, это помогало пережить страшное время, но понимал всё. Мне рассказывали позднее, что одному близкому человеку Бек повторял:
«Пойми – ты живёшь при фашизме. Усвой это. Смотри, что творится вокруг. Делай выводы». Сам он спокойно и точно воспроизвел механизм системы в «Новом назначении», которое несколько лет назад запретили к печати: оно официально разрешено к публикации лишь теперь, когда я пишу эти слова. Бек же успел еще – на ложе смерти – увидеть экземпляр эмигрантского издания книги, кстати, принесенный ему в знак искреннего покаяния экс-генералом службы безопасности… Это факт: неисповедимы в России судьбы и людей, и книг. Но об этом потом, а сейчас вернемся к нашей встрече.
Сурков всё еще пытался овладеть инициативой, но его присные явно сдали. Чем более активно мы защищались, тем яростнее и злее становился он. Особенно задело его упоминание Теплица о «ждановщине»: «Не было никакой ждановщины! Это вражеские инсинуации. Гитлер тоже пользовался этим термином!». Сравненьице было премиленькое, не говоря уж о том, что совершенно вздорное: насколько знаю, Гитлеру и в голову не приходило заниматься Ждановым. В другой раз, отмечая нашу строптивость, он произнес фразу столь зловещую, что я тут же решил ее запомнить. В дословном переводе она звучала так:
– Только теперь я вижу, что в прошлом году нам надо было пойти с вами на большую драку, зато, может, сегодня легче было бы договориться!
Оцените сами это сожаление, что по отношению к нам не использовали венгерского варианта. Тут уж не о чем было говорить. Оставалось вступить в рукопашный мордобой или покинуть зал. Мы переглянулись, заерзали на стульях. Сурков, должно быть, спохватился, что перегнул палку: что ни говори, он был в этих делах опытным человеком. Его энергия сразу куда-то улетучилась, оказалось, что уже поздно, что у них и у нас еще много других дел, но встреча была полезной… Главные бонзы мгновенно исчезли, лишь в разных уголках зала продолжались кулуарные беседы. Мы окружили группу Бека, говоря ему, как высоко ценим «Шоссе». Он излучал радость и выглядел уже совершенно нормально, поскольку коли начальство удалилось, игра была излишней. Поэт Сергей Смирнов, личность на редкость омерзительная, которому трудно было даже сочувствовать в связи с его физической ущербностью (горбун, услужливый графоман и зоологический антисемит – целый букет неприглядных качеств), еще продолжал свой монолог, развивавший идею Суркова о пользе военной интервенции 1956 г.; его издалека обходили. Яшин пережевывал ранее высказанные мысли, сильно сжимая челюсти и поглядывая на нас с каким-то важным немым вопросом в глазах. Место побоища – груда беспорядочно расставленных стульев – еще дымилось от горячих эмоций, а за окном беззаботно шумел очередной фестивальный день. Мы, поляки, переглянулись между собой, понимающе улыбаясь: для такой массированной и неожиданной атаки результат неплох, «еще Польска не сгинела»…
Александр Бек
И урок этот пошел впрок. Я благодарен за него судьбе. Потом мне доводилось бывать в ЦДЛ десятки раз – в ресторане, в разных кабинетах, в редакции «Юности», на кинопоказах. Это были, однако, кулисы, кулуары, тылы. В самом эпицентре я оказался только раз, тогда, имея возможность наблюдать – правда, на холостом ходу – союзную машину для переламывания людей. Ее скрежет и лязг и сейчас звучат в ушах: Только теперь я вижу, что в прошлом году нам надо было пойти с вами на большую драку…
Этот урок имел нечто вроде двух эпилогов. Тоже поучительных.
Первый наступил вскоре. Нашу группу пригласили на новую встречу. На этот раз предполагалось чисто дружеское застолье. Созвали также писательскую молодежь из других делегаций. Московские литераторы предложили нам поездку на теплоходе.
Мы прибыли на речной вокзал в Химках, построенный в виде пагоды, увенчанной каким-то абсурдным шпилем. Это творение эпохи зрелого сталинизма играло важную роль в финале кинокомедии Г. Александрова «Волга-Волга». Нас провели на набережную к представительному прогулочному кораблю «Иосиф Сталин». Тут и там раздались смешки. Организаторы занервничали, засуетились, кто-то куда-то побежал, нас попросили обождать, а через какое-то время доставили к другому судну. Это был гораздо более уместный в такой ситуации «Максим Горький»: организационный рефлекс сработал, признайтесь, недурно. Сразу после этого «Горький» двинулся прогулочной трассой – через залив и дальше – каналом Москва-Волга. С обеих сторон поплыли неброские подмосковные пейзажи. Мы наблюдали их с верхней палубы, но недолго: вскоре нас пригласили в салон.
Здесь уже подготовили художественную часть мероприятия: певца, аккомпаниатора, водку и обильную закуску. Гостей – разных и разноцветных – было порядочно, хозяев же, как всегда в таких случаях, еще больше. К сожалению, в те времена распознать многих я не мог, но бьюсь об заклад, что преобладали те деятели, литературные лизоблюды и прихлебатели, которые превыше всего ценят любую возможность бесплатной выпивки и жратвы за счет демократической молодежи мира, дружбы народов и всего остального. Из настоящих писателей я запомнил небольшого, с крупным носом и седой челкой, с портфелем и элегантными (как-никак, петербургское воспитание) манерами Корнея Чуковского. Любимец детей и взрослых, сохранивших в душе каплю детства, демонстративно держался в стороне, давая тем самым понять, что рад видеть гостей, но что хозяева, дескать, – люди не его круга. Последние не заставили себя долго ждать. Едва мы расположились в уголке нашей польской группой, как рядом очутился Сурков со своим окружением. Все они излучали доброжелательность. В воздухе беспорядочно зажужжали слова типа: «главное – наша дружба…», «мы всегда вместе…», «немного повздорили, как в семье бывает…». Ясно – какая-то высокая инстанция велела им переменить тактику. Мы сохраняли сдержанность. Когда любезности сделались еще приторнее, кто-то, кажется, Брошкевич, наш милый и тактичный Брошек, бывший чем-то вроде руководителя группы, спросил: «А как же ваше сравнение польских писателей с Гитлером?». Тут я увидел умелое выполнение актерского задания на тему «кающийся грешник» – для демагога такого класса, как Сурков, это было нетрудно. Пауза. Он склоняет голову, руки сплетены на столе, взгляд, посланный нам снизу вверх, наискось, выражает озабоченность. Снизив голос, с трудом выговаривая слова: «Друзья мои, не помню, чтобы я это говорил. Но если даже и сказал, готов от этого отказаться». Мы принимаем это к сведению, первоначальная натянутость ослабевает. Подошедшие тем сильнее рвутся к установлению приятельских отношений; кроме слов, звучат и открываемые бутылки. Видно было, как они ценят этот простой способ разрешения конфликтов и налаживания дружбы – быстро провозглашаются тосты, требуют пить без остановки и до дна. Наша сдержанность им не нравится. «В дискуссии вы выказали такой темперамент, – обращается ко мне Сурков, – а пьете так мало!». «У нас темперамент определяют не количеством выпитого», – отозвался я не слишком складно, но быстро. Впрочем, в подобных случаях, когда в голове уже шумит, слова кружатся беспорядочно, не всегда корреспондируя друг с другом и создавая своеобразную полифонию застольного галдежа. Еще звучали колкости, но более добродушные: кто-то из нас упомянул о ста цветах (китайцы незадолго до этого провозгласили лозунг их выращивания, но дело шло уже к культурной революции), которые следовало бы посадить в Союзе, кто-то из них – не без остроумия! – парировал, что сто цветов – хорошо, а сто сорняков – вовсе нет. Потом снова они: «Как вы можете ставить в театре Кафку? Строите социализм – и вдруг Кафка!». Тезисов в защиту пражского новатора, которую, конечно, предпринял кто-то, я уже не помню. Вокруг становилось всё шумнее. За другими столиками водочное братание протекало без препятствий, особенно среди своих, связанных в будни и праздники общедоступным императивом единодушия.
И вдруг:
Я помню чудное мгновенье…Галдеж несколько поутих. Худощавый, седеющий, мечтательно улыбающийся мужчина лирическим тенором адресовал нам с эстрады пушкинскую элегию, посвященную Анне Керн и превратившуюся в русский романс. Какое-то время публика с надлежащим уважением слушала теплый (типа нашего Мечислава Фогга) голос, принадлежавший знаменитому Ивану Козловскому. Как я потом узнал, он был послевоенным кумиром московских дам, делившихся на «козловисток» и «лемешисток» (т.е. поклонниц другого тенора – Лемешева). Некоторое время слушали, но тут же в звуковой фон включились какие-то смешки, пьяное бормотание, а уже момент спустя все стала заглушать застольная громкая речь – и удвоенный лиризм голоса и стихов должен был, как бедный родственник, пробовать пробиться сквозь звуковой хаос начальственных голосов к тем, кто ему внимал:
Передо мной явилась ты…А перед нами появлялись всё новые члены писательского руководства, распространявшие сильный запах «Столичной» и, похоже, менее склонные к братанию. Вон, кажется, снова возник болтливый Смирнов, а за ним маячил большой, толстый, выпирающий из спортивной рубашки, словно взбухшее тесто из квашни, Анатолий Софронов с угрюмой гримасой на широком лице. Не слишком даровитый, но весьма исполнительный и плодовитый комедиограф, он прослыл заядлым преследователем всего, что в драматургии и в театре отличалось большей творческой свободой и талантом. И надо же было так случиться, что почти в ту же минуту на первом плане очутился его ровесник и «подельник» по кампаниям разносов и зубодробительной критики! Оба они за восемь лет до этого являлись заводилами в сталинском наступлении на так называемых «космополитов» (читай: писателей еврейского происхождения), операции, если и не столь кровавой, как большая ежовская чистка, то в своей обнаженно расистской сущности особенно гнусной. Теперь этот второй «инженер человеческих душ» даже заслонял мне первого, хотя внешне был его полной противоположностью: щуплый, с длинной шеей и маленькой бритой головой. Резкие черты лица, узкие губы, сетки морщин, сходящихся к уголкам глаз – а глаза неизменно прищуренные и холодные, точно у снайпера, изготовившегося к стрельбе. Таким я увидел Николая Грибачева. В литературе он значил немного, его самоуверенность зижделась на иных основах. Он возник бесшумно, покружил вокруг нас сдержанно и молчаливо, а затем над столом заколыхался, точно ядовитая змея, его вытянутый и заостренный профиль. Лишь он один не задал себе труда произнесения какой-либо примирительной фразы: снисходить к идейным врагам было ниже его достоинства. Он появился, чтобы только обвести нас своим прокурорским взглядом, показаться, продемонстрировать свое присутствие: скривил губы в усмешке, поднял и отставил рюмку, понизив голос, произнес две-три фразы, адресуясь к ближайшему окружению, и исчез. Я не знал о нем тогда того, о чем написано выше, но он вызвал у меня чувство столь острой и сильной ненависти – инстинктивной и иррациональной, что я пронес ее без труда сквозь все последующие годы и ощущаю ныне, глядя на его фотографию, помещенную в «Литературке» по случаю 75-летия этого деятеля. Он попрежнему живет в лучах славы, руководит литературой и не только, являясь Председателем Верховного Совета РСФСР. Мне бы хотелось дожить до того дня, когда его и ему подобных будут судить, но боюсь, что он успеет почить в ореоле почета, хоть и попадет потом на бал к Сатане.
Как мимолетное виденье…Пьяный гул уже почти заглушал певца. Я старался взглядом ободрить его. Но, похоже, он в том не нуждался и не искал поддержки у публики. Казалось, он слышал только себя – прикрыл глаза и блаженно улыбался, а за этим крылись чувство превосходства и явное презрение к тем, кого его Пушкин называл «чернью», к людям, влиятельным в свете и убогим духом. Он оставался наедине с русским гением и русской музыкой. Они защищали певца от оскорбительного разгула толпы. Именно благодаря им он не превращался в то, на что, казалось, его обрекала унизительная ситуация: в цветок на ватнике, в жалкого скомороха, ублажающего господ за подачку с барского стола. Он был далеко и высоко над ними. С годами мне доведется узнать, сколько моих русских друзей находят свою жизненную нишу для сбережения и лечения израненных душ в музыке, в литературе, в коллекционировании. А пока я лишь предчувствую это, глядя на Козловского и слушая, как его голос – высоко-высоко, недосягаемо – несет это сокровище лирики и оберегает его…
Как гений чистой красоты…Есть такие мгновения прозрений, когда внутреннее напряжение внезапно разрешается – хотя бы в вашем собственном ощущении – постижением сквозь множество напластований какой-то сути вещей. Однадве рюмки могут тут помочь.
Так было и тогда. Я отодвинулся со стулом к стене. Перед глазами стояла картина разгула, подобного гульбе дореволюционного купеческого собрания: в задымленном зале люди то и дело вставали, произносили тосты, перекрикивались с соседями, обнимались и ссорились. А за окнами тем временем проносились две ленты пейзажа, поскольку «Горький» гнал по каналу со скоростью лимузина. Поднятая волна с шумом ударяла о сваи набережной, а на берегу мелькали то удивленно поднятые морды коров, то взъерошенные ветром кроны берез, то отблески солнца в окошках низеньких домиков. Этот «пьяный корабль» был точно заброшенная в бесконечное пространство планета, где шло повальное горячее русское братание и где маленькая группа более трезвых поляков наблюдала ситуацию, в которой принудительно оказалась; планета обильного пиршества новых хозяев, мчавшаяся в космосе повсеместной российской нужды и влачившая за собой лирический трен пушкинского романса. Обрушившийся на меня груз впечатлений, требовавших того, чтобы всё это запомнить и – когда-нибудь – выразить, ощущался почти физически. В который уже раз я ощутил давление обычной советской действительности, ставшей здесь нормой жизни. Выдержать его было трудно.
Сбоку на меня глядели чьи-то абсолютно трезвые, понимающие глаза. Моей коллеги по СТС Агнешки Осецкой[4]:
Агнешка Осецкая
Булат Окуджава
– Анджей, ведь это Оруэлл! Славянский Оруэлл, правда?
…«Горький» внезапно издал могучий рык, словно сбрасывающий скоростьреактивный самолет, потом заревел более низким тоном, задрожал и сбавил ход. Пьяная орава притихла, давая слышать мерный шум волн, брызнул короткий обильный ливень, затем выглянуло рыжее заходящее солнце. То, что казалось бесконечным полетом в неведомом пространстве, на деле давно уже было возвращением в исходный пункт путешествия – и мы ошвартовались у пристани в Химках. Наш прогулочный рейс завершился.
Мокрая палуба дрожала, как загнанный зверь. Пьяные, что-то бормоча под нос, цеплялись друг за друга на скользком трапе. Самых важных поджидали неподалеку черные машины. У трапа улыбающийся Корней Чуковский вручал сходящим с корабля дамам по цветочку: оказалось, что в портфеле он вез целый букет. «Иосифа Сталина» уже куда-то отогнали, должно быть, на запасной путь. Зато под вонзившимся в небо шпилем сверкала вымытая дождем лестница, на которой Любовь Орлова пела – в не слишком веселом 1938 году, когда Григорий Александров снимал свою комедию – о Волге, которая неузнаваемо преобразилась, будучи «сталинским солнцем согрета».
Я еще вернусь сюда, в Химки, шестью годами позднее и по очень важному для меня поводу.
* * *
Другим эпилогом урока было выступление Студенческого Театра Сатириков в том же Союзе Писателей, но уже в большом зале, где нынче ресторан, несколькими днями спустя. СТС самостоятельно в Москве представлений не давал, но участвовал в сборных концертах-спектаклях польской делегации. На этот раз, однако, ему предоставили целый вечер. Это соответствовало общей подмороженной атмосфере и недавней баталии в ЦДЛ как кулак носу. Не знаю, как до этого дошло. Но дошло.
Зал был набит представителями писательской братии «со чады и домочадцы» и их знакомыми. Пришла масса народу, от которой веяло теплотой и сердечностью. Выглядело так, будто все знали о нашей схватке с бонзами и решили душевно компенсировать это неприятное событие. Жадно и чутко они вылавливали намеки и иронический подтекст в наших скетчах, которые годом раньше разогревали публику варшавского Политехнического института во время октябрьского митинга-гиганта. Бурно аплодировали «Слепцам», где двое незрячих, на ощупь отыскивая дорогу, пытались вести друг друга, препираясь между собой, кто лучше знает верный путь, – и знаменитому «Шарлатану» Анджея Ярецкого, пожалуй, самому классическому эстеэсовскому мини-представлению, дававшему метафорическую вивисекцию оппортунизма. Не пропадала ни одна аллюзия, ни одна существенная смысловая деталь. Я переводил ударные места, пользуясь своим далеко не безупречным русским, но решающее значение имели не мои бездарные комментарии, а общее сильное стремление понять и поддержать наш критический запал. И еще – простое человеческое желание: хотели, чтобы нам было хорошо. Чтобы мы чувствовали себя среди своих.
После спектакля я стоял в проходе, разгоряченный нашим общим успехом, отовсюду тянулись ладони для рукопожатий, дружеских похлопываний по спине, мне понимающе подмигивали. Вокруг звучали слова: Молодцы, ребята! Отлично! Здорово! Так держать! Продолжайте в том же духе!
Последним из поздравляющих подошел престарелый русский еврей Марк Живов, имевший большие заслуги как переводчик с польского, выпустивший пятитомного русского Мицкевича – и, взяв меня под руку, спросил, иронически сощурив щелки глаз, на безупречном и напевном, как у всех уроженцев восточного пограничья, польском языке:
– Ну как, коханый пан Анджей? Как писал наш великий пророк Адам: «И немцы тоже люди», правда?
– Правда. Тоже.
Правда и то, что годом спустя здесь же, в зале, расположенном напротив, общее собрание московских писателей заочно и единогласно расправилось с Борисом Пастернаком. Не могу забыть и об этом.
Сколько из них участвовало и тут, и там?
Ситуация изменилась, подсказывает мне внутренний голос, заставляя помнить об обстоятельствах места и времени. Да, конечно. Так было много раз. Но они участвовали и в создании этой ситуации.
Что реально зависело от них? Как измерить вину и ненависть? Чего можно требовать от обитателей того мира с его стопудовой тяжестью, заставляющей этих людей единодушно распинать великого русского поэта?
…Тоже люди, правда?
Борис Пастернак
«БОЛЬШОЙ ТЕАТР ЖДЁТ ТЧК ПРИЕЗЖАЙТЕ СКОРЕЕ ТЧК ПЕРВУХИН»
Память сохранила еще своего рода приложение к дневнику фестивальной поры. Слегка размытый от времени, из этой памяти возникает портрет мужчины средних лет с упитанным, но интеллигентным – чуть ли не профессорским – лицом, в очках, с волнистыми прядями волос.
Михаил Георгиевич Первухин, в 1952 – 1957 годах член Политбюро (тогда называвшегося Президиумом) ЦК КПСС.
История, на первый взгляд, не слишком содержательная, но в определенном смысле тоже поучительная.
Про этого Первухина мы нафантазировали себе во время какой-то демонстрации. Их неизменно украшали огромные портреты вождей, наших и советских, особенно бросавшиеся в глаза тогда, когда телевидения еще не было. Первухин висел в конце, рядом с Сабуровым: этих двух деятелей сорока с небольшим лет Сталин после XIX Съезда отобрал для включения в состав высшего руководства, отобрал, как утверждают советологи, чтобы компенсировать сокращение старых кадров, обреченных им на постепенный отстрел. Ничего об этом я тогда, ясное дело, не знал, но на фоне толстощеких, квадратных, курносых и тупых физиономий остальных членов Президиума (поразительная и непрестанно возобновляемая общность внешних черт этих, как их назвал Ян Юзеф Липский, «мордасов» – примечательная черта!) интеллигентность облика Первухина бросалась в глаза. Мы, в нашем СТС-овском кругу, начали в шутку сочинять про него разные истории, будто это наш человек, которому вскоре предстоит выдвинуться. К удовольствию и пущей веселости фантазеров, действительность включилась в наши игры: Первухин явно делал карьеру, занимал всё более высокие должности, а его портрет перемещался с конца к влиятельному центру. Года два он был первым вицепремьером. Тогда мы и придумали телеграмму, якобы полученную нашим небольшим театром из Москвы: «Большой театр ждет тчк Приезжайте скорее тчк Первухин».
Что ж, хохма как хохма. Но жизнь вмешалась и тут. Мы действительно отправились в Москву. Состоялось выступление, хотя не в Большом театре, а в ЦДЛ. А еще раньше, в пору моей предфестивальной беготни по столице, наступило двадцать второе июля – «праздник народной Польши». В те патриархальные времена существовало правило, что оказавшийся за границей поляк сам, без специального приглашения, шел в этот день на прием в наше посольство. Пошли и мы, группа корреспондентов. Было весело, бестолково, алкогольно – под утро самые романтичные отправились плавать на лодках по близкому пруду, не подозревая, что могут всполошить тени Коровьева и Бегемота, так как лишь лет десять спустя это место, названное Булгаковым Патриаршими прудами, стало целью паломничества читателей «Мастера и Маргариты». Это, впрочем, не относится к делу. А относится к нему и даже составляет его ироническую кульминацию момент, который я запомнил. Был уже поздний вечер, я разговаривал с кем-то, стоя в дверях одного из залов. Вдруг меня слегка отодвинули – рядом прошел Хрущев, остановился у стены, взял бокал и с любезной улыбкой выслушал несколько приветственных фраз посла Тадеуша Геде. Кстати, он нисколько не был похож в ту минуту на свои позднейшие кругломордые и свиноподобные изображения. Мне он показался худощавым, непринужденным, но доброжелательно дистанцированным от собравшихся. Он что-то сказал, пожелал братской Польше и Гомулке всего доброго, провозгласил тост. Но я на него уже не смотрел, а устремил взгляд на человека, вошедшего вслед за ним и остановившегося сзади, не отрывая глаз от носков своих ботинок. Лицо у него было красное, мрачное, опухшее. Точно его отлупили по этой физиономии или он наплакался, как бобёр. Что за контраст с олимпийским спокойствием и ясным взглядом на портретах!…
Как вы уже поняли, это был он – Михаил Георгиевич, наш избранник, реальный и выдуманный в одно и то же время. Я смотрел на него в момент, когда он грохнулся, как говорят русские, «мордой об стол»»: поставил не на ту карту, когда за месяц до этого решалась судьба Хрущева, поддержал его противников, названных потом «антипартийной группой». Но Никита с помощью Жукова (смещенного со своей должности несколько месяцев спустя) овладел ситуацией. Теперь судьба нашего фаворита была предрешена. Он не являлся уже ни членом Президиума, ни вице-премьером и как раз тогда переставал быть министром какого-то там машиностроения. Это публичное появление, должно быть, одно из последних, наверное, задумывалось с целью дополнительно унизить проигравшего политика: Никита притащил его сюда как римский вождь, демонстрирующий плененного варвара.
Так жизнь оформила финал придуманной нами хохмы. Впрочем, Первухину не грозило ничего страшного, ведь это была уже послесталинская эпоха. Он будет еще председателем какого-то комитета, потом послом в ГДР, и лишь потом его постигнет не слишком тяжкая, но неизменная в условиях советской системы кара: он канет в черную дыру забвения, перестанет существовать – в прошлом, настоящем, будущем и всегда, покуда эта система существует и покуда перьями услужливых историков регулярно переписывается собственная история. Так семь лет спустя рухнул Хрущев, и сейчас тщетно было бы искать официально запечатленных следов его присутствия в этой истории. Так завершится почти двадцатилетняя эпоха брежневского маразма, увядания и паразитизма – вычеркиванием из памяти людей имени «дорогого Леонида Ильича». Удивительное, основанное на экстремальных проявлениях человеческих эмоций правило этого мира: чем громче, нахальнее, бесстыднее льстивые прославления, тем глуше позднее воцаряется тишина… В русском языке есть прекрасное, передающее самую суть этого понятия слово временщик, по сравнению с которым наше фаворит куда менее выразительно и точно. Как раз с таким временщиком, словно с материализацией наших шутливых фантазий, свела меня судьба, чтобы дать полезный урок. И кто о вас еще помнит, Михаил Георгиевич, кроме нескольких старых СТС-овцев?
ПАРТИЯ СТУЧИТ КУЛАКОМ ПО СТОЛУ
Судьба послала мне особого рода везение: я дважды появлялся в Москве сразу после очередного идеологического погрома. Так было в 1957 году и похоже – шестью годами позднее, в марте 1963, с которого начались мои ежегодные систематические поездки в Союз. Как раз тогда прошли получившие широкую известность встречи Хрущева и его свиты с творческой интеллигенцией. Никита сначала накричал и натопал на молодых художников, собранных специально для этого в выставочном павильоне Манежа; это был громкий скандал в декабре 1962 года, во время которого на ругань вождя стал огрызаться Эрнст Неизвестный. Затем Хрущеву подставили писателей – и здесь главные удары посыпались на молодежь. Ее отлупили по первое число, главным образом потому, что предшествовавшие три года явились временем ее формирования и взлета, а перед этими встречами, осенью 1962 года прошел специальный, посвященный молодым авторам пленум Союза Писателей, где о них говорили с энтузиазмом. В результате – они не скрывали этого в разговорах со мной – им казалось, что пришло, наконец, их время, отсюда и охватившая молодых эйфория. Тут-то и наступила крепкая трепка. Я приехал практически на другой день после этого и увидел «пейзаж после битвы». Место побоища еще дымилось, в воздухе звучало эхо хрущевских ругательств, а нокаутированные в первом раунде литераторы едва приходили в себя. Помню белого, как стена, Андрея Вознесенского, который крадучись проскакивал мимо ЦДЛ, хотя ему официально ничто не грозило. Видно, однако, впечатлительная натура поэта еще не оправилась от шока: что ни говори, а именно его выступление Хрущев прервал на полуслове, грохоча над головой Андрея кулаком по столу президиума (это увековечено на фотографии как выразительная иллюстрация на тему «Партия и литература»), на что зал, заполненный преимущественно твердоголовыми, отреагировал ором солидарного осуждения поэта. Другие, не столь болезненно задетые, сидели уже в самом ЦДЛ, приводя себя в норму. Вокруг радостно гоготали догматичные старцы, партийные графоманы и литературные администраторы всех возрастов, которые недавно ощутили опасность отлучения от кормушки. Однако и в том, что доводилось слышать тогда от приличных писателей, особенно фронтового поколения, ощущалось – что скрывать – тихое удовлетворение, что молодым утерли носы. Слишком уж они – по мнению старших коллег – эти носы задирали, считая, что литература начнется только с них. Было ли так в действительности? Тонкая это материя – взаимоотношения писательских поколений, сиюминутные интересы порой затмевают общую опасность, а субъективные ощущения принимаются нередко за истину, поэтому я здесь лишь констатирую то, что запомнилось.
Андрей Вознесенский
Эрнст Неизвестный
Приходящие в себя молодые тем временем возвращали своим лицам нормальное выражение, стараясь придать бодрости друг другу. Они уверяли меня, что сколько-нибудь больно не было, да и вообще ничего особенного не случилось. Словом – пробовали держать фасон. Но в глазах у них проглядывал страх. Хотя, что им такого сделали? Никто не был арестован. Их меньше печатали в журналах, несколько книг вылетело из ближайших издательских планов. Ведь это ерунда в сравнении с прежними временами. Но те давние времена оказались, похоже, совсем недавними, слабее была лишь концентрация страха.
«Видишь ли, Никита – это еще ничего, – объяснял мне знакомый художник. – Я смотрел на его лицо, когда стоял перед ним. Он пришел в бешенство, но мне не было страшно. Я видел разозленного человека, но человека искреннего. Он не понимает новой живописи, потому что так его воспитали, и всё тут. Хуже всего были те морды сзади. Эти не бесились, но, глядя на них, мне становилось не по себе».
Нечто подобное написал, кажется, вспоминая свою стычку с властями, Неизвестный, может быть, мой художник принял за свои впечатления старшего коллеги. Так или иначе, но я понимал их. На снимке, где Хрущев размахивает кулаком над головой Андрея, соседями вождя запечатлены Леонид Брежнев и Фрол Козлов. А в схватке с художниками принимал активное участие и Александр Шелепин – шеф КГБ. На Брежнева, хрущевского адъютанта, привычно и услужливо скалившего зубы, вторя начальнику, никто тогда не обращал еще внимания, а вот Козлов и Шелепин (уже в молодости прозванный коллегами «железным Шуриком», поскольку, как говорят, никогда не улыбался) считались ястребами из сталинского гнезда, рвущимися к власти, их побаивались все. По счастью, первый из них рано умер, а второй слишком резво устремился вперед и наткнулся на подножку Брежнева. Оба отличались тяжелым взглядом стальных глаз – впрочем, не только они. Ничего удивительного, что этот коллективный взгляд руководства обезоруживал – ведь так смотрело прошлое со всеми его методами и навыками, относительно которых никто не мог уверенно сказать, что они не вернутся.
Я искренне сочувствовал своим всполошенным ровесникам, выслушивал их взволнованные рассказы. Мы вместе ломали головы над вопросом о причине заморозков. Выдвигались концепции различных хитроумных интриг, но в сердце таилась надежда, что всё выяснится и образуется. Надежда была тщетной, а причина оказалась со временем тривиально простой: партия треснула кулаком по столу президиума, чтобы молодые слишком не высовывались, поскольку такой имела нрав, вот и всё. Хрущевская оттепель с самого начала лимитировалась, тормозилась и подмораживалась. Правда, это еще не было ее концом – только что взошла звезда Солженицына, попрежнему разрешалось разоблачать преступления Сталина. Лишь падение Хрущева полтора года спустя привело к запуску механизма мощного торможения, и брежневское болото начало засасывать всё, открывая эпоху двадцатилетнего застоя…
Пощечина, доставшаяся молодым, не была посему большим несчастьем. Упивавшиеся собой и слишком самонадеянные, они экзальтированно раздували размер и значение случившегося. Но я не брошу в них камнем, даже сегодня.
Может, просто потому, что это моё поколение? А, может, из-за того, что в минуту, когда я это пишу, спустя четверть века, ослабленные исходом на Запад многих ровесников, эти пятидесятилетние ныне люди снова идут в атаку? Я лишен многих иллюзий, но искренне желаю им больше преуспеть теперь и не бояться начальственного стука кулаком по столу… Кстати сказать, тогда, на рубеже пятидесятых – шестидесятых годов, им устроили у нас большую рекламу. Надо отдать справедливость Алиции Лисецкой – это она прежде всего своими публикациями в «Новой Культуре» содействовала созданию своеобразной моды на молодых русских авторов. Невероятно, но факт. В то время случился характерный, как потом выяснилось, инцидент. В 1962 году «Политыка» поместила интервью, данное московскому корреспонденту ПАП (Польского Агентства Прессы) Вознесенским и Аксеновым. Текст был по-настоящему боевым, особенно в высказываниях Андрея, который заявил, в частности, что они – дети XX Съезда и готовы умереть за его идеи. Сразу после этого кто-то в Союзе их заложил и даже без громыхания кулаком по столу сумел приструнить, поскольку они поспешили отпереться от напечатанного и свалить вину на корреспондента. Некрасивая получилась история.
Их коллективное поведение можно, таким образом, оценить на три с минусом. Старшие коллеги, следившие за развитием событий без особого сочувствия, были во многом правы. Особенно старшие коллеги-лагерники, с иронией комментировавшие сверхчувствительность вчерашних чемпионов эстрады.
Но – возвращаюсь к своей мысли – прошлое было совсем рядом, только чуть дальше. Это был первый за четверть века и несколько смягченный идеологический погром. Вообще, многое повторялось теперь, но развивалось иначе. Через два года должен был состояться первый за три десятилетия судебный процесс над писателями, на котором обвиняемые – Синявский и Даниэль – не признали себя виновными, сохранили свое достоинство и фактически скомпрометировали обвинителей. С недавнего времени по рукам ходили первые публикации самиздата. Писателям впервые приходили в голову мысли о том, что отвергнутые рукописи могут обрести новую жизнь. Оказалось, что возвращение к открытому террору уже невозможно и что существует поле для маневра – правда, его приходилось нащупывать собственным телом, получая по зубам, когда маневр заходил слишком далеко.
Эти уроки принесли пользу многим, включая и тех, что называли себя детьми XX Съезда. Выводы делались разные, ведь всякая унификация взглядов представителей любого поколения является фикцией. Солженицын пошел напролом, но это было уже другое поколение, другой жизненный опыт, другая закалка. Однако случилось так, что ведущие представители тогдашней молодой прозы оказались потом на чужбине.
Я сам усвоил в результате этой первой встречи с ровесниками то, что затем во мне, по мере очередных приездов в Союз, лишь утвердилось как мнение: что в этой стране нельзя безоглядно осуждать никого, кроме подлецов и профессиональных доносчиков. И уж, конечно, не тех, кто когда-то не смог выдержать. Кто не плавал на подобной глубине и под таким давлением, пусть на минуту задумается: как бы он повел себя, если бы на него топали, изрыгая ругательства, Хрущев, Козлов, Шелепин, Суслов, Брежнев, Ильичев и как их там еще – и если бы на всё это ложилась мрачная тень Сталина.
Про себя скажу, не знаю.
В РОССИИ – В ГОСТЯХ
Вторым своим вторжением в Россию в 1963 году я обязан – что скрывать – телевидению. Тогдашняя редакция культурно-просветительского вещания (за точность названия не ручаюсь) доверила мне чтение польского комментария к русским учебно-образовательным программам, транслировавшимся то из Кремля, то из Эрмитажа или Третьяковки, то из старинных дворцов и усадеб. Техника того стародавнего времени первоначально требовала, чтобы комментатор находился на месте, в московской или ленинградской студии. Благодаря этому обстоятельству я в первый после перерыва приезд посетил Союз несколько раз подряд и в перерывах между программами располагал достаточным количеством свободного времени. Мне опять повезло: я был предоставлен самому себе. Потом я женился на русской, что открыло передо мной двери многих домов и сделало контакты еще более естественными и простыми. Особенно по той причине, что с 1957 года кое-что изменилось. Многие люди уже обзавелись собственными квартирами: постепенно завершалась эпоха коммуналок, в которых так называемый «ответственный съемщик» имел официальную обязанность доносить о поведении жильцов. Уже значительно меньше (а то и вовсе не) боялись визитов иностранца. Правда, я быстро сообразил, что дежурившим у лифтов писательских домов (а туда я наведывался чаще всего) консьержкам с проницательным взглядом лучше всего на вопрос: Вы к кому, молодой человек? – произнести фамилию с такой небрежно московской интонацией, чтобы сойти за местного. Вот так, на всякий случай, чтобы не обогащать сумму информации и толщину досье на моих знакомых (вопрос, удавалось ли это, не чувствовали ли многоопытные тетки во мне сразу иностранца, хотя я не совершал уже фестивальной ошибки и старался внешне не отличаться от обычных посетителей).
Так, полегоньку, складывался мой круг неофициального русского общения. Он стал гораздо полнее, когда я начал регулярно приезжать по частным и семейным приглашениям: тут уж у меня не было никаких официальных обязанностей, масштабы и темпы осуществления моих профессиональных начинаний зависели только от меня. Это дарило чувство упоительного психического комфорта. Я пребывал в самом ядре системы, но – почти – не контактировал с нею. Этажи бюрократии, пирамиды иерархических структур высились где-то надо мной, а я вел частную жизнь. Кружил от дома к дому, рекомендуемый одними людьми следующим. Система рекомендаций соблюдалась неукоснительно. Люди, взаимно доверявшие друг другу, передавали меня из рук в руки. Мне оставалось беречь свою репутацию, чтобы не подвести рекомендателя. Понятно, эта цепочка не была герметично замкнутой. Иногда на пути оказывался нек-то случайный, кто, забрав время, не оставлял хорошего впечатления, другим же, естественно, сам я мог не прийтись по вкусу. В целом, однако, всё протекало довольно гладко. Друзья друзей моих друзей жили не только в главных городах, но и по всему Союзу, и когда я стал ездить по стране, знакомые озаботились тем, чтобы снабжать меня алма-атинскими, ташкентскими и тбилисскими адресами и телефонами.
Вот пример. Я приезжаю в Киев, имея координаты Виктора Некрасова. Звоню: «Виктор Платонович, я такой-то, меня рекомендует А.». – «А.? Да, это наш близкий друг. Как его здоровье? Вы надолго?» – «На неделю». – «Очень хорошо. Завтра я, к сожалению, занят. Позвоните, пожалуйста, послезавтра, и мы обо всем договоримся». Звоню через два дня. «Андрей Иосифович? Рад вас слышать. Вчера как раз звонил А., очень тепло о вас отзывался. Приходите, жду». В этом некрасовском тексте была одна неточность: Виктор Платонович сам позвонил в Москву, чтобы спросить А., тот ли я, за кого себя выдаю. Я знал об этом, и Некрасов был в курсе, что знаю, но мы не чувствовали взаимной неловкости, поскольку речь шла о практике поведения в таком своеобразном государстве, как Союз. Правда, ситуация оказалась не совсем типичной, так как А. должен был раньше связаться с Киевом: обычно всё происходило за моей спиной. Порой я вручал новым знакомым рекомендательные письма.
Эффект был всегда тот же: полное доверие к пришедшему. Кроме всего прочего, этого требовало уважение к рекомендателю.
Так в стране лишь чуть притупленной бдительности, разветвленного полицейского контроля и раздуваемой в течение многих лет шпиономании действовал и, полагаю, действует по сей день не подвластный властям второй круг межчеловеческого общения.
Конечно, изложенная схема несколько идеализирована. В действительности случалось, что люди оказывались легкомысленны, не утруждали себя проверками, доверяли общим впечатлениям. В какой-то момент сложилось даже опасное мнение, что все поляки – сплошь порядочные люди. В результате случился шумный, хотя и не столь уж серьезный по своим последствиям, провал. В одном московском доме группа довольно известных лиц принимала Ежи Путрамента. Разговор шел искренний, без обиняков. К сожалению, не приняли во внимание характер гостя, который любил доносить и делал это даже тогда, когда обстоятельства к тому не принуждали. Участников беседы вызвали в соответствующие партийные инстанции, где долго и нудно поучали насчет опасности идеологических шатаний, вовсе не утаивая, кстати, источник полученной информации.
Если я оказывался абсолютно новым человеком, то доверие не исключало серии контрольных вопросов, которые хозяева искусно вставляли в диалог, начинавший знакомство. Речь шла о том, стоит ли трактовать меня серьезно. А посему – как бы между делом – интересовались, у кого я уже побывал, что в последнее время прочитал, что об увиденном и прочитанном думаю, знаю ли в Польше такого-то и сякого-то и какого мнения о них. Это также была обычная практика, к которой прибегали сознательно, сопровождая разговор понимающими полуулыбками обеих сторон. Естественно, специалисты, к кому я обращался за помощью по профессиональным проблемам, проверяли en passant (мимоходом) мою компетентность: но это уже процедура, используемая на всем свете.
Так выглядело, как правило, начало – а дальше? Сильно разочарую тут тех, кто хотел бы узнать о программах и концепциях, с какими меня знакомили. Ничего такого не было. И вовсе не по причине сугубой осторожности. Всё это было так давно, что, руководствуясь заявленным принципом полной искренности, я мог бы, изменив некоторые обстоятельства, дать вам понять, что кое о чем слышал. Но не дам, поскольку не слышал. Честное слово. Никогда от таких встреч не пахло конспирацией, здесь не возникали очертания каких-либо организаций. Звучали только свободные русские слова – типичный разговор интеллигентов. Кружила та «пара мыслей, что совсем не новы», как говорил наш Норвид.[5] Новым – для меня, пришельца – было само насыщение этих дружеских встреч беседами серьезного содержания. Возможно, это означало лишь, что в Польше я оказался не в лучшем окружении (действительно, после ухода из СТС мне не хватало собеседников для доверительного разговора). Но факт, что там, где я пребывал, за столом шла только легкая светская болтовня, более всего ценились сплетни и анекдоты. Тут обнаружился мой прирожденный дефект: на меня всё это нагоняло смертельную скуку, около одиннадцати я мечтал о том, чтобы отправиться спать, столь очевидным для всех образом, что становился объектом постоянных шуток окружающих. Здесь же, в России, я ходил из дома в дом, засиживаясь до трех-четырех часов утра без малейших признаков сонливости.
Суть этих разговоров, их атмосфера, аромат? К сожалению, этого не передать словами. Абсолютно искренние, с полным доверием к собеседнику и с готовностью выслушать его. Рассказы о собственной судьбе и судьбах других, перед которыми блекла любая литература. Объяснения, кто есть кто на самом деле и кем был в прошлую эпоху. Споры о будущем России. Вопросы о Польше, включая почти обязательный, задаваемый обычно в самом начале и звучащий с оттенком грусти и затаенной надежды: «А поляки очень нас ненавидят?». Проблемы жизни и механизмы деятельности писательской организации. Свежие остроты и частушки. (Анекдоты ходили тогда целыми сериями. Великолепен был юбилейный цикл по случаю столетия Ленина – спонтанная реакция на развязанную властями оргию «новояза»). В соответствии с давними русскими обычаями, здесь и там читали и декламировали собственные стихи и короткую прозу. Это были, как правило, вещи, которые я встречал позднее в журналах и книгах, но индивидуальная авторская экспрессия придавала им особое звучание. До сего дня звучат в моих ушах большие куски «Сказки о дожде», пропетые Беллой Ахмадулиной словно адресованная небу и бесконечная кантата; полный беспокойства глубокий голос Юнны Мориц : «Мама – ласточка» Мама – синичка!», хриплые интонации Дэзика Самойлова в «Анне, Пестеле и поэте»». Случались встречи с бардами, а это было невообразимо обширное племя, тогда долгими ночными часами продолжались целые гитарные турниры – песня на песню и еще раз песня. Потом в моей голове кружились пестрые гирлянды текстов с проблесками запавших в память мотивов, которых затем никогда не удавалось отыскать – как, скажем, этот, ни на что не похожий, песенки о трупе со свирелью:
Мертвец играл на дудочке, На дудочке играл. Не мне, а встречной дурочке Он руку целовал…[6]Я стал наркоманом таких русских домашних вечеров и часто думал: имей я ковер-самолет, то дни проводил бы в Варшаве, а вечера в Москве.
Как правило, встречи проходили на кухне. О вы, стандартные, но уютные (больше обычных польских), с тихо ворчащими холодильниками, вечерние кухни русских друзей, с вашим скромным угощением – сыр «голландский», колбаса «любительская», хлеб «бородинский», какой-нибудь наскоро приготовленный салат, бутылка «столичной», а то и просто «московской» – когда мне снова доведется греться в вашем тепле? Почему-то считалось, что в кухнях не ведется подслушивание, так как здесь отсутствуют телефонные розетки. Что касается самого подслушивания, особенно в домах и отдельных квартирах, предназначенных для писателей, ни у кого не было сомнений, что оно имеет место. Поэтому особенно важные разговоры вели на свежем воздухе. Приведенное меню не являлось неизменным, случались и роскошные ужины, тем более, что русское гостеприимство отличается размахом. В этих случаях нетрудно было угадать, что хозяйка дома заблаговременно посетила местный рынок, где по очень высоким ценам частники продавали мясо хорошего качества (в магазинах Союза покупают только так называемую «рубленку», когда не принимается во внимание нормальное деление его на отдельные категории и многое зависит от расположения к вам рубщика-продавца), и запаслась безумно дорогими, но достойными праздничного стола фруктами, овощами и молочными продуктами. Это приносило ценные гастрономические результаты, но отнюдь не все мои друзья и знакомые были людьми состоятельными и имели время на хождения по рынкам, а потому с аппетитом поглощались и самые скромные блюда, зато хорошо приправленные диалогом. Мое второе появление в России проходило, впрочем, под знаком новой волны очередных и со стоическим спокойствием переносимых народом (так как бывало и хуже) продовольственных трудностей. Хрущевские эксперименты (в который уже раз!) угробили и без того дышавшее на ладан сельское хозяйство, и осенью 1963 года, когда в Москве готовилась наша свадьба, муку для традиционного пирога пришлось привозить из Варшавы.
Это гастрономическое отступление грозит затянуться, но мне хочется предупредить тех из вас, кто собирается вскоре поехать в Союз: цените, вдвойне цените гостеприимство русских и их советских собратьев, поскольку при безнадежной, наихудшей из возможных организации тамошнего снабжения, обрекающей женщину на поистине каторжный труд – хорошее домашнее угощение требует там либо очень больших денег, либо величайших стараний, либо того и другого одновременно. И цените обычные продукты, которые в Польше есть всегда, так как там бывает по-разному. Я сам видел в Москве, как элегантный гость принес хозяйке дома, рафинированной интеллектуалистке, кило репчатого лука, что было принято с непринужденной признательностью и изящной простотой, словно букет цветов.
Во всяком случае, прелесть московских вечеров заключалась не в угощении. Оно было только гарниром. Главной являлась атмосфера этих встреч. Я сразу почувствовал, что ее определяют несколько важных факторов. Для большинства моих знакомых собственные квартиры были недавно обретенным и поистине бесценным – после долгих лет многосемейных домашних «колхозов» – благом, которому они не могли нарадоваться. Они находили здесь спасение от гнета публичной жизни. Сталинскую суперархитектуру выдумали с расчетом на людей, выгнанных на улицу, предназначенных стать толпой, непрестанно подавляемой смотровыми вышками «высоток». Теперь постепенно обреталась грубо нарушаемая прежде «приватность» существования – даже в условиях системы подслушивания и профессионально шпионивших консьержек и швейцаров. Обреталось и право выбора: днем система навязывала людям правила общения, вечерами они создавали другие – для себя. Поэтому, что бросалось в глаза, кипела оживленная вечерняя жизнь: без специальных договоренностей соседи – близкие и не слишком – забегали поболтать, заскакивали на папироску, на рюмочку, чтобы потолковать о случившемся днем, взглянуть на гостя из Польши и т.д. Расстояния в Москве огромные, рестораны – забитые под коленку и окруженные терпеливыми очередями, кафе практически отсутствуют, клубы писателей и журналистов немногочисленны, там полно народу и много людей, встречаться с которыми не в радость. Пустота и темнота на улицах наступают рано, не давая особых шансов любителям ночной жизни. Стоит ли удивляться, что дом-крепость заменяет собой всё и пульсирует теплом – тем теплом, о котором в песенке Булата Окуджавы поется, что «его нигде нет ни на грош»? Квартиры моих друзей открыли мне другой – человечный Союз, это и есть прежде всего моя Россия.
Случались, конечно, и шумные празднества – особенно при выездах, далеко от Москвы, и в них была своя прелесть, о чем расскажу позднее. Бывали ночные эскапады, в которых заводилами выступали, как и везде, друзья-актеры, с большой цепочкой разных встреч: так однажды, скромно выбравшись в кино, мы оказались сначала на приеме по случаю кинофестиваля, затем в чьей-то машине и в нескольких домах, где опустошались холодильники сонных хозяев, позже присоединявшихся к нам, дальше на импровизированном капустнике, после (утром) в открытом бассейне на Кропоткинской и, наконец, в какой-то шашлычной – домой мы возвратились по прошествии двадцати четырех часов. Это также была Россия, причем в глазах иностранца в своем классическом экспортном варианте. Многие из зарубежных гостей будут помнить и ценить ее именно такой. Я, однако, стою на своем: без этой, разгульной и шумной России могу, в конце концов, обойтись, а по той, домашней – тоскую.
Характерная вещь – отход в этих домашних обычаях от того, что кажется мне русской спецификой, т.е. от содержательной, серьезной беседы, в сторону общепринятого стереотипа давал, в моем, по крайней мере, восприятии, весьма сомнительный эффект. Однажды меня пригласили на именины известной поэтессы. Заранее радуясь перспективе оказаться за большим столом рядом со многими интересными людьми, я торопливо собирался на этот вечер. Увы – гости неприкаянно слонялись по комнатам или стояли у стен с бокалами в руках, царила скрываемая за любезными улыбками скука, мучительна была необходимость разговаривать с кем-то о чем-то – словом, это была нормальная европейская party, от которых меня с души воротит. В отчаянии я присоединился к группе, окружавшей поэта Павла Антокольского, популярного в писательских кругах Павлика, уже старенького, седого, маленького, но элегантного и обходительного. Он, похоже, тоже чувствовал себя не в своей тарелке, так как прерывал затянувшиеся паузы комплиментами в адрес собравшихся вокруг дам. «Павел Григорьевич, вы – настоящий джентльмен», – сочинил я, наконец, какую-то пахнущую нафталином фразу. «Да, да, Павлик – вы джентльмен! Настоящий!» – хором подхватили дамы. Но поэты – натуры трудно предсказуемые. Ветеран внезапно побагровел, затопал ногами и выкрикнул ломким дискантом: «Не хочу быть джентльменом! Не хочу!!!». – «Как вам угодно», – буркнул я, окончательно сбитый с толку, и, воздав таким образом дань искусству салонной беседы, спустя четверть часа бежал оттуда, куда глаза глядят.
Видел я и другие попытки догнать и перегнать Европу в сфере светской жизни. Вот, например, настоящий литературный салон. Публика была изысканная, писатели тоже, а в меню значилась – страшно произнести! – пулярка, о существовании которой я знал только по литературе. Хозяйка с плохо камуфлируемым торжеством делала в то же время вид, будто это – ничего особенного, птица как птица, и свято оберегала секрет ее раздобывания. Что же до пищи духовной, то сначала Андрей Вознесенский читал новую поэму, бравурную по ритмам и образности и напоминающую, как обычно, все предыдущие поэмы того же автора. Потом договаривались с Юрием Любимовым, когда эта поэма прозвучит со сцены Театра на Таганке. В ходе оживленного разговора в комнату вошел, а скорее тихонько проскользнул опоздавший Владимир Высоцкий. Ему позволили перекусить, а затем велели петь, и это была вторая художественная часть программы.
Маленькое отступление: человеческая память – довольно смешно устроенный ларчик. Знаю, здесь следует прервать рассказ и самым точным образом сообщить, что и как исполнил Высоцкий. Я без труда мог бы это сделать, поскольку слушал его не единожды (впрочем, имея в своем распоряжении его записи на ленте и пластинки, это сможет каждый), но не стану кривить душой, поскольку писать обещал не привирая: правда же в том, что ни одной песни я тогда не запомнил. Зато во всех подробностях память зафиксировала, что происходило вокруг и между ними. А именно: директор Любимов был страшно зол на актера Высоцкого (опоздал на спектакль? сорвал репетицию? – я не имел понятия, в чем дело, а спрашивать, понятно, не пристало) – при виде барда он побледнел, потом побагровел, демонстративно повернулся к нему спиной и сидел с миной «я этого слушать не желаю». Высоцкий с полуулыбкой раскаявшегося грешника время от времени бросал взгляды на насупившегося шефа, несколько сбавлял экспрессию и шуточками пытался разрядить атмосферу. Любимов демонстрировал непреклонность своей позиции. Его тогдашняя жена, некогда звезда советского экрана (в первых после войны фильмах – «Воздушный извозчик» или «Сердца четырех» – она была белокурой мадонной наших щенячьих воздыханий), а теперь уже довольно матронистая Людмила Целиковская пробовала беззаботным щебетом смягчить напряженность. Тактичной посредницей пыталась выступить и очаровательная, газелеподобная Майя Плисецкая, изящная голова которой на невообразимо длинной шее поворачивалась то к одному, то к другому. Ничто не помогало. Помогло же пение Высоцкого. Мы стали свидетелями небольшого актерского этюда, режиссером которого был случай. По мере исполнения песен гнев Любимова ослабевал, хотя видно было, что Юрий Петрович старается быть неумолим, надувает губы, морщит брови, смотрит в стол, пока, наконец, не стало ясно, что это уже одна видимость, форма без содержания, а под занавес смертельные враги дружески беседовали и улыбались.
Я был бы неблагодарной скотиной, дурно отзываясь об этом доме, если видел и слышал в нем то, о чем сказано выше. Поэтому поступать так не стану. Однако поэтика салона обязывает, вынуждает гостей высказываться о впечатлениях, оценивать. Это тоже часть ритуала. Я очень люблю Андрея как личность, ценю его роль и постоянное присутствие в культуре, но вы, должно быть, согласитесь: это был не самый подходящий момент, чтобы отметить тот факт, что он пишет, по сути, одно и то же. (Кроме всего прочего, убежден, что он сам знает об этом лучше других и что эта невозможность преодолеть себя является его внутренней драмой: я читаю это на его лице. А поскольку знает сам, то есть надежда, что, может, когда-нибудь преодолеет). Согласитесь также, что на тему только что услышанных песен Высоцкого каждому лучше всего помолчать, подумать про себя. Словом, было хорошо, пулярка (нечто среднее между облагороженной курой и кроликом) – штука знатная, но я оставался и остаюсь по-прежнему почитателем русских кухонь, а не салонов.
Эти самые кухни время от времени одаривали меня доказательствами особого доверия – текстами самиздата. Здесь также царил случай: от разных людей я получал различные материалы, никто не вручал мне никогда собственных произведений. Случай, очевидно, базировался, судя по всему, на принципе, что движение рукописей осуществляется без ведома автора. При всей своей условности, принцип строго соблюдался, и этот ритуал гарантировал минимум безопасности. Кроме того, фигурировали лишь машинописные тексты: никакие другие виды множительной техники, даже самые примитивные, не использовались. Это тоже было своего рода видом самозащиты от обвинения в распространении текстов. Правда, в соответствии с тогдашним советским кодексом достаточным оказывалось обладание ими. Размножали и распространяли их, как я слышал, абсолютно спонтанно: тот или другой обладатель пишущей машинки, получив такой материал, по собственной доброй воле и желанию усаживался за нее и делал несколько копий, прежде чем вернуть хозяину. Это была безопасная форма первоначального ангажирования человека, дававшая, наверное, некий минимум душевного удовлетворения – сознание, что в механизм тоталитарной системы засыпаешь горсть песка. Эта стихийность, деконцентрация делала российский самиздат трудно поддающимся учету (как, скажем, учитывать тут тиражи?), а вместе с тем и трудно раскрываемым. В поле моего зрения, во всяком случае, не зафиксировано ни одного провала.
Сроки для прочтения были обычно короткими, тексты иной раз – обширными, поэтому все прочие дела отступали на задний план: следовало соблюдать пунктуальность, ведь дожидалась целая очередь. Читать в метро – нельзя, забирать с собой в поездки по Союзу – тоже. Ночные и дневные часы, проведенные за чтением таких книг, как «Всё течёт» Гроссмана, «Раковый корпус» и «В круге первом» Солженицына, «Чевенгур» Платонова, «Воспоминания» Надежды Мандельштам, были неповторимым временем эмоциональных и духовных потрясений. Я вставал, пошатываясь, от письменного стола, мир вокруг ходил ходуном и давил свинцовой тяжестью, в голове шумела бессонница и пляска мыслей, лопались, как мыльные пузыри, остатки иллюзий. В Польше тогда практически не с кем было этим рано обретенным знанием поделиться, написать некуда – «второй круг книгообращения» (наш самиздат) еще никому и не снился. Русские – легальные или не вполне – мало кого, по сути дела, касались. Всё это приходилось носить в себе, делясь только с женой и горсткой друзей. Именно тогда – моментами – я чувствовал гнетущее бремя давления советской системы. Художественная литература, если она настоящая, способна самым коротким путем, вызвав внутренний, душевный спазм, атаковать сознание, делать человека иным, чем он был прежде – до чтения. Вроде бы, всё это ты знал, еще не беря в руки странички машинописи, но знал не так…
Мне тогда оказали доверие, думается, с определенной целью. Россия подарила мне лучшую часть себя. С той поры я в известном смысле сам отношусь к ней, одновременно нося ее в себе. Это доверие я буду оплачивать в течение всего того времени, что у меня осталось.
Книги А.Дравича (монографии, переводы, лекционные курсы, учебники)
Книги А.Дравича (монографии, переводы, лекционные курсы, учебники)
ЛИЦА МОИХ ДРУЗЕЙ
Из-за страниц книг и рукописей, из воспоминаний о кухонных столах и домашних беседах, бурных ночных эскападах встают теперь передо мной человеческие лица. Некоторых я уже никогда не увижу, но тем более хочу запомнить, запечатлеть, постараться показать, что они значили не только для меня. Другие изменили фон существования, я встречал их в Венеции, Париже, Женеве, Сиднее, что рождало эффект географического сюрреализма. Еще какая-то часть, преображенная временем (об этом сообщают фотографии, ведь время летит галопом), осталась в своем естественном, московском или ленинградском окружении, надеюсь когда-нибудь навестить их там снова. Словом – в соответствии с пушкинским вздохом: иных уж нет, а те – далече…
Я открывал эти лица для себя постепенно, по мере очередных приездов, входя в писательскую среду, изучая ее, оживляя в общении изображения с фотографий и портретов. Познавал настоящее и прошлое. Слушал рассказы о негодяях, порой проявлявших инстинкты человечности, и о благородных людях с надломанной психикой и судьбой. Узнавал имена мужественных борцов, которых лучшая часть писательского сообщества искренне уважала, хотя за его пределами они не обрели большой известности (Степан Злобин, Фрида Вигдорова и др.). Время от времени со всей очевидностью обнаруживалось, что одного чтения для русиста слишком мало. Нужно было сюда приезжать. Особенно, скажем, проявления оттепели издали выглядели – увы! – куда значительнее и крупнее. Польская оптика их увеличивала. Казалось, что если уж там так пишут, то вскоре всё зашатается в основах и затрещит. Только учёт факторов застоя, страха, сил консерваторов разной масти, а также самих размеров этой страны, огромных расстояний от центра до периферии, позволял мыслить трезво. А всё это можно было почувствовать лишь на месте. Или, например, еще одно: читая в Польше разные тогдашние критические статьи русских авторов, я видел перед собой палитру тонко нюансированных взглядов на проблемы литературы и политики. Приехав в Союз и познакомившись с авторами, в живой беседе с ними я с удивлением обнаружил, что в принципе все они знают и думают одно и то же, а оттенки и полутона – только вопрос тактики, выбора способа защиты, образа жизни и деятельности. Тем более для меня становилось очевидным, что умение по-настоящему читать по-русски предполагает понимание не только текста, но и подтекста, контекста, надтекста, и что нигде, кроме России, этому не научишься.
Всё это было, однако, следствием встреч с людьми, к чему я и возвращаюсь. Их лица, движущиеся на киноленте памяти, смотрят на меня – кого остановить, подсветить, увеличить? Вот крепкоскулый, с терпким чувством юмора, словно бы уже преждевременно «высунувшийся» на Запад «красный Хемингуэй» – Вася Аксенов.[7] Ослепительно улыбающийся, тогда черноволосый, а теперь седой Володя Войнович. Меланхоличный Жора Владимов, объясняющийся охотнее междометиями, чем словами, скрывающий интеллектуальную изощренность под внешностью портового грузчика. Мелькают полные какого-то детского восторга, точно заспиртованные незабудки, глаза Владимира Максимова, который за прошедшие годы изменил и выражение лица, и образ жизни столь радикально, что вас охватывают одновременно и уважение, и беспокойство. Появляется гладко причесанная, с внешностью дореволюционной учительницы Юлия Мирская, лучшая переводчица с польского – никто так идеально не слышит ритм фразы оригинала… И сократовский лоб Дэзика Самойлова. И троица неразлучных тогда художников – Лемперт, Сидур и Силис, из которых двое потом польстились на легкие хлеба, а Дима Сидур оказался непреклонным и истинным творцом. Стремительно проходит легким, несмотря на старость, почти танцевальным шагом Роман Николаевич Ким, замечательный собеседник, хотя и не с самым приличным послужным списком – агент секретных служб, пребывающий на пенсии и способный в разговоре упомянуть: «Это было тогда, когда мы похитили в Праге архив Чернова! ...». И тут же рядом его приятель Лев Славин с лицом добродушно-озабоченного шимпанзе, одессит и неплохой писатель, которого, похоже, несколько уязвляла более громкая литературная репутация других одесситов (а может, это подозрение неосновательно?). Цветаевская челка Юнны Мориц и открывшая рот в бесконечной птичьей трели Белла Ахмадулина. И еще столько других, кому я улыбаюсь, не называя их имен и фамилий «страха ради иудейска» – может, лучше, чтобы они не появлялись в таком своеобразном контексте?…
Василий Аксёнов
Георгий Владимов
Владимир Максимов
Владимир Войнович
Давид Самойлов
Давид Самойлов
Задержу этот фильм воспоминаний на нескольких кадрах. Без всякой системы, без особого отбора. Одни запомнились в какой-то сцене, в конкретной ситуации, другие запечатлелись в итоге более длительного общения.
БОРЯ. Борис Балтер. Написал практически только одну, но зато замечательную книгу, за которую его будут помнить. Чистую по тону, правдивую, волнующую элегию по утраченному, фронтовому поколению: «До свидания, мальчики». Как в строке из стихотворения Окуджавы под тем же названием: До свидания, мальчики, мальчики, до свидания, постарайтесь вернуться назад… О молодости, щенячьих годах тех, что погибли. Вернулись трое из каждых ста. Боря был в такой тройке. Командовал полком, был ранен, надорвал сердце. Жил в цепи инфарктов и микроинфарктов, все время под тенью поднятой над ним косы смерти. Но он имел натуру несокрушимого бойца – беспрерывно кого-то защищал, что-то подписывал, созывал братьевписателей на совместные акции. Твердоголовые ненавидели его, как заразу, тем более, что он оставался членом партии. Критика регулярно Борю клевала – до тех пор, пока не отказало сердце и очередной инфаркт не свалил его в 1974 году, а было ему неполных пятьдесят пять. Незадолго до этого он завершил хлопоты по строительству собственного деревенского дома, который должен был стать чем-то значительно большим, чем обычная дача: крепостью, где он давал бы отпор врагам и собирал своих. Нарадоваться реализации мечты Боря не успел. Это был человек невероятного обаяния: детская доброта и наивность жили в нем в редком симбиозе с непреклонностью борца за справедливость. Небольшой, крупноголовый, с широким, словно бы наискось вылепленным лицом: очень высокий и пологий лоб, толстые губы, подвижность мимики, характерная для южанина, улыбка, заполнявшая собой любые помещения. Мне казалось, что он существует в непрестанном движении. В течение минувших двенадцати лет я не мог и не могу представить его себе мертвым. В подсознании это ощущается так, будто он пропал без вести на этом своем пожизненном фронте…
На моей киноленте памяти он стремительно врывается в какую-то из писательских квартир. Мы стоим небольшой группой, о чем-то говорим, кажется, уже прощаемся. Боря с трудом переводит дыхание, он бледен от волнения и спешки, улыбается и говорит: «Ну, ребята, надо защищать Исаича!». Видно, дело было во время очередной облавы на Солженицына. Все вокруг меня становятся серьезны: защищать-то надо, но как? Боря нетерпеливым жестом загоняет их на кухню – есть дела, о которых не стоит знать и другуполяку, и я слышу его свистящий, захлебывающийся шепот. Таким он и уходит от меня.
Белла Ахмадулина
Борис Балтер
ЮРИЙ ОСИПОВИЧ. Юрий Домбровский. Многолетний заключенный лагерей, автор великолепной книги «Хранитель древностей» – о разрастающемся безумии «большой чистки» 1937 года, увиденной из перспективы далекой Алма-Аты. Эта книга, хоть и с трудом, еще прошла через игольное ушко цензуры, а ее продолжение – «Факультет ненужных вещей» – уже нет, машинопись кружила в самиздате, потом ее опубликовали за границей. Продолжение говорило о том, как можно было уцелеть даже в тюрьме, соблюдая элементарные человеческие принципы. Юрий Осипович был высок, худощав, резок, состоял из одних острых углов, его лицо отшкурил, выдубил и покрыл глубокими морщинами Север – такие лица распознавались сразу. Размашистый в движениях, он порой пошатывался (много пил), приветствуя кого-нибудь, поднимал руки над головой, много говорил и любил крепкие словечки. В нем ощущались впечатлительная натура и еще большая культура, поистине безграничные возможности (он написал и многое другое – рассказы о Шекспире, впечатляющие изображения фашистского мира) – и то, что его навсегда выбили из седла те десять с лишним лет лагерей. Я знал и других людей подобной судьбы: их объединяло как раз то, что, угнездившись по возвращении в нормальной жизни, они каким-то необъяснимым образом оставались и вне её. Это выражалось в их взгляде, впрочем, трудно определить такое словами. Домбровский, каким я его знал, вел неустроенную жизнь, обитал в коммуналке, пригласив меня, долго и старательно запирал дверь, прислушивался к чему-то за стеной, потом послал свою подругу на кухню: «Муся, взгляни, не подслушивает ли этот гад». Тут же объяснил: «У меня паршивец-сосед, стукач, падла». Мы выпили пару рюмок. Он говорит: «А теперь я расскажу вам, как мы задушили доносчика». И начал сразу в полный голос, а поскольку стихотворение было длинное и детальное в описаниях, его декламация стала скандированным криком, который через открытое окно заполнил двор-колодец, отозвавшийся как резонансный корпус музыкального инструмента. Каменные дома точно застыли, вслушиваясь в его слова. Таким он и остался в моей памяти – яростно выкрикивающим страшный текст, с развевающимися космами прямых седых волос, с соседом, который, должно быть, подслушивал за стеной.
ЮРА. Юрий Трифонов. Помню его взгляд: я стою в мрачноватой комнате дома на улице Георгиу-Дежа и от нечего делать разглядываю книжные полки. Там много всего. Вижу русские и многоязычные публикации произведений Юры. Больше всего, пожалуй, разных изданий «Студентов». Есть и польское. Это возвращает меня в прошлое: именно эту книгу, одобрительно описывающую сталинскую кампанию против космополитов, мы в обязательном порядке обсуждали и прорабатывали во всех студенческих группах и на собраниях членов ЗМП. Взгляд Юры, всегда грустноватый, из-за толстых стекол очков устремлен на меня: в нем терпение и подавленность. Я знаю, эту ошибку молодости он ощущает как камень на совести, как пожизненный крест. Вижу – он этого не скрывает, и это заставляет уважать его еще больше. А не знаю я того, что уже вскоре он совершит замечательный поступок: напишет о том же еще раз и в соответствии с нынешними представлениями о правде, сведет счеты с эпохой великой лжи и с самим собой той поры. Книга будет называться «Дом на набережной», и я проглочу ее в душной и мутной ауре 1976 года, словно втягивая в себя большую порцию свежего воздуха. Мы с женой сразу послали ему тогда открытку с благодарностью за радость, какую он подарил нам. Юра ответил: «Рад, что вам понравилось – тем более, что тема вам знакома» – и это «тем более, что…» будет таким же доверительным и понимающим, как тот взгляд в полутемной комнате. Сдержанную в своих проявлениях, как он сам, дружбу, которой Юра наградил меня, прочитав какую-то мою рецензию на одно из своих польских изданий, я ношу в памяти среди самого дорогого, что подарили мне московские встречи. Нельзя высказать, как страшно не хватает теперь этого писателя, именно теперь, когда время – медленно и со скрипом – начинает поворачиваться в сторону его принципов и ценностей. Поэтому я стараюсь продлить тот момент, когда он – большой, угловатый, сохранивший и в зрелые годы что-то мальчишеское, с озабоченно вытянутыми вперед губами – из угла кабинета наблюдает, как я смотрю на «Студентов».
Илья Зверев
Юрий Домбровский
Юрий Трифонов
ИЛЬЮША. Илья Зверев. Один из тех «тружеников пера», о которых истории литературы обычно забывают. Да и то сказать – в России много таких. Они начинают с журналистики, потом берутся за промежуточную форму писательского труда – очерк: хорошо зная жизнь, они балансируют между реальностью и логикой, многое по необходимости затушевывая, но одновременно и открывая немало правды. Эта литературная работа там очень популярна и полезна, часто выполняет роль разведывательного отряда (именно так было в пору, предварявшую оттепель) – так осуществлялся социопсихологический зондаж состояния общества, насыщенный духом нового времени. Илья также писал подобные вещи, вроде бы легкие, непритязательные, но на деле призывавшие, хотя и приглушенным голосом, к изменению и улучшению жизни. Его томик «Второе апреля» вышел по-польски, а сам он чрезвычайно к нашей стране привязался, став одним из самых пылких, каких я знал, полонофилов. Он приезжал к нам, бегал, смотрел, выискивал, старался понять. Ему очень нравилось, что мы – другие. «У вас и чёрное не совсем чёрное, и белое не такое» …– сказал он мне как-то. Его восхитило «Танго» Славомира Мрожека, понятое им до самого глубокого дна. Зверев очень хотел написать о Польше и в то же время этого боялся, тщательно примеривался, но едва это сочинение начал – смерть оказалась быстрее. Подобно Балтеру, он был тяжело болен и жил в непрестанном кружении – бегал, восхищался, останавливался, принимал какие-то таблетки, тяжело дышал и опять пускался в путь. Круглолицый человек с несколько нездоровой полнотой, черноволосый, классический образчик еврейского интеллектуала (в действительности его звали Изольд Замберг), он воплощал огромную страсть к жизни, страсть к пониманию и максимальному выражению себя перед достижением той черной меты, которую, должно быть, непрестанно видел перед собой. А дожил всего до сорока. Я обязан ему многими полезными уроками, которые он давал мимоходом, без намека на назидательность, заботясь о том, чтобы я лучше представлял страну, куда приезжаю. Ильюша терпеливо охлаждал мою раннюю зачарованность русским авангардом. Я готовился уже к написанию своего краткого курса русской литературы 1917-1967 гг. и в тогдашней наивности полагал, что взлёт и упадок авангарда станут ключом, главной осью избранной темы. Илья озабоченно качал головой. Потом и я сообразил, что эта моя концепция отдает духом вопросов о шортах в фестивальную пору.
Как и пристало уроженцу русского юга, он любил сочное и образное слово. Об одном деятеле писательского союза он сказал как-то: «В сравнении с его статьей г…о – это компот!»; оцените блеск метафоры! А больше всего мне запомнилось, как этот полонофил-энтузиаст со своей хитрой и в то же время озабоченной улыбкой рассказывал об одном из эпизодов поездки по Польше. Писательская экскурсия посетила какой-то костёл. В притворе висел (были тогда такие правила) перечень книг, рекомендуемых для чтения, допускаемых и нежелательных… «И вот, сам понимаешь, бросились мы к этому списку, вообще-то говоря, будучи уверены, что в нем обнаружим. Наши книжки должны быть, понятно, в третьем разделе, а как же иначе? А тут – на тебе! Все наоборот. Советская литература на самом первом месте. Ее охотнее всего рекомендуют верующим! Полное замешательство. Идём к ксендзу – молодой такой, разговорчивый. Спрашиваем: как же так, святой отец? Нет ли здесь ошибки? А он: да что вы, какая ошибка? Мы – говорит – одобряем прежде всего морально здоровую культуру. А в этом отношении, господа товарищи, ваши книги безупречны, ведь у вас невозможно отличить мужчину от женщины…»
Я разразился хохотом, Ильюша вторил мне, но как-то тише и печальнее. При этом он крутил головой, глядя куда-то вниз. Но, пожалуй, я не ошибался, улавливая в его взгляде и тень удовлетворения – любимая им Польша и тут – даже в мелочи – оказалась на высоте положения.
БОРИС АБРАМОВИЧ. Борис Слуцкий. Очень значительный поэт, один из признанных лидеров фронтового поколения. Суровый стаж военных испытаний, доброволец, политрук, долгий боевой путь, много ран, много наград. Первое стихотворение опубликовал в мае 1941 года, второе – двенадцать лет спустя; первый тоненький томик «Память» издал в 1957 – почти в сорок лет. Но гораздо раньше завоевал себе настоящий авторитет. Он писал о том, что война – явление страшное, кровавое, опустошающее. Писал о павших и их наказах живым. В его стихах звучал императив фронтовиков – не забывать, быть с людьми, говорить правду. Потом он писал уже обо всем, но как бы никогда не снимая с себя офицерский китель. Его стих неровен, как шаг усталого пехотинца, с трудом переставляющего тяжелые сапоги, облепленные комьями грязи. Он хотел этого, сознательно погружал свою поэзию в повседневность, обращаясь к коллоквиализмам, прозаизмам, причастным и деепричастным рифмам. Умея писать плавно и гладко, он всегда предпочитал звучать жестко, колюче, шершаво. Некоторые полагали, что он зашел в этом слишком далеко, что это убивает самую суть поэзии. Право, не знаю. Я очень любил его именно таким – с этим программным антиэстетизмом, с постоянным опасением, как бы не написать «красиво».
Борис Слуцкий
Таков же он был в жизни: сдержанный, суровый, даже суховатый. В разговорах только приоткрывался, не распахивался наизнанку. За его внешней резкостью пряталась глубоко впечатлительная натура и тщательно скрываемая жажда признания. В стихах, где он был откровеннее, он сказал об этом прямо и по-своему: «Успех мне нужен, как навоз земле…». Возможно, повлияло здесь и другое. Как и Трифонов, Борис Абрамович был отягощен пожизненным горбом своего греха, только это не был грех молодости. Когда в 1958 году, в кульминационный момент скандала из-за Нобелевской премии, собрание московских писателей распинало Пастернака – Слуцкий добавил к общему хору свое слово порицания. Для меня это – одна из труднейших психологических загадок. Изощренные интриганы из правления писательского союза, должно быть, шантажировали его. Но чем? И как раз его – твердого, несокрушимого, живую совесть литературы, о ком Евтушенко писал, что «…он жил на гонорары за сочинение маленьких текстов для радио, питался самыми дешевыми консервами, не имея квартиры, снимал крохотную комнатку». Опустим здесь занавес, ведь я уже говорил, что осуждать в подобных случаях – дело нехитрое. По моему глубокому убеждению, которое хотелось бы передать и вам, Борис Абрамович с лихвой отработал и отстрадал свой грех.
В самом начале знакомства, несмотря на хорошие рекомендации, он отнесся ко мне недоверчиво. «А вы точно знаете, что это порядочный человек?» – упорно расспрашивал он мою будущую жену. Я как бы издали чувствовал на себе его холодный, проницательный, оценивающий взгляд. Как-то он устроил мне – у наших общих друзей – экзамен на знание малоизвестных русских поэтов и заставил попотеть, поскольку ему были ведомы самые заповедные уголки отечественной лирики, являвшейся его главной страстью. Я заработал, думаю, троечку с плюсом. И вот тогда он сделался чуточку мягче. Но и гораздо позже, когда мы вели с ним откровенные беседы, я каждый раз ощущал себя отчасти экзаменуемым. Более того – вдали от Москвы, в Польше, когда я писал что-нибудь о России, мне трудно было отрешиться от мысли, что он об этом узнает, разыщет, прочтет, оценит. Иное дело, что при каждом приезде надлежало отрапортовать ему о прибытии. Это почти дословно так, поскольку своё «слушаю» он произносил по телефону голосом командира, ожидающего рапорта. И такой рапорт следовало приготовить. Сразу после этого «слушаю» следовал вопрос: «Что нового?». Понятно, что нового в Польше. За Польшей Борис Абрамович внимательно и с любовью следил, имел в ней много друзей, переводил многих поэтов и считал, что ее поэтическая культура не уступает русской. Ожидаемый ответ должен был кратко передать самое существенное. Потом звучал столь же лаконичный вопрос: «Когда придёте?». Промедление тут не допускалось. А затем в его полутемном кабинете делался подробный отчет. Хозяин слушал, внимательно глядя настороженными, чуть выпуклыми, как у нахохлившейся птицы, глазами и подперев округлую, скульптурной лепки голову с пышными усами. Он выглядел как родовитый еврейский аристократ (не говорите мне, что это трудно себе вообразить, ибо именно так он выглядел, посмотрите на одну из его многочисленных фотографий и вы согласитесь со мной). Он почти никогда не улыбался, почти никогда его не покидало выражение глубокой озабоченности. Таким, должно быть, его сформировала война, и таким он оставался. Вы чувствовали, что получаемую информацию он взвешивает, оценивает, анализирует. Он задавал конкретные вопросы и сам конкретно информировал о том, что произошло в России. Легкая, поверхностная беседа здесь была исключена. На повторную встречу он, как правило, не приглашал, считая, видимо, цель достигнутой, и был прав.
Пока не наступила встреча, непохожая на прежние. Я приехал, представил отчет и рассказал о том, что в Варшаве в костеле Визиток отслужили заупокойную мессу за душу польского Слуцкого, Арнольда, умершего в Германии «мартовского изгнанника» партийных властей. Как не удалось поместить в прессе самого короткого сообщения об этом, даже некролога в «Жиче Варшавы» – и костёл стал единственным местом, в котором можно было почтить память бывшего коммуниста, офицера, замечательного польско-еврейского поэта. (Потом открытость церкви сделалась чем-то очевидным, но тогда – шел 1974 год – это создавало прецедент). И о том, что мессу за Слуцкого отслужил ксёндз-поэт Ян Твардовский. Борис Абрамович весь обратился в слух. Я знал, что его всегда интересовал факт существования польского однофамильца. Теперь мне довелось быть очевидцем рождения стихов – на моих глазах разгоралась искра творческого волнения. Вечером того же дня он позвонил: «Андрей, хотите, прочту Вам стихи?». Это было, кроме всего прочего, нечто очень русское в старом стиле – желание тут же поделиться только что рожденными стихами. То, что он прочел, являлось и прощанием, и сведением счетов. Он сопоставил свою судьбу и участь тезки, браталяха, задумался над выводами, сделанными тем, и, думаю, позавидовал его решимости. А затем транспонировал биографию Арнольда в свою неповторимую тональность, резкостью и обыденностью слога защищаясь от чрезмерности обуревающих чувств и вслушиваясь в звон варшавских колоколов, звучавших и для него…
Он закончил чтение. Я какое-то время молчал. «Ну и как?» – спросил он. «По-моему, очень хорошо, Борис Абрамович. Спасибо», – ответил я. «Считаете, что всё в порядке?». Да, я был уверен в этом. И продолжаю так считать.
Потом я получил от него рукопись этого стихотворения с его посвящением мне. Когда в начале 1986 года я узнал о смерти поэта и терзался мыслью, что никогда уже его в Москве не увижу, то перевел «Мессу памяти Слуцкого» на польский.
ОСЯ. Иосиф Бродский. Уже в марте 1963 года, когда я впервые посетил Ленинград, кто-то дал мне его телефон. Я позвонил. Он сказал, что придет в гостиницу, где я остановился. И появился почти немедленно. Мне запомнилось, что как только он пришел, сразу зазвучали его стихи. На самом деле мы, конечно, обменялись какими-то вступительными фразами, но у воспоминаний своя логика – они кратчайшим путем ведут к самому важному, а здесь это была поэзия. Он, это чувствовалось, жаждал контактов, особенно с гостем из Польши. В России, кроме узкого круга ленинградцев, его еще, по сути дела, никто не знал. А у него было сильное чувство собственного достоинства и дарования, нуждавшееся, однако, в подтверждении.
Он начал сразу с высокой ноты, голосом приподнятого, словно бы молитвенного звучания, и декламировал в традиционной русской манере, подчеркивая мелодию стиха, а не смысл. Вообще-то, я не слишком люблю такое чтение. Но на этот раз ничто, кроме стихов, не имело значения:
Джон Донн уснул. Уснуло всё вокруг. Уснули стены, пол, постель, картины, Уснули стол, ковры, засовы, крюк, Весь гардероб, буфет, свеча, гардины, Уснуло всё. Бутыль, стакан, тазы, Хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда, Ночник, бельё, шкафы, стекло, часы…Голос заполнял собой весь гостиничный номер. Я слушал едва ли не лучшее из его ранних произведений – «Большую элегию, посвящённую Джону Донну». Картина разрасталась по спирали, подобно полету кружащейся пчелы, и ей, казалось, не будет конца. Она вся состояла из конкретных деталей, но их наслоение, напластование обретало некий метафизический, сверхъестественный масштаб. Новый и великолепный поэтический мир, а одновременно впервые после эпохи Мандельштама целиком укорененный во всей европейской культуре, традиции, мифе – каскадами слов обрушивался на меня, прижимая к спинке кресла. У меня захватило дыхание.
…Ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду. Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье, Среди бумаг в столе, в готовой речи, В её словах, в дровах, в щипцах, в угле Остывшего камина, в каждой вещи, В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях За зеркалом, в кровати, в спинке стула, Опять в тазу, в распятьях, в простынях, В метле у входа, в туфлях. Всё уснуло. Уснуло всё…Иосиф Бродский
Признаком хорошего литературного стиля и вкуса никогда не было приписывание себе ex post (задним числом) безошибочных прогнозов и предсказаний. Но как раз в данном случае опасность подобных подозрений мне не грозит. Только редкостный тупица мог не почувствовать тогда, что имеет дело с преемником Анны Ахматовой на троне русской поэзии. И дело не в том, что этот вид поэзии должен был понравиться любому. Но открываемый Бродским масштаб поэтического творчества ставил его вне всякой конкуренции. Ведь многие в ту пору писали красочно, выразительно, искусно, отважно, честно. То было время обновления русской лирики. Бродский же ничего не обновлял, ни на что – в русской поэзии! – не опирался, кроме как на принцип, унаследованный от символистов и трактующий поэта в качестве посредника в постижении смысла бытия, посредника между землей и небом. Бродский создал новый канон, новую дикцию, обозначил собой новую традицию. Проблема первенства после знакомства с его творчеством переставала быть дискуссионной, обретала однозначное решение.
Это стало уже тогда очевидно для меня. Он закончил «Донна» бледный от волнения и усталости. У Иосифа было лицо явно семитского типа, но из категории сильных, крепко сидевших на коренастом туловище, с энергично выдвинутым подбородком. Он не походил на традиционного еврейского интеллектуала, а скорее ассоциировался с персонажами Библии или теми мускулистыми и рослыми израильтянами из кибуцев, которых мы с изумлением, как людей новой расы, рассматривали в пору варшавского Фестиваля молодежи 1955 года. «Иуда Маккавей» – подумалось в первую минуту, когда он только вошел, и таким он видится мне доныне, хотя со временем эта его коренастость перестала бросаться в глаза, как-то смягчилась.
Он взглянул на меня, ошеломленного, и победно улыбнулся, сказал «Вот такие стихи» и тут же начал декламировать что-то другое. Его голос опять мерно завибрировал, обволакивая волнами звуков. Стихи были разные, в его ранней лирике изрядно ощущалась юношеская котурновость, поза. Но время от времени подтверждалось и то, первое впечатление. Я видел перед собой первого поэта России. Недаром Ахматова решительно выделяла его из окружавшей ее группы поэтической молодежи и одаривала Осю своей монаршей протекцией. Рассказывают, что в случаях, когда в его стихах ей что-то нравилось меньше, она имела привычку, слегка подняв брови, произносить: «Пушкин бы так не написал». Этого было вполне достаточно.
В тот первый раз я узнал еще, что он – заядлый полонофил. Причиной этого являлась и какая-то польская девушка, и общая атмосфера тех лет (молодые тогда наперебой изучали польский, в тогдашней молодой прозе любимым атрибутом современного героя был популярный журнал «Польша»), и, пожалуй, его собственная обостренная впечатлительность, рождавшая ощущение изоляции, замкнутости, угрозы. Ведь Польша находилась совсем рядом, но оказывалась для него недоступной; отсюда и стихи о Монте-Кассино, и образ наглухо закрытой границы, над которой «тьмы жуоавлей без устали летят к Варшаве». Он знал польский и любил с гордостью об этом упоминать, рвался к нам, но не имел возможности выехать даже по приглашению. Единственное, что мы могли для него сделать – постараться, чтобы в разных переводах в наших журналах и антологиях вышло более десятка его стихотворений благодаря недостаточной информированности цензуры, которая, как выяснилось, не располагала полным списком благонадежных поэтов Союза.
Тут я уже забегаю в будущее. А тогда между нами завязались первые дружеские узы. Я был в его доме, о чем расскажу позже. Получил кипу страниц с его стихами. Вскоре после этого состоялся суд над ним, приговоривший его к ссылке как «паразита», чем власть, хоть и не непосредственно, доказала, что ценит его достаточно высоко. Ибо его, несомненно, выбрали с той целью, чтобы усмирить и устрашить вечно строптивый молодой литературный Ленинград. Отбыв срок, он через какое-то время вернулся. Контакт с ним был восстановлен. После этих испытаний Ося казался почти тем же, разве что более скептичным, иногда даже циничным, а также резким в словах. Его заграничная слава росла, вышел уже первый, французский, том переводов. Ситуация же на родине продолжала оставаться шаткой. Власти безошибочно чувствовали в нем чужеродное (вдобавок, еврейское) тело, воздействующее на окружение, хотя он практически не писал «политических» и остроактуальных стихов – его поэтическое царство было из иного мира.
В какой-то момент ему, вроде, даже улыбнулась судьба. В один из приездов я застал его радостно возбужденным. Замаячила перспектива издания томика стихов. На кровати и на столе лежали машинописные страницы. Ося просил совета, как лучше составить сборник, что выдвинуть, а что отодвинуть, дабы произвести выгодное для автора впечатление. Мы затратили на эту работу целый вечер и пришли к заключению, что издание, пожалуй, получается, дает объемное представление об авторе, что, хотя в нем нет поклонов режиму, но и особого раздражения оно не провоцирует. Да где там! Вскоре я узнал, что всё дело лопнуло. Впрочем, возможно, его намеренно водили за нос, чтобы поиграть на нервах.
Потом он навестил меня в Москве. Увидев его, я присвистнул от удивления: на нем была жокейка, клетчатый пиджак, соответствующий галстук, свитер и чуть ли не бриджи. Он выглядел как англичанин, изображенный в карикатуре. Ося был очень доволен произведенным впечатлением. В своем духовном строе и поэтическом искусстве он всегда тяготел к англосаксам. Его англофильство было, пожалуй, не столь эмоционально и экстатично, но явно существеннее, органичнее, чем полонофильство. Его костюм выражал некоторую иронию на сей счет, но одновременно это качество подчеркивал. Он мечтал тогда о поездке на Запад, приглашений имел массу, а шансов выехать не было никаких, поэтому такая игра становилась субституцией, замещением неосуществимых планов. Ося сказал мне тогда: «Знаешь, у меня там куча денег, с которыми я ничего не могу делать. Поэтому одному приятелю на свадьбу я сделал подарок – купил для него отель со всем оборудованием». Лицо при этом сохраняло серьезное выражение, только в глазах поблескивали искорки. А может, действительно, купил? Или только подумал, что мог бы купить, если бы захотел, поскольку в состоянии сделать это?… Но внутренне он совсем не изменился. Читал новые стихи, и комнатка коммунальной квартиры наполнилась его поэтическим пением, слышным и из коридора. «Что за гость у вас сегодня?» – поинтересовался любознательный сосед. «Это поэт из Средней Азии» – находчиво ответила сообразительная хозяйка.
Но вот настало время нашей последней встречи в России. Я провел тогда в Ленинграде очень напряженный и утомительный день. С Осей мы договорились встретиться поздним вечером. Я опоздал и добрался до дома на Литейном проспекте уже ночью, еле переводя дыхание от беготни и усталости. Дом этот был жемчужиной русской архитектуры эпохи сецессии, в нем жил когда-то Блок, а также Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский – впрочем, Ося описал всё это в очерке «Полторы комнаты», опубликованном уже в Штатах. Бродские и занимали эти полторы комнаты в шестикомнатной коммуналке. Отец поэта – бывший морской офицер и фотограф военной поры, жил на свою пенсию. Я пробрался в «половинку» Оси, преодолев удивительную систему каких-то двойных и тройных дверей, скрытых за шторами и занавесками, под которыми следовало проходить согнувшись. Комната была невероятной высоты, что характерно для старого петербургского строительства, рассчитанного на солидных жильцов. Богатая лепнина, огромное окно и невероятное нагромождение вещей. От помещения, где жили родители (поскольку полторы комнаты были в действительности одной), поэт отгородился гигантской пирамидой сундуков, шкафчиков и книжных полок, с которой тогда свисали цепочки елочных лампочек. Лампы залили всё разноцветным светом, стало сказочно и фантасмагорично, словно во дворце волшебника на Рождество. Мы решили говорить по-английски, чтобы затруднить подслушивание (из одиннадцати соседей, по мнению Оси, доносчицей являлась лишь одна особа, что, как он полагал, давало очень благоприятный – «для коммуналки» – процент, ссылаюсь на его текст). Это был двусторонне весьма сомнительный английский, но зато горячий, феерический – мы говорили всё, что приходило на ум, лампочки сверкали, нашлась выпивка, хотя отсутствовала закуска, и под утро я сорвался с места, как спринтер, чтобы поймать такси и помчаться куда-то в противоположную сторону города, в свою гостиницу до момента разведения мостов через Неву. Ночь прошла, усталость миновала без следа, я был полон сил и энергии. Скажите, как же мне не тосковать теперь по времени магических встреч в России?
На Новый Год от него пришла открытка. Ося нарисовал на ней дующего в трубу пузатого ангелочка, а ниже поместил текст:
Patrząc bardzo smętnym wzrokiem W strony świata te i owe, Joseph Brodsky z Nowym Rokiem Was pozdrawia, Drawiczowie. (Грустным взглядом озирая Те и эти части света, Джозеф Бродский, с Новым Годом поздравляя, Шлёт Дравичам слова привета.)[8]К сожалению, интуиция его не обманула. Как раз где-то после Нового Года его пригласили (почти по-соседски, поскольку это через несколько домов от него) в Большой Дом, резиденцию ленинградского КГБ, где ему порекомендовали воспользоваться одним из зарубежных приглашений. Он колебался, но отвергнуть настойчивый совет не рискнул. В итоге вот уже двенадцать лет Ося живет в эмиграции. Его англофильство реализовалось в полной степени и вызвало горячую взаимность. Как мне говорили, из русских только Солженицын и он по-настоящему приняты и утвердились на американском издательском рынке. У него есть там свои читатели и почитатели, свои переводчики, своя публика. Ося пишет, публикует, выступает, ездит, его авторские вечера становятся событиями. Его английский сделался тем временем безупречен, и стихотворение, полученное от него в доказательство доброй памяти в 1982 году, написано по-английски. Русский написал на языке Шекспира стихотворение о Польше для американцев и посвятил его польским друзьям: пути поэзии неисповедимы, но своей цели она непременно достигает. Это стихотворение перевел на польский Станислав Бараньчак, оно называется «Колядка периода военного положения». А Ося блистает на всех континентах как первый русский поэт, радуя нас и тем, что мы не ошиблись в оценке. Я очень рад за него, поскольку, коли уж ему выпало покинуть Россию, то судьба подарила ему лучший вариант жизнеустройства, а одновременно сердечно Осе сочувствую, так как эмиграция – это всегда драма, и я далеко не уверен, что взгляд его «на те и эти части света» теперь беззаботен и спокоен.
Моим умершим друзьям желаю доброй и долгой человеческой памяти, а живым – оставаться там, где они лучше всего чувствуют себя.
ДВЕ ВСТРЕЧИ
(Это единственный текст прошлых лет, который я включаю в книгу. Он написан после второй поездки в Союз, в 1963 году, и предназначен для «Штандара Млодых». Первая его часть была опубликована, вторая уже нет. Не помню тогдашней мотивировки отказа, думаю, что изображение нетипичных представителей советской молодежи не понравилось кому-то из редакторов газеты.
Многие наивные черты тогдашнего мировосприятия и мышления теперь бросаются мне в глаза, но я ничего здесь не меняю. Что-то от атмосферы тех лет тут есть, пусть свидетельством того времени и останется этот очерк.)
Встреча первая. Иван Федорович
I
Обедать мы сели еще без него.
Настало время совершения приятного ритуала русского хлебосольства, все заняли свои места, наполнили рюмки, после чего хозяин – седой, но с еще молодым и загорелым лицом – поднял свою за «гостя из Польши». И тут вошел он.
Можно ли назвать его стариком? Он был очень худощав, и в этом больше всего ощущалась старость: время, казалось, жадно высосало из него все соки, невесомое тело напоминало скорлупу выпитого яйца. Череп, обтянутый тонкой, можно бы сказать – протертой на складках, кожей, пульсирующие на висках жилки – и неомраченная ясность взгляда, выражающая счастливую уверенность в себе. А еще было в этом взгляде несогласие с собственной слабостью, в нем и в некоторой угловатости его движений (вовсе не выражавшей смущения, поскольку последнее являлось чем-то абсолютно чуждым ему) ощущались признаки борьбы со своим немощным телом. Это предательски изменявшее тело надо было держать под строгим контролем, командовать ему смирно!; чуть расслабишься – и оно треснет по швам, рассыплется, превратится в порошок, как мумия в книге Пильняка, которую неосмотрительно стали чистить пылесосом. И вот шея делала всё, что могла, дабы удержать голову и своей твердостью укрощать ее старческую дрожь. Шее помогал твердый воротничок темносинего френча, сшитого, должно быть, по специальному заказу, так как он напоминал мундир – только без погон. Но в ту минуту, когда он подошел ближе, я заметил, что враг кое в чем одолевает – ноги в армейских брюках, тосковавшие по глянцевым офицерским сапогам, заканчивались мягкими шлепанцами: он сразу спрятал их под стол и старался отвести от них взгляд, точно от постыдной наготы.
Так мог бы выглядеть в старости Павка Корчагин.
По-русски это обозначается кратко: военная косточка, военный до мозга костей. Нас представили, посадили рядом. Уже за супом он узнал, что я поляк, а я, что полк № 1023 Ивана Фёдоровича Мельникова прошел путь от Касторной (запахло гражданской войной и двадцатым годом) до тогдашнего Кёнигсберга, а нынешнего Калининграда. Что, следовательно, он воевал, в основном, в наших краях. С этой поры и соединяло его с нашим хозяином фронтовое братство. Теперь, приезжая в Москву, отставной комполка и останавливается всегда в гостеприимной квартире близ станции метро «Аэропорт». В городе миллиона приезжих такую возможность ценят и оберегают.
За столом завязался нормальный, непринужденный разговор. Тосты следовали один за другим. Полная рюмка Ивана Фёдоровича каждый раз поднималась, чтобы затем нетронутой вернуться на стол, это сопровождалось улыбкой, в которой не было смущения. Иван Фёдорович явно ощущал здесь себя своим – не мешал нам, как и мы ему. Но в атмосфере обычного обеденного разговора постоянно ощущалось его немногословное и доброжелательное присутствие. Он был. И вместе с ним за столом присутствовало нечто неуловимое, не дававшее забыть о себе, какое-то свечение давней легенды. Старик в темносинем френче казался ее эхом, доносившимся спустя много лет, как свет угасшей звезды, он неторопливо ел бульон и одновременно доминировал надо всем, что окружало нас в уютной и состоятельной квартире писательского дома с ее финской мебелью, палехскими сувенирами и польскими плакатами.
Меня тянуло к нему, и я невольно всё чаще выпадал из общего разговора, наклоняясь к соседу слева. Впрочем, вскоре тот вместе с хозяином погрузился в изучение полкового альбома или памятной книги с фотографиями (там, где снимков не было, о событиях повествовали любительские рисунки). Всё начиналось портретом усатого человека с трубкой, внизу шла соответствующая цитата. Оба ждали моей реакции на это изображение, а когда дождались, произнесли с легкой укоризной: «Ну что ж, так было!». Они произнесли это одновременно, на два голоса и, конечно, были правы. Усатый человек с трубкой являлся частью суровой правды, воплощением которой служил Иван Федорович, правды, слишком резкой для поры обиняков, компромиссов и умолчаний. Потом, в соответствии с рангом, первым после него, но помещенным сбоку, шел сам Иван Федорович – снятый в лучах заходящего солнца, в тумане пыли, с медалями на груди. Острый профиль почти такого же, что и сегодня, лица, открытый – то ли для пения, то ли для призывного крика – рот. Он шел, с парадным шиком выбрасывая руки, а за ним знаменосцы с богато расшитым полковым знаменем, они двигались полевой дорогой – и было в этом что-то от песни:
Мы – сыны батрацкие, Мы – за новый мир! Щорс идёт под знаменем – Красный командир!А за знаменем – пехотинцы; изношенные, омытые дождями, пропотевшие и молодецки обтянутые гимнастерки, открытые рты, суровые, обветренные, огрубевшие от войны лица. Они повторялись и на других снимках. К съемкам, явно видно, готовились, для них позировали, но это не мешало: в них сохранялась жизненная фактура, вы почти чувствовали резкий запах пота, сукна, махорки, ржаного хлеба. Впрочем, позы тоже были натуральны, правдивы; эти «батрацкие сыны» множество раз так строились и вытягивались по команде «смирно», словно предчувствуя, что большинству из них, ставшему прахом и золой, проросшими корнями полевых трав, именно в этом виде доведется предстать в наши дни. Позы, следовательно, были естественны. Я не однажды видел на Красной площади экскурсантов с монгольскими (может из Центральной Азии?) лицами, которые – прежде чем предстать перед фотографом – по очереди снимали пальто и плащи, поручая друзьям подержать верхнюю одежду, и, старательно одернув гимнастерки и пиджаки, застывали, выпятив грудь и гордо выпрямившись, без тени улыбки на лице – спиной к Василию Блаженному и со взглядом, обращенным к мавзолею. Не представляю себе, чтобы самый искусный репортерский снимок мог рассказать об этих людях больше.
Так из фотографий составлялась история. Сожженное хлебное поле на Курской дуге, где чернели подбитые «тигры», а затем пошли родные стороны. Звучали названия – Августов, Сувалки, Моньки, Сейны. Этим путем шли они, пробиваясь к Нареву, прежде чем резко свернули на север, образуя кёнигсбергский котёл. Потом оказалось, что Кунавин, Григорий Кунавин, Герой Советского Союза, повторивший подвиг Матросова[9], был как раз из 1023-го полка. Я читаю решение собрания жителей какой-то маленькой белостокской деревушки, название которой потом выскочило из памяти: первый урок в первом классе ежегодно следует посвящать рассказу о Кунавине; это решение сдано на хранение в приходский костёл ксёндзу Цибосу, что также имеет неповторимый привкус той давней поры.
Затем заканчивается альбом, заканчивается война, заканчивается и обед. Ивану Федоровичу нужно теперь немного вздремнуть – это также уступка в пользу немощного тела. Но настоящий разговор еще только предстоит.
II
Сколько таких Иванов Федоровичей привлечет к вам на улице звук польского слова?
В Ленинграде к столику подсаживается седой, крупный, пожилой мужчина с дочерью. Дочка-подросток явно смущена громким красноречием папы по отношению к незнакомому, по сути дела, человеку. Она смотрит в стол, краснеет, ковыряет ложечкой в вазочке с мороженым, испуганно посматривает на отца, который громко требует советского шампанского, чтобы отметить такую встречу. Поколение дочери уже не имеет духовного контакта с тем давним прошлым. Так и в доме у станции «Аэропорт» на нас с Иваном Федоровичем исподлобья посматривал лохматый юнец: и что это они копаются в каких-то пожелтевших снимках? В конце обеда он пробормотал даже что-то, на что мы предпочли не обращать внимания: мол, любая война – это гадость и нечем тут восхищаться…
Но к молодежи я еще вернусь. Тот ленинградец стремительно ворвался в наш только что начатый разговор. Он чувствовал себя вправе поступать так. Польша? Его Польша? Она у него в седине, в костях, в шрамах. Он запомнил вкус ее болот, ее пыли, которой наглотался, преодолевая ползком ее километры, руины городков, где надо было прижиматься к излому стены под смертоносным огнем, высоты, которые сдавались после десятка кровавых атак, перекрестки дорог, где присыпали землей погибших друзей. Он помнил эту страну иной, отчасти уже не существующей, изъезженной гусеницами танков, в чаду густого дыма, в страшных криках обезумевших матерей, знает обугленные скелеты домов Варшавы, что вытеснили из его памяти руины Сталинграда, Орла, Харькова. Наверное, он не узнал бы эту страну теперь, минуя знакомые места в мягком, убаюкивающем шуме автомобиля – но, подумайте, не знает ли он ее лучше нас?… Подумайте о правах, какие дает такое знакомство. Там, в Союзе, больше, чем вы предполагаете, людей, которые станут на такие права ссылаться. Только потому, что вы из Польши, от вас будут требовать повышенного внимания. Уважьте это право, даже если для вас, как для упомянутых молодых людей, война – лишь эхо услышанных рассказов или жуткие проблески в тумане воспоминаний, а в случайно встреченных фронтовиках трезвый и сторонний взгляд способен видеть лишь потешных и маниакально возбужденных старичков. Сдержите равнодушное пожатие плеч. Здесь маленькое отступление заканчивается.
– Вы из Варшавы? Как вам удалось пережить всё это? – атакует мой ленинградец. Я пробую объяснить, что в городе было свыше миллиона жителей, а восстание унесло больше двухсот тысяч жизней, так что статистические подсчеты показывают… Чувствую, что до него это не доходит, он слушает, но не понимает, видя глазами памяти свою Варшаву – одно сплошное заснеженное кладбище. Он повторяет свой рассказ об обледеневшем обрыве над Вислой, куда он поднимался, держась за примерзшие к земле трупы, преследуемый огнем «мессеров»… Что за берег, где он был – сегодня уже не помнит, не может назвать места. Но этот берег засел в его голове так прочно, что когда он спрашивает: А как там теперь? … – в наклоне головы и в улыбке, с какой слушает ответ, ощутимо недоверие к тому, что берег Вислы может быть сегодня другим, не таким. Недоверие, понятно, подсознательное, иррациональное, но всё– таки…
Дочь осторожно тормошит отца за рукав и напоминает, что пора идти домой.
– А сколько у вас, собственно, этих партий?
И здесь начинается вторая часть бесед с Иванами Федоровичами.
Пожалуй, не менее интересная.
III
Евгений Воробьев, популярный писатель среднего поколения, выпустил недавно небольшую книгу «Сколько лет, сколько зим». Это лишенная претензий повесть о русском, которого во время войны прятали на Шлёнске (в Силезии) и который спустя годы приезжает в знакомые края. Взгляд героя застилает облачко дорогих для него воспоминаний. Однако он видит, что видит. И вот тут-то зарыта собака. Он видит правду, но в иных пропорциях, чем мы. Польша оборачивается к нему прежде всего своими отличительными особенностями. Эти эксцентрические и непривычные черточки растут на глазах. Наша галантность в обиходе и языке (только мы, дорогие земляки, знаем, насколько она поверхностна – иностранцы, а главным образом иностранки – легко ловятся на эту удочку), наше ритуальное «проше пана» со всеми его обогащениями – шановного, коханого и т.п. На следующем уровне – постоянный, общепольский мотив церковных колокольчиков-сигнатурок и ритуальные жесты – столь же поверхностной – набожности. Наконец, наш «частный сектор» – изобретательные торговцы, польские нэпманы, хозяева небольших лавочек, к которым гость из России относится с недоверием, как к экзотическому и запретному фрукту. Одного из них автор даже с некоторым усилием помещает на место негативного героя. И так из наблюдений, из отдельных подробностей складывается образ нашей страны, страны джаза, обаятельных полек, костелов, частников и кавалеров…
Я беседовал с автором:
– Это немного другая Польша. И, пожалуй, не вполне польская. Наша специфика в таком контексте меняет свои пропорции. В конце концов, не она определяет собой нашу жизнь. Изнутри, в наших ощущениях, это выглядит иначе…
– А мы смотрим как раз снаружи, извне. И нам это видится так. Вы к себе, понятно, привыкли. А книжка-то для русских читателей.
Безусловно. И, думается, «Сколько лет, сколько зим», изданная по-польски, была бы интересна и для нас.
Потому что Иваны Федоровичи очень внимательно следят за нами. И часто с некоторым удивлением, хотя и с неизменной симпатией. Так смотрят на бывшего карапуза, которого доводилось нянчить и который с годами превратился в строптивого и непослушного юношу – то яйцо, что курицу учит. Иваны Федоровичи видят нас иначе, чем молодежь, более или менее проинформированная на наш счет современной прессой. Они знают, что, живя в кругу одной большой семьи, мы сохранили свои характерные особенности. Упорство, с каким мы держимся за них, в вещах малых пробуждает улыбки, в вопросах больших и серьезных – понимание и уважение. Всё же, что ни говори, эта Польша – крепкий орешек, чтобы постичь ее суть. Она стоит размышлений и расспросов, коли подвернулся случай.
Вопросы, как правило, подразделяются на определенные группы. Сколько у вас партий? Что теперь делает Миколайчик? Как выглядит ваша деревня? Много ли у вас верующих? Сколько у вас частных магазинов? Каков жизненный уровень населения – выше или ниже, чем в России?
Они задают эти вопросы, выслушивают ответы. Слушают внимательно. Размышляют. Сопоставляют услышанное со своими воспоминаниями. Понятно, одно с другим согласуется плохо. Они видели нас когда-то сокрушенными, разбитыми, раздавленными. Это, естественно, рождает отношение – при всей их доброжелательности – слегка покровительственное. И вот обнаруживается, что мы как-то справляемся со своими проблемами. С чем это едят? Каковы они? Вроде бы, свои, но немного другие… Экзотический, дореволюционный «пан» приобретает в употреблении особую выразительность. Желая, чтобы гость чувствовал себя здесь, как дома, и в знак благодарности за усилие, какого требует от нас запоминание их отчеств, они то и дело вставляют это слово в разговор: «Пан Андрей, а что вы думаете…». Мы живем совсем рядом, но до полного понимания еще далеко. «Моя мама, – говорит мне девушка, которая собирается выйти замуж за поляка, – очень боится моего отъезда. Она говорит, что хорошо знает Польшу, так как между тридцать девятым и сорок первым жила в Лиде и в Барановичах»… Так вот городки былого пограничья четвертьвековой давности могут – в силу инерции – казаться моделью Польши, как развалины Варшавы семнадцать лет назад, как отдельные элементы цивилизации, популяризируемые журналом «Пшекруй» сегодня…
Нет, мы явно недостаточно знаем друг друга. Нам нужны более тесные контакты. Когда Иваны Федоровичи приезжают в Польшу с колодками орденов, завоеванных на нашей земле, когда их возят по стране и устраивают в их честь приемы, сами они смотрят – часто недоуменно – на то, что из всего этого вышло. Но осмотр места делает свое, старые шаблоны трещат и рушатся, наша непохожесть начинает казаться чем-то логичным. «Польша, пан Анджей, – сказал мне один из них, – это такая несхематичная страна: черное здесь – не вполне черное, а белое – не такое уж белое…»[10].
Оговорка, необходимая для финала: при всем том я вовсе не намерен их идеализировать. Наши Иваны Федоровичи, как и любые другие пенсионеры, не слишком одобрительно относятся к разного рода новинкам. Порой они преувеличенно подозрительны. Все новое принимается не без скрипа. Они придирчиво сопоставляют новое с собственным опытом и крутят головой, когда что-то не сходится. Это именно они, как писал кто-то, присылают в редакции письма типа: «Уважаемый товарищ автор, а не является ли ваше стихотворение «Усталый конь», говоря объективно, пасквилем на нашу прославленную конницу?». Они оберегают революционную чистоту со рвением, часто не соответствующим духу нового времени, имея единственной меркой свой собственный пример.
Да. Но, несмотря на это, надо порой вспоминать, что на нас устремлен их испытующий взгляд.
Встреча вторая: «Какой шмысл?»
I
Если после перерыва мы вернемся за тот стол, где сидел Иван Федорович Мельников, отставной военный, бывший командир полка № 1023, если вновь возвратимся туда – в дружескую атмосферу обеденного разговора, легкого позвякивания приборов и рюмок, то сделаем это теперь ради другого собеседника.
Он бросает на меня недоверчивые взгляды, не прерывая еды. На вид ему лет семнадцать. Его волосы взлохмачены, как, похоже, и его мысли. Нарочито серьезное выражение лица опровергается трогательным юношеским пушком на физиономии, заставляющим предполагать скорое наступление праздника возмужания – первого прикосновения бритвы. Должно быть, это десятиклассник.
И если Иван Федорович, «военная косточка», у которого даже добрая улыбка не смягчает острых контуров сжатого рта, со своей армейской суровостью несколько чужероден сытому достатку этого стола, то и юноша тоже по-своему выглядит здесь чужаком. Иначе, понятно, но тем не менее… И хочет, чтобы мы об этом знали. Когда он сидит так, слегка насупившись, когда бросает насмешливые взгляды исподлобья и ест почти машинально, лишь бы скорее (впрочем, даже не ест, а удовлетворяет потребность организма) – всё это означает, что общение с нами не доставляет ему удовольствия. Не столько, однако, снами – людьми с определенными именами и фамилиями, сколько с атмосферой и ситуацией, создаваемой нами здесь, за столом, и там, в отцовском кабинете, во всей квартире и вообще в этом писательском доме. Свои и чужие, местные и пришельцы. Немилость, в которую мы у него попали, вибрирует в нем легким, но заметным раздражением. Родители задают несколько обычных вопросов насчет школы. Он отфыркивается от них с гневным пренебрежением молодого мужчины, призванного решать серьезные вопросы, а тут поставленного в положение публично дрессируемого ребенка. Парень явно старается убедить нас в неэффективности такого поведения; в итоге ведет себя вызывающе, а хочет казаться естественным; что-то ворчливо бормочет, а стремится вполголоса произносить фразы умные и саркастические; нервничает, а намерен выглядеть спокойным. Он говорит быстро, потом внезапно обрывает предложение, умолкает, не договаривая его. На простые обращения типа: «Может, вымоешь руки?» – он отвечает, как видно, своим любимым оборотом: «А какой шмысл?». Именно так – не «смысл», а «шмысл». У этой фразы какой-то казарменный или криминальный вызывающий оттенок, который иностранец скорее чувствует, чем понимает. Он любит также, когда в разговоре прозвучит какая-либо констатация, тут же возразить – «А если нет? », что опять-таки призвано продемонстрировать: он противостоит всем и каждому – теперь, всегда, навеки, из принципа и убеждения, бросает вызов миру, ведет с ним свою войну – bellum contra omnes.
При всем этом он так симпатичен, что мне хочется тут же установить с ним контакт. Оказывается, это вовсе не так уж трудно. Может быть, потому, что я отношусь к нему вполне серьезно. Мы обмениваемся несколькими фразами. Говоря о своем поколении, ровесниках, он становится серьезен, куда-то девалась его вызывающая поза. Видно, речь идет о вещах для него понастоящему важных. Он говорит об ответственности, что они ее сознают – ответственность за всё. Не только за поколение старших братьев, но и отцов. (Иван Федорович или этого не слышит, или делает вид, что не слышит: оба стараются не замечать друг друга). «Как вы думаете, мы сможем?» – настойчиво повторяет он свой вопрос. И вдруг, точно включив автомат, произносит: «А если нет?» – и мой ответ перестает его интересовать.
Сразу после этого возникает возможность отыграться на отце. Сыну припомнилась какая-то его книга давних лет. Я не знаю, что это за книга, о чем она, но ясно, что автор ее стыдится. Хозяин краснеет, машет руками: тут не о чем говорить! Он явно хочет переменить тему. – Нет, ты скажи! – настаивает парень. – Ты не крути!
Отец приперт к стенке, а под взлохмаченными волосами танцуют искры торжества: наконец-то, вышло! Удалось! Спокойная заводь обеда с приглашенными взбаламучена. Нарушен ханжеский ритуал стариков, взволновались самодовольные филистеры. И поделом им!…
Инцидент завершен, да, собственно, мало кто случившееся заметил, поскольку всё это, будучи описано, чрезмерно укрупняется, выпячивается, тогда как в действительности разыгрывалось в полутонах, было чем-то мимолетным, проходным. Я же сижу парализованный ощущением невозможности выразить ему свою солидарность – как ее передать? Словом? Жестом? Знаком? Тут же понимаю – ничем, так как всё выглядело бы фальшиво, нарочито, не так; ведь и я сам здесь – лишь частичка того мира, которому этот бунтарь хочет показать язык. Так лучше всего – сидеть тихо и помалкивать.
А потому я только наблюдаю за этим героем тысячи восточных и западных книг о трудной молодежи наших дней, но вовсе не умозрительным, абстрактным, а с аппетитом уплетающим самый конкретный компот, за этим младшим братом различных «битников» и «энгрименов», а одновременно блудным сыном, довольным, что смутил сытое самодовольство папы.
– Хочешь ещё компота? – спрашивает его мать.
– А какой шмысл? – отвечает он, охотно подставляя свою тарелку.
II
Я уже знал этих ребят в лицо, встречал на улицах – московских и ленинградских. Это их новый элемент. Еще пару лет назад не ощущалось их присутствия. Теперь они бросаются в глаза, но не своим чрезмерным эксцентризмом и вызывающим поведением. Этого я практически не заметил. Но они вносят в жизнь улицы некоторое оживление, большую свободу, большее внешнее разнообразие – это более легкая и цветастая одежда, кое-где отмеченная чертами «художественного беспорядка», отвечающего духу времени. Это они нарушают однообразие и унылость облика местных улиц. Здесь имеется в виду, конечно, мужское однообразие, поскольку женщины – о чем каждый уважающий себя журналист обязан информировать читателей – быстрее обрели более разнообразный, элегантный и европейский вид. Мужчины же, в особенности средних и старших поколений, носят – главным образом, зимой – те же, осмеянные еще много лет назад Ильфом и Петровым пять бессмертных фасонов темно-синих и черных пальто с подкладкой или без нее – очень тяжелых, очень солидных и очень старательно застегнутых на все пуговицы, что невольно вызывает у приезжего впечатление, будто на улице можно встретить одних военных (только разжалованных – без погон). Так вот, эти ребята разрушают подобное однообразие изнутри и извне. Они любят ходить шумной компанией, и благодаря этому суровый порядок дает слабину, смягчается, не так давит на вас. Парни несут в себе ожидание новых перемен, предчувствие иных улиц, иных зданий и интерьеров, перемен, которые начались уже несколько лет назад и разворачиваются в новых районах старых городов. Молодые – это вестники будущего, упорно сверлящие напластования настоящего и прошлого.
Их можно без малейшего преувеличения назвать поколением Двадцатого Съезда. Им, как правило, еще нет двадцати, а это значит, что вся их сознательная жизнь прошла уже в послесталинскую эпоху. А это имеет колоссальные психологические последствия. Ведь если согласиться, что тот период, который стыдливо именуют «минувшим», был в значительной мере ненормальным, то эта молодежь – первое по-настоящему нормальное поколение. Без груза догматических предрассудков. Одним прыжком одолевающее порядочную историческую дистанцию. Подвергаемое воздействию всех факторов, сил и элементов сложной ситуации человека в современном мире. Связанное родственными узами со своими ровесниками во всех странах цивилизованной части земного шара. Но – смею утверждать – более духовно богатое, глубокое, мыслящее более серьезно, чем большинство из них. Отличающееся – если допустимо такое обобщение – и от наших, и от западных «сердитых парней». То, что у нас бывает проявлением обезьянничанья, дурацкого снобизма, а на Западе обнаруживает себя в гримасах фрустрации, в демонстрировании фиги, спрятанной в кармане, а в крайних случаях – в американских паломничествах в колонии битников на тихоокеанском побережье, в Союзе проникнуто настоящей социально значимой страстью. Историческая ситуация не позволяет иного. Речь идет о самых важных вещах, о судьбе процессов, начавшихся несколько лет назад. Двадцатилетние – по закону естественной преемственности поколений – будут активно участвовать в них. Они знают об этом, и это сознание определяет их зрелость.
При этом нормальность нового поколения обнаруживает себя во всем, а это шокирует окружение. Образ жизни, стиль поведения, моды и нравы молодых по сути дела одинаковы на всех меридианах и параллелях и для Советского Союза не только новы, но и внезапны, неожиданны. Особенно потому, что молодежь – в силу возрастных причин – склонна к экстремизму. А это всегда провоцирует конфликты. Прежде всего из-за того, что в нынешней ситуации существует противоречие между стремлением к безопасному и постепенному осуществлению реформ и спонтанностью психических процессов, которые – подобно цепной реакции – нельзя остановить. Думаю, что этим и объясняется многое, происходящее у наших соседей. Здесь заключены и будут сохраняться в будущем взрывоопасные моменты. А молодые, повторим, склонны к крайностям. Но любому обществу как воздух необходимы такие необузданные лохматые бунтари. И если стоит серьезно беспокоиться о чем-либо, то, пожалуй, как раз о том, чтобы они преждевременно не набрались обывательского ума, не овладели принципами стратегии и тактики карьеризма, не превратились в образцовых конформистов, соглашателей.
– А если да? – думаю я об этом, переделав любимую формулу моего собеседника.
Дай Бог, чтобы этого не случилось, дай-то Бог…
III
Мы ехали вечером по набережной Москвы-реки. Стоял неприятно затянувшийся в тот год конец зимы, когда измученные непогодой жители кляли в сердцах осточертевшие холода. В пору, обычно начинавшую весну, Москву еще раз окутала зимняя поземка, засыпало по колено снегом, ударил морозец, а под вечер продувало резким колючим ветром.
Мы с Андреем Ж. ехали Ростовским бульваром – бетонированным шоссе, обрамленным гранитом. Справа гранитная стенка круто спускалась к невидимой из-за мглы реке, жестко укрощенной сухой симметрией набережных и напоминающей большую водосточную канаву. Слева чернел терявшийся в вышине обрыв с хаотично разбросанными домиками-развалюхами, сараями, наглухо заколоченными складами. Еще выше громоздились большие желтые жилые дома, презрительно повернувшиеся к воде задом. Московские бульвары (как, впрочем, и варшавские), к сожалению, не связывают город с рекой, а их разделяют, они предназначены не для прогулок, а для целей транспортной коммуникации, и чаще всего по ним проносятся на большой скорости многотонные грузовики. Ветер раскачивал уличные лампы, и отблески холодного света мерно перемещались по еще более холодной абстракции гранита и бетона, шел редкий снежок, и пустота безлюдной набережной морозила сердце пронзительным ощущением бесприютности. В такую пору особенно тоскуешь по гостеприимному теплу и хорошей компании, а потому мы спешили к друзьям, лишь изредка перебрасываясь короткими репликами.
Внезапно впереди на тротуаре замаячили три фигуры, мы вскоре пронеслись мимо, не успев разглядеть их из-за скорости езды. Вдруг раздался какой-то хлопок. Маленький фольксваген Андрея жалобно ёкнул.
Что случилось?
Сначала мы ничего не поняли. Машина, разогнавшись, промчалась еще по инерции метров двести. Наконец, остановились, мы выскочили из автомобиля. Сбоку, на дверце, белеет остаток липкого мокрого снега. Ничего страшного – смеха ради в нас запустили крепеньким снежком.
Мы оглянулись – три тени еще маячили в отблесках прыгающего света.
В Андрее неожиданно пробудился оскорбленный собственник.
– Вернёмся!
Прыг в машину, резкий разворот, и мы уже мчимся назад на полной скорости. Те трое это заметили. Переполох, они бросились налево, в сторону ветхих сараев. Но едва успели пересечь шоссе, как мы их догнали, тормозя с резким писком. В такие минуты в наших душах старых ковбоев оживает неустрашимый Баффало Билл. Я выскакиваю первым, бегу каким-то ухабистым двором, слышу, как хлопнула дверца машины – значит, Андрей следует за мной. Двое против троих?… Но фигуры убегающих мелковаты, сознание подсказывает – молодежь. Они тоже бегут словно понарошку. Я легко догоняю последнего, хватаю за портфель: он в моих руках. Хозяин портфеля останавливается, оборачивается. Его друзья также задерживаются на приличной дистанции в несколько шагов. Мы все тяжело дышим. А что дальше?
Нас догоняет Андрей. Он с размаху хватает парня за ворот куртки, тормошит. Но выглядит это не слишком убедительно.
– Старик, – говорит тот низким, спокойным голосом, – я не хотел. Честное слово. Хотел только в колесо…
Во мраке я уже различаю круглую меховую шапку, смешную остроконечную бородку, симпатичное лицо, слегка насмешливое выражение глаз.
Андрей еще пробует раздуть в себе искру возмущения. Он приближает к себе лицо юноши, как это делают обычно в кино. Парень смотрит на него, не мигая; у него вовсе не испуганный вид. Андрей поднимает руку – удар сверху по голове, однако, не получился, по пути он слабнет, смягчается, соскальзывает на воротник и напоминает скорее дружеское похлопывание.
– Уберите руки, товарищ, – говорит провинившийся тоном легкого укора, каким убеждают психов. – Не надо рук. Пожалуйста, не надо.
Мы еще стоим какое-то время. Остатки справедливого гнева уже выветрились из меня, как газ из сифона.
Я оборачиваюсь, третий стоит в нескольких шагах от нас, а второй – почти рядом – оказывается девушкой в куртке. Девушка перехватывает мой взгляд и широко улыбается:
– А вы быстро бегаете.
Проходит еще минута. Я протягиваю портфель парню. Он, не говоря ни слова, берет его. Следовало бы, по крайней мере теперь, сказать ему пару крепких слов:
– Ну, брат, в другой раз берегись!
Это звучит как-то бесцветно. Троица молчит.
Мы разворачиваемся и, прыгая по камням, спускаемся вниз. Я чувствую на себе их взгляды. Ну, ладно, инцидент исчерпан.
Только почему мне так не по себе?
– Знаешь, старик, я как-то не мог… – произносит Андрей.
– А, вообще-то, у парня такая славная морда… – подхватываю я.
Мы садимся в машину. Дверцы хлопают довольно апатично. Чего-то тут явно не хватает. Чего?
Наверное, настоящего крепкого мордобоя за посягательство на священное право собственности. Мордобоя как действенного воспитательного средства, карающей длани закона. Конечно, мы вели себя как тряпки, как слабаки, а не настоящие мужчины. К черту это проклятое интеллигентское самокопание! Подумаешь – какие-то сопляки бомбардируют снежками машину, могут выбить стекло, могут нанести урон, – значит, надо наказать: дать им в ухо, в ухо, пусть попомнят урок, а потом дальше – в дорогу, весело, с чувством выполненного долга.
Да, конечно. Но это еще не все. Чего-то опять-таки не хватает.
Знаю. Не хватает ответа на вопрос, почему мы были взволнованы, а они совершенно спокойны.
Андрей теребит в пальцах сигарету. Троица уже добралась до тротуара и теперь удаляется от нас по бульвару, теряясь в перспективе холодного серого бетона. Они с портфелями – должно быть, после школы и выбрали не самое веселое место для прогулок: набережная в эту пору – это как Достоевский, скрещенный с Кафкой. Пожалуй, они хотели как-то выразить протест против безнадежности долгой русской ночи, разбить эту каменную симметрию, нарушить механический порядок хладнокровно несущихся машин. Вот так – жестом руки. Человеческим, мальчишеским жестом. Снежком. Это то же, что показать миру язык. Или задать вопрос: « А какой шмысл?»…
Они получили первое предостережение. Задетый ими мир материализовался в виде двух брызжущих злостью мелких собственников, выскочивших из импортного автомобиля, купленного одним из них за честно заработанные деньги.
Но они одержали и первый успех: собственники ретировались в свой мир, явно выбитые из седла.
Теперь они пойдут, радуясь одержанной победе, к себе, в один из многих дворов огромного дома, в суету многосемейных квартир, в тесноту загроможденных комнат.
Андрей что-то крутит в пальцах, потом кладет на сидение. Это пуговица.
– И на черта я её оторвал, – бормочет он. – Ещё дома его отругают…
– Пустяки. Пуговица не проблема. Мать пришьёт другую.
– Да-а… А физия у него, точно, симпатичная…
Мы поворачиваем. Опять справа тянется гранитная стенка, а внизу черная студеная вода распихивает большие льдины.
– Знаешь что? – продолжает Андрей. – Вообще-то, следовало пригласить их в кафе или на пиво.
Я и теперь сожалею, что мы не поступили так тогда.
Август 1963.
ПОРОЙ НЕ ВЫХОДИЛО
Чтобы не обрести репутацию самодовольного хвастуна, расскажу теперь о некоторых неудачных встречах. Понятно, каждый установленный контакт был успехом, но свидетельства о сплошных удачах отдают похвальбой. Поэтому стоит уравновесить их упоминанием о поражениях. Их было больше, но я выбираю такие, которые о чем-то свидетельствуют, что-то значат, а кроме того – хотя бы потому, что в них фигурируют значительные личности.
Первый случай не вызывает вообще ни малейших сомнений, поскольку любые крупицы воспоминаний о великих достойны внимания. Когда кто-то из ленинградцев позвонил и сказал: «Приехала. Примет тебя в пять часов» – я почувствовал дрожь в ногах. Это значило, что Анна Андреевна Ахматова уже в Москве, где остановилась, как обычно, в квартире своих друзей Ардовых на Большой Ордынке, и что с ней договорились о моем визите. Отложив все дела, я бросился по названному адресу. Дверь открыла она собственной персоной: в квартире, похоже, в эту пору никого больше не было, проводила в комнату, указала место за столом и свободно расположилась на стуле сама, опершись на обнаженные по локоть руки. На ее плечи была накинута, кажется, шаль, как на одном из поздних снимков. Я фиксировал все происходящее с особенно обостренным – как обычно бывает в таких случаях – вниманием. В течение последних лет она сильно располнела, не осталось и следа от «гибкой цыганки» из стихотворения Мандельштама, двигалась с явным трудом, хотя плавно и даже с какой-то грацией, но усаживание на стул и удобное размещение массивной фигуры за столом потребовало некоторого времени. Впрочем, ее это не смущало. Она была прекрасна и в своей старости. Сидя передо мной так, что ее профиль четко вырисовывался на фоне окна, она как бы позволяла созерцать себя, получая эстетическое удовольствие. Ее крупное тело родовитой россиянки представляло собой гармонично уравновешенную композицию, увенчанную величественной головой, которую удерживала одновременно горделивая и элегантно-естественная в своем изгибе шея. Это не слишком удачное – уже в силу чрезмерной многосоставности картины и расщепленности деталей – описание, поскольку в действительности Анна Андреевна воспринималась как гармоничное целое. Мне никогда в жизни не доводилось видеть подлинные царственные головы, но я абсолютно уверен, что природа не создала ничего более царственного. Я смотрел на королеву русской поэзии. Конечно, сознание того, кто она такая, отражалось на ее восприятии, но и без этого знания – убежден – ощущалось, с кем имеешь дело.
Анна Ахматова
Королева смотрела на меня доброжелательным и всеведущим взглядом. Казалось, ничто в жизни уже не способно удивить и поразить ее. Ее взор выражал ясное понимание добра и зла. Новый человек мог быть включен в космос ее знаний и памяти, в весь этот – заключенный в ней – двадцатый век, если был способен хоть чем-то блеснуть. Иначе он бесследно исчезал. Я почувствовал это сразу. Внимание Анны Андреевны было и милостью, и вызовом. «Молодой человек, – читалось в ее глазах, – вы знаете, кто я. А вы сами, вообще, являетесь кем-то? Стоит тратить на вас полчаса? А теперь давайте перейдем к делу!». Я обязан был блеснуть. И эта мысль лишила меня дара речи. Понятно, наряду с жутким волнением. В нормальной жизни меня не назовешь человеком робкого десятка, и с волнением я бы еще справился. Но необходимость сверкнуть фейерверком оказывала парализующее действие. Возможно, вы поймете меня.
Всезнающая королева должна была догадываться и о таком эффекте. В ее взгляде мне почудились веселые искорки. Она тактично дала мне шанс – своим глубоким, словно доносящимся из бездны голосом прочла несколько коротких стихотворений и предложила нечто вроде их элементарного разбора (в смысле «что хотел этим сказать поэт?»), спрашивала, какие ассоциации они вызывают. Это было легко, с подобным справился бы любой из моих студентов. Но для меня это означало продолжение экзамена, к которому я никак не мог приступить. Не мог – и все тут. Я обязан был эту невозможность преодолеть, поскольку ситуация была исключительная – ведь речь шла об Ахматовой. Я понимал это, мысленно проклинал себя – и умолк окончательно. Я лишь пожирал ее глазами, сознавая, что этот первый и последний раз через минуту закончится.
И он впрямь закончился – чуда не произошло. Королева спросила о знакомых поляках, после чего любезно распростилась со мной, все еще словно пряча легкую улыбку. Я поцеловал ее руку и вышел. Испытав полнейшее фиаско, я нес по Большой Ордынке чувство великой радости: что бы там ни случилось, но я ВИДЕЛ АХМАТОВУ и этого у меня никто не отнимет.
Вы скажете – для такой удачи результаты минимальны. И будете правы. Но всё же я ее видел.
Н. Кульбин. Портрет А. Крученых. Литография. 1913 г. (из книги А.Крученых «Взорвалъ»
Другой визит связан с посещением старого, теперь многоквартирного дома. Привел меня туда Гена – поэт и отменный знаток русского футуризма. Мы направлялись к последнему из последних футуристов, каким был Алексей Кручёных. (Правда, в Штатах доживал еще свой век Давид Бурлюк, пользовавшийся некогда крохами славы со стола Маяковского, но это был уже – в буквальном и переносном смысле – другой мир). Подниматься пришлось на какой-то очень высокий этаж, и мы порядком запыхались. В этом же доме жил некогда, по словам Гены, великий Хлебников. Времена благополучия старого дома и расцвета русского авангарда представлялись теперь равноудаленными. Хозяин открыл дверь и впустил нас на кухню: здесь он принимал гостей. В свою же комнату, как гласила молва, он не допускал никого. А о комнате этой кружили целые легенды. После смерти Алексея Елисеевича подтвердилось одно: уборка в ней не производилась, похоже, с двадцатых годов – хозяин имел привычку заворачивать мусор и любые отходы в газету и бросать эти свертки в угол. Так завершалась очень долгая и невеселая жизнь этого могильщика классической поэзии, построенная судьбой в виде своеобразного авангардистского хеппенинга – вплоть до полного распада формы. Футуризм сам по себе был художественным экстремизмом, а Кручёных являлся экстремальным экстремистом. Существуют такие участники-попутчики различных течений в искусстве, которые, знача в творческом смысле немного, суетятся, комментируют, скандалят, доводят всё до крайности. Их задача – шлифовать края доктрины своей группы, чтобы она резко отличалась от других. У меня дома есть старые кручёныховские брошюрки, дерзко задирающие любые другие ориентации, с заглавиями вроде «Обличья Есенина – от херувима до хулигана». В поэтическом плане Алексей Елисеевич был завзятым экспериментатором, а посему все антифутуристы лупили по нему, как по барабану. Именно он старался утвердить в поэзии «заумь», заумный язык, язык чистой формы, в связи с чем вульгаризаторы-критики издевательски потешались над ним на протяжении целых десятилетий. Маяковский упорно защищал своего неугомонного друга, назвав его как-то «иезуитом слова» и сетуя, что агитационные стихи приобретают у него проблематичное звучание… Ничего удивительного. Поэтом он был, прямо скажем, незначительным. Но, может, именно поэтому прожил такую долгую жизнь? Должно быть, очень трудными и бедными явились для него тридцатые, сороковые, пятидесятые годы. Ведь многие как-то приспособились, а он упорно держался своего края, в стороне от всего. Как раз в этой комнате с кухней.
Гена представил меня. Я увидел перед собой седого, очень тощего, практически невесомого старичка с крючковатым носом, да еще косоглазого. Он не пригласил сесть – светским обхождением здесь и не пахло. Хозяин деловито поинтересовался, что меня сюда привело. Я ответил в полном соответствии с правдой: «Желание увидеть живого классика русского футуризма». Он любезно улыбнулся узкими, язвительно поджатыми губами и прошел в комнату, старательно прикрыв за собой дверь. Через минуту вернулся, неся несколько пожелтевших брошюрок. Это были издания эпохи раннего футуризма – разного значения и ценности. Мы с Геной склонились над ними; поскольку тут никто не ожидал от меня ничего особенного, я без труда смог показать, что кое-что в этой материи смыслю. Но хозяину это было абсолютно безразлично. Он информировал меня, что книжки продаются – вся партия целиком – за 15 рублей. И что, если я пожелаю, он принесет еще одну порцию такой литературы. Единственное условие – покупать надо всё гуртом, предоставив выбор ему самому. Здесь и дала о себе знать пресловутая проза жизни. Я охотно принял бы участие в этой своеобразной книжной лотерее, но всё происходило в конце одного из моих первых приездов в Союз и деньги заканчивались. Без смущения я сообщил об этом хозяину – атмосфера кухни делала это вполне естественным. Тот кивнул головой и в знак того, что понимает и извиняет, посвятил нас в одно радостное для себя событие. А именно – недавно выпустили хрестоматию по литературе двадцатого века для студентов, где впервые за очень долгое время фигурирует и он. Правда, там допущена ошибка в тексте, но всё же… О, вот, пожалуйста… Худой старческий палец показал нам это место:
Дыр бур шил Убещур– Ну, конечно же, Алексей Елисеевич! – на лету поймал его мысль всезнающий Гена. – Ведь должно быть Дыр бул щил, Убещур!
– Вот именно – меланхолически улыбался последний авангардист, которого за эти «дыр бул щил» ругательски ругали два поколения критиков, видевших в довольно невинной фонетической забаве глубочайшее проявление упадка вырождающегося буржуазного псевдоискусства.
– Но всё же!
– Вот именно… Всё же…
Я смотрел на них сбоку: это была наглядная иллюстрация для учебника по истории русской литературы – классик давнего авангарда и его молодой преемник, склонившиеся над классическим авангардистским текстом, правда, несколько перевранным, но возвращенным читателям. Ситуация, полная значения – словно на моих глазах пульсировало время. Потом мы сердечно поздравили старого поэта и начали спускаться по выщербленной лестнице, слыша за собой лязгание засовов. Я чувствовал себя очень глупо – надо же, голь перекатная, не мог сыскать каких-то 15 рублей! Ведь я догадывался (Гена подтвердил), что он именно на эти средства – от продажи книг – жил. В его легендарной комнате громоздились кипы литературы – и абсолютные раритеты, и вещи любопытные, и полное барахло. Он спал на этих книгах, не исключено, что и в буквальном смысле. Заинтересованным лицам предлагал определенную их порцию – всегда по тому же лотерейному принципу, который признал неколебимым. Кручёных был хранителем, антикваром, душеприказчиком наследия авангарда. А также его частицей и символом. «И сами мы теперь уже гравюры» – писал Юлиан Тувим.
Опять-таки, какой бы мог быть удачный финал у всей этой истории, если бы в следующий раз я вернулся туда с деньгами и взял бы сразу три порции литературы. Но я не сделал этого, хотя и был обязан. Я откладывал визит, медлил, пока не услышал внезапно, что Кручёных скончался. В утешение мне остается – и в этом случае, понятно, с соблюдением необходимых пропорций – факт, что я видел живого сподвижника Маяковского. Вас же я хотел бы утешить маленьким примечанием: нарисованная выше печальная картина умирания первого русского авангарда была характерна для описанного времени. Потом авангардистская традиция ожила и теперь, особенно на эмиграции (но не только), исследуется весьма энергично (насколько творчески плодотворно – иной вопрос). Но сегодня Алексей Елисеевич чувствовал бы, что его взяла, и, быть может, как поздний Пшибось, демонстрировал бы миру вызывающую самоуверенность, что только он и всегда был прав. Правда, для этого ему надо было бы дожить до ста лет. Впрочем, я часто повторяю себе, а сейчас скажу и вам: в России нужно жить долго.
Третье фиаско постигло меня в среде абсолютно иной, почти (с некоторым допущением) молодежной. Я направлялся к небольшому дому, сопровождаемый любезным хозяином. Большеголовый, крепкий, ступавший легким шагом человека, привыкшего к физическому труду, Эрнст Неизвестный с лицом, черты которого выдавали восточное происхождение, излучал спокойствие и уверенность в себе. «Всегда тут около меня стоят!» – сказал он, указав на небрежно запаркованную возле дома черную волгу и маячившие рядом с ней фигуры. Фраза прозвучала как выражение сдержанного удовлетворения человека, которого власти надлежащим образом ценят. Самую большую комнату заполняли модели скульптур. Это были многофигурные монументальные композиции, которые неважно чувствовали себя в виде уменьшенных копий и в той толчее, в какой оказались. Неизвестный уже тогда имел репутацию видного скульптора-монументалиста, хотя ни один из его проектов не был воплощен. Репутацию эту укрепляло его военное прошлое (после одного из боев его сочли погибшим и его фамилия была высечена на памятном обелиске), а также гражданское мужество, позволившее ему спорить с Хрущевым и противостоять Шелепину. Я знал обо всем этом, но ничего не мог с собой поделать: скульптуры эти мне не нравились. Они казались слишком экспрессионистскими, «кричащими», перегруженными назойливой символикой. Возможно, потому, что незадолго до этого мне довелось увидеть лаконичные и очень выразительные работы Димы Сидура. Потом уже пришлось убедиться, что Неизвестный тоже может быть очень лапидарным, почти аскетичным. Но это было позднее. Отсутствие же восхищения скрыть довольно трудно. Однако внешне ничто доброго настроения не омрачало. Нас пригласили к столу. Кроме хозяев были еще какой-то иностранец и несколько молодых друзей скульптора, составлявших, как я понял, нечто вроде его свиты и клана.
Разговор протекал, как обычно, свободно и, так сказать, волнообразно. Сочтя сегодняшнее впечатление чем-то не слишком существенным, я выразил хозяину убеждение, что отсутствие его воплощенных в натуральном масштабе композиций обидно и для автора, и для его соотечественников, вкусы которых нещадно испорчены массовой скульптурной халтурой.
– Это меня не касается, – коротко отозвался он.
Я постарался уточнить: неужели русскому скульптору действительно безразлично состояние эстетического развития той публики, для которой он творит? Оказалось, именно так. Молодые люди испустили одобрительные возгласы: ну да, конечно, ты прав, Эрнст! Удивленный, я продолжал расспросы – неужели для него, монументалиста, вовсе не важно проверить, как создание его рук функционирует в естественном пространстве и в общественном восприятии? Ваятеля, по его собственным словам, все это нисколько не интересовало, что свита поддержала новой порцией сочувственных откликов.
(Теперь я думаю, что просто был несколько превратно понят хозяином. Дело в том, что в России всегда – при любых системах – господствовал приоритет принципа общественного служения искусства и художника. Даже будучи благороден в своей основе, он воспринимался порой как стопудовая тяжесть – отсюда и реакция на него в форме фейерверков крайнего эстетизма. В свою очередь, однако, крайние эстеты оказывались обычно склонны к политической ангажированности. Вызывающие заявления Неизвестного могли быть здоровой реакцией на многолетние патетические проповеди об искусстве, служащем высоким целям, народу, партии и всему прогрессивному человечеству, к чему добавилась доза интеллектуальной провокации. В действительности, это не было ему безразлично. Но так уж получилось…)
В дальнейшем перешел в атаку хозяин и громыхал на весь дом, что, похоже, являлось для него привычным делом. Он витийствовал на темы искусства, творческого долга, заграницы – точно уже и не припомню о чем. Но помню, что все, сказанное им, пробуждало во мне мгновенный протест. Мы спорили почти беспрерывно. Свита восторгалась каждой репликой мэтра. Первенствовал в этой компании некий Коля Новиков, то и дело восклицавший нечто вроде: Ну, Эрнст, это ты гениально сказал!. Не было там, кажется, Александра Зиновьева, хотя, вообще-то, он мог быть, поскольку принадлежал к этому кругу и запечатлел Неизвестного в «Зияющих высотах» в образе Мазилы. Мне стало несколько не по себе, но уходить раньше положенного не пристало. Однако сразу по прошествии необходимого времени мы простились с хозяином рукопожатиями слишком крепкими, глядя друг другу в глаза слишком долго и улыбаясь слишком широко, как это обычно делают мужчины, почувствовавшие взаимную и неодолимую антипатию. Черная волга продолжала дежурить на своем месте. Теперь Неизвестный, как гласит молва, процветает в Штатах – впрочем, он выглядел человеком, который нигде не пропадет. О его нынешних взглядах на искусство мне ничего не известно.
Таким образом, Бог, который, как известно, троицу любит, послал мне в России три неудачи. В первом случае мне не хватило присутствия духа, во втором – материи в ее самом конкретном воплощении, в третьем – пожалуй, душевного контакта. Вина, разумеется, моя, нечего сваливать на обстоятельства. Скажу просто – бывает и так. О чем и информирую читателя ради соблюдения определенного эмоционального равновесия. Пусть эти польско-российские объятия не выглядят слишком однообразно – благодаря этому они будут достовернее.
«ИМЕТЬ ХОРОШУЮ ВДОВУ…»
«Тебе, писатель, мало иметь хорошую жену, еще важней, мой друг – писатель, иметь хорошую вдову», – констатировал как-то один не слишком крупный русский поэт. Он сделал это в стихах довольно слабых, но искренних, что не меняет факта: мысль эта справедлива.
Страшно подумать, что было бы без них – писательских вдов. Не было бы целых разделов и без того перекроенной и оскопленной истории литературы. Каждый приезжий филолог хорошо знает об этом. Творцы литературы умирают. Союз Писателей образует (или нет) комиссию по творческому наследию. Комиссия более или менее энергично работает. Тем временем наследие, особенно касающееся значительных лиц, попадает в государственные архивы. Здесь его строго охраняют, и добраться до него становится трудно. Требуется прохождение официальной и тягомотной процедуры: справки, подписи, печати. В результате заинтересованное лицо, как правило, не получает всего, что ему хочется. Поэтому я быстро усвоил, что в таких случаях нужно справляться: «Есть вдова?». От ответа зависела судьба последующих шагов. Если ответ был «Да», а в особенности, когда добавляли: «И хорошая. Мы сообщим ей о вас» – меня охватывало чувство облегчения.
Они сопутствуют своим избранникам в течение большего или меньшего отрезка их биографии, их судьбы, приучаясь сносить капризы фортуны: запои, капризы, депрессии, измены. Вы скажете: это обычные цена и последствия жизненного выбора, ничего нового в том нет. Отвечу – но ведь это Россия, здесь цена особенно высока. Тут нужны особое мужество, характер, владение собой, когда наступит пора угроз и шантажа. Нужно со светлым лицом помогать сносить оскорбления, доносы, клевету, разгромные статьи, уметь ждать звонка в дверь посреди бессонной ночи. И делать все необходимое, чтобы вокруг все выглядело нормально, как всегда, чтобы существовал ДОМ, дети ходили в школу, на столе стоял обед. И еще больше, когда наступит наихудшее: надо обивать пороги власть предержащих, просить помощи, сносить унижения, стоять с передачами в бесконечных тюремных очередях, ездить по бескрайней России и опять дожидаться свидания в очередях. Различны варианты судеб – легче и тяжелее, поступки человечные перемешаны с бесчеловечными, великая боль с великими радостями; не возьмусь описывать это подробно. Но если каждая взрослая советская семья – в центре или на периферии – знает свои драмы, связанные с эпохой террора и бесправия, то писательских семей это коснулось в первую очередь и особенно болезненно. Острие чаще всего поражает мужчин, а тупая тяжесть существования сваливается обычно на женщин: такова закономерность, но бывает и наоборот. Мужчины, как правило, уходят раньше, жены остаются одни, так и возникает феномен «писательской вдовы».
При жизни они подставляют плечи, чтобы близкий человек мог опереться на них под грузом своих забот, чтобы мог порой выпрямиться и обрести уязвленное достоинство. Никто и никогда не узнает, сколько таких обретенных или сохраненных достоинств мужей уцелело только благодаря им – женам, сколько высоких моральных репутаций в литературном мире обязаны своей чистотой непреклонности этих женщин. При жизни мужей они старались не бросаться в глаза, существуя в качестве некоего фона – в коридоре, на кухне или в другой комнате, возясь с детьми или с кастрюлями. Часто, появляясь в писательском доме, я ловил на себе их мимолетный, но внимательный взгляд: «Кто ты, гость, с чем приходишь?» – и всё: озабоченная улыбка, шелест платья, звук притворяемой двери.
Великие дни их жизни наступают вместе с великим горем. Смерть самого близкого человека вырывает их из тени. Мало времени отпущено им на то, чтобы переживать отчаяние. Они становятся хранительницами памяти: собирают, приводят в порядок, переписывают, обивают пороги Союза Писателей. Когда Союз образует комиссию по творческому наследию усопшего, вдова, как правило, назначается ее секретарем, то есть тем, кто делает больше всех других, чтобы память не исчезла. Они осаждают издательства, хлопоча насчет выпуска собрания сочинений или избранного, сроков публикации, предисловий и послесловий, ищут союзников-единомышленников, становясь для редакторов страшным призраком или верной опорой, если действуют сообща. Они занимаются вопросами текстологии, вычитывают верстку, исследуют черновики, подгоняют нерадивых, берут на себя неблагодарную корректорскую работу. Их стараниями организуются вечера памяти, издаются сборники воспоминаний. Они терпеливо дозваниваются до бывших друзей, которые после похорон куда-то пропадают, поскольку такова жизнь, и вновь уговаривают, настаивают, торопят. Еще раз скажу – никто не узнает, сколько произведений спасено и издано лишь благодаря им. Особенно, если учесть, что существуют варианты гораздо более трудные и драматичные, чем описанный мной и относящийся к новому времени. Прежде, во времена террора, надо было еще спасать рукописи от гибели, переносить их из одного укрытия в другое, заучивать запретные тексты на память. И ждать, а это значит – стараться уцелеть самой, стремиться дожить до лучших времен, а когда немного потеплеет – вновь обивать пороги, добиваясь реабилитации, упоминания в какойнибудь статье, публикации одного-двух стихотворений в журнале в доказательство и в качестве сигнала, что умерший или расстрелянный возрождается в памяти общества.
Владимир Лакшин посвятил прекрасные воспоминания Елене Сергеевне Булгаковой (ей же адресовано стихотворение, фрагмент которого цитируется в начале этой главы), которая так рассказывала ему об умирающем муже и себе: он мог еще прошептать что-то очень тихо побелевшими губами. Она склонилась над постелью и вдруг поняла: «Мастер»? Да? Он чуть кивнул, радуясь, что она поняла. Тогда она перекрестилась и произнесла: «Обещаю тебе, что его напечатаю».
«Елена Сергеевна говорила потом, – пишет Лакшин, – что пыталась сделать это – каждый раз вопреки всем обстоятельствам и доводам разума – шесть или семь раз».
Благодаря силе ее верности свершилось то, что для других оказывалось невозможным. «Это счастье. Не могу поверить, – говорила она, держа в руках фиолетового цвета номер журнала «Москва» с первой частью романа («Мастер и Маргарита» – А.Д.). – Ведь однажды случилось так, что я тяжело заболела и жутко испугалась, что умру. А испугалась оттого, что не смогу выполнить обещания, данного Мише». Она знала, как немыслимо трудно одолеть проклятие, тяготевшее над булгаковской рукописью, но не отступила и победила.
А жизнь ее была очень нелегкой. Ведь, невзирая на магию Мастера, его дом не ведал достатка. Она делала цветы для дамских шляпок и печатала на машинке. Позже, в менее тяжкие времена, она перевела … книгу Андре Моруа «Жорж Санд». Книга выдержала два издания. Но об этом она говорить не любила, и я дознался о том случайно, мимоходом, как и о том, что она расшифровала некогда заметку Пушкина, многие годы остававшуюся загадкой для пушкинистов. «Да, было такое», – подтвердила Елена Сергеевна и умолкла. Для нее это не являлось предметом гордости. Ведь она была вдовой Михаила Афанасьевича Булгакова[11].
Нарушая один из главных принципов этой книги, я отступаю здесь от фиксации собственных очных впечатлений, обращаясь к свидетельствам Лакшина. Простите, но другого выхода нет! Ведь нельзя не упомянуть о Елене Сергеевне. Многие годы я работал над книгой о Булгакове, собирал материалы, ходил по его следам, разговаривал с людьми, писал. Ее присутствие я ощущал тогда непрерывно, оно было столь интенсивно, что порой становилось практически осязаемым. Она не только составляла важную часть жизни моего героя и сохранилась в памяти его близких как явление исключительное, но и спасла его архив: всё, что было позднее прочитано из его сочинений, сохранилось благодаря ей.
Но с ней самой свидеться не удавалось. Это было сплошное невезение, тяжесть которого многократно ощущалась мной.
Я опоздал. Мне не хватило чуть-чуть времени. Успел я даже еще услышать в телефонной трубке: «Да, знаю. Мне о вас говорили. Охотно с вами встречусь. Только теперь я ложусь в больницу на обследование. Так что сейчас не получится. Когда вы будете в Москве в следующий раз?
А-а, то есть ждать недолго? Тогда сразу приходите. До скорой встречи».
А в следующий раз ее уже не было. Как пишет Лакшин, она умерла совершенно неожиданно, внезапно: хотя ей стукнуло семьдесят, все в один голос говорят, что она сохранила обаяние и энергию женщины средних лет.
Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна Булгаковы
Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна Булгаковы
К тому, что процитировано из Лакшина (другие писали в подобном духе), добавлю только описание булгаковского творческого архива, которое я видел в последней квартире Елены Сергеевны. Это был толстенный том, оправленный переплетчиком и содержащий множество аккуратных машинописных страниц. На титульном листе я прочитал: Михаил Булгаков. Сочинения. Том первый. Фельетоны, очерки, рассказы. 1922-1930. Москва. 1954. В горле у меня стоял комок: на какое-то мгновение я ощутил тяжесть того, что материализовалось в этой книге – ожидания, надежды, отчаяние, вызов. Особенно вызов, заклинание судьбы, ведь верность вдовы обернулась созданием неизданного собрания сочинений, моделью мечты, которая в то время осуществиться не могла. Я пишу эти слова, глядя на первые два тома из десятитомника Булгакова, где указаны место издания и даты: Ann Arbor, Michigan, 1982 – 1985.
Да, это так. Рукописи не горят. Особенно, когда их оберегает верность таких вдов.
Я успел познакомиться с прежней женой Михаила Булгакова – Любовью Евгеньевной Белозерской. Она жила в той же, предпоследней квартире писателя, откуда он выехал в 1932 году. Старинная мебель хранила атмосферу давних лет, на стенах висели фотографии Булгакова, теплый колорит придавали жилищу розовые обои, да и сама хозяйка выглядела реликтом своей эпохи: седая, элегантная, пастельная, вся в сдержанных тонах и улыбках. Конечно, и ей довелось испить причитающуюся горькую чашу, но и она не любила о том говорить. Впрочем, ситуация требовала от меня особой деликатности, как и во всех случаях, когда умерший делил жизнь с несколькими женщинами. Любовь Евгеньевна была сдержанна, но ревниво отстаивала свое место близ писателя – следовало помнить, что ей, как-никак, он посвятил «Белую Гвардию» и «Бег». Я помнил и в благодарность – за чаем с вареньем – удостоился рассказов о прежней семейной жизни. Вдова одарила ими меня очень доброжелательно, но довольно экономно: причину я понял, когда она с гордостью показала выпущенный американскими издателями томик с ее воспоминаниями о Булгакове[12] Она берегла свою память для публикаций, это понятно. Книжка не имела особых претензий на глубину и содержательность, была по-женски состряпана из житейских мелочей, анекдотов и разных историй. Но я люблю ее именно такой и как раз за то, что она не прикидывается чем-то значительным. Любовь Евгеньевна тоже сохранила свой драгоценный кусочек памяти для нас, булгаковских читателей. Пусть же не будет забыта и она – вместе с безделушками и фотографиями, на которых немного выцвели чернила трогательных посвящений, с котами, которых она прикармливала под окном, как пристало вдове именно этого писателя, со шторами, охранявшими покой ее полуподвального жилья от любопытства шумной улицы. Я сохраню в памяти прежде всего ее улыбку – искреннюю, но в то же время полную достоинства, тоже какую-то старосветскую, с какой она встречала меня в тесном коридорчике, всегда радуясь визитам, поскольку – помимо всего прочего – они подтверждали легальность и правомочность ее части вдовства! Ведь это очень по-человечески трогательно.
Татьяна Алексеевна и Константин Георгиевич Паустовские с сыном Алёшей
А как не вспомнить Татьяну Алексеевну Паустовскую? Она была третьей, поздней женой писателя: когда они сыграли свадьбу, убежав из Москвы точно пара романтических возлюбленных, Константину Георгиевичу было под шестьдесят. А потому на нее тут же свалились его старческие недомогания, тяжелая астма, больницы, мучительное и долгое умирание. Всё это она переносила с редким мужеством, но и не только это. Друзья рассказывали мне, как умела она оберегать мужа от неверных шагов, бесцеремонно выставляя эмиссаров Союза Писателей, приезжавших за его подписью в фабрикуемых руководством заявлениях. Охотно верю, поскольку в гневе она была, должно быть, страшна: низкий, хриплый голос, яркая экспрессия (в молодости она выступала на сцене), крупное и в поздние годы сильно располневшее тело, двигавшееся энергично, размашисто, под стать ее характеру. Встретиться с Константином Георгиевичем я уже не успел: меня обмануло ощущение, что наш любимый писатель (кто же в Польше его не любил? А он – как мог – платил нам взаимностью) будет жить всегда и что можно особенно не спешить. Но повезло мне в том, что Татьяна Алексеевна образцово выполняла обязанности вдовы. Она показала все, что следовало увидеть, собрала на ужин круг близких мужу людей, чтобы я их послушал. Когда я спросил, могу ли я приехать к ней в Тарусу, где у Паустовских был летний домик (а этот городок на Оке, русский Казимеж, находился за пределами той сорокакилометровой зоны вокруг Москвы, в радиусе которой разрешалось перемещаться иностранцам), она ответила: «Конечно. Приезжайте. Охотно приму вас». Приняла, накормила, тактично позволила в одиночестве побродить по дому, ощутить его атмосферу, увидеть осеннюю панораму Оки, холмистый пейзаж, низкое небо, любимый залив – Ильинскую Впадину, могилу под дубом с концентрически расходящимися от нее тропинками. Всё в легкой дымке, в притушенной цветовой гамме, с ржавыми пятнами листьев – так, словно оказался в окружении картин, воссозданных им в рассказах… Я описал это, как умел, но должен еще упомянуть лампу, которую она зажгла в кабинете с верандой и на свет которой я время от времени оборачивался, идя в тарусских сумерках к автобусу. Дом излучал свет, и я знал, что там хлопочет вдова, спазматически глотая воздух, так как и ее душила астма. Это память о встрече в Тарусе, которую я ношу в душе.
А Мария Александровна Платонова? Подобная другим статью, а в то же время совершенно иная. В молодости петербургская барышня из хорошего дома, которую позднее жестоко потрепала буря гражданской войны, а затем почти тридцать лет проведшая рядом с Андреем Платоновым, крупнейшим, на мой взгляд, русским писателем нашего времени, делившая с ним жизнь трудную, бедную, полную страха, в атмосфере сгущающейся немилости властей, на краю гибели. Мужа пощадили, но забрали сына – таковы были сталинские методы. Снизив голос, Мария Александровна рассказывала мне порой, отрывочно, как ездила из тюрьмы в тюрьму и простаивала в очередях у каменных стен. Это были уже – в пору наших встреч – шестидесятые годы, но чувствовалось, что всё то продолжает жить в ней. Страх не исчезал. В моей воспаленной голове колотились строки из ахматовского «Реквиема»: Буду я, как стрелецкие жёнки, под кремлёвскими башнями выть… Я вообще не помню ее лица – при серьезном разговоре – без постоянных подергиваний, перемен в выражении, омрачений. Общение с ней было труднее, чем с другими вдовами, обычно либо открытыми, либо решительно замкнувшимися: да – да, нет – нет. Мария Александровна, гостеприимная и доброжелательная, походила в то же время на пугливого и опасливого зверька. Она то и дело закрывала или опускала глаза, сжимала губы, стискивала ладони, понижала голос, меняла тему. Разговор с ней был своего рода игрой. Иногда, услышав вопрос, она вообще не отвечала на него. А в другой раз, хитро поглядывая снизу на меня, говорила явную неправду, зато повторяемую официальной пропагандой, и удовлетворенно улыбалась, заметив в моих глазах блеск недоверия: кроме всего прочего, это означало – он кое-что понимает, с ним стоит разговаривать. Или провоцировала меня досказывать то, чего не хотела произнести сама: тогда она краснела, мяла руки и укоряла меня голосом, хваля взглядом. Вы удивляетесь, спрашиваете, к чему столько ухищрений? В нормальных условиях это было бы проявлением претенциозности и бабьей дури, и я бы, понятно, плюнул и пошел себе. Но в действительности тут обнаруживалось наследие ненормальной, страшной эпохи, продолжавшее бередить психические раны, вызывавшее напряжение нервов, да еще присутствовала и откровенная боязнь подслушивания, ведь квартира писателя располагалась во флигеле Литературного Института и оспаривать его возможность не приходилось.
Поэтому я терпеливо выжидал, успокаивал ее, выдерживал эти длительные паузы, позволял освоиться со мной. Мало того – под градом ее случайных вопросов на разные темы я как бы сдавал беспрерывный экзамен по всем предметам, а его результатов так никогда и не узнал, поскольку экзаменаторша обычно ответы не комментировала: ее реакцию можно было лишь угадывать по легкой тени на лице, отведенному взгляду, жесту рук, протяжному «дааа…»
Здесь отступление в форме совета: если вам когда-нибудь, подобно мне, доведется иметь дело с русскими вдовами, оберегающими значительные творческие архивы, не удивляйтесь их осторожности, долгим вступительным беседам, даже недоверчивости. Ведь вы – что ни говори – иностранцы, а законы, традиции и интеллектуальный опыт этой страны таковы, какими они сложились. Это первое. Второе – к вдовам стучатся и разные прохиндеи, фанатики, опасные в подобной ситуации маньяки. Надо быть чутким психологом, чтобы не навредить другим или себе. Третье – сюда прибывают люди с Запада, обычно вполне приличные, но воспитанные в атмосфере свободы и не слишком понимающие, что из открытого им нужно оставить при себе, а что можно придать публичной огласке, чтобы, благополучно вернувшись домой, не навлечь беду на своих русских собеседников. Ах, эта обаятельная, радостно улыбающаяся, бесконечно восторгающаяся и доверчивая западная молодежь! Сколько раз, видя, как они благоговейно входят в писательские дома, чтобы терпеливо выслушивать ответы на длинный перечень заготовленных заранее главных вопросов, я обменивался с хозяевами понимающими взглядами, выражавшими мысль: симпатичные, славные ребята, но – БОЖЕ МИЛОСТИВЫЙ, ЧТО ОНИ ПОТОМ ТАМ У СЕБЯ НАПИШУТ И ОПУБЛИКУЮТ? Да, я вместе с русскими платил унизительную цену признания ненормальных правил, ведь во всем этом главным, тем не менее, оставалось элементарное человеческое право делиться с другими собственным или самого близкого человека духовным наследием. Наконец, четвертая предпосылка недоверия, с каким можно было встретиться: сложные ситуации во взаимоотношениях различных групп, личные обиды, проявления злопамятства, последствия актуальных публикаций, иногда желание такого посмертного освещения самого дорогого человека, чтобы он выглядел более монолитным и бронзовым. И, впятых, о чем уже была речь – они хотят знать, серьезный ли вы человек, действительно ли вы интересуетесь самым важным для них лицом или, может быть, другие великие усопшие интересуют вас больше. Когда я упоминал порой – самым осторожным образом, что кроме человека, память о котором берегут в этом конкретном доме, меня интересуют и другие, что я намерен посетить и иные подобные семьи, разговор иногда начинал искрить и потрескивать: появлялось напряжение. Не удивляйтесь, не улыбайтесь, уважьте этих людей, ступайте легко и осторожно.
Андрей Платонов с женой и дочерью
А Мария Александровна, не прекращая своей игры, очень мне помогла. Я вижу ее в вечер православной Пасхи, когда удостоился приглашения на это ритуальное блюдо, приготовленное из творожной массы и многих хитрых ингредиентов с истинно петербургским тщанием. «Ешьте, Андрей Иосифович. Старик это очень любил». «Старик» – это Андрей Платонов, смотрящий на нас с фотографий и представленный также скульптурным бюстом, а вдобавок оживленный чрезвычайным сходством с ним уже взрослой дочери Маши. Я ем пасху. Мария Александровна, тоже уже располневшая, с гладко, по-русски зачесанными и стянутыми в узел черными волосами, в праздничном платье с кружевным воротником, опершись о стол полными, по локоть открытыми руками, смотрит на меня с улыбкой. Да, во всем этом что-то от ее родного Питера. Атмосфера добрая, спокойная. Но через минуту вопрос: «Андрей Иосифович, что вы думаете по поводу написанного о Старике Крамовым?» – «По-моему, Мария Александровна, это слишком осторожно и боязливо». – «Правда? Да что вы говорите!». В ее глазах танцуют озорные искорки, руки натягивают наброшенную на плечи шаль… Это было уже целую эпоху назад, миновали десятки лет, и когда я вспоминаю теперь ее нервные подергивания и судорожные движения, особый смысл приобретают для меня слова русского прощания с умершими: Мир праху твоему… Мир праху твоему, вдова Андрея Платонова.
* * *
Пора теперь рассказать о вдове особого формата.
Впервые я увидел ее в маленькой комнатушке, а говоря точнее – клетушке, в квартире Виктора Шкловского. Она нашла здесь приют после долгих лет скитаний. Чувствовала себя очень скверно, мучимая многими болезнями одновременно. Из полумрака на меня глядело напряженное от страданий лицо старой женщины, худое, морщинистое, на котором выделялся очень большой нос – глядя на нее, почти всегда казалось, что смотришь сбоку, в профиль. Высокий лоб, реденькие седые волосы, спадающие прядями по бокам, умные и настороженные глаза, губы – то сжатые в гримасу горького знания о себе, то открываемые в тяжелом вздохе. Мы разговаривали тогда, кажется, немного, но она просила меня заходить еще.
Так я познакомился с Надеждой Яковлевной Мандельштам, вдовой великого русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама.
В то время она не была еще автором воспоминаний – одной из наиболее глубоких и умных книг о системе тоталитаризма, «Герценом в юбке», как называли ее на Западе. Должно быть, только самые близкие знали, что она что-то пишет. Но она являлась живой легендой, отблеском славы Мандельштама и личностью необычайного… Хотел было написать «обаяния» и остановился. Не то слово. Оно предполагает мягкость, которой у нее практически не было: резкость ее черт соответствовала точности мысли и экспрессии слов. В общении она была дружески пряма, антисентиментальна, ценила трезвость суждений, юмор и четкость определений, могла кого угодно припереть к стенке внезапным хлопотливым вопросом. Так если уж «обаяние» – а она оставляла большое впечатление – то совсем особого рода. Ее старость, очень плебейская, диаметрально противоположная монументальному величию Анны Ахматовой, была просвечена Духом – святым, человеческим, любым, словно излучаемым ее немощным, болезненным телом.
Осип и Надежда Мандельштамы
Андрей Битов, Борис Мессерер, Белла Ахмадулина, Надежда Мандельштам
И опять ловлю себя на неудачном слове – слишком высокопарном. Поскольку она при этом умела быть абсолютно естественной. Такой она воспринималась при каждой встрече. А я бывал у нее регулярно – уже в ее собственной маленькой квартирке в стандартном крупноблочном доме, окруженном подобными же архитектурными уродцами, по адресу: Москва, Черёмушки, улица Большая Черёмушкинская, 14, первый этаж, стандартная входная дверь, обитая бурым дерматином… А за ней – другой, экстерриториальный мир. Ее собственный, маленький, загроможденный, без малейшей заботы, чтобы было «красиво». Чувствовалось, что руки хозяйки созданы совсем для других дел. В комнатке висело несколько хороших полотен, подаренных художниками-авангардистами, ее друзьями. Но центром этого домашнего мира была – по-московски – кухня. Этакий кухонный салон, вполне натуральный в ту пору. У стены стоял старый диван с деревянной спинкой. На нем сидела, а чаще лежала, подвернув ноги и накрывшись шалью или меховой накидкой, хозяйка. В воспоминаниях она пишет где-то, что «лежачая» позиция особенно привычна для русских и что большую часть своих несчастий Мандельштамы встречали лежа. Но ради фотографии – той, что помещена во втором томе воспоминаний, ей пришлось сесть: сзади видны спинка дивана и кафельная плитка кухни – то есть тот же любимый уголок, ее лежбище, здесь всё совпадает. Снимок на редкость удачный – тут вся она, насколько это возможно, с тем внутренним светом, о котором была речь. В минуты особенно хорошего настроения она показывала свои фотографии двадцатых годов. На них – гибкая девушка-еврейка с открытым – словно в призывном крике – ртом и веселыми чертиками в глазах: олицетворенная жажда жизни! Наши восторженные отклики она воспринимала с явным удовольствием: «Я была совершенно сумасшедшей. Абсолютно». И тут она сближалась с Ахматовой, впрочем, сама пишет об этом: обе ценили мужские почитания и ухаживания, обеим нравилось нравиться. Вот только жизнь этому не потакала… И теперь, спустя годы, Надежда Яковлевна живо интересовалась убранством и прическами своих молодых подруг, её заботили и их личные проблемы. Опекавшие ее приятельницы со временем установили у нее своего рода дежурства. Без этого, по мере старения, ей всё труднее было бы справляться с проблемами изматывающей повседневности с ее очередями и хождениями по разным кабинетам. Она воспринимала эту опеку столь же естественно, как и всё остальное – без сантиментов и жеманства, как нечто вполне натуральное. Я видел, как исправно и тактично действовала эта дружеская компания, дававшая прекрасный и очень конкретный пример взаимопомощи.
К ней приходили, чтобы смотреть и слушать, и – конечно же – беседовать, в чем, понятно, первенствовала она. Надежда Яковлевна говорила хрипло, с астматическими придыханиями, короткими фразами. Многие годы ей приходилось спасаться от смертельной угрозы как затравленному зверю, защищая себя и память о Мандельштаме. Теперь она очевидным образом радовалась позднему счастью обладания своим гнездом, кругом знакомых, контактов, возможностью наверстать упущенное. Жаждала информации, касающейся самых различных областей жизни, которая некогда вытолкнула ее на обочину существования. Иногда, когда она задавала какой-либо вопрос, чувствовалось, что у нее есть свой ответ, а ваш она сопоставляет с тем, о чем говорит ее собственный опыт, и помещает в нужный отдел памяти. Я не назвал бы ее податливой в спорах, она судила обо всем резко и категорично, а под напором аргументов часто умолкала: это означало, что она не согласна и не собирается уступать. Ничего странного – ее сформировала суровая жизнь, и быть другой она просто не могла. Она не расточала красивых слов и изощренных формулировок, особенно когда чувствовала недомогание, а так было почти всегда, ее лаконичная резкость тогда еще более обострялась. Но она умела быть и компанейской: когда боль немного отпускала, Надежда Яковлевна любила скромное застолье, организованное по ее кивку какой-либо из подруг-помощниц из того, что было под рукой: хлеб, колбаса, сыр, бутылка «Столичной», – и, несмотря на строгие запреты врачей, позволяла себе одну рюмочку, выпивая ее с видом «Где наша не пропадала!». В других случаях пили чай, как в салоне и пристало.
Салон, кстати сказать, имел и свой специфический ритуал. В разные дни в нем принимали людей разных профессий, поколений и сфер. Их подбирала и делила на группы в соответствии с принципами, которые были ведомы лишь ей, сама хозяйка. Одних доводилось видеть постоянно, а других, даже бывая часто, не случалось встретить вообще. Так должно было быть – и всё. Впрочем, в связи со значением, придаваемым в России дружескому общению, которое призвано было компенсировать уродства публичной жизни, подбор круга гостей является здесь искусством и важным церемониалом. В салоне Надежды Яковлевны соблюдались два критерия: пришедшие обязаны были, конечно, быть своими людьми, иначе говоря – рекомендованными, проверенными, а, во-вторых, должны были иметь, что рассказать интересного хозяйке. Особую группу составляли мандельштамоведы всех стран, со «священным трепетом» (выражение Бродского) совершавшие паломничество сюда, поскольку подвергались здесь очень суровому экзамену, прежде чем могли воспользоваться общением с ней. Двое выдержали испытание maxima cum laude (на пять с плюсом) и стали сердечными друзьями хозяйки: американец Кларенс Браун и Рышард Пшибыльский.
Кого только я там не встречал! Приходил молчаливый, явно подавленный своей частичной глухотой Варлам Тихонович Шаламов, автор одной из самых значительных русских книг – «Колымские рассказы». Он был тут вдвойне своим – и как узник Колымы, и как автор рассказа-фантазии о смерти Мандельштама («Шерри-бренди»). Лицо, выдубленное лагерным Севером еще более сильно и жестоко, чем лицо Домбровского, с глубоко врезанными желобами морщин. Выражение замкнутости и беспощадности – явно не соответствующее его душевному строю – придала ему смоделировавшая этот облик суровая жизнь. Он говорил мало и казался озабочен своим трудным вхождением в литературу, но это уже мой домысел: доводилось слышать, что он считал себя скорее поэтом, чем прозаиком, и как поэт получил официальное признание, но его лирика довольно традиционна и не выделяется из общего ряда. А «Колымские рассказы» – истинный повод его славы – долго кружили лишь в самиздате и разными путями попадали на Запад, будучи изданы по-русски только в 1978 году, за три года до смерти автора.
Варлам Шаламов
Приходил знаменитый математик Г., которому, как мне говорили, еврейское происхождение постоянно мешало получить звание академика. Даже без заверений, касающихся его интеллектуального ранга, я сразу ощутил, какая это светлая голова, поскольку он отличался абсолютно нелинейным образом мышления. Он воспринимал, видел мир как подлинный поэт, в связях и ассоциациях, далеких от всякой банальности, поразительно свежих – в малом и большом. Я обожал беседы с ним, но в доказательство сказанного – увы! – не могу сегодня ничего процитировать, прошу поверить на слово.
Приходил таинственный Кирилл Хенкин, ныне эмигрант, автор довольно известных книг о происках КГБ и советских шпионах на Западе. Он не скрывал тогда и не утаивает теперь своих давних связей со спецслужбами. Я не был уверен (и лишен этой уверенности доныне), кем его следовало считать, но хозяйка его принимала и внимательно слушала, когда он, скупо цедя слова и поблескивая стеклами очков, рассказывал, как его застигло в Праге в 1968 году вторжение войск Варшавского Пакта, после чего его, корреспондента журнала «Проблемы мира и социализма», принудительно вернули в Союз.
Порой забегала вечно торопящаяся, занятая какими-то сложными и непонятными делами, с легкой поступью при солидной комплекции Наташа Столярова, секретарь Эренбурга. Ее красоту не смогли истребить даже десять с лишним лет лагерей. Она попала в тюрьму за иллюзии молодых лет: в тридцатые годы девушкой-подростком она уговорила родителей-эмигрантов вернуться из Франции в советскую Россию. Было такое движение возвращенцев, инспирированное НКВД. Родители погибли, Наташа спаслась, но горя хлебнула изрядно
Заходили и художники. Широко улыбающийся пружинистый Володя Вайсберг (еще и скульптор), заглянув из коридора, вошел и, не представившись, принялся циркулем пальцев профессионально измерять и ощупывать мою лысину, после чего удовлетворенно заметил: «Какая ладная черепушка!».
Как правило, здесь было живо и интересно, но временами давало о себе знать ощущение замкнутого анклава. Помню вечер, когда собравшиеся обсуждали ответ на схоластическую головоломную задачку: есть ли в России с десяток подлинных интеллигентов? А если есть, то кто это? Спорили с пеной у рта, но порядком было и притворства, поскольку то и дело называлась фамилия кого-либо из присутствующих, а тот махал руками: «Я? Да что вы! Мне для этого многого не хватает…» и т.д., после чего с видимым удовольствием позволял себя возвести в праведники и в свою очередь называл еще кого-либо из гостей. Это было как сказка про белого бычка, я вертелся, точно на гвоздях, дожидаясь, когда это закончится. Встревать в разговор в качестве иностранца-аутсайдера мне не полагалось. Признаюсь, что в тот вечер я тосковал по Варшаве, где подобные сцены, пожалуй, невозможны. Так оплачивался счет существования в условиях изоляции и постоянной самообороны.
Зато в небольшом кругу, естественным центром которого становилась Надежда Яковлевна, всегда было интересно. Она часто расспрашивала про Польшу, любила ее «вслепую», и чувство это в соответствии с традициями – истинной? – русской интеллигенции сопровождалось комплексом русской вины. Вдова Мандельштама грустновато осведомлялась об отношении поляков к России и русским, готовая услышать наихудшее, но жаждавшая узнать правду и только правду. С некоторым облегчением она принимала к сведению, что отношение это, по крайней мере, в среде интеллигенции, бывает разным. Как-то она сказала, что самым страшным и позорным документом, который читала, были протоколы допросов повстанцев 1863 года, судимых и казнимых в Вильно по приказу Муравьева – «Вешателя». Учтите – какие читала о н а, Надежда Мандельштам! Было, кстати сказать, такое время, когда только что вышедшую книгу с этими протоколами я встречал поочередно в домах всех моих русских друзей и каждая беседа начиналась с нее. А Надежде Яковлевне, с глубоким пессимизмом думавшей о перспективах России, похоже, было отрадно сознавать, что совсем недалеко, за ближней границей, есть страна, борющаяся за нормальные условия жизни, с не перебитым до конца хребтом морали и совести. Как и все «друзья-москали», она желала нам успехов, естественным образом рассчитывая, что это будет полезно и для России. Вдобавок, такое отношение поддерживалось ее сильным христианским чувством. Кто её читал, тот знает об этом. Она являлась глубоко, истово верующей, и ее вера была выстраданной и закаленной в испытаниях. Однажды она спросила: «Вы знаете, что Рышард (Пшибыльский – А. Д.) стоит за скептическое мировоззрение?». Я кивнул головой. «Ладно, но как в таком случае быть с объективными ценностями?». Пораженный меткостью ее вопроса, я сначала умолк, а потом пробормотал нечто невразумительное. Она тактично перевела разговор на другую тему. Потом мне не раз вспоминался этот вопрос, и я всё отчетливее ощущал заключенную в нем правоту. Теперь диалог выглядел бы уже иначе.
Какое-то время она серьезно помышляла о том, чтобы выехать в Израиль. «По крайней мере, помру свободной», – заявила она. Но вначале ее удерживал на привязи тяжело больной брат, которому, покуда хватало сил, она старалась помогать. Затем уже этот вопрос не затрагивался: то ли нездоровье мешало, то ли ее отговорили. Во всяком случае, с начала семидесятых годов она могла уже в какой-то степени освободиться от постоянного сильного внутреннего напряжения. Органы сыска, конечно, не спускали глаз с нее и ее гостей, но ничего страшного не случалось. Тем временем вышли трехтомное, фундаментальное американское издание Мандельштама и тощий отечественный томик «Избранное». За границей были опубликованы ее воспоминания. Стало ясно, что и поэзия, и осмысленный писательницей опыт ее самой, мужа, среды, социального слоя, страны – спасены, не исчезнут. Теперь даже внезапное вторжение представителей органов не было бы столь ужасно. Смакуя эту тяжело доставшуюся ей победу над судьбой, она сказала однажды: «Даже если что, то всего-то дадут мне в морду – и каюк!». Спокойно, без всякой позы. Если не вся Надежда Яковлевна, то многое от нее – в этой фразе.
А умерла она в декабре 1980 года. Не знаю, дошли ли до ее сознания сообщения о польских событиях той поры, поскольку она была очень старой (восемьдесят один год), очень больной и, похоже, отгородившейся от современности. Последнее из опубликованных интервью с ней, относящееся к 1977 году, свидетельствует о явной неприязни к действительности. «Будь она жива, с ней можно было бы спорить…, – написано в редакционном комментарии парижского журнала «Континент» (№3/1982). – Ее высказывания часто были интеллектуальной провокацией. Но ответить на них мы уже не можем». Верно. Несправедлива она бывала порой и раньше. Великолепно раскрывая в воспоминаниях смысл процессов и явлений, была способна незаслуженно обидеть конкретных людей (это особенно характерно для второй книги мемуаров). Как правило, она не могла понять тех, кто занимал компромиссную позицию, если только кто-либо из них не оказал помощи Мандельштаму, тогда ему отпускались грехи. Эти отдельные безапелляционные приговоры вызвали большой критический резонанс, Лидия Чуковская собиралась даже написать полемическую книгу-ответ. Но это уже сфера иных проблем. Вступление в нее требовало бы развернутых рассуждений на тему, возможно ли вообще и в какой форме достойное существование в условиях того режима для человека, известного обществу, «человека публичного».
Когда я пишу это сейчас, меня тревожат воспоминания о собственном малодушии. Дело в том, что в конце своих посещений России, в 1974 и 1975 годах, я начал сознательно ее дом обходить. Мне было известно (говорили люди из ее окружения), что она жаждет услышать от гостей мнения о своих мемуарах и что сама хорошо сознает их значимость. Это означало для меня неизбежность либо умолчаний и полуправд, либо трудного и бурного разговора – прежде всего потому, что я болезненно и остро воспринял ее очень личные и несправедливые обвинения отдельных лиц и характерный для второй книги тон излишней самоуверенности (даже Ахматову она там порицает и укоряет). Я предпочел неизбежной дискуссии избежать, иначе говоря – струсил. Вот конкретная иллюстрация жизненного оппортунизма в неофициальной сфере. Таким образом я перестал видеться с ней раньше, чем к тому принудили обстоятельства. Мне сообщили, что она заметила это и выражала удивление. Может быть, догадывалась о причине? Так или иначе – mea culpa, моя вина.
Правда, каким-то смягчающим мою вину обстоятельством может служить то, что потом я ее воспоминания перевел и опубликовал, но опять-таки – с сокращениями. Болезненно чувствительная ко всему, что касалось ее и Мандельштама, она не могла быть этим – если узнала – довольна.
Смерть ей судьба послала хорошую – по свидетельству близкого человека – «…под утро, тихо, в полусне, она точно забылась…». О судьбе своих поздних записок она заблаговременно позаботилась, как и пристало опытному конспиратору, поскольку сразу после ее кончины квартиру опечатали. И так ждали слишком долго и терпеливо, а в конце жизни оставили в покое. Разве что в последний момент отказали в захоронении тела в семейной могиле на расположенном ближе к центру Ваганьковском кладбище. Ее отпели по православному ритуалу и погребли на отдаленном Троекуровском кладбище. А недавно я прочел в «Литературной газете» сообщение об образовании комиссии по творческому наследию Осипа Эмильевича Мандельштама. Почему так поздно? Пожалуй, догадываюсь – в нее следовало включить вдову. А так ждали, пока умрет.
Пока я сам не приеду на кладбище, пусть эти слова будут моей свечой на ее могиле.
* * *
Бывает ли иначе? Да, конечно. Я знал жен, виновных в моральном падении своих супругов, бывших причиной их отступничества, предательства. Слышал и о вдовах «равнодушных или эгоистически предусмотрительных».[13] Так, однако, случилось, что близко знаком с ними не был. Это и есть замечательная привилегия русской системы рекомендаций: вы всегда попадаете к хорошим людям (чуть хуже, чуть лучше) и никогда к плохим. Понятно, и это можно назвать ограничением и нарушением объективных пропорций, готов согласиться. Но моя Россия именно такова – в ней больше хорошего. И в моих вдовах тоже.
Сознательно пользуюсь этим притяжательным местоимением «мои». Излишняя фамильярность? Возможно, но я называл их именно так. «Куда ты собираешься?», – спрашивала жена в пору нашего совместного пребывания в Москве с меланхолической уверенностью, что угадала ответ. «К моим вдовам», – отвечал я. «Опять!». Да, опять. И если вернусь еще, опять отправлюсь к тем, что живы и готовы принять меня.
Я во многом и по-разному виноват перед ними. Хотя бы в том, что не всегда посвящал их покойным мужьям столько и таких слов, каких они ожидали. Или в том, что, несмотря на всяческую осторожность, касался каких-то болезненных для них вопросов. А также и в том, что в своей писательской работе не всегда помнил о них. Вот и в этих воспоминаниях Борис Абрамович Слуцкий представлен у меня без Тани, хотя после ее смерти он, действительно, уже не смог жить, оправиться от этой утраты. Боря Балтер – без Гали. Ильюша Зверев – без Жени. А Елена Владимировна Марьямова! Казачка с горячим сердцем, вдова Саши – большеголового, улыбчивого, коренастого – бывшего моряка и члена редколлегии «Нового мира» времен Твардовского! Она не позволила мне забыть о себе, дав одновременно свежий материал по теме этого раздела. Со вчерашней почтой пришла от нее книжка с неопубликованными работами скончавшегося четырнадцать лет назад мужа. И посвящение: … старым, далёким и близким друзьям на память об Александре Моисеевиче. Ваша Лена. Так это наложилось – текст на контекст, и так совпало во времени, чистая правда, даю слово! И еще – так призвали к порядку мою ленивую и неблагодарную память. Спасибо и простите, Лена.
Мне встречались великолепные русские девушки, теперь я благодарно улыбаюсь им издалека. Но из всех русских женщин (кроме одной, на которой я женился) важнее всех для меня старушки с морщинистыми лицами, дряблой кожей, редкими волосами, астматическим дыханием, шаркающей походкой. Согбенные под тяжестью креста русской судьбы, они несут дальше драгоценную память об усопших. Я склоняюсь, как прежде, к их рукам и целую их, словно реликвии.
«ЯВНЫЕ, ТАЙНЫЕ, ОБОЕГО ПОЛА…»[14]
Этот вопрос возвращается ко мне теперь и беспокоил тогда: как справедливо оценивать этих людей? В чем они виноваты безусловно, а где следует воздержаться от осуждения? За что должны отвечать сами, а какую часть вины снимает с их совести бесчеловечное время, когда они жили?
Я имею здесь в виду людей, за которыми тянулась дурная слава, по поводу которых меня предостерегали или при виде которых во мне самом зажигался красный огонек. Обычно передаваемый из рук в руки, я двигался в замкнутом круге порядочных и приличных людей. Но случались исключения, встречались фигуры дву- или многозначные, с биографиями, состоявшими из нескольких разных частей неоднородного качества. Они начинали жизнь вполне достойно, потом уступали страху или искушению, а еще позже привыкали существовать с оскалом нарочитой улыбки, делая вид, будто ничего не случилось. Или же – в обратном порядке. Об одних кружили слухи, насчет других что-то шептали на ухо, и я ощущал тогда неуверенность, понимая, как легко в этом климате размножаться сплетням и инсинуациям. (Сама великая Надежда Мандельштам здесь не без греха: многим ее индивидуальным характеристикам отдельных людей позднее противопоставили документированные возражения). Временами оценки бывали однозначны и несомненны. Называя такие фамилии, понимающе посматривали на собеседника и, не говоря ни слова, стучали по столу. Это означало, что Х. – стукач, доносчик, который время от времени стучится со своим докладом в дверь опера (сокращение от оперуполномоченный), представителя органов сыска. Считалось очевидным, что люди, занимающие определенные должности, особенно те, что предусматривали контакты с иностранцами, доносят в силу своего положения, так сказать – по долгу службы. В жизни, однако, всё не так просто: мне известны несомненные случаи нарушений этого правила, а также ситуации, в которых работники этого типа могли бы, располагая обширной информацией, принести немало зла, но на протяжении многих лет не делали этого – даже наоборот. Понятно, выполняя служебные обязанности, они представляли куда следует отчеты, но фиксировали в них только необходимый минимум сведений, оставляя остальное при себе. Таковы неисповедимые пути прикладной этики. Со временем я без труда распознавал – конечно, и с помощью друзей – тех, с кем можно было, особенно не рискуя, позволить себе искренность до определенной степени (минус, разумеется, дела по-настоящему серьезные), они же, зная о том, что знаю я, вели себя безупречно и меня не подводили. «В рабочем порядке», я думал о них: «Похоже, за меня они не отчитываются»…
А вот жанровая сценка: хорошо известный мне дом, богато накрытый стол, веселая компания. Разговор идет самый свободный. Вдруг появляется запоздавший гость. Я испуганно шепчу на ухо хозяину: «Миша, да ведь этот Х. – стукач». «Правда, но мой дом – не его территория, здесь он не работает, не бойся!». И точно – тут он, кажется, не работал, поскольку вокруг вовсе не смущались и каждый из присутствующих, в соответствии с популярной в этом кругу формулой, наговорил «лет на пять» тюрьмы.
Таковы правила советско-русского уклада жизни. Идеологические кампании проходят, диктаторы умирают, уцелевшие жертвы возвращаются из лагерей. Прежние идейные надзиратели, которых спускали с цепи как свору псов, готовых загрызть очередных «уклонистов», стареют, утрачивают былую прыть, теряют давнюю спесь. Преследователи и преследуемые постоянно видятся друг с другом – на лестничных площадках писательских домов, в ЦДЛ, в редакциях, служебных кабинетах, поликлиниках. Всё становится достоянием литературной общественности. Приходилось слышать о нескольких громких случаях самосуда в форме рукоприкладства. Но их было немного. Предпринятые в пору хрущевской оттепели попытки официального разбирательства – хотя бы в виде заседаний товарищеского «суда чести» – ликвидировали в зародыше. Даже такие отъявленные доносчики, как Яков Эльсберг или Лев Никулин (прозванный стукачом-надомником, поскольку рапортовал обо всем, что услышал в разных домах, а работал во всех возможных направлениях[15]), были официально неприкосновенны, им мог грозить – разве что – товарищеский бойкот. Последний же, кроме самых ярких примеров, подчинялся естественному у людей ритму эмоционального ослабления, стирания памяти о нанесенных обидах и зле… Особенно когда былые оскорбители опускали глаза, грустно усмехались с выражением доверительного покаяния. «Что было делать, старик, знаю, взял грех на душу, вел себя по-свински, виноват – но какое время было тогда, страшное время, сам помнишь, а думаешь, мне было легко?», – это читалось на их лицах. Стоит ли удивляться жертвам, что чувства жалости, отвращения и понимания в совокупности заставляли их махнуть рукой на судебные преследования своих обидчиков? Что не всегда разрывали отношения, а те, прежде разорванные, постепенно «как-то» восстанавливались? Что сосуществование протекало без иллюзий, но и без – ослабевающего с годами – гнева, с терпким привкусом двузначности такого «прощения»? Тем паче, что некоторые давние преследователи искренне сожалели, каялись, отрекались от своего прошлого, переживали внутреннюю ломку. Я знал и таких, что служили позднее доброму или – по крайней мере – неплохому делу, возможно, понимая это как форму покаяния?… Здесь всё смешалось, почти каждый случай осложнялся особыми обстоятельствами и не походил на другой, иногда внешне выражаясь в сценах невообразимого драматического и психологического напряжения, каких не найти в искусстве. Русская литература того времени имела тут же, под рукой, в собственном доме, в событиях повседневности целые залежи материалов редких инспирирующих качеств, способных ее питать. Но она вынуждена была их обходить стороной, по крайней мере – в писательских версиях, предназначенных для официальных публикаций. Родился ли уже новый Достоевский, в зеркале сочинений которого отразится тот мир в своих видимых, а в особенности – невидимых измерениях?
Из глубин памяти выплывают обрывки воспоминаний, связанных с этой темой и моим – аутсайдера – скромным опытом. Слишком часто, впрочем, я чувствовал – то, что способен уловить и стараюсь понять, – только верхний ломкий слой льда над темной бездонной пропастью.
Юрий Осипович Домбровский декламировал мне, как упоминалось, свое стихотворение об удушении доносчика. За ним последовало следующее – о следователе, которого бывший зек встречает на рынке уже в послесталинское время. Прежний мучитель выглядел невзрачным, вспотевшим, озабоченным житейскими проблемами старичком. Подробности стихотворения стерлись в моей памяти, но помню, что в его интонации звучала ненависть, которая не могла найти себе выхода, как-то разрядиться. Время мести прошло – слишком поздно, да и не с руки. Несносный и благословенный порок человеческой натуры, наш святой первородный грех – угасание самого справедливого гнева, невозможность полного осуществления принципа «око за око». «Шутка» – лучшая книга Милана Кундеры – как раз об этом.
Виктор Ильин
По коридорам, вдоль дверей, за которыми располагались различные службы Союза Писателей, часто расхаживал тогда пожилой человек солидной комплекции. Лысеющий череп, обрамленный каймой седины, элегантные очки, безукоризненный костюм, стремительная и бесшумная походка, на лице – слишком широкая улыбка с оттенком хитрой услужливости: нечто вроде метрдотеля, готового вовремя поднести зажигалку, открыть дверь, спросить: «Чего изволите?». Так он выглядел внешне, а по отношению к подчиненным был совершенно иным – холодным, наглым, педантически требовательным. Виктор Николаевич Ильин, оргсекретарь московского отделения Союза Советских Писателей, «серый кардинал» его руководства, по популярному в те времена выражению, «прорубил» себе ход в литературу из «органов», как и многие до него. В прежнем своем воплощении он был генералом НКВД, чего и не скрывал. Всеобщая осведомленность об этом прошлом, отнюдь не окончательно завершенном, создавала вокруг этой небанальной персоны требуемую атмосферу: все знали, что он имеет и тщательно оберегает давние контакты, что может без особого труда помочь и навредить как на творческом поприще, так и вне его. От подвластных ему – в рамках неофициально установленной практики – он требовал доносительских услуг. Если встречал отказ, принимал это к сведению спокойно, не устраивал публичных актов мщения, только становился еще более мелочно придирчив и обходил при должностных повышениях и наградах. Чтобы всё было по-советски непросто, этого заслуженного палача (в сталинские годы он вел, как говорили, писательские дела – и вел в духе того времени, жестоко) потом разжаловали, арестовали, судили, приговорили. Это вполне соответствовало сталинскому принципу ликвидации очередных функциональных слоев политической полиции как опасных свидетелей. Ильин – повторяю, как слышал – сидел было даже в камере смертника, но уцелел и в пору оттепели оказался откомандирован в среду, ранее изученную им в кабинетах Лубянки. Возможно, потому, что обо всем этом мне рассказали, ослепительная улыбка экс-генерала всегда казалась мне гримасой изголодавшегося кота, с вожделением смотрящего на насторожившихся мышей. В его сощуренных глазах и слишком безупречных манерах я улавливал также известную черту людей такого рода, приставленных по воле судьбы к публике – что ни говори – творческой: полную самоудовлетворения уверенность – все эти литераторы – народ, который можно купить, завистники, интриганы, жаждущие почестей, водки и баб; кроме того, что знает и слышит от них он – оргсекретарь, ничего больше и не существует; это и есть вся правда об «инженерах человеческих душ», которых представляют монументами социалистической морали на потребу пропагандистски одуряемой черни.
Я знал уже немало, не удивлялся почти ничему, но каждый раз, когда он мелькал на моем пути в коридорах Дома Литераторов – весь сияющий улыбкой, белоснежным воротничком, дорогими запонками и распирающим его самодовольством, чувствовал в сердце уколы стыда за моих друзей. «Вот синтез, – думал я, – вот эмблема и метафора эпохи, явный признак унижения литературы – ее повседневными делами заправляет генерал секретной службы…».
А всё же, поверьте, эта абсолютно однозначная внешне ситуация в действительности была куда сложнее. Как и многие тамошние дела. Я с изумлением отметил, что почти каждый из моих знакомых мог сказать об Ильине нечто хорошее. Первоначально я подозревал в этом подсознательное желание оспорить то состояние унижения, о котором шла речь, а следовательно – по сути – его подтверждение. Но здесь было нечто большее. Люди помнили о качелях его судьбы, что рождало, по-видимому, очень русский рефлекс сочувствия и даже солидарности жертв с жертвой-палачом. Тут наслаивалось, цеплялось друг за друга множество факторов, которые теперь, когда я пишу эти строки, мне трудно даже назвать, поскольку воспринимаю их не расщеплённо, а в комплексе… И еще – конечно, взгляд аутсайдера охватывал далеко не всё. Экс-генерал от литературы, примитивная, советская версия графа Бенкендорфа, презирал, на самом деле, не всех подряд. У него были свои фавориты. Некоторых гордецов и бунтарей он явно уважал, некоторые удары власти как бы смягчал. Он проводил какую-то свою политику. Наума Коржавина отговаривал от эмиграции. Умирающему Александру Беку принес эмигрантский, самиздатовский экземпляр «Нового назначения»…
Эту сцену хотелось бы на миг задержать и укрупнить. Вдумайтесь в нее, поскольку это ситуационная метафора глубокого смысла, сквозь нее многое видно. Умирает хороший писатель, автор классического «Волоколамского шоссе». Последние годы его жизни отравлены заботой и печалью. «Новое назначение» – точное и глубокое аналитическое исследование сталинской номенклатуры, принятое и анонсированное «Новым Миром», не публикуется им: вдова человека, ставшего прототипом главного персонажа, мобилизовала всё ещё влиятельных сталинистов и заблокировала печатание. Это происходит уже после Хрущева, в неблагоприятное для этого время, усилия разных лиц не дают результата. Тянется классическая, советская, изматывающая нервы и подтачивающая здоровье канитель, состоящая из надежд, разочарований и очередных обнадеживаний. Уже видно, что дождаться конца автор не успеет – у Александра Альфредовича рак. Но машинописный текст попадает за границу – без ведома и согласия автора (а может, и не совсем так – дело темное, да и не в нем суть). Бывший генерал НКВД оказывается обладателем только что выпущенного франкфуртского экземпляра (то ли конфискованного, то ли полученного по специальному заказу, возможно, благодаря любезности работающего за границей коллеги по профессии). Он приносит книгу больному. Я представляю себе, как Бек гладит обложку, взвешивает экземпляр на ладони, листает своё сочинение. Генерал молча смотрит на это, и лицо у него – другое, не то, какое знал я. Пауза, занавес.
Как бы много зла ни причинил Виктор Ильин людям, эта книжка на Божьем Суде ляжет на другую чашу весов и весить будет немало…
Но я оставляю его и следую далее по мрачным закоулкам памяти. Сколько раз еще мне придется призывать на помощь тень Достоевского…
Место действия другого эпизода – Ленинград – Петроград – Петербург. Шестьдесят третий год, май. В Союзе Писателей мне сообщают, что кто-то из местных осведомлен о моем прибытии и хочет непременно со мной встретиться. Мне он неизвестен, зовут его Х., это, кажется, историк литературы. Звоню, уславливаюсь о встрече, иду. Большой питерский дом где-то близ Невского, в центре. Жара. Желтые нагретые солнцем камни фасада и влажная нора двора со смрадом вечного гниения, лишаями плесени, какими-то будками, сараями, досками. То же впечатление, что и практически везде в центре, где обновляли, похоже, только фасады, в центре, которому урон нанесли и война, и многие годы небрежения, и болотная почва, куда уходят фундаменты домов: минуту назад отсюда мог бы выйти Раскольников, ничто тут с момента убийства старухи-процентщицы не изменилось. За этим последовала – также типичная – квартира – тесная и высокая, с местами осыпавшейся лепниной и нагромождением старинной мебели, покрытой патиной пыли, и разновысоких стоп книг. О хозяине я записал тогда – «маленький, несчастный, придавленный грудой томов». И сейчас перед глазами – его нервная суетливость и хлопотливое кружение по комнате, а в ушах – высокий плаксивый голос, какой-то птичий щебет. Он бросился ко мне со словами сердечных излияний, обрушив поток сбивчивых горячих фраз и явно стремясь расположить к себе. Причина этих стараний не была мне поначалу понятна: у нас не оказалось ни общих знакомых, ни близких научных интересов (сейчас не могу припомнить, чем он конкретно занимался). Как обычно бывает в таких случаях, чувствовал я себя не в своей тарелке, но переносил всё терпеливо, отчетливо видя перед собой человека несчастного, одинокого, придавленного бременем существования или чувством вины. Чего, однако, он хотел от меня? Согласия? Одобрения? Сочувствия? Наверное, всего понемногу, впрочем, в своих болезненных причитаниях он был, собственно, самодостаточен, так как трудно было присоединиться к высоким оборотам его скулящего голоса.
Мы разделили с ним какое-то холостяцкое угощение, за что-то выпили по рюмочке. Стоп! Не за что-то, а явно за Польшу. Она возникала то и дело как лейтмотив выступлений хозяина, как предмет его горячей любви. Высокие, срывающиеся звуки речи Х. становились еще выше и нервознее, когда он заговаривал о ней. Постепенно обнаруживалось, что горячий прием прежде всего объясняется моей принадлежностью к Польше. Правда, в перерывах между этими монологами удалось услышать, что недавно умерла его жена, он остался совсем одинок, а жизнь свою считает конченой. В какой-то момент Х. бросился мне на шею и пылко расцеловал. Всё это было трогательно, но я чувствовал себя неловко. Отупев от обрушившихся на меня эмоций и взглянув случайно на часы, я сообразил, что уже довольно поздно. И как раз тогда совершил грубую ошибку, свидетельствовавшую о недостатке опыта обращения с русскими (у меня его, действительно, не было, поскольку это случилось в третий приезд, считая пору фестиваля).
Я договорился тогда о встрече с Бродским (мы должны были свидеться во второй раз). Время поджимало, а Х. не отпускал. Мне жаль было хозяина, но я не хотел терять свидания с Осей. «Приглашу его сюда, и дело в шляпе», – подумал я. Хозяин не имел (или притворялся, что не имел) ничего против. Я позвонил. Бродский жил недалеко и появился почти сразу. Он явно не знал, к кому направляется. Когда он вошел, я понял весь масштаб моего прегрешения. При виде хозяина он застыл, стал еще бледнее, чем обычно, его лицо Маккавея ощерилось холодной и напряженной усмешкой, за которой он прятался до конца, как за надежным щитом. Здороваясь, он не подал руки и сразу оказался с противоположной стороны стола. Х. ринулся к нему с соответствующей – поскольку он был моим знакомым – порцией лирических излияний. Но Ося, словно играя в пятнашки, быстро переместился и вновь оказался напротив хозяина. Он повторил это еще несколько раз – изящно, бесшумно, с неизменной улыбкой и абсолютно молча. Его губы были сильно сжаты и напряжены. Стол неизменно оставался преградой между ними. Остолбенев, я наблюдал эту пантомиму противостояния и быстро сообразил, что пора срочно уходить. Мы быстро вышли, провожаемые затихающим скулением Х. Никогда больше я с ним не встречался. Бродский же молчал так красноречиво, что, сознавая свой промах, я боялся расспрашивать его, в чем дело. Других ленинградцев я знал тогда лишь официально, а значит – слишком мало для доверительного разговора об этом человеке. А потом, говоря по правде, я забыл о нем и об этой сцене: нахлынули новые встречи и новые знакомые. Лишь теперь, приступая к работе над этой книгой, спустя четверть века, я принялся искать информацию о Х. Кем он был? Никаких следов в какой-нибудь библиографии, справочнике, энциклопедии, словаре. Нигде. Да существовал ли он в действительности? А может, мне только привиделся?
Всё же нет. Один раз, совершенно случайно я наткнулся на нечто, способное быть ключом к этому делу. В пору нашего Октября (1956 г.), до или после него, когда пресса соседей очень жестко и грубо атаковала польский ревизионизм, была напечатана особенно гнусная и агрессивная по тону статья, подписанная Х. Ее эхо донеслось до меня спустя годы. Так, возможно, то, чему я был свидетелем, являлось порождением комплекса вины? Или – не исключено – одной из многих вин? Гротесковым актом покаяния в виде потока экзальтированных полонофильских фраз, обрушенного на голову первого попавшегося поляка? Заклятием судьбы через раскаяние? Истинный полонофил Бродский, очевидно, знал подоплеку дела. Высоко оцениваю теперь его молчание – он был прав, предпочитая не посвящать меня в суть проблемы. Лучше вообще не касаться этого без крайней необходимости. Тот человек уже почти наверняка ушел из жизни.[16] Может быть, на его совести есть тексты гораздо хуже, чем тот, направленный против нас. Наверное, были. Возможно, он исполнял определенные функции. Не мне докапываться до истины. Сами русские должны будут свести счеты с русскими и, должно быть, сделают это, если гласность, о которой так много говорится теперь, когда я пишу эти слова, уцелеет и окрепнет.
Мое дело – только рассказать о совершенной ошибке ради пользы читателей. Так вот: как в те времена, так и по сию пору нельзя сводить друг с другом не знакомых между собой русских без предварительного согласования вопроса, словом – никаких товарищеских импровизаций. Возможно, и тут произойдут когда-нибудь изменения. Но если да, то медленно.
Такая страна, такая в ней жизнь.
А вот дополнительная иллюстрация: примерно тогда же, когда случился описанный ленинградский эпизод, я совершил подобный, хотя менее серьезный промах в Москве. Только что встреченную и очень симпатичную девушку я пригласил с собой на ужин к знакомым, с которыми уже установились добрые отношения. Ничего особенного не происходило, разговор за столом шел вполне непринужденно, только очень чуткое ухо уловило бы в нем некое похрустывание кусочков льда, как в бокале с коктейлем. В какой-то момент взгляд хозяйки мимолетно коснулся меня. Я прошел на кухню. Выговор, несмотря на его вполне приличную форму, был основательный. «Ты кого к нам привел?» – «А что? Нормальная девушка, очень милая…» – «Милая, это правда, но ты понимаешь, кто она?» – «Нет». Хозяйка согнутым пальцем постучала по столу. «Почему?» – «Потому что работает в Инъязе.[17] А если там работает, то имеет дело с иностранцами. А если общается с ними, то должна… Понимаешь?». Я молчал, удрученный, но в душе всё возмущалось – почему должна?… (Спустя какое-то время у меня уже были аргументы, в начале этого раздела я упоминал о знакомствах с людьми, которые по роду службы также были «должны», но, однако, как выяснялось, не делали этого, поскольку не хотели. Но случай этот относился к одному из первых приездов, когда я лишь всему учился). Хозяйка, кажется, ощутила мой бунт: «А кроме того, когда я спросила, где она работает, девушка покраснела. Догадываешься, почему? Так как поняла, что я обо всем знаю…». Это и был тот хруст кусочков льда, которого я прежде не расслышал. Этикет и развитый за десятилетия инстинкт самосохранения требовали в таких случаях вести себя, словно ничего не произошло. Но в воздухе уже появилось электричество, напряжение – вернуть прежнее настроение было невозможно. Я вернулся в гостиную, спустя какое-то время мы ушли, я проводил девушку, обещал вскоре позвонить, но не позвонил и никогда больше ее не видел. Может, я напрасно обидел человека, но вина была невелика – капля в том океане наказаний без преступлений, преступлений без наказаний, где всё перемешалось столь запутанным образом. Не знаю и никогда уже не узнаю, а рассказываю лишь, как было, чтобы вы могли лучше почувствовать терпкость, липкость и мутность той атмосферы существования.
Дальнейшее продолжение имел мотив Польши и симпатий к ней. Однажды вечером меня заполучил к себе, на далекую московскую окраину, Петя, о котором упорно кружили самые дурные слухи. Даже больше, чем слухи. Его однозначно оценивали люди, не склонные к скоропалительным обвинениям и с несомненным авторитетом. Но я поехал, поскольку он очень настаивал. С самого начала беседы в памяти отозвался жалостливый, боязливый тон Х. Разве что более агрессивный и рассчитанный на то, чтобы спровоцировать диалог. Петя как бы требовал соучастия и полемики, даже если тема монолога ее исключала. Он пылал, весь сгорал в огне высокой страсти к русской поэзии. Этот пожар он раздувал словами, полными восторга, танцуя вокруг меня, как шаман. В этой стране библиофилов и библиографов, где многие в целях душевной самозащиты ныряют в глубины домашних книжных собраний, Петя мог бы по праву стать председателем их объединения, если бы такое возникло. Книги, а в особенности поэтические томики громоздились, стоя и лежа, повсюду. Петя выхватывал их и бросал мне на колени: «Это ты, конечно, знаешь? Нет? Это потрясающе! А это? Здорово, правда? А вот – послушай!». Он декламировал по памяти, глядя на меня искрящимися глазами, наклонялся ко мне, засыпал очередными томами. Груда литературы на моих коленях всё росла. Я не знал, надо ли тут же бросаться читать или слушать, изумленно моргая, смотрел на него. Я оказался узником русских стихов и Петиных восторгов. Вкус у него, впрочем, был собственный, индивидуальный, хотя всех без исключения он оценивал слишком высоко: Кочетков! Шенгели! Сергей Марков! Что касается Шенгели, признаюсь, он открыл мне глаза на великолепную поэтическую мускулатуру этого неоклассика, о котором я знал лишь, что он был врагом Маяковского. Других я бы оценил более сдержанно. Но шансов на развертывание настоящей дискуссии и так не было: Петя токовал, как глухарь. Вдруг он перевел разговор на Польшу, и его голос завибрировал на еще более высоких оборотах. Он потащил меня в глубину квартиры; выяснилось, что кроме книги другим идолом хозяина жилища была Польша. Она висела на стенах в виде афиш, рисунков, репродукций, смотрела с альбомов, конвертов пластинок, газет, журналов, книг – оригиналов и переводов, вставала из воспоминаний Пети, который у нас уже бывал и собирался посетить еще, многое видел, многое понял, что-то там написал и задумывал нечто большое, а теперь исчерпывающим образом стремился мне это изложить, словно стараясь уговорить меня поехать в Варшаву.
И так продолжалось весь вечер, перешедший в ночь. Через определенные интервалы времени токование Пети внезапно на какой-нибудь визгливой ноте прерывалось. Это случалось каждый раз, когда от одной группы поэтов он переходил к другой и к тому, что они думали о товарищах по перу. Идя этим окольным путем, он касался и вопроса собственной репутации и впивался в меня взглядом: «Ты спрашивал его обо мне? И что он сказал?». Я чувствовал себя, как на допросе. Кто-либо более сильный духом ответил бы ему, пожалуй: «Он мне сказал, что ты, Петя, стукач. И не один он». После чего следовало бы встать и уйти. Но я не сделал этого. Судите меня, но будьте справедливы. Ведь этого не сделал, насколько знаю, ни один из поляков, с которыми встречался Петя, хотя на его счет не обольщались. Ведь он явно не работал по польской части – это как минимум, хотя тут как раз ничего знать с уверенностью нельзя.
Я думаю теперь об этом странном клубке русских судеб, куда неожиданно вплелась наша бело-красная нитка. Чем только мы не были: Христом народов, павлином и попугаем, общей обязанностью, примером, укором совести, шансом. Один из их поэтов назвал нас «стрелой славян», другой сравнил с нами русскую поэзию – «она, как Польша, не погибла, хоть грудь ей три раздела перешибли»[18]. А еще – как сказано выше – мы становимся порой шансом самоспасения для людей, преступивших нормы здравой общественной морали; они с надеждой хватаются за нас грязными руками, желая очищения; опускающимся на дно мы кажемся спасательным кругом. Комплекс российских грехов в отношении Польши сублимируется в конфликтах индивидуальной совести, безнаказанное преступление опускается на колени в акте покаяния, пробуждая жалость и тревогу… Хорошо это или плохо?
Я знаю лишь, что мы обречены друг на друга, а что с этим приговором судьбы сделаем – зависит и от них, и от нас.
УЛИЦЫ ЛЕНИНА И ОСТАЛЬНЫЕ
Знаете ли вы города русской провинции?
Нет, вы их не знаете, бьюсь об заклад, да и откуда вы могли бы их узнать? Только некоторые из них открыты и предназначены для официальной презентации: Суздаль, Владимир, Загорск, может, еще пара других. Сюда приезжают автобусы с экскурсантами. Транзитные, туристические трассы старательно огибают все остальные, будучи вдобавок обсажены живой изгородью. Поезда на Москву, Ленинград и Киев в маленьких городках не останавливаются, а самолеты пролетают над ними достаточно высоко.
Это Россия «для внутреннего употребления», не напоказ, без косметики.
Я тоже не слишком хорошо знаком с нею. Тех, показательных городов я избегал умышленно. Бегая по Москве на своих двоих, направляясь, куда судьба приведет, я с самого начала соблюдал основной принцип – ничего официального, ничего из того, что специально предлагается иностранцам. Возможно, в следовании ему была своя и чрезмерная односторонность: в результате я никогда не был в Кремле, в храме Василия Блаженного, в мавзолее Ленина, в Большом театре или во МХАТе, а потому, извините, не расскажу вам о них. Владимир и Суздаль также обошлись без меня. В Загорске я побывал во время Фестиваля, но в памяти остались лишь экстатическое колыхание толпы в Троицко-Сергиевой Лавре, белые головные платки женщин, бородатые попы, колеблющееся пламя свечей, интенсивная жестикуляция, предписанная православным обрядом.
Мои фрагментарные представления о провинциальной России слеплены из посещений всего трех городков, в которых я к тому же провел немного времени. Два из них – это Боровск и Таруса, за сто с лишним километров от Москвы. Третий, пожалуй, самый крупный из них – Купянск – находится на границе Украины и центральной России. Все они, если не ошибаюсь, являются районными центрами, что примерно – учитывая российские масштабы – соответствует основным городам наших повятов.
А посему это опыт весьма скромный, даже если и обогащенный калейдоскопически сменявшими друг друга видами иных местностей, мелькавшими за окном поезда. Здесь как бы нет оснований для обобщений, но вот теперь, в воспоминаниях, этот тройной обзор дает в главных своих чертах тождественную картину – в памяти остался словно бы один город с несколько размытыми очертаниями, и я уже сам не вполне уверен, какие детали относятся к местечку на Оке, а какие – к городку на Осколе.
Центр везде наиболее ухожен. Особенно это бросалось в глаза в Купянске. Главная улица (это, понятно, улица Ленина – а как же иначе?) живописно вьется по холмистой местности и украшена представительными зданиями в стиле зрелого сталинизма: колоннады, арки, барельефы. Запомнился аккуратный сквер, в центре – Ленин, неподалеку – большой стенд с фотографиями жителей, отличившихся в производственной и общественной деятельности. Чистота, порядок, свежая штукатурка фасадов, многочисленные лозунги – некоторые угрожающего звучания, например: «Победа социализма неизбежна!». Здесь проезжает прибывающее с визитом окружное или центральное начальство, а дважды в год – в мае и ноябре – дефилируют колонны демонстрантов. Есть и сугубо местная достопримечательность, столь же тщательно оберегаемая. Аптека. Еще дореволюционная, как извещают меня, когда я в ней оказался. Истинное чудо! Двери тяжелые, будто ведут в сейфовое отделение банка, внутри – матовое свечение благородного дерева, бронзы, кафеля, зеркал, белых фартуков, таинственность старинных сосудов, тиглей, весов, любезные улыбки провизоров. Платонический идеал аптеки. Я выхожу совершенно очарованный этим осколком величия давней империи, приветом из той эпохи, когда Купянск был центром солидного купечества и ремесленничества.
Резкая смена планов, как в киномонтаже. Сразу, без всякого перехода. Улицы, пересекающие главную артерию, сбегают вниз, к реке Оскол. Тут же наступает конец всему – шоссе, тротуарам, фонарям, штукатурке. Здесь идешь по дну песчаных оврагов, прорытых паводковой водой. По обе стороны змеятся заросшие травой тропки. За ними – типичные русские деревенские хозяйства, которые никак не спутаешь с нашими. Высокие глухие деревянные заборы, охраняющие даже от взгляда частное достояние владельца. Всё стиснуто, использован каждый сантиметр площади: будки, клетки, пристройки, надстройки. Впечатление жуткой тесноты – людям выделили минимум места, начальство бдит, дабы ни у кого не было слишком много. Сзади – узкие полоски овощных грядок, несколько фруктовых деревьев. Домики, как правило, одноэтажные, деревянные, крытые толем или листовым железом. Скромное украшение в виде традиционной резьбы наличников и крылечек; впрочем, всё подточено старостью, надкусано зубом времени. Цвета – бурые, серые, рыжеватые. Воду, похоже, провели далеко не всем, поскольку женщины с коромыслами спешат к уличным колодцам. Цивилизации и современного жилищного строительства отсюда не видать: жизнь коренных обитателей Купянска такова, какой я ее описал, а, по крайней мере, так выглядела в шестидесятые годы.
Боровск и Таруса практически от Купянска не отличались. Суровую нищету быта смягчала радующая глаз красота речных излук – фантазия природы, которую давние строители городов способны были приметить и оценить, вписав в нее облик местечка. Повороты реки открывали пейзажи лугов и рукавов, волнистые очертания прибрежных холмов. Обрывы и насыпи, яры и косогоры создавали то постоянное преображение, изменение перспективы, которое является характерной чертой ландшафта центральной России, немного однообразного в своей основной тональности приглушенных, неярких цветов, но зато чрезвычайно прихотливого в очертаниях и формах. Там, где между землей и небом чего-то явно недоставало, безошибочно помещали церквушки, дабы достигнуть гармонии. Некоторые из них, обветшавшие и полуразрушенные, еще уцелели. Но прочие творения человеческих рук, оправленные в прекрасную раму природы, казались лишь печальными, жалкими, рассыпающимися свидетельствами прошлого, далекими от всякой гармонии. Сер и убог облик маленьких российских городков; износилась, истрепалась сама фактура их бытия; они стоят и теперь перед глазами, говоря о своей тяжкой, трудной, многострадальной судьбе. Ошибиться тут было невозможно: большие города способны притворяться, многое в них как раз этому притворству служит, а маленькие не могут себе такое позволить, выглядят так, будто власти – за исключением главных улиц – махнули на них рукой: живите себе, как хотите…
Результаты этого жеста встречались мне на каждом шагу. Все жили порознь, отдельно. Работа на восемь часов создавала из них бригады, артели, коллективы, но после этого они сразу прятались за своими калитками и заборами. Поскольку о них не проявляли заботы, то и они не думали о состоянии улицы, района, города. Пришелец из страны, в которой, по счастью, несмотря на все старания, не смогли уничтожить различные виды межгрупповых связей, локального патриотизма, коллективных инициатив, индивидуальной самоотверженности во имя общего блага, я с ужасом наблюдал здесь общество с атомизированной, рассыпчатой, неорганичной структурой – словом, советское. К этому вели поочередно: революционный террор, голод, коллективизация, разного рода депортации и высылки, опять голод, большой террор второй половины тридцатых годов, война с очередными эвакуациями, оккупация, еще один голод и вновь репрессии… Маленькие города имели свою структуру, традиционные кружки и связи, а вся политика властей на протяжении десятилетий была направлена против этого – потребной им моделью общества являлся мешок с картошкой. И достигнуть этого им, к сожалению, удалось. Homo sovieticus – вопреки поспешным констатациям – по счастью, так до конца и не сформировался, а societas sovietica – увы, да. И именно в маленьких городках я почувствовал его, советского общества, силу и цепкость. С чего в них можно сегодня начинать горбачевскую перестройку, на что опираться, если всё десятикратно переломано, раздавлено, втоптано в землю, если начальство бдительно следило, чтобы зерна индивидуального и группового мышления не дали всходов?…
Впрочем, это уже размышления нынешнего времени, пора вернуться на улицы тех городков. Лица людей, как и облик домов, были отмечены печатью злой судьбы. Неформальные связи устанавливались преимущественно у продмагов, где торговали водкой – тогда еще без каких-либо ограничений. Здесь в наступающих сумерках начиналась нервная кутерьма, слышались окрики, грубая брань, злые переругивания, иногда раздавались непристойные частушки. Вечерний туман со стороны реки смешивался с пьяными испарениями, а когда в небе появлялся месяц и резко высвечивал контуры пейзажа, всё вокруг приобретало болезненно-гоголевские формы: во мгле плыла пьяная Россия. Несмотря на жизнь порознь, все знали обо всех всё; идя в сопровождении местных обитателей вечерней улицей, я узнавал мимоходом, что вот здесь кто-то пырнул ножом мать, так как она не дала денег на водку, а там ведется большая стройка, поскольку какой-то начальник наворовал кучу материалов и средств из государственных фондов. Мы проходили мимо бараков, где жили те, для кого собственный домик являлся пределом мечтаний; здесь мне рассказали о том, как ребенок из баракаразвалюхи позавидовал ровеснику из отдельного дома, где была уборная: «В такой, как у тебя, я бы сидел целый день…».
В тот осенний вечер (а было это в Боровске) меня безжалостно бомбардировали сообщениями о лавине местных преступлений, похождений, извращений. Над городом стлался густой винный запах перезрелых яблок, так как разразилась катастрофа небывалого урожая: ветки ломались под тяжестью плодов, во дворах лежали груды яблок, под ногами трещали бесхозные румяные дары природы. И никто не знал, что с этим делать, хотя Москва находилась совсем недалеко и я множество раз видел в электричках людей, что везли из столицы в провинцию огромные сетки с продуктами. В атмосфере терпкого яблочного аромата, попивая яблочное вино и прислушиваясь к доносящимся с разных сторон отзвукам пьяных песен, я сидел за вечерним столом в доме моих друзей, одновременно и помимо воли повышая свою осведомленность в сфере русской ненормативной лексики. Мне объяснили, что Боровск – место особенное, так как находится в ста с чем-то километрах от Москвы, а потому со сталинских времен здесь селились люди, отбывшие тюремные сроки. Хоть они своё и отсидели, жить ближе к столице им не разрешалось. С тех пор так и пошло: теперь правил Брежнев, а мой хозяин после пребывания в мордовском лагере (десять лет за то, что он оказался слишком близко к южной границе государства) и нескольких попыток зацепиться за Москву, также очутился в Боровске. Этим объяснялись и специфическая структура населения, и психологический климат, и образ жизни: в воздухе пахло преступлениями, одни сидели, другие имели большие шансы сесть… Нашему разговору внимала старая мебель, наверняка помнившая предкриминальную эру: огромный буфет, лампа с оранжевым абажуром, граммофон с трубой, на шкафу величаво выстроились годовые комплекты «Нивы». Тут как бы Гоголю за окном противостоял домашний Чехов: порядок вместо хаоса, меланхолия увядающей старины как воспоминание о мире, основанном на прочных ценностях… Чтобы было посложней да позапутанней, этот рубеж стокилометровой зоны является сегодня также московским кольцом противоракетной обороны: все в Боровске знают, что вокруг расположены более или менее замаскированные «объекты».
А в Купянске мне запомнилось еще кладбище. Должно быть, одно из многих. Тоже убогое, кое-как сохраняемое, на берегу Оскола, между проезжими дорогами: пригорки, поросшие редкой травой, здесь и там могилы, вокруг них бродят козы и гуси. Что меня удивило – каждая могила имела отдельную ограду! Возможно, это был очень старый обычай, я не успел спросить (на больших, городских кладбищах мне такое не встречалось, а на маленьких, пригородных – нередко), но тогда меня сразу пронзила мысль, что и таким образом, посмертно, люди защищаются от стремления превратить их в однородную массу, огромный мешок с картошкой, оберегая свою приватность, индивидуальность заборчиками. И подобно тому, как было при жизни, их посмертные останки демонстративно игнорируют, так как общей кладбищенской стены не соорудили – козы ходят, где хотят. Власти пекутся о внешнем оформлении своего авторитета и репутации, а так – живите, как хотите, умирайте, как хотите…
Быть может, я преувеличиваю, возможно, обобщаю слишком фрагментарные наблюдения, но это ведь не трактат по советологии, а всего лишь воспоминание. А в памяти именно так всё объединилось и сложилось – запущенный город и запущенные могилы. Люди, к которым я приезжал, были сердечны, по-русски теплы, отзывчивы, что называется – с сердцем на ладони. А всё вокруг них – хотя и выглядело вполне обычно – угнетало и морозило душу. Лирика и жестокие нормы существования жили под одной крышей.
Я был бы, впрочем, несправедлив к властям, если бы не добавил, что они заботятся еще об одном. Об унификации, уподоблении, стирании всяческих граней. В это вкладывалось много усилий. Неповторимость картин природы, изобретательность предков, старания ряда поколений везде запечатлевались своеобразием и несходством. Этому и объявили войну. Улицы, площади, общественные здания, памятники обязаны были выглядеть, как везде, в соответствии со спущенными сверху стандартами. Высшим идеалом, к которому отчетливо стремилось каждое городское начальство, было растворение в советском среднестатистическом стиле. Путешествующий не мог догадаться, откуда уже выехал и куда только что прибыл, поскольку всё вокруг сливалось в бесконечную череду одних и тех же форм. Клянусь – эффекты достигнуты поразительные. Мне довелось когда-то ездить по Крыму, где природа позволила себе редкое своеволие и отмечена невообразимым разнообразием. Но в городках и районных центрах, в деревушках и селах это буйство красок и видов укрощали с помощью одинаковых Лениных, пионерок, девушек с веслами, колхозников и колхозниц. Павлики Морозовы и Зои Космодемьянские, стоящие в центре цветников на постаментах в героических позах, отштампованные из одного, отливающего жуткой мертвенностью синюшного материала – то ли гипса, то ли папьемаше, одинаковые соцреалистически притворные, псевдоклассицистические официальные здания; одинаковые транспаранты, грозящие неизбежностью социализма. Немалую роль в этом играли и унифицированные, набившие оскомину названия. Здесь переименовано (порой неоднократно) всё, что было можно, и если вы хотите знать, какого фрагмента общей судьбы нам удалось всё-таки избежать, взгляните хотя бы на карту Ольштынского воеводства. Под чертой северной границы здесь бойко теснятся разные Гжехотки, Водокаймы, Мажуче, Бедашки и прочие. А над чертой, в Калининградской области, вы найдете Гвардейск, Правдинск, Знаменск, Советск и т.д. Сколько таких Советсков и Знаменсков проезжал я в разных частях Союза, а сколько их еще наплодили в следовании партийно-чиновничьему курсу унификации?…
Визуальным свидетельством этого повального безумия являются обычные открытки и проспекты. Всякий турист знает, что их нелегко достать. Но если вам это удалось, то Самара выглядит на них так же, как Нахичевань, а Вологда мало чем отличается от Караганды, поскольку везде фотографируют одни и те же представительные здания, заботясь о надлежащем престиже официальной власти. А собственное, неповторимое, старинное, самобытное может проглянуть лишь где-либо в конце, словно извиняясь, что еще уцелело…
Деревенское приложение
Так случилось, что в российской деревне мне практически побывать не удалось, так как посетить ее неофициальным образом трудно, а в соответствии с заявленным мной принципом только такое общение имело для меня смысл. Точнее – я тут и там соприкасался с ней. Одно из таких соприкосновений, несмотря ни на что, глубоко запало мне в память, и о нем расскажу.
В одном из небольших городков, о которых шла речь, мой хозяин должен был уладить какие-то свои дела в расположенном неподалеку совхозе или колхозе. Он спросил, не хочу ли я поехать туда с ним. Я, понятно, охотно согласился. Дорога не показалась длинной, так как протекала под аккомпанемент эпической истории о героических деяниях моего спутника. Это был развернутый и сочный монолог, сотканный из эпизодов, повествовавших о попытках, неудачах, обходных маневрах, обманных ходах, хитрых комбинациях, атаках и штурмах, монолог, произносимый со смаком, с умело рассчитанными паузами, с заботой о производимом эффекте, с поглядыванием на меня, способен ли слушатель оценить это. Я, в свою очередь, старался поддержать рассказчика, вставляя, где следовало, возгласы типа: «Ну, ну! И не говори! Вот это да! и даже – «Мать твою за ногу!». В самом финале, старательно подготовленном повествователем, он добивался ошеломляющего успеха, на что я отозвался соответствующим комплиментом. Суть подвига заключалась в том, что в свой дом, расположенный вовсе не в центре, он провел газ. А главное – это газообеспечение он заимел четвертым в городе (что было главным поводом для торжества) – после первого секретаря, председателя исполкома и, кажется, директора газоцентрали и раньше всей огромной цепочки местных вельмож, которым он в своей скромной должности снабженца и в подметки не годился. Гордость распирала его. Эта газовая Илиада и Одиссея районного масштаба показалась мне тогда ситуационной метафорой жизни российской провинции, такой я воспринимаю ее и ныне, поскольку из истории этой можно вычитать всё то, о чем я старался здесь рассказать, и даже гораздо больше.
Если, однако, я вспомнил ее, то именно в качестве дополнения к уже сообщенному. С деревней она пока не имеет ничего общего. Деревня молча аккомпанировала нам пейзажами более или менее возделанных полей, в чем не было неожиданного. Так продолжалось какое-то время, пока мы не прибыли на место.
Мы остановились на небольшой площади перед правлением кол– или совхоза. Посреди нее был разбит цветник, невысокий синюшный Ленин наискось вздымал указующую неведомо что ладонь. Мой спутник исчез в недавно оштукатуренном здании. Я прогуливался вокруг клумбы. Сначала вокруг никого не было, затем не спеша начали появляться люди и на моих глазах разыгралась самая будничная и обычная для этого мира сцена. Именно эта будничность и поразила меня сильнее всего. Я смотрел как зачарованный, хотя чары вовсе не были добрыми. Всё продолжалось с четверть часа. Потом спутник вернулся, мы тронулись в обратный путь. Таков оказался весь мой колхозно-совхозный опыт – ни поля, ни трактора, ни хлева, ни какой-нибудь беседы с тружениками полей. Полнейшее познавательное убожество.
По дороге назад на меня обрушился новый водопад многословия. Мой спутник был опять-таки доволен собой: отличился гостеприимством и выказал независимость. Я должен, понятно, это оценить, ведь он взял с собой «в глубинку» иностранца, что из того, что «народного демократа», без всяких согласований и уведомлений, а вот так – просто, как пристало свободному гражданину свободной страны. Правда, сделал это мимоходом, раз – два, никому меня не представив и ни во что не посвящая. Ну, а вышло хорошо. А как же иначе? В своем радостном монологе он утверждался теперь в сознании правомочности предпринятого им. Братская Польша! Общие цели! Никаких секретов! Гость, кажется, что-то пописывает, правда? Так пусть всё это опишет, как следует. Вот, скажем: «Ранним утром мы мчались, окруженные бескрайними просторами колхозных полей. Насколько видит глаз, здесь простирается урожайная хлебная нива…». Тут он подмигивает мне и расплывается в улыбке. Она означает взаимопонимание насчет того, что «липа» – это «липа» («Ты ж, взрослый человек, соображаешь, что к чему…»). Но, с другой стороны, если об этом писать, так именно в таком духе, а то как же? Ведь жизнь-то мы знаем! Итак, вперед, Андрюша! «Победоносно преодолевая непогоду, стихийные бедствия и другие объективные трудности, колхозники и совхозники добиваются всё больших производственных достижений…». Если напишешь, как следует, можешь вспомнить и обо мне, скромном трудящемся. Просто упомянуть, этого будет достаточно…
На эту словесную эйфорию я откликался довольно односложно, так как всё еще не мог прийти в себя. У меня перед глазами стояла та деревенская сцена. Ведь это был отъезд на работу! Люди собирались у здания правления, куда подъезжали за ними грузовики. Мужчины и женщины, дружески переговариваясь и подавая друг другу руки, взбирались на платформу, усаживались на скамейки и отъезжали. Всё протекало, как обычно. Часы показывали половину десятого. Дело было утром. Летом. В деревне. Труженики полей намеревались начать работу в десять.
Мои родственники живут в деревне под Жешувом, когда-то я бывал там частенько, теперь реже. А вот неравномерный в разное время года ритм тяжелого сельского труда и неизменный в летнюю пору коловорот работы, длящейся от предрассветной поры до сумерек, запомнил отчетливо и навсегда. Тогда же в стране, испытывающей постоянную нехватку хлеба, его закупающей, в стране, куда я заказал доставку из Варшавы двух килограммов муки для свадебного торта, я увидел организацию земледельческого труда по канцелярско-бюрократической модели – с десяти и, должно быть, до пяти…
Может быть, это была преувеличенная, смешная реакция, возможно, знаток подобных проблем возьмется доказывать мне, что дело не в этом, более того – что тут наглядно проявилось превосходство бригадной или сменной системы над традиционной мужицкой ненормированной «пахотой» – не Лениным ли выразительно охарактеризованной как «идиотизм деревенской жизни»? Но, храня в памяти польский опыт и сопоставляя его с результатами местной практики, я воспринял это именно так. Мне показалось, что в течение четверти часа я уразумел причину (одну из причин) постоянного недоедания и продовольственных трудностей огромного и богатого края, разрыва связи между усилиями и их смыслом, между трудовым процессом и его пользой – и что всё, что я мог бы увидеть за день, месяц, год, наверняка и только подтвердило бы это.
– …мы с гордостью и надеждой смотрим в будущее, следуя ленинским курсом к светлому горизонту. Понятно, Андрюша?
– Понятно, Миша…
Мы как раз въехали на улицу Ленина.
ВСЛЕД ЗА БУЛГАКОВЫМ
ПО КИЕВУ…
Памяти И.К. и В.Н.
Существует масса способов ознакомления с Киевом, прозванным «матерью городов русских» и описанным столь много раз, что – как Париж – вы знаете его прежде, чем увидите. Мой способ знакомства был булгаковским.
В начале семидесятых годов, готовясь к созданию книги о Михаиле Булгакове, я старался собрать крохи конкретных сведений, отыскать людей и места, которые помнили моего Мастера. Люди эти редели на глазах, то поколение было уже семидесятилетним, приближалось к финишу. Оставались, правда, более молодые, но я укорял себя – довольно абсурдным, честно говоря – доводом, что булгаковской темой не увлекся лет десять назад. (А увлечься не мог, поскольку не был тогда готов к этой работе). Тем старательнее я посещал теперь эти места, пробуя ощутить, чем они могли быть тогда, каков их genius loci. Ведь есть язык улиц, домов, мебели, не менее выразительный и понятный, чем язык текстов. Я пробовал овладеть им как раз в Киеве и, понятно, в Москве. На Кавказ же, следуя по булгаковским следам, я, к сожалению, не попал, хотя меня очень искушало пребывание там первой жены писателя – Татьяны Лаппа. Она еще жила тогда, но слыла абсолютно неприступной. Вторую я отыскал в Москве и встречи с ней описал в другой главе. Третью – Елену Сергеевну, Маргариту, смерть забрала у меня почти что изпод носа.
В Киеве мне повезло: там был еще Виктор Некрасов, согласившийся играть роль моего провожатого. Остроносый, худощавый, почти невесомый, одетый в легкую куртку, он стремительно шел, чуть ли не бежал по улицам, и его птичий профиль с развевающимися седеющими волосами возникает теперь в памяти на фоне киевской панорамы. Сам он этими путями уже прошел и даже описал это, а потому знал много. Мы договорились тогда, что стоило бы подобным образом обойти его, некрасовский Киев и что сделаем это в следующий раз. Но этого нового раза уже не было, так как отважного Виктора Платоновича, жившего на своем Крещатике словно в обстановке блокады, при явном прослушивании и систематических угрозах, практически выпихнули за границу. Дальнейшие встречи проходили уже в Париже, но это совсем другая история.
Виктор Некрасов
Виктор Некрасов
В булгаковском же Киеве двигаться надлежит так: от Крещатика, главной улицы города, вы направляетесь со стороны круглого Бессарабского базара вверх по бульвару Шевченко (прежде Бибиковскому) к скверу, где справа стоит одно из нынешних университетских зданий, в котором располагалась когда-то Александровская гимназия. Здесь учился Булгаков – тут надо войти в вестибюль и постоять минуту, всматриваясь в композицию широкой лестницы, над которой висел некогда портрет патрона этого учебного заведения – Александра I на фоне дымящейся панорамы Бородинской битвы. Это место, где оживает – вслед за реальными событиями – одна из кульминационных сцен «Белой гвардии» и «Дней Турбиных»: командир отряда юнкеров, видя, что дело проиграно, распускает своих безусых воинов, и дом, которому предстояло стать бастионом сопротивления, обезлюдев, застывает как символ катастрофы и хаотического распада старого мира. Сюда прибежит опоздавший Алексей Турбин и в растерянности спросит самого себя: «… защищать? Но что? Эту пустоту? Эхо шагов?», а за ним возникнет тень военного врача Михаила Булгакова, который напишет потом, что в пору прихода петлюровцев, в декабре 1918 года, пережил «… ситуации, близкие к тому, какие описаны в романе». Это будут, следовательно, двойные следы – автора и его героев, созданных из материала собственного опыта и судеб членов семьи и знакомых, но подчиненных также правилам контаминации и законам литературной фикции. Следы эти станут либо накладываться друг на друга, либо расходиться, и наша попытка исследовать их непременно должна учитывать необходимую дистанцию, поскольку мы попадаем здесь то в историю, то в литературу – при весьма размытой грани между ними.
Итак, вот гимназия, куда ходил на занятия первородный сын киевского богослова и где, если верить его младшему коллеге Константину Паустовскому, он первенствовал как шутник, дерзкий озорник и выдумщик. Но это величественное здание должно было стать для него также символом эпохи и ее порядка, так как падение этой крепости пережито им очень остро и болезненно.
Взглянем еще раз на лестницу, точно воссозданную в известной декорации Ульянова к мхатовскому спектаклю «Дни Турбиных», и пойдем дальше, вбок от бульвара, к проходящей параллельно улице – тогда Фундуклеевской, теперь Ленина, где угловой продовольственный магазин имел и витрину лавочки мадам Анжу «Парижский шик», с пронзительным звонком и нервной кутерьмой военного штаба, которому по иронии судьбы пришлось гротесково разместиться среди коробок с дамскими шляпками. Отсюда можно следовать за тенями Турбина и Булгакова, когда первый из них, покинув «Парижский шик», выходит на Владимирскую, чтобы сориентироваться в ситуации; видит перед собой идущих снизу, от Крещатика, петлюровцев, бросается, преследуемый ими, в бегство, сворачивает в Мало-Подвальную, отстреливается и, будучи ранен, внезапно замечает, как спасительная рука незнакомой женщины открывает – должно быть, где-то здесь? – калитку в стене… Но где это случилось, если и впрямь было? След теряется. Где ласковые ладони Юлии и вкус внезапно подаренной жизни?… «Нет этого дома, – написал Некрасов. – Я исходил уже всю Мало-Подвальную. Был когда-то похожий домик в глубине двора, деревянный, с верандой и витражом, но давно не существует. На его месте стоит новый, кирпичный, многоэтажный, поразительно чуждый всей этой горбатой, самой фантастической на свете улице».
Теперь надо спуститься под гору, еще раз выйти на Владимирскую, свернуть направо и дойти до собора святой Софии. Здесь колыхалась некогда толпа, приветствовавшая парад петлюровцев, и кровавое солнце русских былин освещало купола храма, когда на памятник застывшего на вздыбленном коне гетмана Хмельницкого пала густая тень. «Лицо его, – читаем мы о памятнике в «Белой гвардии» – обращенное прямо в красный шар, было яростно, и по-прежнему булавой он указывал в дали». Чуть поодаль идет вниз киевский скат, а над ним слева вырисовывается на фоне неба церковь святого Андрея, шедевр великого Бартоломео Растрелли, вынесенная в высоту мягким подъемом холма, словно драгоценность из старинного бело-зеленого фарфора. Это отсюда улицей Андреевский Спуск начинается путь на Подол, к киевскому Приднепровью. Тут вы ощутите непременно легкую дрожь волнения, ведь мы приближаемся к булгаковскому эпицентру Города.
Андреевский Спуск отличается несравненной плавностью поворотов – вправо, влево, опять вправо. Хотелось бы повторить за Булатом Окуджавой, что он течет, как река, тем более, что стертая мостовая напоминает высохшее русло. Скат же довольно крут, и небольшие домики словно бы приседают на склонах, стремясь удержать равновесие. Есть здесь несколько более импозантных каменных строений, хотя также немало пострадавших от безжалостных зубов времени. Одно из них выделяется своим неоготическим обликом. Некрасов, архитектор по образованию, назвал его замком Ричарда Львиное Сердце. В основном же деревья выше домиков, за заборами скрыты тесные, прижавшиеся к склонам дворики, где время материализуется в медленном и печальном умирании старого мира. Шум центра остается за горой, шум Подола, затянутого фабричными дымами, сюда не доходит, отсюда виден отдаленный массив прежней Академии Богословия, основанной Петром Могилой; в ней работал Булгаков-отец.
Когда вечером здесь зажигались старые фонари и шоссе начинало отсвечивать своими неровностями и изгибами, а дома по сторонам таинственно чернели – иллюзия возвращения в давние времена была полной, особенно потому, что мне там, кажется, не довелось встретить ни одного прохожего. Я, действительно, думал тогда, что другой такой улицы нет на свете. Правда, это было довольно давно. Теперь по Андреевскому Спуску ходят, должно быть, толпы экскурсантов.
Целью их паломничества является дом № 13. Он открывается глазам сначала своим профилем, так как стоит на самом изгибе очередного витка спуска. Это здание в два этажа и, как мы помним, «… постройки изумительной (с улицы квартира Турбиных была во втором этаже, а из маленького покатого, уютного дворика – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой». Вход как раз со стороны дворика – по скрипучей галерее, под которой находится подвал с соседской квартирой, также описанной в «Белой гвардии».
Пара слов о ней. Некрасов не захотел туда пойти со мной. Оказалось, что имеет грех на совести: он признался, что, посещая потомков соседей, слишком доверился булгаковскому видению и выразил это в своей публикации. А автор романа главного соседа и хозяина дома, поляка по происхождению, называемого Василисой, как известно, изобразил в весьма неприглядных тонах. Были у него для этого поводы или нет, отражение ли это реальных взаимоотношений или художественная фабуляризация – этого теперь не установишь, да и принципиального значения это не имеет. Но дочь за отца не отвечает, и Виктор Платонович, слишком сурово отозвавшийся о ней, сказал теперь: «Идите один».
Я пошел, но так случилось, что сначала не один. Меня сопровождали – по собственной доброй воле, а может, не только, это не столь важно – двое сотрудников местной писательской организации. Выяснилось, что дочь Василисы – Инна Кончаковская живет теперь как раз этажом выше – в квартире Турбиных-Булгаковых. Поскольку у нее не было телефона и наш приход не удалось предварить звонком, мы вызвали легкое замешательство. Пани Инна оказалась милой седовласой пожилой дамой, которая двигалась с трудом: видно было, что она прожила нелегкую жизнь, но сохранила живой ум и хорошую память. Правда, разговор как-то не клеился. Я сразу понял отчего и прибегнул к нехитрому приему: спустя некоторое время встал, церемонно раскланялся, и мы ушли – а вечером того же дня вернулся на Андреевский Спуск уже без сопровождения. Меня встретил самый сердечный возглас, прозвучавший напевно по-польски: «Ой, как хорошо! А я уж боялась, что вы не вернётесь!..».
Затем последовали долгие разговоры, воспоминания, показывание фотографий. Память о Булгакове в этой семье берегли, и Виктор Платонович, действительно,…ну, скажем, фантазировал, утверждая обратное. А первоначальная скованность была понятна: со мной пришли официальные лица, представители власти, а эта власть в булгаковские времена, возвращаясь в Киев (вообще, власть менялась здесь в ходе гражданской войны десятки раз), осуществляла жесточайший террор. Из монографии Мариэтты Чудаковой, наиболее компетентного булгаковеда, ныне известно, что летом 1919 года, в разгар террора, сам Михаил Афанасьевич скрывался в деревне. Ничего удивительного, что осенью, при очередной смене властей, он покинул город вместе с белой армией. Хозяина дома, которого в действительности звали Василий Листовничий, арестовали как «буржуя», держали в качестве заложника, затем повезли по Днепру на место казни. Он бросился в воду, говорят, выплыл, но к своим уже никогда не вернулся. Это тоже мы знаем от Чудаковой. Пани Инна даже в атмосфере полного доверия говорила об этом только намеками, переходя на шепот. Не удивляйтесь этому – рана, видно, еще кровоточила, а что происходило потом, мне известно лишь отрывочно, как всё случившееся отразилось на этой семье, на моей собеседнице, на ее детях – об этом я уже не услышал. Я чувствовал лишь растворенный в воздухе страх, ведь это была обычная тамошняя семья – интеллигентская или мещанская, как вам угодно ее называть.
Я находился в квартире семьи Булгаковых. Михаил Афанасьевич родился не здесь, это был его пятый киевский адрес. Но вышло так, что он оказался самым важным. Именно он стал Домом, символом досараевского мира. Его романная версия выглядит богаче, чем реальная, но это не столь важно, поскольку фантазию питала именно память. Теперь я сидел в довольно банальном интерьере, вдобавок подвергавшемся переделкам и перестройкам, разделенном и уплотненном, но внутренним взором видел мебель со старой обивкой, турецкие ковры, старинное серебро, массивные вазы, лампу под зеленым абажуром, который запрещалось менять… Мне показывали фотографии: Миша (так называла его по старой памяти Инна Васильевна, хотя их разделяла немалая возрастная дистанция – моя собеседница была, как выяснилось, ровесницей младшей из семьи Булгаковых – Елены, родившейся в 1902 году) курит первую после сдачи экзаменов на аттестат зрелости, а следовательно, официально разрешенную папиросу. Голова гордо откинута назад с классическим булгаковским вызовом, в глазах – нарочитая серьезность, но и легкая насмешка над собой. Я рассматривал лица братьев и сестер – энергичной Вари, величественной и чуть сонной Веры, живой Надежды, потом больше всех заботившейся о сплочении семьи. Брат Коля был с ранних лет сосредоточен и подетски серьезен, вместе с младшим братом – Ваней сражался в белой армии, потом эмигрировал, стал бактериологом с мировой славой, а Ваня… играл на балалайке в парижском ансамбле á la Russe. Видел я очень значительного, лысого, с окладистой, как лопата, бородой отца, умершего в 1909 году, и интересную, с открытым и волевым лицом мать, женщину крепкого характера и сильной руки. Сейчас всё это опубликовано, но тогда я поглощал эти изображения и характеристики Булгаковых как полнейшее откровение. Мой Мастер обретал окружение, становился зримым… Доныне глубоко благодарен за это Инне Васильевне. Она не помнила иных очень важных вещей, в основном это были какие-то подробности, детали, сохраненные еще детским впечатлительным сознанием. Но каждая мелочь оказывалась существенной, я уже знал, как их надо группировать и складывать в общую картину. Хозяйка очень близко приняла всё это к сердцу, позднее в Польше я получал от нее письма: «Пан Анджей, надо, чтобы вы меня навестили. Жить мне уже недолго, а о семье Миши я могла бы рассказать много: разные житейские мелочи, о которых мало кто знает, а теперь таких не осталось вовсе». Увы! Вскоре после этого дверь в Россию захлопнули перед моим носом. Больше свидеться с пани Инной мне не довелось: она была тяжело больным человеком.
Теперь другие времена, обещающие нечто лучшее. На доме № 13 уже висит памятная доска, говорят, в нем будет музей. Нынче там, должно быть, оживленно. А тогда я вышел довольно поздним вечером, фонари уже горели, было пусто, и я очень медленно поднимался в гору, словно тяжело неся бремя знаний о той жизни и тех проблемах. Меня угнетала мысль, что ни одного из Булгаковых уже нет в живых и что, будучи в молодые годы очень дружной и сплоченной семьей, умирали они все порознь и вдали друг от друга и от Дома, который пришлось покинуть в пору гражданской войны. А еще о том, что их друг – отец Александр Глаголев, венчавший Михаила Афанасьевича, умер в ссылке и что даже неизвестно, скольких людей из булгаковского близкого окружения рано или поздно поразила эпоха бесправия. Ибо случилось то, что предсказано в «Белой гвардии»:
«Рухнут стены, вспорхнёт с белой рукавицы испуганный сокол, погаснет пламя в бронзовой лампе, а «Капитанскую дочку» сожгут в печи.
Мать сказала детям:
– Живите.
Но их ожидают страдание и смерть».
Ничего удивительного, что Булгаков, когда уже после гражданской войны приезжал в Киев, Андреевским Спуском проходил, но в дом не заглянул. Должно быть, это оказалось для него слишком трудно и не очень нужно, если тот перестал существовать как Дом.
Хотя в то же время, благодаря тому, что о нем написано – он есть, и никто и никогда его уже не сможет представить безлюдным и уничтожить. Не рухнут стены, не взметнется сокол с рукавицы царя Алексея Михайловича на старом коврике и не угаснет пламя лампы. А музей, понятно, пригодится, особенно молодежи. Лишь бы его оборудовали с умом и с сердцем.
Когда я в него приду, моими провожатыми будут Инна Кончаковская и Виктор Некрасов.
…И ПО МОСКВЕ
Булгаковская Москва – это целый мир. Он знаком вам? Тогда послушайте.
Как и пристало филологу, я проводил долгие часы в Отделе рукописей Библиотеки имени Ленина. Мне давали – «чтобы отцепился» – всё, что им заблагорассудилось, и то лишь малыми порциями, остальное же лежало для таких, как я, за семью печатями. Но меня радовало и это, так как кое-что я уже почерпнул из других источников, то и сё мне передали добрые люди, а кроме того в архивном хозяйстве «Ленинки» царил обычный социалистический кавардак и в некоторых папках содержалось больше, чем следовало из описи. (Чтобы было смешней или более по-булгаковски, как раз теперь, в пору перестройки и гласности, архив нашего Мастера закрыли вообще, для всех. В связи с этим разыгрался большой скандал, но пока без последствий).
Потому было любопытно, даже разыгрывался азарт – что попадется сегодня? Но порой рябило в глазах, тупела голова. И тогда я вспоминал, что и так нахожусь в пространстве «Мастера и Маргариты», поскольку главное здание библиотеки, прежний Румянцевский музей – это тот дом с террасой, где Воланд беседует с посланцем Иешуа – и меня охватывало желание побродить по булгаковской Москве.
Достаточно было выйти, дойти по Волхонке до бассейнового комплекса, где некогда стоял монументальный храм Христа Спасителя, разрушенный по специальному распоряжению и под контролем Сталина. Это очень драматическая, но на сей раз не наша история. Далее мы окажемся у вылета улицы Кропоткина, давней Пречистенки. Здесь я как у себя дома, ведь Пречистенка – это название-понятие, знаковое название. Тут в межвоенное время обитала старая интеллигенция: ученые, писатели, артисты, причем тон задавали как раз первые, гуманисты высокого класса и культуры. Булгакова, который был убежденным традиционалистом (что отнюдь не мешало ему в литературном новаторстве), «Пречистенка» явно привлекала. Он любил ее достоинство, солидность, высокий профессионализм, европейский интеллектуальный уровень. Тут жили его хорошие знакомые и друзья, многое он постиг и вынес отсюда – впрочем, и это несколько другая тема. На этот раз будем придерживаться топографии.
А она подсказывает, что, идя Пречистенкой, я пересек путь погони Бездомного за Воландом. Значит, там следовало повернуть. Этот маршрут я исследовал по старому плану Москвы. Изучение таких планов – очень приятное занятие. Итак: от сквера при Патриарших Прудах, где случилось несчастье и рухнула голова Берлиоза, ведомый нечистой силой поэт должен был пробежать по Спиридоновке, потом по Малой Бронной, чтобы оказаться у шумных Никитских Ворот. Я рекомендую всем проделать эту дорогу, но только не днем, в обстановке будничной людской кутерьмы, а вечером, когда сумрак облагородит эти улочки и блики светотеней подыграют нашим эмоциям. Отсюда, от Никитских Ворот, путь вел к Арбатской площади. Прежде чем мы отправимся туда, вдоль кольца бульваров, стоит, пожалуй, на минутку свернуть налево и под номером 25-м отыскать тихий особняк, окруженный садиком и изгородью. Это не что иное, как фигурирующий в романе «Грибоедов», а в действительности Дом Герцена, в двадцатые годы – шумное пристанище многих писательских организаций и знаменитого ресторана, оборотистый директор которого, как говорят, скопирован в книге исключительно верно; теперь же это Литературный институт имени Горького, высшее учебное заведение, воспитывающее (с переменным успехом) литераторов. Но, как все мы помним, к «Грибоедову» Бездомный попал лишь в конце своей погони. Путь его будет пролегать по Гоголевскому бульвару, мимо памятника писателю (это дорога, которой Булгаков любил проходить к МХАТу, где в течение нескольких лет работал), затем по какому-то переулку с кривыми тротуарами (подозреваю, что это Нащокинский переулок, здесь под номером 3/5 позднее выстроили писательский дом, в котором была последняя булгаковская квартира). Далее его трасса пересечет уже упомянутую Пречистенку, а затем Остоженку (ныне Метростроевскую, но, похоже, начинается постепенное возвращение давних названий), через Савёловский или Зачатьевский переулок к Москва-реке – и тут Бездомный теряет след, после чего, спустя какое-то время, мы вновь встречаем поэта на бульваре, в ресторане Грибоедова.
По пути, однако, я стал жертвой небольшой булгаковской хитрости и предостерегаю других, чтобы не слишком прямолинейно понимали соотношение «литература-жизнь». Ведь следы здесь порой обманчивы, запутаны, ведут в тупик, а персонажи и ситуации нередко контаминированы, как было и в Киеве. Так и на сей раз: Бездомный, как мы помним, убежден, что искать неизвестного надо в доме № 13 и в квартире № 47. Насчет тринадцати – всё понятно: это традиционное дьявольское число (русские говорят: «чёртова дюжина»), а кроме того – номер семейного дома на Андреевском Спуске. О № 47 я первоначально наивно подумал, что он соответствует квартире писателя в Нащокинском переулке (ныне улица Фурманова). Ан нет: Булгаков жил в № 44, а в № 47 проживали какие-то совершенно посторонние лица, так что это не было даже соседским подшучиванием. Этот булгаковский легкий щелчок по носу в который раз напомнил мне о необходимости избегать заблуждений докучливых педантов, с циркулями и весами проводящих сравнение между произведением и реальностью и проверяющих, как было дело «в действительности». Правда этих вещей, человеческих характеров и очень, понятно, переменчивого городского ландшафта – это теперь правда именно булгаковская, в соответствии с поэтическими словами Владислава Ходасевича:
Мир наш представить реально и здраво И дерзкою волей таланта собственный мир сотворить – Вот художника право.А потому и хождение по московским следам писателя – это своего рода забава, развлечение для широкого круга посвящённых. Играть же с ними – сплошное удовольствие, они понимают суть с полуслова. Скажем, один известный театровед, когда я спросил его: «Так Вы живёте на пути Сатаны?», без промедления ответил: «Точно», поскольку речь шла об одном из переулков между Остоженкой и рекой. Впрочем, теперь, спустя десятилетия со времени моих странствий по булгаковской Москве, охотников до этой забавы развелось столько, что сама она стала как бы не столь увлекательна. Но не станем отказывать в праве на своего Булгакова (со всеми последствиями этого) любому следующему поколению. Пусть, затаив дыхание, открывает кладезь булгаковских секретов, пусть идет по их следу, как Бездомный за Воландом. Ему не достигнуть цели, ведь на том и зиждется игра, но по пути оно немало обогатится, а значит, игра стоит свеч.
Коли речь зашла о пути, то попробуем, пользуясь давними воспоминаниями, продолжить его. Насколько это возможно полвека спустя, учитывая, как много раз Москву ломали, перекраивали и изменяли в ходе очередных реконструкций. Значительная часть московской старины погибла бесследно, нередко транжирилась самым варварским образом, теперь ее утрату оплакивают, ведь во времена тотальной жестокости улиц и домов не жалели, как и людей. Не уцелели и многие фрагменты булгаковской топографии, особенно касающиеся той старой, нэповской Москвы, которую Михаил Афанасьевич как репортер исходил вдоль и поперек… «Где я только не бывал! – писал он. – Сотни раз на Мясницкой, на Варварке, на Старой площади, в Союзе Кооператоров. Заезжал в Сокольники, носило меня и на Девичье Поле… На будущее, когда Москву начнут посещать важные заграничные гости, у меня еще есть в запасе профессия гида».
Если он сам того хотел, то возьмем его в свои провожатые и попробуем отыскать или воссоздать воображением из небытия то, что удастся.
Один маршрут мы уже прошли. А теперь исследуем его квартиры, начиная со времени переезда в Москву осенью 1921 года.
Этот переезд, завершивший двухлетний период кавказских скитаний – военной, полувоенной и послевоенной (но в условиях, близких к военному положению) поры – он сам описал очень выразительно: ночь, сплошная неизвестность, толпа, прущая через разрушенный вокзал, потом пролетка и неясные контуры темного города, в котором негде и не за что зацепиться. Возможно, киевский беженец, думавший уже об эмиграции и даже предпринявший в этом плане некоторые шаги, всматривался в этот город с гордым вызовом Растиньяка, но из писем к родным мы знаем о гораздо более скромных планах: «… если бы года за три вновь обрести норму: жильё, одежду, еду и книги». Немного, но и слишком много для представителя интеллигенции того времени – в итоге трех лет не хватило.
Недаром жильё фигурирует на первом месте. Человек, которого лишили Дома, с душой и телом, изболевшимися от вынужденных странствий, желал обрести хоть какое-нибудь пристанище. Но всё было против. Москва трещала по швам. Приезжие карьеристы, оснащенные мандатами, распоряжениями и исключительными жилищными правами новой власти, осуществляли per fas (правдами), а особенно nefas (неправдами) вселение в квартиры и без того перенаселенные. Их прежние обитатели и хозяева напрягали все силы и смекалку, чтобы доказать свою лояльность и необходимость, обзавестись жилищной броней. Это была изнурительная и продолжительная война – в точном смысле гражданская, домашняя: удар на удар, справка на распоряжение, распоряжение на апелляцию. Тогдашняя литература, касавшаяся бытовых проблем, многократно живописала эти столкновения. Делал это и сам Михаил Афанасьевич, тот, кто его читал, помнит, как часто упоминает он о «чувстве зависти в высокой степени», испытываемом при виде жилищной предприимчивости ближних.
Оба они (с женой Татьяной Николаевной) первоначально обосновались на Садовом Кольце, внешней (по отношению к упомянутому кольцу бульваров) границе улиц, окружающих центр, а точнее – тот его участок, который называется Большой Садовой, в дом № 10. Его можно легко отыскать и теперь, идя от площади Маяковского вниз по левой стороне, сразу за Военно-Политической Академией. Это старое, солидное здание, построенное оборотистым промышленником для состоятельных жильцов. Юмористическое описание лучших дней существования дома знакомо читателям рассказа «Дом №13»; в отрывистых, словно синкопированных фразах этого произведения передана нетривиальная характерность этой серо-желтой глыбы, заполненной невероятной мешаниной людей и судеб.
Михаил Афанасьевич дважды обитал здесь: сначала слева, шестой подъезд, шестой этаж, квартира № 50, где его приютил добросердечный шурин Андрей Земский, а позже – в симметрично расположенной квартире по другую сторону двора, четвертый подъезд, шестой этаж, № 34. Всякий раз это были комнаты в многосемейных коммуналках, абсолютно для этой роли не приспособленных, а потому наш Мастер в полной мере познал тяготы перенаселенного существования, обрекавшие на соседскую невоспитанность или обычное хамство. Вдобавок, классово бдительная новая администрация всячески старалась Булгаковых выселить. Отсюда появление двух известных всем нам, его читателям, мотивов творчества писателя – кошмара принудительного соседства и ненависти к администраторам.
Но не только их. Первые московские годы были голодными, холодными, но плодотворными. Булгаков пробивался тогда в литературу, жадно поглощая опыт окружающей действительности и создавая духовные запасы для будущих поколений. В очень многих местах различных произведений фантастически отразится мир дома № 10, разбитый на частицы, ассоциации, звуки и образы. Уже установлено, благодаря разным исследованиям, что именно отсюда возникла Садовая 302-бис с квартирой Берлиоза и Лиходеева и штаб-квартирой Воланда. Здесь же рядом размещался в двадцатых годах Мюзик-холл – явный прототип романного Варьете, ныне превращенный в суперсовременный Театр Сатиры, на задворках которого любознательный булгаковед-следопыт отыщет еще остатки садика, в котором отлупили администратора Варенуху.
Первым это описал – тщательно и без претензий – еще годы назад скромный человек, не относящийся к литературному кругу, некий В. Лёвшин, который в очень ранней молодости был соседом, а позднее, оказавшись под обаянием этой личности, стал почитателем и спутником Булгакова[19]. Вспомним его с благодарностью, ибо без таких бескорыстных свидетелей целая масса фактов прошлого безвозвратно канула бы в Лету.
Нынче заядлых, начавших с чистого любительства булгаковедов – легион, а дом на Садовой и стал как раз их центром, местом спонтанных хэппенингов, предметом своего рода культа. Похоже на то, что воля народа превозможет административные преграды и, в конце концов, здесь будет музей. Тут надо всем словно бы мягко вздымается плащ Воланда, а значит, случится то, что должно произойти. Но об этом я знаю только понаслышке, а потому возвращаюсь к тому, чему был свидетелем.
Я заходил туда множество раз, и в те времена всегда было безлюдно. Выбирал обычно пору сумерек или вечер – важное для Булгакова время полуреальности, стирания тривиальной дословности дня, игры света и фантазии. Въездные ворота – как в крепости, большие, сводчатые, массивные, а за ними – темный двор-колодец. Подъезды, как и пристало солидному дому, – высокие, стрельчатые, почти кафедральные; полумрак, спокойное однообразие ступеней из белого камня, никаких штукатурных излишеств. Добротный старый материал устоял перед временем на славу; только желобок углублений в ступеньках точно повторяет вид мостовой Андреевского Спуска, словно бы и тут, и там отшлифовалась тяжкая поступь нашего столетия. На дверях очередных этажей хорошо известные в Москве обозначения – кому сколько раз звонить: «Иванов – два звонка, Петров – четыре звонка», и почтовые ящики с наклеенными названиями газет, получаемых каждым из Ивановых и Петровых, чтобы почтальон не перепутал. А это означает, что сейчас, как и тогда, шестьдесят лет назад, здесь коммунальные квартиры. Оба булгаковских адреса находятся на последних этажах. Говорят, глас народа высказался в пользу квартиры № 50, и всю лестничную клетку там покрывают надписи и рисунки. Лёвшин же убедительно доказывает (пользуясь, в частности, приведенным в «Мастере и Маргарите» описанием захода солнца), что важнее № 34 и что именно в четвертом, а не шестом, подъезде сначала рухнул вниз чемодан киевского дядюшки, а потом полетел он сам, получив по физиономии жареной курицей…А может, вящего спокойствия ради, создать два музейных помещения, посвященных памяти Булгакова?
Боже мой, думаю я теперь, когда пишу эти слова, как хорошо, что мы дожили до поры, когда возникли подобные проблемы. Проблемы, в конце-то концов, достаточно условные, но благородного свойства – материализация мира мифов и фантазий, попытки уловить неуловимое. Пусть это живет, нарастает, укрепляется.
Моим мыслям вторит тот давний текст Лёвшина:
«…Странное дело, в ту самую минуту, когда я окончательно установил точный адрес московской резиденции Воланда, громада моих усилий начала мне казаться наивной и беспредметной. В конце-то концов, разве это так важно, где жил этот Воланд! (…) Важно другое – был дом. Реальный дом со своим реальным существованием. И пришел художник, чтобы вдохнуть в него иную, фантастическую жизнь, наполнить сотнями образов и расширить до размеров вселенной. Потом магия кончилась и дом вернулся в реальное пространство. Я же, живущий здесь в течение пятидесяти лет, не могу избавиться от мысли, что наряду с моей собственной жизнью здесь протекала другая – фантастическая и вымышленная, которая, однако, гораздо реальнее моей жизни и которая переживет и дом, и всех его обитателей, бесконечная жизнь в искусстве».
* * *
Я дольше задержался у дома № 10, alias (он же) 13, alias 302-бис, но в Москве он важнее всего, как в Киеве Дом на Андреевском Спуске. Дальнейшие следы во многом стерлись. Но искать их стоит. Под темным сводом ворот представим себе еще раз силуэт высокого, худощавого, несколько угловатого человека с «треугольным» лицом, крупным носом и развевающейся на ветру белокурой шевелюрой – как он бежит в куцем пальтишке, жалкой защите от мороза, подав вперед левое плечо, ибо так, вроде, теплей и таким именно он себя описал, а бежит он в одну из редакций – может, газеты «Гудок» или «Накануне» или еще куда, чтобы, по его словам, «выковыривать себе пером кусочек хлеба», оставив дома для ночной работы то, что для него важнее всего – рукопись «Белой гвардии».
Теперь надо выйти на Садовую и направиться вниз, к хорошо известному скверу у Патриарших Прудов – Булгаков любил гулять здесь. Сквер населен ныне скульптурами, изображающими персонажей басен Крылова, я ничего против них не имею, но как раз для этого места больше подошли бы фигуры героев другого фантастического повествования. Здесь можно сесть в троллейбус, доехать до Смоленской площади и свернуть налево – в коридор Арбата. Первая улочка направо носит имя Веснина, а прежде называлась звучно – Денежный переулок. Она сохранила еще подлинное, староарбатское обаяние, связанное с домиками в стиле московского ампира, с живописными чередованиями понижений, поворотов и повышений, с волнообразным рисунком узорчатых, кованных из металла ограждений. Не следует только поднимать голову, над которой нависает невообразимая уродина соседнего небоскреба на Смоленской площади, и можно будет почти забыть о том, что северная часть Арбата практически уничтожена реконструкцией. Так был осквернен санктуариум московской традиции, где наиболее полно воплотился благородный, интеллигентный и просвещенный дух города. Булгаков также черпал из этого источника, а одновременно его обогащал, поскольку далеко не случайно, как я думаю, именно на Арбате и Пречистенке следы его следов становятся гуще: видимо, здесь, в истинном центре, он – хоть и на чужбине – чувствовал себя сравнительно лучше всего. Пойдем же за ним по Денежному переулку. В доме, где располагается теперь посольство Италии, он познакомился в 1924 году со своей второй женой – Любовью Евгеньевной Белозерской, которая тогда после нескольких лет эмиграции вернулась на родину. Вскоре ей будет посвящена «Белая гвардия», а мотив эмигрантских скитаний обнаружится – в художественно претворенном виде – в «Беге». Когда решение о новом браке было принято и легализовано, квартиру на Садовой пришлось покинуть. Молодоженов вновь приютила семья Земских. Сестра Надежда работала директором школы, а потому могла на время каникул предоставить брату для проживания учительскую. Потом Михаил Афанасьевич нашел клетушку на мансарде старого деревянного дома в нескольких шагах от нынешних итальянцев. В мое время достаточно было свернуть налево, в Большой Левшинский, чтобы затем на его перекрестке с тогдашним Обуховским, а ныне Чистым, отыскать дом № 9, сильно попорченный зубами времени и, должно быть, обреченный на скорое уничтожение. Стоит ли он там сейчас? Здесь были созданы «Дни Турбиных» и «Роковые яйца» , тут же, по словам Любови Евгеньевны, из чтения газетной заметки родился замысел «Зойкиной квартиры», бравурной, с размахом написанной и Театром имени Вахтангова поставленной комедии о нэповском полусвете, где фигурирует действующий под вывеской швейной мастерской дом свиданий. Существуют, правда, и другие версии возникновения этого сочинения, но это не столь уж важно.
Здесь-то и находится центр булгаковской топографии. Тут же рядышком была церквушка, где выдавали замуж младшую из сестер Булгаковых – Елену. На углу Малого Левшинского и давней Пречистенки находилось следующее жилище Михаила Афанасьевича. Если точно, то Малый Левшинский, 4, но это уже фикция, поскольку этот угол как раз при мне рушили и перестраивали, а потому след Булгакова, как свита Воланда, распыляется здесь в проплывающих облаках. Это закономерно. Зато прогулка Пречистенкой позволит вам ощутить еще относительную стабильность традиционных структур и людей, которые годы назад эти структуры создавали и которых наш Мастер – напомню – высоко ценил. Чтобы отыскать след, пожалуй, самого близкого Булгакову человека, надо тут же повернуть в направлении Арбата. Параллельно Денежному здесь проходит Плотниковский переулок, где жил Павел Попов, философ, историк и логик, друг и многолетний адресат писем писателя, которому явно важно было оставить после себя эпистолярные свидетельства. Дом семьи Поповых (жена, Анна Ильинична, являлась внучкой Льва Толстого) под № 12 несколько отодвинут вглубь и отделен от тротуара маленьким сквериком. Квартира в подвальном помещении очень Булгакову понравилась – есть основания полагать, что ее черты он придал жилищу Мастера. Памятуя, впрочем, о правиле контаминации, мы склонны предполагать и присутствие в нем признаков следующего и, наконец, собственного булгаковского жилья. Мы выйдем к нему, идя Пречистенкой вверх, затем перейдя Зубовскую площадь, оставив слева Хамовники. Продолжением Пречистенки служит улица Пирогова, район медицинских клиник. Напротив одной из них стоит дом № 35, а квартира № 6, расположенная на низком первом этаже, выходит, как и тогда, окнами на очень шумную улицу. За этот шум, а в особенности за скрежет проезжающих трамваев Михаил Афанасьевич со временем перестал ее любить, стал называть «норой» и ядовито отзываться о ней: «Моя проклятая резиденция сотрясается в своих основаниях». Но первоначально, когда тантьемы, поспектакльные отчисления за «Дни Турбиных», обеспечили относительную финансовую стабилизацию, жилище на Пирогова стало подобием Дома. Анфиладу из трех комнаток удалось уютно меблировать. У меня есть фотография кабинета: стильное, хотя и порядком послужившее бюро, два подсвечника, лампа под абажуром (конечно, зеленым – а как же иначе?)… Сзади видны библиотечные полки, и по корешкам можно распознать антикварные издания: оправленные в кожу, они излучают спокойное тепло и концентрированную мудрость традиций. Говорят, у него было превосходно подобранное собрание русской литературы XIX века. На стенах же, что не показано на снимке, висели в рамочках наиболее кровожадные, призывающие к борьбе с «булгаковщиной» театральные рецензии, самые злобные выражения в которых хозяин подчеркивал, словно отмахиваясь от своей судьбы или бросая ей вызов. Таков был его стиль.
Как раз в этом доме, хотя уже не в этой квартире, а в расположенной рядом, я навещал Любовь Евгеньевну (о чем сказано в другом месте), которая очень заботилась о булгаковском наследии и оберегала атмосферу жилища. А в той квартире (№ 6) до весны 1929 года было шумно и людно, здесь пробовали жить нормально в мире, доживавшем последние дни полунормального существования, не зная, что их ждет впереди. Потом, после снятия с репертуара всех пьес и финансового краха, всё изменилось самым радикальным образом.
Пироговская – это единственный выход за пределы магического круга московского центра, дважды обозначенного бульварами и Садовым кольцом. Впрочем, ненадолго, так как в 1932 году писатель заключил новый (и последний) брачный союз с Еленой Сергеевной Шиловской, а два года спустя последовал и последний переезд в Нащокинский переулок. Так Булгаков вернулся в район старого центра и вновь оказался близ Арбата и Пречистенки. Он мог теперь ходить во МХАТ милой московским сердцам улочкой Сивцев Вражек и останавливаться у памятника Гоголю. Здесь мы уже были. Конечно, не собьется с пути и тот, кто, проследовав этой трассой до старого МХАТа и остановившись перед достопримечательным зданием, вспомнит описанное в «Театральном романе», эту особенную атмосферу мира для посвященных, заправленную легким гротеском, какую открывал Максудов в Независимом Театре. Известно, что события разыгрывались именно здесь и что все персонажи романа имеют своих реальных прототипов, но мы знаем и о том (речь об этом шла), что нужно избегать прямых отождествлений.
Тут, у театра, 14 марта 1940 года собрались мхатовцы, чтобы проститься со своим автором, а до недавнего времени и с товарищем по службе. Их взаимоотношения были сложны, но каждая из сторон многим была обязана другой. Впрочем, в творческой жизни Булгакова легко не было никогда и ни с кем.
Прежде чем последовать за погребальной процессией, можно еще проехать на метро на Воробьевы (ныне Ленинские) горы, стать спиной к Университету (кошмарному сооружению, не уступающему монстру на Смоленской площади) и посмотреть через излучину реки на панораму города. Сюда Михаил Афанасьевич любил приходить (зимой на лыжах, летом – пешком), чтобы полюбоваться своей Москвой «с солнцем, преломляющимся в тысячах окон, обращенных на запад к пряничным башням Новодевичьего Монастыря». Нынешняя панорама имеет мало общего с той, но если нам удастся ощутить нечто от бередящей душу нежности разворачивающегося здесь финала «Мастера и Маргариты», от этого прощания с книгой, городом, жизнью, длящегося еще и еще, то мы станем богаче, почувствовав непосредственную близость того, для кого его роман – дело жизни являлся одновременно и спасением, и формой существования.
А коли он сам вспомнил про Новодевичий Монастырь, отправимся туда – и на кладбище при нем. С улицы Пирогова будет тоже близко – рукой подать. Кладбище в течение какого-то времени было закрыто для посетителей, теперь этот абсурдный запрет отменен. Старая часть Новодевичьего – это пантеон русской культуры, хотя и инкрустированной политикой: волею судьбы и администрации здесь вынуждены соседствовать после смерти люди, чрезвычайно далекие друг другу при жизни. Но Булгаков погребен среди близких – актеров и режиссеров МХАТа – под глыбой черного гранита. Камень был первоначально предназначен для могилы Гоголя в Даниловском монастыре, но после перенесения праха классика на Новодевичий в нем отпала надобность. Елена Сергеевна, верная исполнительница завещания Михаила Афанасьевича, открыла этот монолит случайно. Теперь они оба почиют под гоголевской шершавой плитой, словно материализовался булгаковский вздох, обращенный к тому, кого он считал величайшим из писателей: «Учитель, накрой меня своей бронзовой шинелью…».
Я приходил сюда несколько раз, добавлял свои цветы к тем, что всегда лежали там, потом стоял над могилой. Это было обычно под вечер, вверху догорали огни заката на куполах Новодевичьего, издали доносился приглушенный вороний грай. Я уходил, чтобы вернуться. Уходя, оставался.
Такова – в общих чертах – моя булгаковская Москва. Я посвящаю эти ее картины всем, кому близок наш Мастер.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАХЛОПНУЛАСЬ ДВЕРЬ
Был декабрь семьдесят пятого. Я готовился к очередному, ежегодному выезду в Союз. У меня имелось обычное, семейное приглашение, кроме того я был включен в план официального обмена писательскими делегациями. Подобные оказии ценились особенно, так как позволяли ездить по стране. Маршрут следовало сообщить заранее, затем согласовать его в Москве в специальном отделе Иностранной Комиссии Союза Писателей, где молодые люди с пытливыми взглядами и сдержанными манерами не давали возможности усомниться, какое учреждение они в действительности представляют, и явно не скрывали своей принадлежности к нему. Выехать куда-то оказывалось невозможно, но зато можно было попасть в другое место: как на краковском рынке, всегда удавалось договориться. Молодые люди извещали о предстоящем приезде соответствующие местные писательские организации, а в первую очередь – отделения своего ведомства, но опека не была чрезмерно назойливой и при минимальной изобретательности удавалось получить относительную свободу действий. Может, свободу далеко не полную, но кто это мог объективно оценить? Да и зачем было задаваться такими вопросами? Понятно, какие-то отчеты куда-то посылались: «контора пишет»…
Так должно было быть и на этот раз. В заявленном маршруте я указал прибалтийские республики и наперёд радовался интересной поездке. В Эстонии была и существует прекрасная литература, представленная на всесоюзном небосклоне созвездием светил первой величины. Я уже тогда начитался книг великолепного Яана Кросса, лучшего в Союзе чуть ли не со времен Тынянова мастера исторической прозы, ищущего в прошлом корни эстонской ментальности и эстонской судьбы. А также по-чеховски тонкого в анализе человеческих падений и драм Энна Ветемаа и глубокой, имеющей вкус к ситуационной метафоре, притче, параболе Эмэ Беэкман, и нескольких других. Об остальном я догадывался и тем более туда торопился. Литературная Литва вырисовывалась не столь блестяще, но здесь главным было Вильно (Вильнюс), которого никогда прежде, даже в пору довоенного детства, я не видел, в остальном следовало сориентироваться на месте. Латвия была мне известна слабее – я знал лишь, что там есть несколько хороших поэтов и менее значительных прозаиков. Всё это, однако, было вычитано и требовало проверки в реальной действительности. Я рылся в своем архиве с газетными вырезками, уточняя, кто есть кто в Прибалтике, чтобы не выглядеть типичным приезжим репортером-невеждой, я знал также по своему прежнему опыту, как высоко ценят в союзных республиках хоть какое-то знание местной специфики. Рылся – и паковал чемоданы.
И вот тут наступил сбой. Еще немного, и всё полетело бы в тартарары. Дело в том, что в начале декабря я совершил один неблагонадежный, с точки зрения властей, поступок – подписал, вместе с группой других лиц, неприятный для этих властей документ. Варшавское руководство довольно долго пережевывало и переваривало этот инцидент: сначала было глухо, а спустя два месяца начались расторжения издательских договоров, посыпались отказы из газет и журналов, к осени я почувствовал себя совсем налегке – не отягощенным никакими официальными обязательствами.
Иначе действовала советская власть. Правда, подписанный текст и ее в какой-то мере касался. Но она выказала подлинную, долгим историческим опытом выработанную эффективность. И оперативность – как камушком по головушке. Уже пару дней спустя по оглашении документа из Москвы пришло сообщение, что меня в числе приглашенных не ждут. Ситуация была: кто кого обгонит? С помощью добрых людей я сделал вид, что меня в Варшаве уже нет, а сам срочно выехал в Москву, где с невинным лицом отправился в Союз Писателей. Всегда доброжелательный и ценимый поляками Виктор Борисов принял меня с немалой озабоченностью и сообщил, что я официально объявлен persona non grata. Я разыграл удивление и целую гамму оттенков сожаления. Борисов как весьма опытный специалист в области советско-польских контактов знал, разумеется, что мне уже всё известно, но убедительно притворялся, будто об этом не догадывается. Но сожалел о случившемся он, похоже, искренне, поскольку, кроме всего прочего, эти польские истории должны были впредь весьма осложнить ему и без того нелегкую работу, что он явно предчувствовал. Мы расстались в довольно грустном настроении. Я перестал бывать в писательском клубе, удобном в качестве места встреч, но это не было большой утратой. Все мои знакомые и друзья в один голос утверждали, что ЦДЛ (Центральный Дом Литераторов) окончательно деградировал и стал прибежищем пьяной бездари. Похоже, так оно и было, а кроме того после десяти с лишним лет регулярных посещений Москвы я уже протоптал здесь собственные тропки и подходы, а потому встречи не отменялись, а проводились в других местах.
Потекла обычная по приезде жизнь. Но и не совсем такая, как всегда.
Дело в том, что атмосфера была отравлена горьким предчувствием неизбежного конца, конца моего длительного цикла встреч с Россией. Бравурная эскапада удалась, но в перспективе маячил, как минимум, долгий перерыв. Может, даже очень долгий. И я знал об этом. Слово «никогда» тоже возникало на самом дне сознания, поскольку и это следовало допустить. А потому нормальные встречи заключали в себе и некий момент прощания. Не слишком значительный, но всё же… Зима стояла морозная, но, кажется, солнечная: во всяком случае, я запомнил резкий блеск лучей заходящего солнца, догорающих на сугробах неубранного снега. Летом закатная пора здесь великолепна и продолжительна, но и в этом долгом, словно бы бесконечном угасании ярких красок и резких очертаний заключена какая-то печаль: день уходит. Очень люблю эту пору: в ней есть какое-то скрытое напряжение. Именно она теперь, двенадцать лет спустя, кажется общим тоном и настроением той поездки. Поэтому я и говорю о ней отдельно, как и о той первой – фестивальной.
Тем временем проходил декабрь. Я посещал старых знакомых и друзей. Некоторых уже более не увижу – они затем скончались. Других же – не увижу в их обычном русском окружении, поскольку они эмигрировали. Так что это «никогда» уже частично осуществилось.
В той же меланхоличной атмосфере наступил и Новый Год. Мы провели его с женой у супружеской четы нашего возраста, а следовательно, сходного опыта людей одного поколения. Праздников в России немного, но зато празднуют их долго: Новый Год встречают здесь порой в течение трех дней. Город становится почти безлюдным и нереальным. Три дня мы провели только вчетвером – в долгих разговорах обо всем, рассматривая старые книги, слушая пластинки, предаваясь воспоминаниям. Наши друзья жили в центре, где-то близ Чистых Прудов, хорошо известных читателям рассказов Юрия Нагибина. Это солидная, старая Москва. Квартира принадлежала отцу хозяйки дома, скончавшемуся несколько лет назад в уже несколько поблекшем ореоле славы. В сталинскую эпоху этот человек участвовал в покорении Арктики, что в тридцатые годы было предметом всеобщего восхищения. Фамилию исследователя Заполярья знала вся страна, на групповых фотографиях он был снят вместе со Сталиным. Квартира соответствовала его рангу: огромная, внушительная, заставленная крупной мебелью – истинный памятник эпохи культа. Время здесь остановилось и материализовалось. Вначале мне хотелось всё точно запомнить, а затем передать в описании, но – как бывает в таких случаях – всё укладывалось и запечатлевалось в памяти так хорошо, что эта полнота чувств уже никогда не повторялась впоследствии. Мой язык и теперь костенеет, хотя я вижу всё разом и очень выпукло: тяжелые шторы, светлые обои, проблематичные по своей художественной ценности, но богато оправленные картины, громадные библиотечные шкафы, большие клубные кресла для толстозадых вельмож, буфетыкрепости, круглые столы. Материалом служили плюш, красное дерево, хрусталь, кожа, гамма цветов – темная, от пурпура до бронзы, оранжевый свет от абажура. В этом интерьере легко представить себе (отчасти, как думаю, под воздействием фильмов и портретов той эпохи) прежних обитателей квартиры и их гостей, сталинскую элиту, их костюмы, вечерние платья и прически, их банкеты с обязательным первым тостом за отца народов, их грубые шутки, веселые песни и скрытые страхи… Всё нарочито, напоказ, вызывающе, одновременно неправдоподобно и сверхъестественно правдиво. Среди подобных теней и видений я провел новогоднюю ночь и вновь ощутил нечто существенное, доступное только там, на месте, у истоков. Утром я гулял по пустым заснеженным бульварам – всё еще спало, мир вокруг застыл в неподвижности, и это глубоко соответствовало реальности, поскольку Москва, Россия, Союз находились как раз в стадии усыпляющего застоя, прогрессирующего паралича. По-русски есть такое слово безвременье. Это и было безвременье – для них, так как нас 1976 год продвинул к новой поре, дал некое ускорение. Но это стало ясно позднее.
Моя прощальная малоподвижность и зачарованность прошлым сменилась быстрыми действиями. Расчет был прост: прежде чем дверь в Союз передо мной захлопнут, надо увидеть, что удастся. Официальная программа поездки отпала, но ее можно было осуществить полуофициальными средствами. Любая слишком герметичная система имеет свои лакуны и слабые места. Нерасторопность бюрократической машины пошла мне на пользу: из Эстонии пришло сообщение, что тамошняя писательская организация ничего не знает о перемене моего статуса, а следовательно, готова принять меня в соответствии с ранее утвержденным планом. Ближе и дальше у меня были знакомые и знакомые знакомых. Описанная прежде цепочка рекомендаций могла быть использована в очередной раз. Следовало отказаться от официального пути получения разрешений на поездки и раствориться в толпе местных жителей. Я приобрел обычный билет на обычный ночной поезд и зигзагообразной трассой двинулся на Запад.
Поездка была забавной, поскольку в ту ночь я сдавал экзамен по мимикрии, иначе говоря, изображал из себя рядового советского человека. В купе никто не спал, звучали сюжеты обычных железнодорожных разговоров о жизни. Желающих рассказывать в таких случаях обычно гораздо больше, чем охотников слушать, поэтому надобность в моем монологе отсутствовала: достаточно было сдержанного, но непрерывного участия в общей беседе, живого поддакивания и – время от времени – подбрасываемых в огонь разговора вопросов. По мере протекания ночи сосед-полковник сообщил мне, что служит на «сотке», т.е. в одном из центров окружающего Москву в радиусе ста километров кольца противоракетной обороны, и что служба эта – паршивая, так как пропуск в столицу дают редко. Я кивал головой с участием старого служаки и не расспрашивал о деталях. Юноша, сидевший напротив, оказался заядлым хоккейным болельщиком и, не сомневаясь, что я разделяю его страсть, хотел слышать мое мнение относительно достоинств тех или иных игроков, а также шансов «Динамо», «Торпедо» или «Спартака» в ближайших матчах. Это уже было сложнее, но при мобилизации внимания я смог подхватывать и повторять фамилии, которыми сыпал собеседник, достаточно естественным образом, и получилось неплохо. Доверительная беседа с полной соседкой на тему доступности разных товаров в столице и в провинции протекла безупречно: в отличие от хоккея, я имел об этом предмете некоторое представление, а попасть в тон ее скорбного повествования тоже не было трудно. Так всё и протекало в ситуации легкого раздвоения личности: внешне я выглядел добродушно сонным, расположенным, по-свойски глотающим слоги и окончания, а внутренне был напряженно внимательным, пропускающим каждое слово и фразу сквозь контрольный фильтр: правильна ли эта форма? верно ли ударение? (С коварным русским ударением у меня всегда было больше всего хлопот; иное дело, что в этом многонациональном, очень плебейском тигле неправильность русской речи оказывается явлением повсеместным). В целом я бы поставил себе четверочку с минусом, поскольку, когда уже далеко за полночь, в клубах морозного пара я вышел во Пскове, никто из моих спутников не сомневался, что я – «свой».
С псковской землей у меня уже были контакты. В одну из зим я провел здесь, в Михайловском, родовом имении, а ныне пушкинском заповеднике, три дня и ночи, заполненные почти непрерывной беседой, душой которой являлся человек редкой фантазии и таланта, директор заповедника Семен Гейченко. Тогда же я посетил соседние усадьбы-музеи, также связанные с Пушкиным и заботливо реставрированные, унося воспоминания, в которых одно накладывалось на другое и третье: забористость закрывающей рот снежной русской зимы, скромную прелесть дворянских гнезд и поэтичные холмистые пейзажи с извилистой речкой Соротью, и во всем этом, благодаря Гейченко, почти осязаемое присутствие русского гения, ибо повсюду казалось, будто он только что вышел и скоро вернется.
Теперь, похоже, сама судьба занялась организацией моего прощания с Россией по самому высокому канону, так как не успел я даже заикнуться, а меня уже везли – правда, не в Михайловское, а в расположенные чуть ближе Святые Горы, где на холме у монастырской стены находится могила поэта. Внизу там царит автобусно-туристический, магазинно-водочный гвалт, но выше стоит тишина, только при ветре танцуют тени деревьев и вечерние отблески огней, так что кажется, будто Александр Сергеевич плывет по воздуху над своей полной непрестанных забот Россией в какие-то дальние дали… Приближалась как раз сто тридцать девятая годовщина смерти и прибытия останков после строго засекреченной и проходившей под контролем жандармов экспедиции из Петербурга сюда, в Святогорский монастырь. Я постоял несколько минут, но надо было ехать дальше – последовал еще один фрагмент ночного пути с неизменными железнодорожными разговорами, а затем Таллин.
Не хотел бы обижать эстонцев скудостью посвященных им воспоминаний, а потому скажу лишь, что после нескольких дней очень интенсивных контактов со многими людьми я ощутил их общую и главную черту: молчаливую, лишенную демонстративности волю сохранения своей национальной индивидуальности, своего рода круговую оборону, предпринимаемую в условиях безгласного понимания ситуации, когда твой локоть касается локтя соседа. Никто мне не говорил об этом прямо, но дух этого народа не терпит многословия – совсем напротив. Мудрец Кросс, когда я навестил его, в течение первого получаса не произнес ни слова: он слушал меня, попыхивая трубкой и усмехаясь в бороду. Последующие полчаса уже сопровождались его односложными репликами. Спустя час он позволял себе краткие, прерываемые солидными паузами фразы. Как мне сказали потом, это была кульминация разговорчивости Кросса, которую следовало трактовать как проявление редкой откровенности. В обычной же ситуации надлежало научиться читать улыбки, которыми эстонцы защищаются от вторжений извне. Улыбка Кросса была всепонимающей: качели его судьбы, удары, которые он получал со всех сторон, делали его биографию как бы парадигмой национальной истории. Энн Ветемаа, щуплый, нервный, большеголовый, улыбался широко, но довольно грустно, словно подытоживая знания о падениях и предательствах своих персонажей. Иначе выглядела улыбка Арво Валтона – рассеянная, будто отсутствующая, с оттенком тихого безумия и непреклонного упорства: говорите, что хотите, а я знаю своё и это опишу… Это блестящий прозаик, остро чувствующий странности бытия и сюрреализм эстонской судьбы. Были еще и другие: довольно того, что я почувствовал: мои представления об их самобытной и тесно связанной с Европой культуре абсолютно тривиальны, а потому к тем другим я еще вернусь, если Бог позволит мне вернуться в Эстонию. Они выступают из глубин памяти на фоне старого Таллина, а точнее – прекрасно, по-ганзейски, по-средневековому сооруженного Ревеля, который, когда я по нему ходил, долго угнетал моё сознание своим сходством – впрочем, неполным – с чем-то слишком хорошо мне известным: как будто я здесь всюду побывал, к тому же многократно. Это было гнетущее чувство, пока – наконец-то! – не переродилось в реальный вывод. Мне доводилось немного жить в Федеративной Республике; так вот Таллин был чем-то вроде средненемецкого города типа Бремена, Майнца, Аахена, Мюнстера или Регенсбурга, но после покорения и установления советской власти. Буквально те же градостроительные принципы, основы, архитектонические перспективы, та же фактура; только там – отшлифованная, полированная, выпестованная, оправленная в блеск феерии, обращенная к своим гостям тысячью искушений и предложений, бросающаяся в глаза непрестанной вибрацией света и форм, а здесь – старая, поношенная, изжеванная временем, убогая, тщетно молящая о ремонте, с устрашающе мрачными редкими витринами нищенских магазинов, где представлены лишь банки консервов и пучки увядшей зелени, изображающие овощи, с заведениями общепита, перед которыми змеятся терпеливые очереди. Словом – Запад после проигранной, третьей войны. Я бы возил их – подумалось тогда – сюда, в Таллин, на экскурсии под девизом: «Посмотрите, что вас ожидает, если…». Впрочем, «какой шмысл?». Ведь они переживали тогда кульминацию своего безумного пацифизма и были готовы побросать оружие и поднять руки вверх – дескать, в этом случае противник не станет атаковать. В Таллине же лучше других чувствовали себя соседи-финны, шумные и пьяные: их привозили сюда в огромном числе дешевыми туристическими автобусными рейсами на уик-эндовые попойки, и, глядя на них, можно было ручаться, что кроме рюмки с бутылкой ничто не вызывает у них ассоциаций.
Через пару дней я двинулся дальше, на этот раз ехать пришлось днем – с утра до вечера. Латвию я лишь проехал – повторить эстонский фокус тут не удалось. Потом в течение многих часов за окнами виднелись пущи старой, совсем патриархальной Литвы. Солнце опускалось всё ниже, на искрящиеся сугробы ложились голубые и фиолетовые тени, морозный небосвод подпирали столбы огромных, мачтовых сосен. Я жадно всматривался в эти картины, полные понятных для каждого поляка ассоциаций и подробностей. Но сосредоточиться не удавалось, поскольку день прошел под аккомпанемент неустанно бренчащих слов. В купе была одна соседка, среднего возраста и непримечательной внешности. Когда я вошел туда утром, она открыла рот и закрыла его лишь вечером, на виленском перроне. Надобность притворяться своим тут же отпала, ибо моя национальная принадлежность не играла никакой роли: я мог бы быть американским военным атташе при полных регалиях или пришельцем из космоса – неудержимый поток слов струился бы подобным же образом. Через полчаса я знал всё о перенесенных ею абортах и физиологических проблемах климактерического периода. Первый муж был отпетым алкоголиком, второй в припадке безумия хотел ее зарезать, кандидат на роль третьего – поляк, добрая душа, только, рассердившись, ругает ее так, что сбегаются все соседи. Теперь она едет к матери в Дагестан, где ретивые кавказцы, понятно, не дадут ей проходу, но, как она полагает, на них можно положиться. Работает она на мясокомбинате, ночами ее преследуют страшные сны. И еще почему-то – что в вытрезвителе избивают до потери сознания. А также – скажите, почему эти эстонцы так нас не любят? Я начал было формулировать взвешенный ответ, но вопрос оказался чисто риторическим, а монолог продолжался: нервное напряжение должно было выплеснуться до конца. В Вильно я сбежал от нее, но до Дагестана был еще практически весь Союз – сверху донизу, так что жертв вынужденного соседства оказалось, должно быть, немало. Впрочем, я не смеялся тогда и не усмехаюсь теперь. Слишком много видел я там невротиков, людей с искрящими кончиками нервов, выпущенными наружу, к тому же людей всех сословий, сфер, поколений…
В Вильно меня принял под свой кров хороший художник, работавший в абстракционистской манере, Жильюс. У него с женой уже были на руках выездные документы по еврейской линии, а потому они могли себе позволить принимать в доме иностранца без прописки. Меня предупредили, в чем специфика ситуации: за квартирой, очевидно, ведется наблюдение. Но, слава Богу, всё обошлось, и в течение нескольких дней я увлеченно окунался в новый для себя город и новую среду. Среди людей – по крайней мере, тех, с кем я встречался – царило много грустного, птичьего волнения и неуверенности: лететь за море или оставаться? Готовился к отлету и очень крупный поэт Томас Венцлова, которого – вследствие крупного формата и сходного профиля творчества – можно условно назвать литовским Бродским. Парижская «Культура» опубликовала в 1979 году его важный диалог с Чеславом Милошем, посвященный Вильно, судьба которого рассматривалась в различных этнических аспектах. Тогда, в 1976 году, свидетельства постоянного присутствия польской культуры, раздумья о Польше, высокая оценка исторических связей с ней встречались мне в среде литовских интеллигентов на каждом шагу. Хотя размышления эти заключали в себе и некоторое беспокойство, о чем скажу дальше.
Томас Венцлова
Энн Ветемаа
Яан Кросс
Арно Валтон
Я спешно старался уловить виленский genius loci (дух места). Не могу отважиться на описание, требующее более основательных знаний, но у меня и теперь перед глазами приземистая, могучая, средневековая кривизна светлых стен городского центра, ведущих плавными поворотами в резких светотенях зимних ночей. Это ветвь ренессанса и барокко неслыханной красоты, неописуемой прелести, укорененная в многоэтничной местной земле – восточная и западная одновременно. Я восхищался, как и каждый, святой Анной с ее стреловидной вертикалью и изяществом торунского пряника. Рядом чернел замкнутый массив Бернардинского монастыря. Когда я спросил какую-то старушку по-русски, можно ли туда попасть, то услышал: «Мусичь ня можна» c таким восхитительным распевом гласных, что тут же (вопреки всякой логике) двинулся в обход и через какую-то приоткрытую калитку проник внутрь. Меньше мне повезло с костёлом Сердца Иисуса, к которому я свернул, спускаясь к городу со стороны кладбища в Россе: меня остановили при входе и вежливо выпроводили, так как храм оказался опутанной колючей проволокой по самые макушки сторожевых вышек колонией или тюрьмой для несовершеннолетних преступников. Но общее впечатление от поисков польских следов было неплохое. Правда, польская историческая субстанция здесь подавалась, как правило, как пралитовская, но была спасаема и оберегаема. Это выглядело гораздо лучше и достойнее, чем варварское уничтожение наследия польского прошлого во Львове.
Братья-литовцы кормили меня и рассказами о своей недавней истории. Я слышал о массовых депортациях перед самой войной с Германией в 1941 году и о том, что – логично – немцев тогда встречали как освободителей; о самоуправлении, которое в то время было Литве дано, а затем отобрано, и о жестоких репрессиях, начавшихся с 1944 года, в результате которых родину покинул, как говорят, каждый десятый житель; о предшествующем бегстве от возвращающейся Советской Армии десятков тысяч представителей интеллигенции; о десятилетней гражданской войне и «лесных братьях», которых чуть коснулся Витаутас Жалакявичюс в фильме «Никто не хотел умирать». Поскольку я и так находился в Литве нелегально, меня посадили в автомашину и отвезли в Ковно (Каунас), официально закрытый для иностранцев. Я увидел бывшую «столицу в силу необходимости», лишенную виленского блеска, заслуженный и достойный мещанский город, нечто среднее между Ченстоховом и Познанью. Но и здесь реставрировали их и наше прошлое: мне с гордостью показывали сверкающий чистотой, обновленный домик пани Ковальской, куда пан Адам Мицкевич любил наведываться после уроков, которые давал в соседней гимназии. Тут же рядом возвышалась внушительная, двукрылая, дворцовая постройка с очень оригинальным двойным предназначением: в одном крыле казармы, в другом – духовная семинария, на одной башне крест, на другой красная звезда, а сзади расстилалась долина Немана, через которую двигался на империю в 1812 году Наполеон (въезжая, он, что было дурным предзнаменованием, упал с лошади). Так переплетались и накладывались друг на друга разные слои и фрагменты истории. Дабы я сильнее ощутил их сложную взаимосвязь и совместное давление, на обратном пути мне рассказали о хитростях, к которым прибегал Снечкус, многолетний партийный руководитель Литвы, чтобы спасти отечественное сельское хозяйство от кукурузной мании Хрущева, а также о том, что единственную в Союзе настоящую автостраду здесь соорудили при том же Снечкусе – притом по секрету от Москвы, под видом ремонта давнего шоссе.
Прежде всего стоило, однако, поехать в Ковно, чтобы убедиться: столицей этот город мог стать только вследствие утраты Вильно, на какое-то время. Так, кружным путем, я приближался к эпицентру литовских беспокойств. Меня продолжали доучивать истории. «Видите ли, – объяснял мне кто-то, – наихудший момент мы пережили в тридцать девятом. Немцы уже отняли у нас Клайпеду, а Вильно ещё было у вас. Мы задыхались. Вы понимаете?»
В конце моего пребывания здесь один художник устроил в мою честь party в обычном европейском стиле. Гости тихо переговаривались по углам, на стенах висели картины, хозяин был приветлив, но холоден, атмосфера как-то не налаживалась – я не знал, почему. Но вот хозяин спросил – чуть громче, чем обычно, и все тут же умолкли, так что слова прозвучали очень отчетливо:
– А что вы, поляк, думаете о будущем Вильно? Если бы нынешняя расстановка сил изменилась?
Тишина была абсолютная. Ситуация показалась мне довольно забавной. Да что я, в конце концов, – генерал Желиговский в 1920 году?[20]Но лица, окружавшие меня, были серьезны. Все ждали. Тогда я сказал, что не представляю здесь никого, кроме себя и группы людей, мнение которых мне известно. Эти люди считают, что Вильно, как бы дорого оно ни было польским сердцам, должно при любой расстановке сил принадлежать Литве, а мы лишь хотели бы иметь сюда свободный доступ и знать, что следы польского присутствия в нем уважаемы и оберегаемы.
В то же мгновение словно прорвало плотину: хозяин, с виду флегматичный северный медведь, бросился ко мне с объятиями. Мы остались потом хорошими друзьями, и при всех обстоятельствах – на щите и со щитом – я получал от него доказательства верной, литовской памяти.
Каких-либо ветеранов-вильненцев мое заявление, возможно, заденет. Ведь в польском коллективном сознании эта проблема не выяснена до конца (хотя – покуда – остается только теоретической). Личные привязанности и обиды я понимаю, но остаюсь при своем: другого разумного, человечного, христианского решения не существует. Для нас это означает – одним прекрасным и важным городом больше, для них это – фундамент существования. Без Вильно нет настоящей Литвы. Пусть судьба пошлет нам мудрых политиков, которые в будущем, от имени некогда существовавшей Республики Обоих Народов закрепят это договором и создадут фундамент истинного согласия наших народов.
Я с надеждой думаю о моих братьях-литовцах, где бы они ни находились. Друг к другу нас ведет еще долгая дорога в гору, но кто-то дойдет.
А тогда моя последняя поездка близилась к концу.
Ныне ее отдельные этапы складываются в некое значащее целое. Я оказался среди теней сталинской элиты и постоял у могилы Пушкина. Растворялся в массе людей, притворяясь одним из них, и был слегка затронут проблемами советских межнациональных отношений. Отыскивал польские следы в Вильно и пообещал его литовцам (дьявол-насмешник шепчет: словно бы кто-то отдавал шведскому королю Стокгольм. Ну, может, не совсем так…).
А в тот раз неманская долина с ее высокими холмами открылась передо мной еще раз в Гродно. Мы проехали через мост. Вошли пограничники. Молодой младший офицер долго рассматривал мой паспорт. Как-то раз прежде при выезде из Союза обнаружили неточности в оформлении прописки и высадили меня в Бресте: правда, я успел добраться до какого-то окошечка, поставить печать и даже поймать свой поезд. На этот раз беспорядка в документах было куда больше. Стоял московский штемпель, потом перерыв, затем Таллин, а за ним еще перерыв. Паспорт он рассматривал долго, но потом возвратил, не говоря ни слова. Этот жест означал, что меня выпускают, а в какой-то степени и изгоняют.
Это соответствовало действительности: меня как бы ссылали, но в противоположном направлении – не вглубь России, а за ее пределы. Знаю, что это рискованное сравнение, и спешу заверить, что опять-таки никого не хочу обидеть, оскорбить чью-либо память. В конце концов, и у меня есть свои личные и семейные польско-русские и польско-советские счеты. И за тридцать шесть лет до этого, в феврале 1940 года я уже убегал отсюда в Генеральную Губернию через снега над Бугом, уцепившись за руку матери.
Это тогда. Но читатель этих записок, возможно, мог заметить, что позднее у меня были основания почувствовать себя связанным с этой страной. Самыми сильными – человеческими узами.
А кроме того, Россия – это моя специальность.
Я как раз завершаю сейчас двенадцатый год принудительной разлуки с нею.
КАК ОБСТОИТ ДЕЛО СЕЙЧАС
После 12-летнего перерыва, возникшего по причинам, абсолютно от меня не зависевшим, я вновь побывал на рубеже сентября-октября в Москве и немного вне ее.
Я ехал с нетерпением, но и с беспокойством. Дело в том, что вот уже какое-то время я стараюсь по возможности систематически представлять читателям газеты «Тыгодник Повшехны» свои размышления и комментарии, касающиеся перестройки (термин этот приобрел столь широкую популярность, что я не буду искать ему соответствий в польском и стану им пользоваться). Доселе это был анализ опосредованный – главным образом, чтением прессы, а потому я неизменно оговаривался, что лишь сопоставление с самой жизнью может удостоверить мои выводы. А значит, я проверял самого себя. У меня был на то месяц времени, который я провел интенсивно, зная, что по возвращении придется отчитываться. Кроме Москвы и ее окрестностей я посетил Вильно, где провел пару дней. На другие нерусские маршруты времени уже не хватило – правда, в столице нетрудно свидеться с многонациональной публикой. Я возобновил, насколько было возможно, старые знакомства, завязал новые. В силу естественного порядка вещей моё тамошнее окружение – это прежде всего творческая интеллигенция, но я старался в нем не замыкаться, беседовал еще с учителями, инженерами, учеными, врачами, пенсионерами, молодежью разных возрастных групп, служителями церкви. С рабочими контакты были фрагментарны, до крестьян я на этот раз не добрался – остались опять-таки лишь опосредованные свидетельства, правда, довольно обширные. Глаза и уши я держал открытыми, жил в массе, но как частное лицо, не выделяющееся явно своим иностранным обликом и способное – из-за твердого произношения – сойти за латыша; никаких признаков особого интереса к моей персоне я не заметил. То, что я видел, слышал, о чем подумал, попробую теперь изложить по возможности кратко, ибо материала довольно много. План у меня такой – начну с общих выводов и с характеристики общественно-политической ситуации, какой она представляется мне сейчас, поскольку ощущаю наибольшую читательскую заинтересованность в этом. Различная конкретика, наблюдения, жанровые сценки, всякого рода мемуарная лирика – всё это последует потом, как и сообщения, касающиеся литературы, театра и кино. Прошу запастись терпением – и на случай, если в чем-то повторюсь, возвращаясь к проблемам, затронутым прежде – такова, однако, техника сопоставлений и сравнений.
Пожалуй, излишне добавлять то, о чем скажу теперь, но подчеркнуть это стоит: и то, что написано здесь, после проверки на месте, есть лишь сумма моих мнений, материал – в любом отношении – дискуссионный. Я только чувствую себя теперь несколько увереннее, но и при этом заключаю всё сказанное ниже в большие скобки и помещаю впереди фразу: «Мне кажется, что…». Слишком много там – в поле наблюдений – непроясненного, внутренне противоречивого, неустоявшегося. Здесь не годится метод аналогий, известные в других случаях предпосылки могут давать абсолютно иные результаты или – что еще чаще – не давать никаких. Тут в игре действуют совершенно специфические факторы, и многие советологи споткнулись как раз на этом. Стараясь не забывать этого и не будучи ни от чего застрахован, перехожу к делу.
МОЖНО ЛИ ЭТО ПРИНИМАТЬ ВСЕРЬЕЗ?
Начну с наиболее частых сомнений, звучащих во многих дискуссиях: не является ли перестройка тактикой, рассчитанной на то, чтобы в очередной раз обмануть общество?
Убежденно отвечаю – нет. Тут у меня нет сомнений. Это слишком серьезное дело, намерения идут далеко и глубоко, команда реформаторов рискует не только политической карьерой.
Ситуация, какую я застал на месте действия, достаточно отчетлива. Брежневский маразм и застой привели страну во всех отношениях к полной деградации, которую теперь и констатируют. «Еще немного, и мы стали бы третьеразрядным государством», – эту фразу, говорят, произнес кто-то из руководства. Иного выхода, чем радикальная реформа, начатая сверху, просто не было – если, конечно, оперировать рациональными категориями, исключая альтернативу, от которой мурашки бегут по спине. Реформаторские начинания, хотя не случайно здесь так сильно персонифицированные, связанные с личностью и ролью Михаила Горбачева, представляются мне равнодействующей того вектора сил, какие отображают настоятельную историческую необходимость: кто-то подобный должен был появиться.
При случае попробую ответить на еще один, часто задаваемый вопрос: заинтересован ли мир в реформе этой системы, делающей ее более эффективной? На мой взгляд, в реформе демократической – безусловно, так как в этом случае ошибкой было бы представлять ее как sui generis (своего рода) лечение, укрепляющее тот строй, что существует теперь. Возникнет, убежден, иное качество.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Социотехническая тактика также не представляется мне загадочной. Чтобы механизм, который заклинило, заело, начал действовать, в качестве инструмента зажигания использованы отдельные средства массовой информации, пропаганды, культуры и искусства. Борис Ельцин, говорят, сказал: «Пусть пресса станет нашей оппозицией». Поскольку время торопит, прежде всего приведены в действие несколько периодических изданий (названия опускаю, так как они хорошо известны) и телевидение, которое я смотрел, не веря глазам и ушам: контраст между сегодняшним днем и оставшейся в памяти прежней пирамидой тривиальной скуки и бездарности, действительно, впечатляет. Они бомбардируют сознание публики сильными порциями информации о прошлом и настоящем, предлагая – в разных сферах и областях – возвращение к общечеловеческим критериям, принципам, иерархии подлинных ценностей. Эффект известен, ибо как раз он прежде всего бросается в глаза и определяет внешний облик перестройки: это масса вырвавшихся на свободу слов, шумящих в здешней атмосфере как огромный рой. Слова эти – знаки обретающих свободу мыслей, и всё вместе это не может не радовать как очевидный признак «очеловеченных обстоятельств», если воспользоваться формулировкой драматурга Александра Гельмана. Включено зажигание, ворчит мотор. Но важнее всего – двинуться с места.
В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ?
Этот вопрос относится к самым трудным. Главный реформатор открывает лишь некоторые карты. Постарайтесь представить себя в его, реформатора, ситуации со всеми вообразимыми ее опасностями и вы, должно быть, согласитесь, что подобный стиль – едва ли не единственно возможный. Реформатор, похоже, хорошо усвоил уроки судьбы предшественников. Кажется, он сознает свою принадлежность к поколению, для которого важнейшим событием стала хрущевская оттепель, особенно учитывая, что и его семьи, по слухам, коснулись сталинские репрессии. О нем говорят также, что он умеет учиться на ходу и что сегодня он – в хорошем смысле – другой человек, чем два с половиной года назад. С симпатией воспринимаются его усилия сломать утвердившийся за десятилетия ритуал официального поведения и утвержденных норм – изменение маршрутов следования, вхождение в толпу, обращение с вопросами к людям, заранее к тому не готовым, и т.д. Это ведь мелочи, скажете вы; да, не самое главное, но радует. И вербует ему горячих сторонников – прежде всего в среде интеллигенции. Наивные энтузиасты, по вашему мнению? Будьте, однако, осторожнее и – напомню сказанное прежде – не доверяйте аналогиям: в тех условиях подобная попытка изменения стиля является знаком, сигналом, способным означать многое…
А что глубже – под внешним слоем жестов и манер? Весь послеленинский период подвергается очень критичной оценке. Констатируется, что умеренно плюралистическая (несмотря на свою ограниченность) концепция Новой Экономической Политики, осуществляемой худо-бедно в 1921-1928 годах, была наиболее разумной и что ликвидация НЭПа и его замена сталинским централизмом и диктатурой страха стали несчастьем для страны и коммунистического движения. Из наследия Ленина отбирают прежде всего его поздние статьи, бьющие тревогу по поводу бюрократического засилья, и подчеркивается значение высказанных в «Государстве и революции» прогнозов постепенного ограничения роли государства. Это пока разведка и артподготовка, не всегда согласованные и понятные в выборе целей. Границы критики постепенно расширяются, некоторые определения и формулы, как кажется, играют роль ограничителей, словно участников дискуссии связывает молчаливая договоренность: не слишком много сразу… Известно также, что самая честная переоценка прошлого не заменит ясной программы на будущее, особенно в сфере экономики – а ее-то пока и нет. Важно, по крайней мере, что это – почти во всех областях – открытый процесс и что пока я допишу данный текст, кто-либо выскажет пару суждений, прежде казавшихся совершенно еретическими.
(Маленькое отступление: период юбилейных торжеств подобному не благоприятствует, это скорее время, когда призывают к традиционному консенсусу. Я бы не принимал это близко к сердцу. С давних пор, как помнится, различные более острые публикации принято откладывать на послепраздничный срок; на этот раз, наверное, будет так же).
Говорится о реформировании ведомств и служб, касающемся многих сфер общественно-политической жизни (правда, в разном темпе). В нем срочно нуждаются органы законодательства и юстиции, административная система, просвещение, здравоохранение, культура, защита окружающей среды, торговля и обслуживание – словом, всё, что было специфически советским. Не говоря уж понапрасну о производстве и экономике в целом. Следует предположить, что главный реконструктор имеет в этом плане своё видение приоритетов и последовательных шагов. Общим лозунгом является демократизация. Что это будет означать на практике? Как далеко она зайдет? Повторю: карты нам открывают медленно и осторожно. В некоторых областях, где надобность перемен и срочных решений особенно остра (а где дело обстоит иначе?), осуществляются лишь первые, осторожные начинания, ставится диагноз – как правило, очень осмотрительный. Новым является, однако, само стремление разобраться в ситуации, это касается, например, пока лишь чуть задеваемых вопросов религии, верующих, взаимоотношений государства и церкви, далее – национальных проблем, далее – различных аспектов заграничной политики (прежде всего – Афганистан)…
Я предлагаю в оценке прагматический подход: независимо от того, как далеко удастся продвинуться, само избранное направление благоприятно для общего дела людей доброй воли, и то, что будет достигнуто на этом пути, станет их общим успехом.
РАССТАНОВКА СИЛ.
И здесь ясно далеко не всё, поскольку ситуация переменчива. Секретом полишинеля является то, что еще далеко до завершения формирования высших органов власти в соответствии со стремлениями главного реформатора. Не стану вдаваться в персональные характеристики – во-первых, это трудное и рискованное дело, во-вторых, польский опыт отучил меня от этого занятия. Понятно, что широко понимаемый аппарат власти в различных частях своего состава реформатора поддерживает, поскольку без этого не могла бы идти речь об управлении страной. Известно также, что это вовсе не поддержка всего аппарата, так как многие лица среднего и высокого уровней чувствуют нависшую над ними угрозу и, конечно, не ошибаются: сам Горбачев высказывается на сей счет часто и вполне определенно. В высказываниях отдельных членов руководства – и это тоже ни для кого не тайна – выступает разноголосица. Это могут быть принципиальные расхождения, но возможно также – на что здесь обращали моё внимание – и намеченное заранее распределение ролей: различные тона, нюансы и даже аргументы для различных обстоятельств и аудиторий. Вероятнее всего, имеет место и то, и другое.
КТО ЗА?
Попробую представить приблизительное соотношение сторонников и противников перестройки, оговариваясь, что буду предельно краток.
Об аппарате власти речь уже была. Наиболее активной группой является упоминавшаяся выше часть интеллигенции – творческой и научной. Говоря точнее, прежде всего та ее часть, которая, сознавая собственную ценность и достоинство, не боится, а напротив – жаждет свободной конкуренции умов и талантов. Она следит за переменами и перспективами перемен, связывая с ними самые большие надежды, волнуется и аплодирует. При всем этом она сохраняет всё же довольно большую пассивность, ангажированность часто сводится к роли футбольных болельщиков. Я еще напишу о них отдельно. Подлинную активность демонстрирует группа, относящаяся практически к одному поколению, это бывшие «дети XX Съезда», молодежь эпохи оттепели, потом привычно ругаемая и поносимая. Те, что не разочаровались, не спились и не уехали, вступают теперь в новый раунд поединка. Их фамилии вы найдете под самыми резкими текстами, в составе многих редколлегий, в заставках популярных телепрограмм. Страшно подумать, что было бы, если бы не существовал опыт оттепели: отсутствовала бы элементарная основа, опора для создания «очеловеченных обстоятельств». Но невеселые мысли одолевают, когда думаешь о реальных возможностях этого поколения, поскольку следующие две младшие генерации представляются опасно зараженными наследием оппортунизма, конъюнктурности, приспособленчества. Перестройка, естественно, вызывает их симпатии, но – пока что – не потребность действовать. Исключения, понятно, есть, но в целом картина, по-моему, именно такова.
Живут перестройкой и являются ее практиками люди – пока еще ограниченной – инициативы частной и полуприватной, в городе и в деревне. Лучше, как я слышал, она укореняется в прибалтийских республиках и в какой-то степени на Кавказе. В России дело идет очень туго. Возможности сельской многолетней аренды (семейный подряд) или аккордных договоров доныне используются в минимальной степени. Исчезли всякие стимулы, уничтожена сама сущность крестьянского труда, это большая беда, и выхода покуда не видать. А частные лавочки и услуги – это пока скромные цветочки на ватнике или, если кому такое нравится больше, птенцы ласточки, не обещающие скорой весны.
В целом содействует перестройке (а как же иначе?) демократическая оппозиция, а точнее – те ее скромные и довольно разрозненные силы, что пережили тяжелые догорбачевские времена или ожили после недавних освобождений из тюрем и лагерей. Большинство из них занимает позицию доброжелательно-выжидательную, некоторые (как, например, группа «Гласность») пробуют создать подобие демократического лобби. Заслуживает внимания взвешенная и последовательная позиция Андрея Сахарова, который поддерживает общее направление преобразований и в то же время указывает на то, какие сферы они обязаны охватить, чтобы реально изменить ситуацию. С удовлетворением можно отметить, сколь важна и необходима в атмосфере борьбы за создание здорового общественного мнения роль этого – что теперь очевидно для всех – великого сына России. Детьми перестройки – воспользуемся термином времен оттепели – несомненно, являются члены повсеместно возникающих в последнее время, особенно на основе экологической деятельности, неформальных групп (сокращенно «неформалы»). Именно они пробуют разбудить, вырвать из спячки молодые поколения. К ним я тоже еще вернусь. Они пестры по составу, довольно динамичны, заключают первые соглашения «горизонтального» типа: в этом можно видеть ценную завязь подлинного общественного мнения. Это, конечно, «дрожжи будущего», но требуется еще много тепла, прежде чем взойдет тесто для приличного пирога. Они же тем временем действуют лишь в той же самой, узкой, интеллигентской сфере.
Упустил ли я что-то существенное? Возможно. Но – так или иначе – говоря по-русски, негусто, в масштабе всего общества не пестрит в глазах от отрядов борцов – созидателей новой жизни.
А КТО ПРОТИВ?
Тут, к сожалению, недостатка в людях нет.
Прежде всего – упомянутая и поминаемая теперь здесь часть аппарата власти и администрации – конденсированный продукт многих десятилетий централистского декретирования, те, что руководят и контролируют, а также контролируют контролеров. Горбачев называет их «управленцами» и определяет их число – 18 миллионов. Тут нужна пауза, а комментарии излишни.
Кроме того, что скрывать – очень большая часть тружеников города и деревни. Качели переменчивых экономических начинаний минувших десятилетий сделали этих людей недоверчивыми. Из того, что я от них и о них слышал, вытекает голый факт: важен заработок, а остальное – пена слов. Система распада и стагнации гарантировала без труда достигаемый минимум, остальное можно было приработать на стороне или приворовать. Теперь стараются побудить трудящихся к большим усилиям и инициативности (а смысл этого последнего слова практически уже забыт), повышают требования (с помощью так называемого государственного контроля качества – госприёмка), предвещают разные нововведения и неизбежные повышения цен. К этому добавляются известные трудности со снабжением винно-водочной продукцией и болезненный побочный эффект информационной открытости: коллективное сознание травмировано скверными новостями о кризисных явлениях, взрывах, преступлениях, стихийных бедствиях, несчастных случаях, т.е. обо всем том, чего прежде как бы не было, так как об этом не сообщали.
Всё упомянутое плюс другие факторы, которые здесь опускаю, рождает самое опасное препятствие, смертельную опасность, воздвигает стену, которую перестройка должна пробить, чтобы не пропасть безвозвратно, – общественную апатию, пассивное недоверие.
Об этом знают реформаторы, которые привели в действие механизмы пропаганды, и публицисты, стремящиеся гранатами слов взорвать затвердевшую коросту безверия, сковавшую общественное сознание. Деятелям перестройки это, безусловно, ясно, в доказательство чего здесь можно привести целые страницы цитат. Но эта ясность не уменьшает нависшей угрозы: или народ, вспомним Пушкина, перестанет безмолвствовать, или…
Тем временем этот несколько условный народ, если уж начинает высказываться, то чаще в духе старого, а не нового времени. Таковы последствия внедрения первых механизмов демократии. В редакции посыпались письма, большинство из которых выражает недоверие, тоску по минувшему, неосталинистские настроения, протесты в отношении политики либерализации, требования правительства сильной руки и т.п. Редакции, особенно относящиеся к авангарду перестройки, прибегают к классическим манипуляциям, комбинируя публикуемую корреспонденцию таким образом, чтобы голоса прореформаторского меньшинства звучали громче. С помощью такого приема – как известно, довольно старого – формируются желаемые мнения. Этой же цели служат оптимистические, «на вырост» заверения, что перестройка углубляется и расширяется, что массы ее сторонников растут, сметая преграды на пути к будущему, и т.д. Понимаю, грустновато улыбаюсь и – не брошу в них камнем, ведь это манипуляции во имя доброго дела.
Доводилось слышать также, что в нерусских республиках – по крайней мере, некоторых – царит убеждение, что перестройка – внутреннее дело русских. Это тоже укрепляет настроения апатии.
К лагерю противников относятся и не слишком многочисленные, но зато шумные объединения ультранационалистического и неоимперского толка (группа «Память» и родственные ей). В демократии они видят угрозу для своих автократических, имперско-сталинских идеалов, причем как в будущем, так и – если можно так выразиться – в прошлом, поскольку последнее рисуется ими с вневременным самодержавным профилем. У них есть своя стратегия, действуют они в центре и далеко от Москвы (в последнее время активизировались, например, в Свердловске), ищут себе союзников. Нечего обманываться – мы еще о них услышим.
Я уже говорил, что лучшая часть творческой и научной интеллигенции, естественно, з а. Соответственно против – все те, кому вчерашняя ситуация гарантировала доступ к благам избранных, несмотря на низкую (а то и вовсе отсутствующую) квалификацию, образованность, талантливость. К сожалению, и эти последние представляют собой статистическое большинство и процедуру демократических выборов они используют, как правило, в своих эгоистических целях. Здесь пора повиниться – год назад я написал, что перестройка явно затронула Союз Писателей. Увы, не затронула: кроме нескольких отдельных участков это попрежнему могучий бастион консерватизма, в котором тон задают писатели столь же посредственные, сколь и услужливые. Действия, принятые мною всерьез, оказались тактическими приемами или продемонстрировали свою неэффективность. Подобным образом дело обстоит в Союзе Художников, гораздо радикальнее выглядят кинематографисты и недавно объединенные в самостоятельную организацию работники театра, хотя те и другие сетуют, что будни революции много труднее, чем сам переворот. Подозрительно активны и сверх всякой меры эксплуатируются в новой прессе одни и те же ученые, особенно историки и экономисты, имена которых слышишь постоянно. Не отрицаю их значения, но за их громкими голосами мне слышится глухое и неприязненное молчание огромных масс их коллег.
(Маленькое отступление. Единожды нарушу принцип: всякая лирика потом. Дело происходит на филологическом факультете Московского университета. Ученый муж, доцент или профессор, предупреждает студентов перед экзаменом: «Если я узнаю, что кто-либо из вас видел «Покаяние», тот может не приходить: не поздоровится!». Неплохо, а?).
НАДЕЖДА – В ОТСУТСТВИИ АЛЬТЕРНАТИВЫ.
Итак, баланс выглядит мрачно. Единственное, что внушает оптимизм, – это факт, что численно преобладающий лагерь (или даже целый архипелаг лагерей?) противников реформ объединен главным образом идеей отрицания перемен. У него нет программы, а говоря точнее, он не хочет и не может признаться, что его единственной конкретной программой является защита status quo ante (прежнего порядка вещей) во имя узкокорыстного социального эгоизма. Это заставляет изображать заботу о революционных идеалах прошлого, об идейной чистоте, о доброй памяти предков, о моральном облике современников и т.д. В основе всего этого – более или менее удачно маскируемая тревога собственника об утрате принадлежащего ему добра. Соответственно формируется и необходимая тактика. Как можно быть против перестройки, что вы? Необходимо повторять, что вы – за (и всегда были!), напоминая классическое высказывание Тарелкина, умевшего всегда бежать впереди прогресса. Надо примкнуть, приклеиться к новому и тем самым довести ситуацию до абсурда, а наблюдающих за этим маневром соотечественников заставить еще глубже сомневаться, имеет ли все это какой-либо смысл – кроме провозглашения давно опробованного на шкурах советских людей очередного «переходного периода».
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЗАГЛАВИЮ.
Так, описав круг, я возвращаюсь к фразе, которую поместил в качестве заглавия этого раздела и которая является условным знаком этих размышлений и сомнений.
Повторю: речь идет о самом серьезном деле. И тут, пожалуй, правы те из нас, кто решил внимательно наблюдать за всем с сочувствием и с осторожной, умеряемой скептицизмом надеждой.
Шансы же на успех этого дела представляются сегодня весьма проблематичными. Я сознательно выбираю это определение, близкое по смыслу выражению «бабушка надвое сказала». Именно так – надвое. На коне или под конем, со щитом или на щите. Это не попытка подстраховаться, ведь представленный баланс сил далеко не благоприятен. С позиции здравого разума – не должно получиться. Но здравый разум – категория обманчивая и, как писал некогда мудрый Виктор Шкловский, часто представляет собой сумму предрассудков эпохи. Тем временем перестройка вообще существует как определенная программа и – так или иначе – прокладывает свою крутую трассу уже два года. Само это в тех условиях невероятно. Невероятно, но факт. Напоминаю мысль, что всё, обретаемое на этом пути, приносит пользу.
Ситуация напоминает удивительную фигуру, не встречающуюся в геометрии. То, что в течение десятилетий формировало облик этой страны, должно быть теперь решительно и быстро преодолено и отвергнуто, уничтожено в самом себе. Антиценности подвергаются отрицанию и заменяются системой традиционных ценностей, выступая de facto в качестве программной мотивировки. Если вдуматься в это sub specie (под знаком) отмечаемого теперь юбилея, как же всё любопытно и как – однако! – ободряет…
В конце концов, семьдесят лет назад тоже – с позиций здравого разума – не должно было получиться.
Каверзно обратимая закономерность?
Пока известно только, что – как гласит китайская пословица – идущий всегда сильнее стоящего на месте. Меньшинство, порой даже группа людей с конкретной программой, может, как вы хорошо знаете, навязать свою волю пассивному и апатичному большинству. Это многократно удавалось во имя зла, так, возможно, удастся и во имя доброго дела?
Я и теперь не уверен ни в чем, но намерен не терять надежду и внимательно наблюдать за происходящим.
Есть такой традиционный русский тост, который мы часто провозглашали с друзьями: «ЗА УСПЕХ НАШЕГО БЕЗНАДЕЖНОГО ДЕЛА!».
Сейчас я мысленно повторяю его и – с вашего позволения – ставлю логическое ударение на слове «НАШЕГО».
Ноябрь 1987
А.Т. Киёвский и А.Дравич в студии варшавского ТВ
А.Дравич
МОЯ МОСКВА: ДУХ И ТЕЛО
Я обещал читателям некоторую порцию лирики, связанной с темой возвращений, встреч и открытий. Вот она.
Туманным сентябрьским утром я оказался на площади перед Белорусским вокзалом, окруженный буднично озабоченным городом, который люблю как мало какой другой. Я немного знаю его, хотя намеренно не осматривал в нем почти ничего, что полагается и что рекомендуют путеводители. Зато мне знаком его повседневный вид с взаимопроникновением самых разных архитектурных стилей и безумно нравится, бродя по улицам, читать этот нескладно пестрый урбанистический текст как особую комбинацию знаков времени. Почти все предпочитают Ленинград, но мне грешному во сто крат милей деспотической линейности невского града нестройная, неупорядоченная московская уютность.
Итак, свершался краткий и приватный обряд возвращения спустя годы. Я смотрел вокруг себя, а первое впечатление особенно значимо. Тридцать лет назад, в предфестивальную пору, летом 1957 года улицы Москвы, увиденные глазами наивного приезжего, тут же сокрушили все воспитанные во мне во времена комсомольской дрессировки схематические представления. Достаточно было только смотреть, чтобы узнать о тяжести пережитого здесь и о трудностях нынешнего существования. Об этом можно рассказать многое, но сейчас не время.
Теперь я стоял и смотрел с нарастающим чувством изумления и недоверия. Что-то тут было не так.
Потом я ехал на такси через весь центр: недоверие уступало место уверенности. Позднее довелось проверить это ощущение, гуляя по Москве пешком. Меня охватила тихая радость. «Даже если бы не случилось ничего больше, а было только это, то и на том спасибо», – подумал я о тогдашнем партийном руководителе города Борисе Ельцине, не случайно называемом Сен-Жюстом перестройки: о его всесокрушающей сибирской энергии уже ходили легенды.
Дело в том, что мой заново обретенный город был абсолютно очищен от так называемой наглядной пропаганды. Ни кусочка красной материи, никаких лозунгов, фасов и профилей классиков, величественных героев с серпами, молотами, снопами, книгами, циркулями, смеющимися детьми – нигде ничего, вплоть до окраин. Надо было хранить в зрительной памяти лозунговую гигантоманию двух предыдущих эпох, от которой не было никакого спасения и которая доводила до красной ряби в глазах и повышения внутричерепного давления (причем, как правило, чем страшнее выглядели какие-нибудь бараки, тем более помпезные венчали их призывы), чтобы оценить ликвидацию этой пропагандистской мишуры.
Я увидел Москву свободной от притворства, реально серой, слегка задымленной и подлинной. У нее был трифоновский колорит. Так мне тогда подумалось, и читатели «Дома на набережной», думаю, поймут это определение.
Потом я отправился бродить по городу и начал открывать для себя еще нечто новое, уже не столь очевидное с первого взгляда. Его черты складывались постепенно.
Люди, среди которых я оказался, были иными, чем прежде.
И не только потому, что были разнообразно одеты. Конечно, и это кое-что значило. Когда-то, в начале моего знакомства, толпа выглядела унифицированно, словно все представляли военизированную организацию: три фасона пальто, пять видов рубашек и одни и те же широкие брюки у всех. Понемногу это однообразие стало исчезать, и теперь все носят всё, как у нас. Мы за это время обеднели, они приоделись, в результате двусторонних преобразований визуальный контраст между Москвой и Варшавой, некогда разительный – две цивилизации! – значительно уменьшился. Еще толпа приезжих из провинции близ вокзалов привносит прежнюю пестроту нищеты типа – «ношу, что есть, что достал, а если не очень красиво – не моя вина!». Местные обращают на себя гораздо больше внимания. Но дело не только в этом.
Эти люди вообще перестали быть толпой, многоголовым, нивелированно-усредненным целым. Как написал кто-то из поэтов: «Толпа распалась на отдельные лица». Воистину так. Я ходил среди них, удивляясь различию характеров и лиц. Здесь были люди задумчивые, улыбающиеся, надутые, озабоченные, недовольные. Каждый со своей индивидуальностью, физиономией. Наступила персонализация и сублимация: после многолетней утраты признаков какого-то стиля я видел теперь очень примечательные, рафинированные лица женщин и молодых интеллектуалов, словно живьем перенесенных сюда из кафе Латинского квартала. Я спрашивал друзей, заметили ли они, что произошло вокруг. Конечно, отвечали они. Кто-то припомнил себе: об этом говорил скончавшийся недавно известный режиссер Анатолий Эфрос, возвратившись с похорон Высоцкого: «Толпа перестала быть толпой».
Это уже не заслуга перестройки, очевидно, к этому давно шло. Так, наверное, выглядело движение этой страны к человеческим нормам – несмотря ни на что. Была стагнация, миновала оттепель, начались реформы, но при всем том великий страх сталинизма уже вернуться не мог.
Самое банальное и лапидарное объяснение: жизнь с ее человеческими правами. Я видел результаты ее работы.
На Арбате
«Ты плывёшь, как река, странное название…»
Всегда перехватывает горло, когда Окуджава доверительно поет об Арбате. Есть что-то особенное, исключительное в этой песенке – тон, интимность, мгновенное пробуждение целой череды ассоциаций, болезненное ощущение бега времени.
За время двенадцатилетней разлуки мне часто приходило в голову: если доживу и вернусь, то обязательно пройдусь здесь как-нибудь вечером, когда меньше народу, вдоль шоссе, отливающего в дождь матовым блеском, этого шоссе, как река, в пятнах огней, и пройду так от «Праги» до Смоленской площади эти сотни бесконечных метров, зная, что только теперь я действительно вернулся.
Из этого ничего не вышло. Всё то кончилось. Старые арбатцы успели меня предупредить, на их лицах застыла гримаса горечи. Их можно понять – уничтожена их среда обитания. Точнее – сохранена, но превращена в резервацию. Естественность арбатского течения нарушена, возникла прогулочная трасса, река исчезла под плитами, как многие подлинные московские речки. Люди здесь теперь не «спешат по своим делам», как поет Булат, а гуляют, стоят, смотрят, слушают. Это уже другой стиль, словно бы выставочный. Но тоже нужный – этим людям, городу, поскольку ничего такого тут давно не было. Может, во времена нэпа подобным образом люди вели себя на рынках, хотя бы на знаменитой Сухаревке. Сейчас тут возник оазис скромных зачатков массовой культуры. Это уже описывали в разных местах. Бородатые художники выставляют пейзажи, и не только. Много Высоцких, рядом Леннон, нечто иконоподобное, затем откровенная халтура и опять Высоцкий. Преобладает обычная или претенциозная мазня, но иначе быть и не может. Другие бородачи рисуют желающим «психологические портреты» за скромное вознаграждение. Еще какие-то деятели искусства что-то поют, бренча на гитарах. Афиши анонсируют рок-мюзикл о Вийоне и лекцию «Пушкин и Высоцкий». Раздают листовки: новая театральная студия объявляет свой набор. Парнишка робко вытаскивает из-под полы листок с подписями: не хотите присоединиться? Это что – акция протеста? Да, в знак солидарности с американцем-участником пикета, которого переехали близ базы НАТО. Ну что ж, подумал я, ликвидацией лозунгов дело не ограничилось, власть явно стремится создать новый стиль, крайне похожий на манеру неформалов… Чуть дальше выступает оратор – говорит плавно, ровно, с эмоциональными придыханиями, с блеском страсти в глазах, хотя это агитация камерная, вполголоса: «… и хотят, чтобы на месте Пушкина была оперетка, понимаете, хотят убрать памятник Пушкину и построить театр оперетты, именно так, можете сами убедиться, планы реконструкции выставлены». «Так что же делать?». «Вот именно, что делать… Мы не знаем, что делать, но видим, что у нас постоянно что-то отбирают. Нам нужны органы общественного мнения, так как с нами никто не считается. Я ничего не имею против оперетты, но ведь это Пушкин…». Я остановился, послушал и почувствовал, что что-то тут не так. Чувство солидарности не пробуждалось, хотя общественное мнение и Пушкин, несомненно, важны. Может быть, меня сдерживал этот блеск фанатизма в глазах? Несколько дней спустя, изучив выставленные в витрине планы реконструкции центра, я выяснил, что театр предполагается соорудить напротив пушкинского памятника. А следовательно, оратор лгал. С какой целью? Думаю, чтобы возбудить глухое раздражение против перестройки – замысла дьявольского, жидо-масонского, антирусского. Это вполне мог быть эмиссар «Памяти», которая охотно действует исподтишка, используя любую платформу для публичных выступлений.
Спустя пару дней в том же самом месте – группа людей, в центре – бородач-художник и младший милицейский чин. Останавливаюсь, слушаю. Вскоре понимаю причину конфликта: художника подозревают, что он не только выставлял, но и продавал пейзажи. Первое законом разрешено, второе – здесь, на Арбате, нет. Надо ехать на другой конец города, в Измайлово, которое является другим оазисом поп-искусства. И нужно иметь разрешение. Милиционер хочет художника «забрать». Тот повторяет, что только демонстрировал картины. Представитель власти гнёт свое. Художник: «Покажите ваше удостоверение». Милиционер: «Не покажу, я в форме, этого достаточно». Люди, обращаясь к милиционеру: «Что вы пристали к человеку?», «Да что он сделал?», «Дайте посмотреть на красоту!», «Лучше пошли бы на угол, где орудуют карманники!», «Спекулянтов ловили бы!», «А это искусство! ». Я с восхищением смотрю на милиционера: он – воплощенная сдержанность и сама тактичность. Не повышая голоса, повторяет: «Пожалуйста, напишите заявление. Нам же будет легче. Адрес отделения? Пожалуйста, улица… Напишите обязательно». Чувствовалось, что надобность вмешательства его смущает. Сзади кто-то резко атакует его, грубо, крикливым голосом – лицо в морщинах, точно невыделанная кожа, такое часто видишь у бывших заключенных-зеков, хотя правилом это тоже не является. Милиционер возмущается: «Я вас оскорблял? Скажите – оскорблял? Каким образом?». Тот не сдается. Художник ждет, скромно потупив взгляд. Толпа растет. Подходит другой милиционер, останавливается, не говоря ни слова, слушает. Мне надо идти на встречу, о которой договорился, но я делаю это с трудом. Что ни говори, понимая скромный масштаб события – это зерна нового. В мои прежние московские времена чего-либо подобного видеть не приходилось.
Но и перестройка имеет фасад и оборотную сторону. Через несколько дней слышу рассказ одного редактора: комсомольский и партийный актив издательства на общественных началах осуществляет патрулирование Арбата. Инструктаж (проходивший, кстати, в том же самом отделении милиции) звучал: «Ходите, слушайте, упаси Боже, ни во что не вмешивайтесь – для этого есть другие, в ходе дискуссии надо выражать правильные мнения… В крайнем случае, товарищи, если дойдет до инцидента, будьте свидетелями». Я рассказал о сцене с милиционером и художником, лояльно похвалив первого. Редактор внес одно уточнение: это наверняка был офицер, но в форме сержанта…
Ах, Арбат, мой Арбат, полигон перестройки под особым наблюдением – кто только по тебе не прогуливается, кто есть кто на этой улице…
Недалеко от Арбата, перед старым университетским зданием я видел студенческий пикет. Транспаранты гласили: остались три дня до уничтожения здания кафедры минералогии, мы протестуем, это памятник нашей культуры, присоединяйтесь к нам. Здесь также собирали подписи. Родилось – в разных городах в одно время – подлинно общественное движение в защиту оказавшихся под угрозой сноса достопримечательностей и памятников архитектуры, были организованы коллективные дежурства. Многое из этого вошло в программы «неформалов», о которых я уже вспоминал. Всё это еще достаточно шатко, неустойчиво. Вокруг «неформалов» сталкиваются разнородные концепции руководства ими, сдерживания или поощрения. Эхо острых дискуссий в высших эшелонах власти будоражит нарождающееся общественное мнение. Озабоченно говорят о том, не станет ли уход Бориса Ельцина концом связанного с его именем курса на демократизацию московской жизни в ее различных областях…
Я вновь возвращаюсь на Арбат со всем разнообразием его пестрого, явного и маскируемого содержания. Кто-то танцует, позвякивая браслетами, кто-то увлечен мелодекламацией, кто-то обещает нарисовать «анатомию души». Я говорю друзьям – старым арбатцам: не сердитесь, друзья, вашего мира и так уже практически не существует, вместо него создали некий скансен, резервацию, подобие Гайд-Парка с трибуной ораторов, но это, пожалуй, неизбежно: наше варшавское Старе Място – такой же скансен, правда, без трибуны. Зато удалось спасти кое-что, чему угрожало исчезновение с лица земли – недаром уродливые гиганты Калининского проспекта нависли над Арбатом как страшное memento. То, что уцелело, служит людям. То, что сегодня раздражает, может оказаться завязью новой традиции, которая духовно объединит вас со старой – вашей любимой, арбатской…
Друзья слушают, озабоченно мотают головами и смотрят поверх меня в минувшие дали своих арбатских двориков. Я покидаю их и мысленно еще раз иду той старой, вечной улицей со странным названием, зная от Булата, что ее никогда не пройти до конца.
ТЯЖЕСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Лирика постоянно смешана здесь с прозой жизни.
Сразу по приезде я попал на Праздник Города. Его придумали и проводили впервые. Москве исполнилось 840 лет. Сорок лет назад круглый юбилей отмечали с нарочитой сталинской помпезностью. Теперь избрали противоположный стиль, что мне лично по душе. Запланировали народный праздник: гулянья, парады, карнавальные шествия, веселые девушки в гусарских костюмах, оркестры, танцы, живые картины на палубе плывущих по реке теплоходов, соревнования, конкурсы, – всё, чего душа пожелает. С погодой не повезло, поскольку сентябрь выдался холодный и дождливый, но люди вышли на улицы и смотрели вокруг с интересом. Не удалась же спонтанность, естественность праздника. Задумано было общее веселье, артисты устремлялись в толпу, пытались вовлечь народ в танцы, но без особого успеха. «На производственных собраниях люди ведут себя свободно, – написал потом обозреватель «Московских Новостей», – но на улицах к этому еще не привыкли».
Ничего удивительного: помню варшавский Фестиваль 1955 года и изумление при виде танцевавших где придется и где захочется иностранцев, среди которых – воспитанные прежде в убеждении, что мы – самые счастливые и радостные на свете – аборигены торчали, как старые пни.
В своем московском районе – Сокольниках я наблюдал менее парадный фрагмент праздника города. Одни, правда, действительно спешили в парк, где играла музыка. Другие, нисколько не смущаясь, направились в магазины. По случаю торжеств около метро воздвигли павильоны в старорусском стиле. В центре образованного ими полукруга народный ансамбль скоморохов разыгрывал представление с участием царя, шута, министра и Иванушки-Дурачка. Народ задерживался, смотрел, смеялся и расходился по разным очередям. Существовало оправданное общественным опытом предположение, что в праздники привозят товары получше.
Мне издавна известно будничное содержание московских магазинов. Оно всегда было скромным и выглядело теперь, спустя годы, не иначе. Разве что прибавилось самообслуживания. Преобладает серое однообразие жестяных и стеклянных банок. Мясо представлено мороженой «рубленкой», сыров стало еще меньше, хлеб – некогда замечательный – к сожалению, сделался хуже. Подобное случилось с конфетами: когда-то столь ценимые приезжими «мишки» и «белочки» в разноцветных фантиках, хотя объявлены шоколадными, отдают соей: sic transit… Впрочем, их тоже не хватает, и терпеливые сокольнические очереди тут же окружили кондитерский павильон. По части овощей и фруктов мы явно впереди: каждый приезжий из России вздыхает у наших киосков и товарных рядов: «Нам бы такой кризис…». Помидоры, арбузы, виноград, – всё это, правда, есть, но обретается ценой долгого выстаивания в очередях. Альтернативой являются базары, где очередей нет и где мясо, молочные продукты, фрукты предлагаются в лучшем виде, но за немалые деньги. В прошлом году обозначились возможности сезонной торговли: осенью к станции метро подъезжали большие грузовики, главным образом из Молдавии, с доброкачественными овощами и фруктами, которыми торговали дороже, чем в магазинах, но значительно дешевле, чем на рынках. Этой осенью урожаи были хуже и торговой инициативы, видно, недостало: я видел кое-где лишь грузовики «Молдавтотранса».
Наше относительное превосходство наиболее очевидно, когда речь идет о цветах. Печальные московские цветочные магазины, как правило, имеющие солидные интерьеры, где в больших зеркалах отражаются жалкие букеты мятых гвоздик и фальшивая роскошь искусственных роз, агитируют (от обратного) в пользу частной инициативы лучше, чем десятки статей.
Продажу водки, как известно, ограничили, за ней надо выстаивать долгие очереди. Кроме того, она сильно вздорожала, что привело к тому, что, как я слышал, женщины не стали, вопреки предположениям, убежденными сторонницами трезвенности. Ведь мужчины пьют, правда, меньше, но денег расходуют больше: десятка за бутылку – это ощутимый урон в семейном бюджете. Вообще, это проблема острая и способная порождать раздвоение личности: многие разумом понимают, что если всё будет продолжаться, как прежде, то дело идет к биологической катастрофе, так нельзя, но душа требует… Отсюда в многоликой толпе то и дело мелькают вытаращенные и злые глаза жаждущих опохмелиться. Зато теперь исчез постоянный и мрачный мотив, сопровождавший прежние прогулки: люди, лежащие, как бревна, под плакатами и лозунгами, славящими их победный марш к коммунизму; пропало и то, и другое. Хотя и здесь есть обратная сторона: стали сильнее гнать самогон, в провинции пропал сахар (впервые, говорят, пришлось его импортировать), а золотые руки доморощенных умельцев способны использовать на пользу дела даже пылесосы. Из парфюмерных же магазинов исчезает всё пригодное для питья – прежде всего дешевый одеколон…
Так обстоит дело с запретами: недостаточно запретить, нужно дать что-то взамен. А что?
Теперь уже открыто пишут о том, что было известно всегда: Москва в плане снабжения товарами, какая бы она ни была, – воплощенный рай. Часто повторяют грустную шутку: «Проблемы снабжения мы решили без труда: привозим всё в столицу, а население развозит это по стране». В Москву приезжают буквально за всем. Сам я видел женщин, летевших с московским мясом в Куйбышев (т.е. Самару) на Волге. Откровенно пишут, что во многих регионах существует нормирование отпуска продуктов: скажем, килограмм мяса в месяц.
Пишут также о разительной диспропорции благ и привилегий, дающих избранным доступ к не заслуженному ими достатку. И что? Пока только пишут.
Пишут о последствиях цифровых производственных показателей в легкой промышленности, что дает море отечественного брака и погоню за импортом. По телевидению показали очередь за импортной обувью – с номерами, записанными на ладонях, с наемными «стояками», которым платили по десять рублей за день за то, что они держали место. Разговор шел откровенный: «Вы откуда?» – «Из Омска» – «И давно в очереди?» – «Третий день» – «А стоит ли?» – «Так ведь у нас в Омске ничего нет. А в чем я буду ходить зимой?». Наезд камеры на ноги: вдребезги разбитые летние туфли. Крупным планом ладонь, на ней № 3 250-й.
Такова ситуация. Дух уже тут и там воспаряет, но тело, цитируя поэта, «словно свинцом налитое». Содержанием жизни этой страны более полувека, т.е. со времени ликвидации нэпа, является крайняя трудность существования. Хорошо, по крайней мере, что теперь из этого не делают стыдливой тайны. В течение этого полувекового срока страна дважды пережила страшный голод: геноцид 1932/33 годов с миллионными жертвами и послевоенный, менее масштабный, но также ужасный. И было – практически у всех поколений – чувство постоянного недоедания, ненасыщения. Это закодировано в коллективной памяти, спросите у кого угодно. Теперь явный голод уже не грозит, но организация повседневной жизни всё еще требует невероятных, почти невообразимых усилий. Главная тяжесть такого существования падает прежде всего на женщин.
Чтобы изменить это, надо запустить действующий на иных принципах механизм экономики. А для этого необходима реальная активность людей, которую могли бы стимулировать рыночные перемены к лучшему.
Как этого добиться? Я не экономист. Меня мало интересуют рассуждения о возможности (или нет) реформирования этой системы, поскольку мой конкретный опыт тривиально приземлен: у меня все время стоят перед глазами московские очереди, женщина из Омска и мясо, самолетом вывозимое в Самару. И я убежден, что по всем божеским и людским установлениям триста миллионов человек имеют право жить нормально, почеловечески. А коли так, надо пробовать. Парижская «Русская мысль» цитирует слова читателя из России: «Надо очень ненавидеть эту страну и её народ, чтобы не желать успеха пятидесятилетним реформаторам, которые пришли к власти».
Я тоже так думаю.
Декабрь 1987
ВОЛНЕНИЯ, ДОРОГА И ДВЕ СВЕЧКИ
1
Самое время перейти к тем, к кому я более всего стремился вернуться – к моим московским друзьям. Некоторые из них умерли, кто-то уехал, и я успел пообщаться с ними в Кёльне, Париже, а то и вовсе в Сиднее – чистый географический сюрреализм! – но значительную часть удалось найти на месте, правда, порой с новыми адресами.
Это были, в основном, адреса писательских домов. С некоторым волнением входил я в знакомые подъезды, добродушно отмечаемый взглядом умеренно бдительных консьержек, звонил, раскрывал объятия, обнимался с друзьями Время, понятно, отразилось на них и на мне, но в основном не настолько, чтобы следовало преувеличенно лгать о нашей приличной форме. Новые люди, встреченные впервые, тоже удачно вписывались в этот тон и стиль. Обычно мы сразу направлялись на кухню, а московским кухням давно уже отдано мое сердце. О, вы, мои университеты, где я получал уроки подлинного русского языка! Как вас нужно ценить, я понял сразу, а когда вас потерял, как не хватало мне вашего тепла! Почему-то всегда считалось (эх, интеллигенты, интеллигенты…), что на кухне можно говорить свободнее. Они, как правило, бывают чуть больше наших. Угощение может быть самое скромное, основной смак составляет разговор. Здесь хотели знать всё о Польше (дежурный вопрос в самом начале – с грустной убежденностью и робкой надеждой: «Вы очень нас не любите?») и в ответ открывали мне такие русские судьбы и дела, от которых перехватывало дыхание. Так я постигал истинную шкалу ценностей, какую не мог усвоить ни из каких учебников, учился пониманию фона, глубины, нюансов, полутонов. Мне рассказывали о тихих героях литературы или писательской организации, не имевших известности за пределами своей среды, о негодяях с человеческими инстинктами и вторыми лицами, излучавшими сердечность и заботливость; о людях больших достоинств, которые некогда не выдержали и до конца жизни сгибались под бременем своей слабости, выразившейся в словах или молчании…
Но стоп, то было начало моего обучения, а теперь – осень 1987, разошедшиеся берега реки времени сошлись, поговорим о нынешнем дне. Сегодня я застаю их, как правило, раздираемых надеждой и беспокойством, в состоянии волнения, которое мне знакомо так хорошо, будто я побывал в их московских шкурах: радость, что день прошел неплохо, тревога, что-то принесет утро… Это мы шесть-семь лет назад. В этом нет ничего удивительного, ведь день этот принадлежит прежде всего им, людям слова: их сфера распахнулась наиболее широко, и трудно не радоваться этому. «Ну вот, видишь… Значит, всё-таки…» – говорят они в самом начале, сразу после приветствий и вопросов о нас, о Польше, которая всегда была дорога их сердцу, так как они ощущают свою ответственность за русско-польскую историю. Только теперь они – точно так же, как мы шесть-семь лет назад – заняты прежде всего собой. «Ну вот, видишь… Лёд тронулся… ». Но всё так зыбко, что тут же звучит вопрос: «Слышал о совещании? Знаешь, что Л. подверг критике Я. за публикацию некролога Н.?». Да, слышал, даже в предыдущем доме мне сообщили кое-какие детали, которые я излагаю, становясь звеном неофициальной информационной цепи. Правда, Я. держится крепко, но причин для беспокойства хватает. «Почему на этом совещании не было Александра Николаевича?». «Может, пишет доклад». «Нет, нет, это что-то означает…». «А о «Новом Мире» слышал?». Да, я знаю уже, что из редакции журнала, стремящегося возродить свои прекрасные традиции, ушли два активных поборника нового – Стреляный и Виноградов (последний был членом редколлегии в героическую эпоху Александра Трифоновича Твардовского и являлся олицетворением живой связи с прошлым), поскольку сочли стратегию главного редактора Сергея Залыгина слишком кунктаторской. Это явная потеря. У меня на кончике языка вопрос, который, однако, я не задаю, стараясь уважить специфичность их опыта… Они же тем временем обеспокоены (была середина сентября) затянувшимся отсутствием Горбачева – он выехал на отдых, но прошло уже почти полтора месяца. Ходят разные слухи. Мне немного забавно слышать подобное – мы уже научены тому, что подобным значением у нас не следует наделять никого. Впрочем, я понимаю, что они живут в условиях другой системы, значительно более зависимой от воли отдельной личности. Когда-то такая воля грозно тяготела над ними, теперь они связывают с ней свои надежды. Потому они так нервничают, ведь им кажется, что от них самих зависит гораздо меньше. Их увлекает страсть болельщиков, следящих за волнующим матчем с проблематичными шансами. Я вновь сдерживаю вопрос и со всем подобающим вниманием слушаю рассуждения, правильно ли поступил Михаил Сергеевич, сойдя в Мурманске на палубу подводной лодки. Сам-то он, понятно, имел на это право, но он был с женой! «Знаешь, – говорил мне кто-то с неподдельной заботой, – я думаю, это был с его стороны очень рискованный шаг, ведь по морским обычаям женщина на корабле…»
Удивляться ли им? Спустя несколько дней, когда первый секретарь прилетел с юга и появился на телеэкране, по всем кухням моих друзей пронесся общий вздох облегчения – и более того. Володя, хороший поэт и стойкий человек, по причине своего независимого характера исключенный из Союза Писателей и недавно принятый туда повторно, короче говоря – диссидент, как рассказывают, бежал по Красноармейской улице мимо писательских домов и кричал знакомым: «Приземлился! Ты слышал? Приземлился!».
Не удивляюсь и думаю, что затем (так как меня уже не было тогда в Москве) ощутил волну их беспокойства после ухода Бориса Ельцина. Первый секретарь Москвы отличался сибирским напором, энергией реформатора, нетрадиционным стилем поведения: любил инкогнито бродить по городу и слушать простых людей, предвыборное собрание Очаковского района организовал на улице, чтобы все могли прийти и задавать вопросы, перетряс засидевшийся и коррумпированный аппарат, который его, понятно, возненавидел. Будущее раскроет значение этой грустной истории, которую один из комментаторов открыто назвал трагедией. Я тем временем вернусь к волнениям на кухнях, где – по праву ассоциаций и заинтересованности страной гостя, несмотря на увлеченность собственными проблемами – от меня пробовали узнать, кто есть кто у нас и какие перспективы способен открыть. Я потратил немало усилий, терпеливо объясняя, что не знаю и знать не стремлюсь, поскольку мы подобными калькуляциями не занимаемся. Меня поняли не без труда, а когда (похоже) поняли, с завистью произнесли: «Вам-то хорошо!». Так как разговор шел о Польше, мне сунули в руки нечто, о существовании чего я не подозревал: специальный, русский номер варшавской «Культуры», довольно скверно переведенный на русский язык по случаю чего-то там – и ткнули пальцем в информацию, что автором книги «Краковское Предместье, полное десертов» является ЛЮЦИАН Рудницкий.[21] Так русские указали гостю на польский ляпсус. Я, однако, отвечал, что стыда не испытываю, ибо никакого отношения к этому изданию не имею. «А кто такой Лукаш Будный?». «Не знаю и не слишком хочу знать. А что?». «А то, что он нам в этой «Культуре» объясняет, что такое наша перестройка…». Я бросил взгляд на статью[22]: она дышала наукообразной скукой и напыщенной официальностью, автор явно стремился доказать, что ничего особенного не происходит и происходить не должно. Я с легкой грустью подумал, что вот и завершился цикл, поскольку тридцать лет назад наша публицистика была здесь в атмосфере оттепели фейерверком свежих идей, которые увлеченно обсуждались, часто вызывали злобные контратаки, но никогда не порождали скуку – и стал терпеливо объяснять, где и какие у нас теперь культуры и «Культуры». Когда же я подкрепил объяснение списком русских произведений, из которых многим только предстояли в будущем публикации на родине, тогда как польский читатель мог гораздо раньше познакомиться с ними в переводе, воцарилась одобрительная тишина. Затем кто-то вздохнул: «Во дают ребята, а? Здорово!»! – и Польша вернулась, похоже, в сознании моих друзей-москалей на свое обычное, привилегированное место.
Мы же возвращаемся в Союз. Кухни сменяли друг друга, но почти в каждой повторялись темы – совещание, некролог, «Новый Мир», отсутствие первого секретаря, а еще выступления «Памяти», а еще – нерешенность вопроса создания издательских кооперативов (это должны были быть акционерные общества, в Латвии или Эстонии они уже существуют, в России четыре проекта всё еще ожидают своего утверждения). Вслушиваясь так в очередные приливы и отливы их радостей и забот, я, наконец, не выдерживаю и вопрос, прежде не заданный, самым осторожным образом – чтобы не соваться нахально с польским опытом – стараюсь сформулировать. Нечто вроде: «Мои дорогие, а не приходило вам в голову… Ну, скажем, взять листок бумаги… А дальше – дорогие товарищи, мы, ниже подписавшиеся, обеспокоенные фактом… А? И потом собрать несколько подписей? Ведь это просто… А?».
Долгая пауза. Молчание.
– Нет, Анджей. Это не для нас.
– Но почему?
Опять пауза. Однако этот поляк что-то не врубается. Может, слишком долго здесь отсутствовал. Как ему это объяснить?
– Видишь ли, нам этих подписей не собрать.
– Но почему?
– Потому что следует согласовать как минимум три вопроса – чего мы хотим, чего не хотим и кто наш противник. . А это не удастся. Ни в каком кругу. Согласия не будет. Понимаешь?
Понимаю, а потому ничего не предлагаю. Они мечены клеймом многолетней дезинтеграции, когда всех их стремились разобщить. И это в значительной степени удалось. А теперь должны это преодолеть. И постепенно это делают. Но очень медленно. Это лишь начальный период формирования профессиональных и корпоративных сфер и выражаемых ими подлинно коллективных интересов. Здесь нечему удивляться. Один из моих знакомых написал письмо известному своими отважными выступлениями историку: «Уважаемый товарищ имя-рек, не считаете ли вы, что настало время, дабы объяснить, наконец, нам и нашим польским друзьям суть катынского дела? Ведь постоянно говорится о необходимости ликвидировать «белые пятна» в нашей истории и все мы чувствуем, что правда должна быть выяснена до конца». Таков был смысл, точного текста я не помню. Историк в течение времени моего присутствия в Москве ответа еще не прислал. Мой знакомый, в ответ на вопрос, есть ли у него там, где он работает, единомышленники, сказал: «Да, конечно. Но я предпочел написать от собственного имени». Другой, с которым я беседовал об Афганистане, выразился так: «Этому должен наступить конец. Если этого не произойдет, на будущий год, когда мой сын достигнет призывного возраста, я выйду с плакатом и организую демонстрацию». (Афганистан продолжает быть кровоточащей раной общества, не позволяющей забыть о себе: одни возвращаются оттуда с сознанием потерянного поколения, другие могут попасть туда, поскольку там оказываются представители всех групп призывников). Это говорилось с улыбкой, но решительно – правда, лишь в единственном числе. Каждый рядом с другим, но сам за себя и от себя. Наследие прошлого или специфика момента – как кому угодно.
Такими я их встречал и с ними вновь сходился, чтобы временами кое в чем и расходиться: двенадцать лет перерыва сделали свое. Вот пример более легкого свойства. Наряду с темами совещания, некролога и отсутствия персека в наших разговорах часто фигурировали новые театральные спектакли (театр играет у них еще ту роль необходимого компонента духовной жизни, которую у нас он, к сожалению, уже утратил) и последние публикации. С неподдельной радостью – и это главная новая черта наших встреч 1987 года – мы обмениваемся названиями книг, которые вышли или в ближайшее время появятся в продаже. «Постойте, мои дорогие, – вдруг говорю я, – но вы еще не опубликовали одного из самых значительных ваших писателей…» «Кого?» Я нагнетаю эффект: «Любимого автора всех читающих поляков». Никто не может угадать, хотя я повторяю свою загадку несколько раз. «Да Ерофеева же!» «Какого?» (Есть два писателя с такой фамилией). «Что за вопрос? Веничку!» – «Ааа! «Москва-Петушки»? «Ну, конечно!». Впечатление каждый раз одинаковое: общий одобрительный шум, обмен удивленными взглядами, возгласы типа: «Правда!», «Как мы могли забыть!», «Обязательно!», так что меня переполняет радость, поскольку среди поддерживающих эту идею есть сотрудники редакций, активно участвующих в перестройке, и из этого может кое-что получиться. Но внезапно раздается:
– Нет. К сожалению, это не для нас.
– Но почему? Почему «Живого» можно, Гроссмана можно, а Веничку нет?
– Там мат…
Польским читателям нужно пояснить смысл этого случайного палиндрома: мат – слово непереводимое, означающее порой «многоэтажные», иногда очень искусно составленные лексические конструкции бранного, ругательного значения, обретающие временами ранг подлинного искусства. Наш дорогой Веничка оперирует им довольно сдержанно, хотя сам может быть назван великолепным воплощением разгулявшейся языковой стихии. Ручаюсь, что у нас никто из нормальных читателей не был оскорблен его стилем. Но мои дорогие москали только начали еще выпутываться из пеленок сурового пуризма и ханжества. Политику задевать уже можно, но нравственно-бытовые устои пока нет. Что делать с Веничкой, как охватить его перестройкой, если он, хулиган, «выражается»?
Венедикт Ерофеев
Есть, следовательно, и такие проблемы, но тут сделаю отступление, ведь если разговор зашел о Веничке, то очень многие наши читатели отругали бы меня в его стиле, когда бы я пару слов о любимце польской аудитории не написал. Короче: я отправился к нему со словами любви и привета, с дипломной работой о нем, защищенной в Ягеллонском университете, и с бутылкой пейсаховки. Был принят доброжелательно, хотя мои заверения, что он является у нас, несомненно, одним из самых любимых и ценимых русских авторов, хозяин воспринял несколько недоверчиво. Веничка оказался в жизни несколько старше, чем на известной фотографии, где он выглядит непослушным херувимом с есенинской красотой и хитрющей улыбкой. Лицо изборождено морщинами, после тяжелой операции горла он пользуется аппаратом искусственной речи, но фигура стройная, изящная, манеры безукоризненные. Пробует пейсаховку, которой – он, Веничка! – доселе не знал, прикрывает глаза, делает паузу и произносит в микрофон короткую фразу, популярнейшее русское сочетание из трех слов, означающее – с такой именно интонацией – наивысшее одобрение. Дипломную работу просматривает, внимательно читает резюме по-русски, выражает беспокойство, не превратил ли его автор в эпигона Кафки («Ведь я о нём тогда слыхом не слыхал!»). Спешу заверить, что ничего подобного, просто дипломанту нужно блеснуть эрудицией и поместить творение русского автора в мировой контекст. Польщенный автор кивает головой, атмосфера становится теплее, хотя пьет он минимально, поскольку здоровье уже не то, аргументы о польской по-пулярности воспринимаются с большим доверием – ба! в слегка насмешливых глазах проглядывает, кажется, взволнованный блеск… На прощание я слышу произнесенное серьезно, без тени иронии: «Прошу передать всем полякам мой привет и слова искреннего уважения», что я и делаю здесь. Добавлю также, ибо это важно, что он работает, пишет. У меня был запланирован выезд в Петушки, но, к сожалению, времени не хватило. Но обязательно нужно будет проехать эти сто тридцать девять километров, отправившись с Курского вокзала с книжкой в руках и отмечая чтение ее разделов очередными остановками, надо будет поехать, доехать, выйти, посмотреть вокруг и потом вернуться. А как же иначе?
Конец отступления.
А тут приближается и конец визитов, пора расставания с кухнями, перехода от приветствий к прощаниям. Мы еще продолжаем делать взаимные открытия, спустя годы в коридорах вокруг нас витают еще не завершенные сюжеты. Я еще отвечаю на их настойчивые вопросы о Папе и говорю, как был бы нужен им его приезд, что тогда они услышали бы то, что каждому из них нужнее всего. Сам, в свою очередь, спрашиваю, сознают ли они тот факт, что открывшуюся перед людьми после сокрушения старых мифов духовную пустоту они – именно они, интеллектуалисты – должны помочь заполнить (одни это понимают, до других, живущих конкретикой напряженных будней, это пока не доходит). Мимоходом затрагиваем тему молодежи, и я чувствую, сколь глубоки и остры разногласия поколений. Здесь также наступила дезинтеграция, одни бычатся на других, атмосфера наэлектризована взаимными претензиями. Реально же наступает пора прощальных объятий, а я думаю, что так и не успел практически ничего уяснить и о чем-либо сказать, хотя бы о том, что лежит на сердце (хотя я свято обещал себе воздерживаться от советов): они всё еще слишком мало думают о своих многонациональных соседях по Союзу, а, ведь, именно им, русским, предстоит теперь сказать решающее слово в деле подлинного равноправия культур и языков. Может, скажу им в следующий раз, если, даст Бог, перерыв будет короче? А может, говорить об этом и не придется? Тем временем хлопают дверцы лифта, зарешечивая моих друзей с их поднятыми на прощание руками и словами:
«Пусть всё будет хорошо!».
Будет ли?
Очень популярный теперь и чрезвычайно интеллигентный сатирик Михаил Жванецкий сказал: «Когда я однажды услышал, как диктор радио оговорилась, рассмеялась и исправилась – я понял, что наступила свобода».
А хороший поэт Владимир Корнилов высказался стихами, смысл которых я попробую передать: «Я не готов к свободе – по собственной ли вине?… Ведь она много труднее, чем неволя. Я ждал ее так долго, болея и трепеща. А когда она пришла – я не готов к ней…».
Я слышу, как они учатся произносить это слово, чувствую, как вслушиваются в его звучание. Лишь бы только его не трепали всуе.
2
Так заканчивается мой русский месяц.
Я еще хожу по московским улицам, где прохожие окидывают друг друга странными косыми взглядами: сначала внимательно смотрят на руки и лишь затем бегло – выше. Когда-то давно эти уклончивые взгляды выводили меня из себя (почему они не смотрят прямо в глаза?), пока я не понял, что это навык проверки покупок – а вдруг человек несет что-то, за чем имеет смысл постоять в очереди! – и лишь затем проявление интереса к своему ближнему.
Я хожу по городу словно бы подобревшему, без фальшивой мишуры, более свойскому, который учится в день своего рождения уличному веселью и естественности. По городу всё ещё неудобному для жизни, где нет ни нормальных телефонных справочников, ни нормальных, т.е. точных планов хотя бы центральных районов, поскольку всё это было, очевидно, строго засекречено, и где в киосках уже с утра не сыщешь свежей газеты, хотя не будешь иметь проблем с приобретением теоретического ежемесячника, скажем, компартии Уругвая («У меня только зарубежная пресса» – высокомерно цедит сквозь зубы киоскер в Сокольниках, когда у него смиренно спрашивают «Правду» или «Комсомолку», и небрежным жестом обводит десятки теоретических ежемесячников из разных стран мира).
Я захожу в магазины, где в течение этих двенадцати лет отчетливо проведена огромная работа: персонал отучили облаивать клиентов. Это, видимо, стоит колоссальных усилий: продавщицы с напряженными лицами (мечтать об их улыбках тщетно!) отвечают односложно, адресуясь куда-то в пространство. Но, однако, уже не кричат на вас. Прогресс.
Я выхожу из вагонов метро на перроны, где некогда – словно издевательская формула эпохи – вас встречали огромные надписи: «ВЫХОДА НЕТ», и смысл этого утверждения постепенно проникал в меня по мере того, как эскалатор двигался вверх. Теперь то ли надписей меньше, то ли они сформулированы иначе, но в глаза бросаются только люди, любую минуту готовые посвятить чтению, а то, что они держат перед глазами заботливо обернутым в газету – это почти всегда «Дети Арбата» Рыбакова – не самая великая литература, но знак великих преображений, открытие того, что прежде было совершенно секретным.
Так, может, есть выход?
Через несколько часов я снова окажусь на Белорусском вокзале, цикл завершится, вновь найденный город выпустит меня и я стану повторять слова того, кто постиг душу столицы, как никто другой, Юрия Трифонова: «Москва окружает нас, как лес. Мы преодолели этот лес. Всё прочее не имеет значения».
Впрочем, я еще в Сокольниках. Здесь есть – недалеко от моего дома – маленькая церквушка Воскресения Господня, церквушка молоденькая, построенная всего перед первой войной, действующая, покрашенная в веселые зелено-голубые тона. Внутри нее – постоянное движение, по православному обычаю люди покупают тонкие свечки по пятнадцать копеек и зажигают перед выбранной иконой с заранее определенной целью, размашисто крестятся, минутку молятся, снова осеняют себя крестом и выходят.
Я заглядывал сюда неоднократно, а теперь, на прощание, иду со стороны дома улицей, которая каким-то чудом сохранила название, видимо, очень старое – Богородское шоссе. Это асфальтированный кусочек старых Сокольников, района с характерной плебейскокабацкой наружностью, которую теперь в значительной мере нивелировала стандартная застройка. Но есть еще большой Сокольнический парк, и дорога идет вдоль его ограды, поднимаясь на бугор. Этот горб создает впечатление, что путь долог, перспектива глубока, а то, что передо мной, кажется отдаленнее.
А передо мной церковь Воскресения как воплощенная метафора из «Покаяния» Абуладзе, когда в самом конце фильма великая грузинская актриса Верико Анджапаридзе (умершая через несколько месяцев после съемок фильма) спрашивает про дорогу, ведущую к храму; на протяжении этих минут фильм является чем-то большим, нежели просто хорошее кино.
Церковь светит издалека, одиноко возвышаясь в конце пути на фоне неба. Не знаю, как создается это впечатление, так как вблизи она стиснута различными застройками, а сзади над ней нависает многоэтажное высотное здание. Гений русских зодчих умел века назад находить для сакральных сооружений самые прекрасные перспективы. Но ведь это – жестокий, алчный, переставивший всё местами двадцатый век. И ничего, всё так же. Одинокая церковь в далекой перспективе на фоне неба. Каждый, кто приедет сюда, на станцию метро «Сокольники», может убедиться, что я ничего не выдумал. Достаточно пройти несколько сот метров.
Я прохожу их, сбавляя шаг: в гору идти тяжелее. Но это другая тяжесть. Это бремя куска собственной жизни, бремя знаний об этой стране, которое раньше, в конце каждой поездки, становилось гнетущим, бремя их доли, словно я – один из русских пилигримов, подпирающихся суковатой палкой. Я бреду в гору, перестав думать о суетном, в покорном ощущении, что как бы ни развивались здесь события дальше, прежде всего необходимы безмерное очищение, глубокое раскаяние, признание вины, покаяние, прощение, милосердие.
Церковь Воскресения Господня светит издалека, а потом внезапно приближается. Я вхожу в храм и зажигаю две свечки – чтобы сюда приехал Папа Иоанн-Павел II-й и чтобы им всё удалось.
Январь 1988
ГРУЗИЯ КАК ФОРМА
1
Работая над этой книгой воспоминаний, я всё время ощущал себя в несколько неловкой ситуации. Неловкой в смысле терминологии, но не только. Я пишу о России и русских, но в Союзе живут не только они. Этих многочисленных «других» трудно даже как-то точно назвать. «Советские люди»? Жуть. «Советчики»? Еще хуже, поскольку с негативной окраской, звучит как оскорбление и так в разговорной польской речи использовалось. «Нерусские народы»? Тоже нехорошо. Однако название не столь важно. Существеннее, видимо, такое восприятие, чтобы Россия – какая бы она ни была – не заслоняла собой остальное. Ибо это – хочется вам того или нет – означает поддержку русификаторских тенденций.
А потому, коли об этом остальном нельзя написать нечто серьезное (а я не могу, так как познакомился только с маленькой частью того, что вне России, и то лишь бегло), то надо, по крайней мере, сознавать его существование и значение. Эту программу-минимум я и попробую представить.
Проблема совместного существования многих народов в этой стране особенно остра. В течение целых десятилетий она замалчивалась, обходилась, лакировалась и искажалась. Ничего удивительного, что в условиях относительной либерализации пузыри этих конфликтов разрослись и начали лопаться. Когда я пишу эти строки (лето 1988 года), в Нагорном Карабахе всё еще идет стрельба, а таких неурегулированных, спорных территориальных вопросов, говорят, там не меньше двадцати. А это лишь часть проблемы. Алма-атинские события разыгрывались в иной плоскости: местное население против русских властей. И никто не знает, что, где и в какой форме может произойти.
Воспоминания – не место для изложения проблемного анализа, даже самого краткого. Скажу одно: реальное сосуществование разных национальностей в государственном организме, насчитывающем свыше 100 народов, но только теперь, с семидесятилетним опозданием, начинающем возрождать рудименты демократии, складывается трудно. С каждой стороны громоздятся горы недоброй памяти. Нам, полякам, находящимся в гораздо более выгодной ситуации, тоже нетрудно себе это представить.
Я включаю механизм своей памяти. Вот только что передали информацию о забастовке служащих ереванского аэропорта, персонал которого почувствовал себя оскорбленным московской телевизионной программой о ситуации в Армении. А память воскрешает события одного ереванского утра в конце шестидесятых годов. Гостиница, завтрак. Точнее – завтрак, которого не будет, поскольку нет ничего – чая, кофе, хлеба, масла, сыра. Нет – и всё. Официант сообщает об этом с каменным выражением лица. Изумленные, мы с женой машинально обмениваемся какими-то польскими фразами. Лицо официанта моментально оживляется. « Так вы не русские? Правда? Одну минуточку!». Тут же всё отыскалось, завтрак подан. Что же произошло? Приятель-армянин часом позже объясняет: вчера завершился в Москве визит турецкого премьера. Сегодня пресса публикует совместное заявление: Советский Союз и Турция не имеют никаких спорных территориальных вопросов. А это значит, что вся турецкая Армения (пять шестых исторической территории) и дальше останется ею. С точки зрения здравого разума, как могло бы быть иначе? Но это не здравый разум, а иррациональная, тысячи раз поруганная надежда нации отозвалась в то утро за нашим столиком и в бесчисленном множестве других мест. Проклятые русские, черт их побери! Совершенно по-детски, но до боли понятно.
Другое время, другое место. Москва, вечер, непогода, троллейбусная остановка, несколько оцепеневших от долгого ожидания человеческих силуэтов. Ко мне подходит, пошатываясь, мужчина с внешностью уроженца Средней Азии, речь которого предварена густой волной водочного перегара. «Вы нас ненавидите. Вот вам за то, что нас ненавидите!». Остальные ожидающие цепенеют еще больше, вовсе сливаясь с городским пейзажем. «Успокойтесь, – медленно, растягивая слоги, говорю я. – Я поляк. Даю вам слово, что мы вас не ненавидим». Придвинутое к моему широкоскулое, побелевшее от напряжения лицо не меняет своего выражения: слова до него не доходят. Появляется троллейбус (поздний, как в песне Окуджавы), я сажусь в него, и всё погружается в темноту.
Еще одно место. Казахстан, Алма-Ата, беседа с казахским интеллектуалистом. «Анджей, ведь я знаю, что самая великолепная человеческая порода – это настоящие русские интеллигенты. Наши местные были ссыльными и нас, молодёжь, воспитали. Но мы, однако, ежедневно общаемся с русскими чиновниками. А ты знаешь, что такое русский чиновник в союзной республике?».
(Отступление: немного знаю, остальное легко представить. Все черты бюрократа плюс тупая колонизаторская спесь. Признаком чиновничьей чести считается незнание местного языка!)
Одна случайная знакомая в поезде Таллин-Вильнюс: «За что эти эстонцы так нас не любят, как вы думаете?». И полное отсутствие контакта, когда, подбирая слова, я пробую что-то объяснить ей.
Меня беспокоит, что даже до настоящих русских интеллектуалистов значимость этих проблем доходит с каким-то запозданием. Возможно, я ошибаюсь, но те же друзья и знакомые, которые самым живым образом реагировали на польские события как люди, отягощенные чувством ответственности за прошлое и настоящее, казалось, далеко не столь были озабочены вопросами сосуществования с грузинами, армянами или киргизами. Вроде бы, да – но не очень. Это как-то устоялось – и Бог с ним. В результате в пору перестройки представители разных народов громко говорят о своих обидах, и это хорошо, но русских, которые авторитетно и во всеуслышание говорили бы об обидах тех, как-то почти не слышно, и это плохо. Были и есть исключения – Сахаров, Григоренко, но общей картины это не меняет.
Справедливость велит признать, что ситуация обычных русских, русских интеллигентов, постоянно проживающих на территориях вне России, никогда не была легкой. Они могут быть самыми порядочными людьми, наиболее лояльными в отношении народа, среди которого живут, но, тем не менее, различным образом страдают за вину других. Я собственными глазами видел, что у Виктора Некрасова, жителя Киева и преданного сподвижника украинского дела, с представителями национального движения, часто тоже моими друзьями, отношения складывались далеко не просто.
Но хватит об этом, ведь моя задача – писать о России, пусть на нее и накладываются порой иные пространства. Не вспоминать о них было бы несправедливо. К этим «внероссийским» воспоминаниям я привязан не меньше и надеюсь, что они касаются вопросов, интересных не только для меня. Конечно, я поставил бы себя в ложное положение, пытаясь создать некий «синтез», посвященный этой теме, после нескольких дней пребывания в таких местах. Такие смельчаки порой появляются, но я не стану следовать их примеру.
Я решил избрать некий компромиссный путь. В трех республиканских столицах – Вильнюсе, Киеве и Тбилиси – я побывал дважды. О двух первых речь уже шла. Тбилиси и Грузия мне вспоминаются с бескорыстной благодарностью признательного гостя этих и других внероссийских территорий. Двукратное пребывание дает уже – хотя бы минимальную – перспективу, глубину. Пусть же это будет мой признательный поклон всем нерусским с благодарностью за их самобытность, неповторимость, духовное своеобразие, за гостеприимство, оказанное мне, за интерес к Польше, обнаруженный ими. Поклон тебе, Виталий, тебе, Геворк, вам, Фикрет, Геннадий, Салимжан. Если к вам вернусь и смогу написать нечто серьезное – сделаю это. А пока моя Грузия – насколько смогу ее воссоздать – будет символически вмещать всех вас.
2
Грузины сверх всяких человеческих сил заслонены и придавлены стереотипами, в соответствии с которыми они рисуются остальному миру отважными и красноречивыми красавцами, целыми днями пирующими на фоне кавказских гор, которым (красавцам, не горам) приписываются также такие черты, как выдумывание себе аристократической родословной, склонность к спекуляции и культ Сталина.
Грузины этим не только тяготятся, но и возмущены. Особенно молодые. Так случилось, что мне пришлось иметь дело с определенным числом нормальных молодых людей – инженеров, адвокатов, врачей. Я сразу заметил, как они внутренне насторожились, боясь, что от них я стану ожидать исполнения ролей грузин с рыночной картинки. Когда же заметили, что им это не грозит, словно послышался общий вздох облегчения. Конечно, они были гостеприимны. Но угощение было скромное, застолье оказалось недолгим, тосты провозглашались без помпы, вполголоса, кратко. Никто не выдавал себя за князя или другого потомка аристократического рода. Все много работали, отнюдь не купались в роскоши, а в пору второго приезда (это был 1973 год) питали надежды, что новый партийный руководитель Грузии наведет, наконец, какой-то порядок в стране, разъедаемой коррупцией и семейственностью. (Этим руководителем был Эдуард Шеварднадзе, который пользовался подлинным авторитетом в кругах местной интеллигенции. Он принялся чистить свои авгиевы конюшни с большим размахом – на эту тему рассказывали множество острых анекдотов, но успеха добился, пожалуй, половинчатого. Впрочем, это уже другая тема.) Что касается Сталина, то среди людей, с которыми я встречался, на его счет иллюзий не питали. «Сталин, – сказал мне один из них, – уничтожал грузинскую интеллигенцию так же безжалостно, как и любую другую. А может, даже еще более жестоко, поскольку Грузия была превращена в вотчину Берии, самого свирепого сатрапа тирана. Иное дело – простые люди. Они не так страдали от репрессий, а потому чувствовали гордость, что их родина дала миру великого вождя. А вдобавок – человека, уничтожившего много русских». Действительно, это довольно логичный анализ. Кроме того, помещая потом фотографии диктатора в автомобилях и некоторых публичных местах, грузины тем самым показывали фигу советской центральной власти. Конечно, это не исчерпывает проблемы, но здесь, наверное, заканчивается ее грузинская специфика. Ведь во всем Союзе немало людей, считающих, что во времена Сталина было дешевле, спокойнее, надежнее, а молодежь – вместо того, чтобы предаваться разврату и «року» – любила родину, готовилась к труду и пела бодрые массовые песни. Оставим это без комментария и вернемся в Грузию. Чтобы завершить здесь сталинский сюжет, напомню, что именно грузин сделал фильм «Покаяние» – прекрасное и важное произведение, в котором труп диктатора обречен на вечное непогребение.
А мне как раз пришлось попасть в Грузию в день погребения благородного и талантливого человека. Когда я прилетел в Тбилиси, представитель Союза Писателей встретил меня с лицом озабоченным и извинился, что никто из руководства не смог прибыть на аэродром, поскольку сегодня хоронят всеми любимого поэта Алио Мирцхулаву. «Так давайте поедем туда », – предложил я. Посланник некоторое время размышлял над этой нетрадиционной инициативой, но, видя, что я воспринял его сообщение не как обиду или дурное предзнаменование, согласился. В представительном писательском доме на улице Мачабели на возвышении лежал старый лысый человек с синим озабоченным лицом, а отсутствие дистанции между нами, перспективы, приводило к тому, что в глаза прежде всего бросались подошвы его сильно изношенных ботинок, словно говоривших: «наш хозяин своё отходил». Вокруг раздавались мелодичные стенания женщин, одновременно и непритворные, и чуточку театрализованные. Ораторы вспоминали усопшего, и после каждого выступления стоны звучали сильнее, точно в подтверждение сказанных слов, которых я, естественно, не понимал.
Впрочем, больше, чем слова, меня интересовали говорившие и слушавшие. Я был окружен толпой людей, в основном, мужчин, среди которых ощущал себя совершенно чужим, так как никого из них не знал. Нас объединяло лишь общее уважение к великому акту смерти. Признаюсь, однако, честно: живые своим видом отвлекали меня от умершего. Меня окружала колыхавшаяся и проплывавшая дальше волна лиц неслыханной красоты. Может, даже не всегда красоты, но – как бы это сказать? – смелости, с какой были вылеплены их черты. Черепа – высокие сводчатые или усеченные, профили, гордо выдвинутые вперед, бычьи шеи, орлиные носы тореадоров. Лица крестьянские, аристократические, интеллектуальные. Монументальные старцы, словно ожившие статуи славных предков, и нервные, с глазами газелей юноши. В жизни я не видел такой коллекции, и жизнь напоминала мне тогда – всеми ими, что течёт здесь дальше в формах благородных и своеобразных. В пронзительном свете первого, как бы самого бескорыстного взгляда я обрел уверенность, что земля таких людей еще не раз удивит меня многими своими формами. Так и случилось.
Помню, что там же, на месте, у меня в голове сложилась легенда. Ощущение было такое, словно она уже существовала и ее только следовало припомнить. Бог творит мир и его обитателей. Самых первых из них он создает сам – с божественной фантазией и размахом. Это как раз грузины. Потом он переходит к другим занятиям и велит ангелам продолжить работу в соответствии с созданными образцами. Небесные слуги делают, что могут, но человеческая глина не столь податлива им, как Великому Ваятелю: физиономии выходят обычные и разные, с дефектами, а порой получается полный брак. Это, понятно, мы, весь остальной мир. Забавно, однако, что – как обнаружилось – такая легенда действительно была, спустя много лет я наткнулся на нее у Эренбурга. Но тогда я сложил ее сам, знаю о том определенно. Вот так духовная субстанция Грузии властно направляет наши мысли.
3
Я, наверное, не мог бы рассказать об этой стране ничего, что уже не было бы стократно сказано и написано. Но не в силах противиться желанию говорить о ней.
По большому счету я знаком только с Тбилиси, за его пределы выезжал недалеко, а Грузию в целом видел лишь с самолета. Но Тбилиси – это тоже немало. И это также благородная форма. Старая часть города расположена в широком ущелье, в долине реки Куры, у подножия Сагурамских гор. Далее линия города сворачивает на запад, пространство размыкается и застраивается, к сожалению, стандартными блоками. Но старый Тбилиси сохранил свою благородную, хотя довольно изношенную и пеструю фактуру: скромные особняки, время от времени – помпезные сооружения эпохи культа, эклектику вилл давних нуворишей, а прежде всего – неповторимо самобытный стиль старых деревянных домиков с подвешенными на столбах верандами, с покатыми крышами и двориками, окруженными скрипучими галереями в несколько этажей, оплетенными побегами дикого винограда. Есть целые улицы таких домиков – вверх от проспекта Руставели к подножию священной горы Мтацминда (имя как крик большой птицы!), которыми лучше всего бродить теплыми вечерами: Джавахишвили, Бесики, Оболадзе… Тогда уже пусто, из окон домов доносятся резкие (приправы из кореньев) ароматы накрытых к ужину столов и приглушенный говор, висящие поперек улицы фонари дают скачущие светотени, освещая то деревянную лестницу, то щербатую стену, то поседевшую от времени черепицу. Стертый и отшлифованный асфальт имеет углубление посредине, напоминая русло высохшей реки. Я ходил так, ловя любую свободную минуту, и – коли Бог позволит вернуться – пойду еще с тем чувством тихой радости, которую в конце нашего столетия дарит нам соприкосновение с гармонией старого мира.
А днем хорошо отправиться в давний татарский район, к руинам Нарикальской крепости, где у горячих источников примостились остатки старых бань, мечеть, лавочки и домики, лепящиеся друг на друга, как ласточкины гнезда, с крышами, заходящими на крыши соседей, с деревянными столбами, оплетенными стручками турецкого перца. Всему этому, понятно, недостает естественного дополнения в виде суеты восточного базара с его торговыми рядами, магазинчиками, маленькими харчевнями-духанами – всей этой грузинской простонародной стихии, с которой социализм, увы, круто управился. Хорошо, что хотя бы художники и писатели борются за сохранение того, что еще осталось. «Я люблю Тбилиси, – писал один из страстных защитников города, скончавшийся почти четверть века назад поэт Иосиф Гришашвили, – и говорю вам, друзья мои, грузинские писатели-братья: не отдадим Тбилиси археологам, сами его раскопаем, оживим, наполним дыханием свободы, полюбим, как поэт любит свое первое стихотворение».
Что из этих планов по спасению и оживлению города удалось реализовать – увижу, когда вернусь сюда. Покуда тбилисский дух, тбилисская форма живут в фильмах Иоселиани и Шенгелая, в полотнах Омара Дурмишидзе и многих других живописцев, в прозе и стихах. Грузия имеет прекрасную литературу, одну из самых интересных во всем Союзе. Когда-то она яростно боролась со стереотипом грузина с открытки, теперь на первый план вышла «мифологическая проза», романы Отара Чиладзе и Чабуи Амирэджиби, дающие грузинскую интерпретацию великих мифов и легенд человечества. Есть и другие значительные прозаики и поэты, есть знаменитый театр, пластические искусства… Этого уже вкратце не опишешь, особенно учитывая, что на месте мое знакомство было лишь поверхностным.
Глазам и ощущениям приезжего, который из татарского старого города спускается улицей Леселидзе к проспекту Руставели – центральной, представительной магистрали, чтобы перемещаться в людской толпе со столь же смело вылепленными лицами, всё здесь кажется как бы тесноватым, сдавленным, не по мерке этого народа с его возможностями и устремлениями. Прохожие гораздо элегантнее, чем в других краях Союза, в них много европейского шика, но их окружает – как и везде – советское убожество скверной торговли и таких же услуг, безнадежного снабжения, атмосфера всей этой бесконечной и повседневной тяжести существования, которую система обрушивает на людей и которую можно только локально разнообразить, но не изменить. Приезжий чувствует в ритме движения толпы нетерпение рывка, излишек расходуемых попусту сил. Конечно, подобные размышления перипатетика чреваты ошибками – можно принять собственные догадки за действительность, а проверить это за краткостью времени нельзя. Но и иллюзия, как мне кажется, представляет собой форму познания, ибо, если она такова и влечет именно к подобным выводам, это тоже что-то значит?…
А может, тут отозвалось знание недавнего прошлого? Эта страна, оказавшаяся под властью России почти два столетия назад и долго тосковавшая по независимости, имела в своей истории недолгий и очень красноречивый эпизод – почти трехлетний период существования социалистической демократической республики (под властью партии меньшевиков), официально признанной многими странами, включая и Советскую Россию (а как же!), что было подтверждено соответствующим договором. Потом, в феврале 1921 года, договор был нарушен и Грузию обычным имперским образом Москва захватила и покорила. Еще в 1924 году здесь вспыхнуло отчаянное освободительное восстание, кроваво подавленное Россией. Позднее были другие большие кровопускания. Гордым кавказцам гнули и ломали шеи, но дали чуточку экономической свободы – так много энергии перешло в грузинскую, хорошо всем известную торговую предприимчивость. Но эта страна всегда была и остается предметом особых беспокойств центральной власти. Здесь ведется напряженная борьба за сохранение самобытности и традиций, за место и репутацию родного языка, против русификации. Вплоть до последнего времени отсюда приходили известия о демонстрациях и петициях, действовал грузинский самиздат, местные диссиденты часто оказывались узниками Архипелага Гулаг.
Храня это в памяти, приезжий медленно идет под большими платанами проспекта Руставели и, конечно, хотел бы не ошибиться, думая, что Грузия по самой своей сути, как форма, изваянная в бытии мира, вобравшая в себя бесконечное множество отдельных форм, противостоит советизму с его унижением человека, наплевательским отношением к личности, стремлением растворить всех в аморфной безликой массе. Так, как и мы, но иными способами и по другим причинам, исходя из своей польской сущности, выступаем против этой системы, поскольку иначе не можем – и здесь надо признать правоту Сталина, который как-то добродушно заметил, что коммунизм подходит полякам, как корове седло. Не это ли – кроме других традиционных причин – более всего сближает нас сегодня с грузинами, создавая, по поэтическому определению Бориса Пастернака, данному в стихотворении «Трава и камни», «чувство родства»?
С действительностью иллюзию, С растительностью гранит Так сблизили Польша и Грузия, Что это обеих роднит.Друзья-грузины озабоченно мотают головами: не хвали нас, Анджей, потому что много скверного творится у нас и мы вовсе не таковы, какими нас видят приезжие, а люди униженные, бесправные, с атрофией социальных связей, с диктатурой подпольных и наземных мафий и кланов, с экономическим кризисом более глубоким, чем когда-либо прежде. Я воспринимаю их слова с пониманием, снова ощущая общность, ведь и мы подобным образом объясняем скорым на похвалы иностранцам, что наши тяжелые внутренние утраты гораздо больше, чем это кажется гостям. Нет настоящего патриотизма без трезвого самокритицизма. Но и гости имеют право на собственную оценку, и потому, когда я приеду сюда повторно в 1973 году, то стану повторять найденное в Польше стихотворение покойного Алио Мирцхулавы в прекрасном переводе Збигнева Беньковского, буду повторять, зная об этом скверном, и именно поэтому:
Грузия, зачарованная света сторона…4
И всё же описания грузинского застолья мне не избежать. А поскольку я на это решился, то пусть уж будут целых два.
Первый ужин – в первый приезд, в доме влиятельного писателя, редактора, общественного деятеля. Стол, протянувшийся через две большие комнаты, на нем – грузинские натюрморты неописуемого богатства форм и красок, за ним – гости в соответствии с иерархией, тонкостей которой мне не постичь. Поскольку это дом просвещенного человека, присутствуют и женщины, разве что отсаженные подальше, за последним из мужчин. Ближе всех к центру помещена не абы какая дама – Виктория Сирадзе, вице-премьер республики: таким образом продемонстрировано двойное уважение – к обычаям и к табели о рангах. Во главе стола восседает предводитель празднества, грузинский тамада. Это режиссер местного театра, друг хозяина и, вдобавок – что удовлетворяет требованиям этикета высшего порядка – человек, приятный главному гостю, постановщик его пьес. Этот главный гость, как я сразу догадался (немного опоздав, так как о моем приезде узнали, а потом пригласили буквально в последнюю минуту), – Александр Корнейчук, среднего дарования, хотя успешно набивший на сочинительстве руку драматург, а в значительно большей степени государственный деятель, любимец вождей, всегда оказывавшийся близко к трону, в то время Председатель Верховного Совета Украины. Он ведет себя свободно, улыбчив и добродушен. Тамада как раз заканчивает речь о многообразных заслугах Корнейчука, чей гений драматурга соперничает с гением государственного мужа. Гость должен это выслушивать стоя. Потом слово берет заместитель тамады и добавляет свою порцию восхвалений. За ним другие. Я уже уразумел, что сижу рядом с Шекспиром наших дней – не меньше. Затем хвалимый отвечает. В речах ценится как соблюдение правил застольной риторики, так и своя, авторская интонация. Спустя какое-то время я понимаю, что хороший тост – это особая форма устной литературы. Его можно сравнить с сонетом. Начать надлежит издалека, неожиданно, словно задавая слушателям загадку, потом сделать крутой вольт и, наконец, ловко связать концы в единое логичное целое. Неординарный тамада ценится здесь высоко.
Тут как раз завершился цикл, посвященный Корнейчуку. Поскольку я был вторым и последним гостем из-за границы, настал мой черед. Тамада ничего обо мне не знал, но был, понятно, слишком искушенным церемониймейстером, чтобы это могло ему помешать.
– Так. Прошу внимания! – зычно произнес он, подняв вверх сначала руку с бокалом, а затем остальную часть себя. – Дорогие друзья, – тут его голос приобрел ласково-интимную окраску. – Сегодня среди нас есть еще один дорогой гость, выдающийся польский поэт…
– Знаменитый! – вполголоса подсказал с озорным блеском в глазах мой сосед слева, симпатичный Григол Абашидзе, председатель Союза Писателей Грузии.
– Да! – охотно подхватил тот. – Знаменитый, высоко ценимый народом поэт, стихи которого знает и любит вся Польша…
– И Грузия тоже, – добавил Абашидзе, продолжая розыгрыш.
– Конечно! И мы тоже! Весь грузинский народ знает и любит его творчество.
Мне с трудом удалось сохранить каменное выражение лица. Справа меня тронул в бок Корнейчук.
– А какую поэзию вы пишете?
– Я в жизни не написал ни одного стихотворения, Александр Евдокимович.
– О-ля-ля! Только не выдавайте этого!
Это я понял и сам. Тем временем меня уже восхвалял заместитель. За ним пошли другие, уже меньше внимания посвящая моему поэтическому творчеству, зато убежденно произнося добрые слова о Польше и поляках. Когда этот цикл завершился, я ответил, как умел, говоря о Тбилиси, о грузинской литературе, об уничтоженных при Сталине замечательных поэтах Паоло Яшвили и Тициане Табидзе, о варшавской встрече с другим очень здесь любимым лириком Симоном Чиковани (помню, как он просиял, когда во время телевизионной беседы я – без предварительной договоренности с ним – спросил поэта о временах его авангардистской молодости и участии в литературной группе двадцатых годов «Голубые рога»; он обрадовался, как ребенок, что мы – поляки об этом знаем), о справедливости, даже если она приходит поздно, о надежде. Меня благосклонно выслушали, после чего принялись чтить очередного, теперь уже отечественного гостя, а поскольку выпито уже было прилично, всем стало легко и свободно. В доверительной беседе я всё же признался Абашидзе, что не являюсь поэтом. Он утешил меня: «Знаете, для грузина поэзия – это прежде всего искусство жизни. Если вы цените ее прелести и умеете пользоваться ими, то вы – поэт. Может быть, даже выдающийся». Эта интерпретация показалась мне симпатичной, а тем временем кто-то уже рассказывал о каком-то ораторе-златоусте:
– У него были свои приемы. Когда мы принимали делегацию из ГДР, он вдруг указал на нашего бывшего летчика и воскликнул: «Товарищи немцы, это большой друг вашего народа! Он во время войны бомбил Берлин!»
Так застолье открывало постепенно свою парадную сторону и изнанку, и так, в соответствии с ритуалом, хотя во все более раскованной атмосфере, почтили, наконец, последнего из мужчин – после чего наступила мобилизация, ибо настала очередь госпожи Сирадзе. По очереди превозносили до небес ее государственные заслуги, не забывая время от времени добавлять, что подобная карьера является очевидным свидетельством равноправия. Госпожа вице-премьер, одетая с неброской элегантностью, с легкой проседью и милым лицом матери-грузинки, слушала всё это с некоторым насмешливым блеском в глазах. Когда настал ее черед, она сказала что-то вроде: «Благодарю за добрые слова, но эмансипацию вы превозносите напрасно. Я вовсе не дорожу государственной карьерой и предпочла бы сидеть дома и нянчить внуков, но коли вы такие недотепы, так мне приходится…».
Это небанальное начало мне очень понравилось, а разомлевшие от комплиментов мужчины проглотили горькую пилюлю; впрочем, женщина высокого государственного ранга может позволить себе многое даже в довольно патриархальной Грузии. Кстати: два года спустя она была уже вторым секретарем ЦК, иначе говоря, ведала – при Шеварднадзе – грузинской идеологией. Не знаю, однако, с каким результатом.
Симон Чиковани
Алио Мирцхулава
Александр Корнейчук
А тут ко мне наклонился Корнейчук, вообще очень доброжелательно трактовавший соседа-поляка. Я знал его прежде по фотографиям, на которых он выглядел сначала разбитным украинским хлопцем, потом энергичным джентльменом с шельмовской усмешкой и с тем выражением лица, что характеризует жажду жизни и ее благ. Какая жестокая штука – время, можно было убедиться, увидев совсем близко лицо с красными прожилками, обвислые щеки, одеревеневшую шею. Это был уже закат вельможи, в молодости, по рассказам, человека довольно красивого, потом верного слуги очередных вождей, кусавшего и хвалившего по их приказу, а также придворного комедиографа. Алкоголь то замедляет, то, напротив, обостряет реакцию, и – я помню это точно – в проблеске мгновенного озарения мне открылось то, что скрывалось за этим лицом, вообще-то не очень старым: какая-то темная бездна страха, угодничества, демагогии, интриг, пьянства… Это длилось несколько секунд, а Корнейчук тем временем спросил: «А вы помните там у себя о Ванде?» (он недавно овдовел, а речь шла о его покойной жене Ванде Василевской). Я молчал, пораженный этим упоминанием призрака давнего прошлого. «Очень вас прошу, не забывайте о ней, хорошо?», – настаивал он. Я пробормотал что-то невнятное. Он навис надо мной, обдавая запахом несвежего мяса, и в момент нового озарения я понял, что жить ему осталось совсем немного. Так и было, но прежде я попробовал еще использовать наш близкий контакт, сетуя на каприз судьбы, которая распорядилась составить маршрут моей поездки таким образом, что сначала я попал в Тбилиси и лишь потом, перед самым возвращением, во Львов. Практически на моих глазах там дико и тупо уничтожали кладбище Орлят. Если бы очередность была обратной, то я мог бы – взамен за память о Василевской – просить о прекращении этого варварства. А вдруг бы вышло? Атмосфера была сердечная, по-грузински теплая, а передо мной оказался первый в официальной иерархии человек Украины. Достаточно мановения его пальца, если бы захотел… А захотел бы? Из Польши я написал ему письмо, ссылаясь на нашу встречу, с просьбой вмешаться в это дело. Ответа не последовало. Нет, на такие письма там никогда не отвечали в соответствии с испытанным принципом: нет бумажки, нет проблемы.
Что касается первого застолья, то ничего больше о нем я уже не помню. С людьми, встреченными там, мне не пришлось потом иметь дело. Ритуал был исполнен – и порядок. Но я признателен хозяину, поскольку благодаря ему познал грузинское пиршество в большом стиле. А это надо непременно испытать – стереотип посещения Грузии того требует. Некоторые мои земляки при одном упоминании о ней мечтательно произносят: «Ах, Грузия! Помню, как…», после чего из их слов следует, что они там вообще не вставали из-за стола.
Другое застолье – во второй приезд – было, вообще-то, обычным ужином. Мой знакомый, инженер, которого прежде я навещал в старом домике на узенькой улочке под сводом платанов, проходя к нему по шаткой галерее, как раз получил новую квартиру в обычном, стандартном блоке. Стоит ли удивляться, что для тбилисцев такой переезд – улыбка судьбы, великое счастье. Амиран сиял и желал поделиться своей радостью. Вечер был импровизацией. Я пришел с двумя своими знакомыми, из которых хозяин знал одного, в доме же оказались уже двое гостей, которых не знали мы. Потом заглядывали еще другие. Из этого вышла хитрая – при всей ее случайности – комбинация: никто из присутствующих не знал более двух человек кроме самого хозяина. В Польше свободная атмосфера тут же была бы нарушена – односложные реплики, паузы, курение, тягостные минидиалоги ни о чем – и только после нескольких рюмок стало бы веселее. Здесь же я увидел благотворное действие грузинского ритуала. Тут не заботились о его соблюдении в мелочах: хозяин быстро назначил самого себя тамадой и произнес тост за гостя из Польши. Я ответил импровизацией на тему новой жизни в новом доме. Поскольку пришедший со мной гость был ученым, по праву выпили за науку и приносимую ею пользу. Писатель услышал подкрашенную вином рецензию на свою последнюю книгу (которую, в отличие от стихов знаменитого польского поэта, действительно читали). Забежал сосед-студент сельскохозяйственного техникума и сообщил, что его специализацией станет виноградарство. При этом сообщении все мы – с уже развязанными языками – принялись соревноваться в поэтических импровизациях на темы о благородстве труда винодела, солнечном крае, жизни и радости пития. Так всё шло, живо и непринужденно: мы играли в то, что нас увлекало и дарило удовлетворение. Пили при этом умеренно, угощение было непритязательное, а вечер получился, говоря по-польски, «шампанский». Через несколько часов мы поднялись из-за стола близкими друг другу людьми, открывшими компании то, что было на сердце, с большим ощущением своей значимости, подаренным взаимными комплиментами – и как знать, может быть, выслушивание хороших слов о себе и вправду сделало нас чуточку лучше?…
Так в бесформенном блоке угнездилась форма, принесенная с улочки под платанами, извлеченная из милой старины с ее наслоениями дряхлеющих пластов времени, старины разрушающейся и разрушаемой, но – я уверен – неуничтожимой, покуда они, грузины, живут на свете.
5
«Грузия, зачарованная света сторона…», сторона, куда меня тянуло в течение пятнадцати лет разлуки, поклон тебе и привет.
Из всего, что о тебе написано, чаще всего я вспоминаю слова, пропетые дрожащим, хриплым голосом Булата Окуджавы, недаром наполовину грузина… «Грузинская песня», исполняемая как интимное признание в том, что важнее всего, это некий ритуал осторожных, магических жестов, словно особого рода молитва. Ритуал должен быть совершён, «ведь если нет, – поет Булат, – так зачем живу я на этой вечной земле?»
Среди других там есть три знака, которые почему-то особенно действуют на меня: «Синий буйвол и белый орёл, и форель золотая…». Я специально не спрашивал его никогда, что это означает. Предпочитаю догадываться, что это три стихии Грузии, три сферы существования, а буйвол ассоциируется у меня с «Голубыми рогами» и с детской радостью Симона Чиковани. Но лучше, чтобы это так и оставалось недосказанным. Как те бесконечные архипелаги знаков, которыми окружала меня Грузия и из которых я постиг, возможно, лишь несколько – бессильный перед глубиной их значений, обреченный лишь касаться поверхности банальными жестами туриста.
Потом я слышал оттуда отдаленные, глухие сигналы. Судьба Грузии беспокоила меня.
Не знаю даже, вспоминает ли там кто меня, кроме – чтобы сказать попросту – одного вросшего в их среду русского, человека большого благородства и культуры.
Но опять-таки случилось так, что когда спустя двенадцать лет я приехал в Москву, среди тех, кого удалось отыскать и кто откликнулся наиболее сердечно, была небольшая группа московских грузин. Они почти ежедневно звонили, справлялись, был ли я там-то, видел ли то-то, настаивали, чтобы пошел, по-скольку билеты уже есть, сообщали, что будут ждать у музея, театра, кино. Это был сердечный кредит, который радовал и заботил, так как я не знал, как и когда его оплачу. Ведь я еще ничего для Грузии не сделал. Издательские планы прошлых лет – по причинам абсолютно внелитературным – кончились ничем, а самоучитель грузинского лежит без пользы по причине моей лени: я не одолел даже первого урока.
Я объяснял им это за московским грузинским столом. Они добродушно улыбались. «Анджей, – говорили они, – в следующий раз ты должен полететь в Тбилиси. Обязательно, тут нечего и думать. Мы отдадим тебя в руки наших друзей».
Дорогие, думал я тогда, откуда вы, даже вы, могли бы знать, сколько раз я возвращался туда. Склоны Сагурамо перечеркнуты крылом самолета и отходят теперь вбок, открывая нить света, ведущую сквозь густой мрак к пульсирующему зареву города, сердце подскакивает к горлу, колеса ударяются о бетон. Я прилетел, я здесь, сейчас сяду во что-нибудь и поеду вдоль Куры к Мтацминде.
Я не скажу вам, сколько раз бывал так в вашем городе, прежде чем не вернусь на самом деле. Может быть, в этом году, может, в следующем. Но непременно вернусь.
Ведь если нет, так зачем живу я на этой вечной земле?
МОЙ СОБСТВЕННЫЙ УЗЕЛ
Я подхожу к концу, собираю в единый узел разбросанные концы и мотивы.
Так проходило (или не проходило) моё знакомство с Россией и соседними с ней краями. Зигзагами, извилисто, с возвращениями или без них. Организованно или по воле случая. А может быть, не случая, а какой-то своеобразной логики, которой я еще не постиг?
Многих проблем и людей я здесь не коснулся – по разным причинам. Может, расскажу о них позднее.
Моим стремлением было пробиться к чуть большему пониманию. Или, скорее – к несколько меньшему непониманию. Всё время возникало нечто неожиданное, я постоянно получал уроки неоднозначности. Возможно, более однозначным являлся мир руководства, властей, но с ним я не соприкасался. Люди же доступного мне круга время от времени открывались с какой-то неожиданной стороны. Я наблюдал, скажем, феномен ложной памяти. Непосредственные свидетели убежденно давали иногда явно ложные показания: я понимал, что в результате многолетней тренировки они внушали себе – ради самозащиты – фальшивую версию событий, так что она становилась для них единственно верной. Один очень хороший писатель – его уже нет среди нас, а жизнь ему выпала тяжелая, поэтому не называю его фамилию – как-то пригласил меня в ресторане к своему столику, чтобы торжественно отречься от того, что написали о нем «польские ревизионисты». Сидевшие вокруг верные и скверные литераторы согласно кивали головами, а мне было очень стыдно за этого человека. Другой видный ленинградец, мастер калькуляций и комбинаций, сначала написал письмо в редакцию, что мы издали его по-польски, представив в несколько превратном виде, сместив акценты, а потом – также за столиком, только с глазу на глаз – хвалил: «прекрасно, замечательно, именно так, как надо!», после чего, войдя в раж, брызнул, точно струей из газового баллончика, своими раскаленными от ненависти эпиграммами, направленными против тогдашнего ленинградского партийного босса Толстикова. Эпиграммы изобиловали крепкими словами: выражение «толстожопый арлекин» относилось к числу самых мягких. А еще один ленинградец, порядочный, но осторожный человек, хотел остаться в стороне от этой истории, тогда тот же Толстиков вызвал его к себе в полночь, кричал и топал на него ногами. «Ну и сломил меня. Я подписал, что им было нужно»», – сказал он мне с печальной улыбкой. Я очень ценю его за трезвую самооценку, он долго и терпеливо ждал, а теперь с большой энергией действует во имя благих перемен.
Я видел немало людей, делавших не своё дело или делавших что-либо как придется, чтобы потом дома укрыться в своей нише – уйти в книги, в музыку, в хобби, в разгул питья или блуда, лишь бы оказаться в глухой изоляции от мира. Лишь теперь, в ретроспективе минувших лет, осознаю, как на моих глазах нарастало бремя этого каменевшего, костеневшего гнета брежневщины. Конечно, я ощущал его и тогда – трудно было не чувствовать этого и не догадываться, что когда-нибудь это будет названо по имени. Но я туда приезжал в гости, а они в этом мире жили. Потому-то важны прежде всего их собственные нынешние размышления. Пишет Владимир Лакшин: «Среди людей, которых мы ежедневно встречаем… почти каждый несет в себе веяния эпох, сформировавших наше сознание. Скажем, годы репрессий отложились в нас доныне ощущаемым обезоруживающим страхом, боязнью однозначного заявления или решительного поступка, осторожностью и робостью. Годы застоя – апатией, беспомощностью, равнодушием, цинизмом». Пишет Константин Смирнов: «Удивительное поколение! Люди, которые без колебаний шли в бой, закрывали своими телами доты, бросались с чем попало, а то и с голыми руками под танки, одновременно большую часть жизни провели в атмосфере всеобщего страха. Помоему, это нечто феноменальное. (...) Можно лишь удивляться тому, что наш народ и страна существуют сейчас не в каменном веке, а – что ни говори – в преддверии цивилизации».
Я на минуту отступил от принципа очного свидетельствования и хронологии, поскольку это высказывания, датируемые 1988 годом. Однако мне хочется показать, что русские уже в состоянии честно анализировать себя. И думаю – дело пойдет. Я мог бы продолжить разработку мотива неоднозначности и противоречивости брежневской поры, но время собирать то, что разбросано на этих страницах. Скажу лишь одно: проста и ясна – все лгали, так как боялись или стремились делать карьеру, никто не заслуживает прощения – жизнь русской интеллигенции нашего времени лишь для людей, мыслящих лениво или нечестно. Да, немало было обычных негодяев и было некоторое число людей без страха и упрека. За последних нужно благодарить Бога. А между этими полюсами простиралось огромное пространство сложных и запутанных судеб, наслаивавшихся друг на друга и сплетенных порой самым удивительным образом.
Александр Солженицын пользуется – в собственных творческих целях – понятием «узла», сгущенного изображения событий небольшого временного интервала. Кроме того, существуют, как я думаю, узлы человеческих судеб.
Меня самого, хоть и приезжего, с Россией связало несколько (в том числе имеющих польские нити) узлов, к тому же неразрывно.
Мой личный узел завязался тогда, когда я снова оказался на пристани речного вокзала в Химках, запомнившейся в связи с фестивальной поездкой. Это произошло шесть лет спустя, в мае 1963 года. Я приехал туда из центра душной и парной Москвы с высокой, стройной, черноволосой девушкой, с которой познакомился несколькими днями раньше в Союзе Писателей. Шпиль сталинской пагоды по-прежнему бодал небеса, всё было, как прежде. Какой-то теплоход как раз должен был отправиться в двухчасовой прогулочный рейс, похожий на прежний, но уже не заказанный организацией, как тогда.
Людей было довольно много. Кассирша спросила, нужна ли мне каюта. Зачем каюта, если нам плыть не до Нижнего Новгорода, а всего два часа? Я взял места на палубе. Теплоход тронулся. За окнами поплыли знакомые пейзажи. На корабле, хотя входила целая толпа, вдруг сделалось совершенно пусто. В большом ресторанном зале мы сидели одни. Мы, наверное, удивились бы, тем более, что официантки поглядывали на нас иронично-насмешливо, но мы не замечали ничего вокруг, жевали бутерброды с тягуче-резиновой от старости икрой (тогда это была совсем простонародная еда) и разговаривали о жизни. Точнее – о наших жизнях: мы открывались друг другу.
Оказалось, что судьба сблизила нас уже в 1939 году. Мы (родители и я) бежали от немцев к восточной границе и остановились за Киверцами. А моя собеседница, тогда маленькая девочка, дочь капитана артиллерии, прибыла к нам вслед за отцовским полком и провела ту осень в опустевшем военном городке под Лидой.
Она спросила меня про отца. Я сказал, что его арестовали в ноябре. «За что?». Ответил – ни за что, как и других беженцев, за то, что они были. Пришла сельская милиция, потребовала документы, посадила на телегу, отвезла в Луцк, в тюрьму. Я увидел глаза, распахнутые в неподдельном изумлении: «Неужели ни за что?». Она помнила, что родителей предупреждали: вокруг бродят польские банды, будьте начеку. За покупками в Лиду жены офицеров ездили с военным сопровождением. Причин враждебного отношения поляков не раскрывали. Об арестах среди населения, как потом выяснилось, не знали даже взрослые. Могу в это поверить: военные были изолированы, советский порядок устанавливал НКВД.
Я спросил про ее отца. Полк перебрасывали поочередно по маршрутам тогдашних имперских походов: зимой в Финляндию, потом в прибалтийские страны, затем в Молдавию. Капитан Гдалевич исполнял приказы. Что он о них думал и имел ли свою точку зрения на происходящее, мы никогда не узнаем. Дочь видела его в последний раз утром 22 июня 1941 года в деревне под Белостоком. С неба летели бомбы. Отец посадил мать и дочь на грузовик, который должен был отвезти семьи на восток, поднял руку, махая на прощанье, улыбнулся и таким навсегда остался в ее памяти. Они, благодаря везению и шоферской смекалке, вырвались тогда из белостокского мешка, который создали немцы стремительным выдвижением с обеих сторон танковых колонн. Отец поехал со снарядами на боевую позицию своих гаубиц и с той поры пропал без вести. Полк перестал существовать. У капитана Гдалевича практически не было никаких шансов: в плен тогда попадали ежедневно десятки тысяч, но евреев расстреливали на месте.
«А потом из-за него меня не приняли в университет», – сказала девушка. Теперь вытаращил глаза я. Да, я знал уже об их почти официальном антисемитизме; о кампании против так называемых «космополитов», о деле еврейских врачей, о том, что Хрущев именно в этом плане был наследником Сталина, разве что менее кровожадным. Но тут дочь погибшего офицера! Она терпеливо объясняет, что было именно так, что не учитывались никакие заслуги, важным оказывалось только происхождение. Ведь она кончила школу с золотой медалью, что давало ей право поступления без экзаменов на любой факультет. Но это только в теории. То была эпоха позднего сталинизма. В университете ей просто велели забрать принесенные документы. В Педагогическом институте ее бумаги внимательно изучили и, хотя внешность и фамилия сами говорили за себя, решили всё уточнить: «Скажите, товарищ Гдалевич, у вас в семье есть евреи?». Я ответила: «Были. Папа, погибший на фронте, и дедушка, которого расстреляли немцы». Решение приняли гуманное: ее примут на любое отделение, какое она выберет, кроме русистики. Русской литературы могли касаться тогда только безупречно чистые в расовом отношении руки. Но она обожала как раз литературу и хотела учиться лишь там. Мать собрала всё своё мужество и устроила скандал. Устроили специальный, деканский экзамен, продолжавшийся два часа, гоняли по всему курсу, но придраться ни к чему не смогли, и хмурый декан должен был, в конце концов, процедить сквозь зубы: «Ну что же…»
Я слушал – подавленный и удрученный. Россия только начинала угнетать меня своими ситуациями, и порог сопротивляемости, устойчивости был невысок. Но оказалось, что это не всё. В начале 1953 года состряпали дело врачей – «убийц в белых халатах». Поднималась волна самой разнузданной из всех антисемитских кампаний. Виновных искали во всех сферах, кругах, областях. Вскоре умер Сталин, спустя месяц реабилитировали врачей, а кампания – в силу инерции действия спущенных директив – всё шла, медленно угасая. Моей собеседнице организовали в апреле рассмотрение «персонального дела» на комсомольском собрании и долго ее обсуждали, обвиняя в том, что она «отрывается от коллектива». «А я, дура, ничего не понимала, ничегошеньки. Только мне было ужасно обидно. Я – от коллектива? Ведь я всё время кому-то помогала, что-то делала для других. И вот именно я…»
Потом, во времена уже – по словам Ахматовой – вегетарианские, наступили трудности с устройством на работу. Она получила диплом учительницы, звонила в разные школы. Да, отвечали, есть место, приходите. Приходила. Ее испытующе рассматривали, заглядывали еще раз в анкету: таак, девичья фамилия, имя деда… Оказывалось, что место уже занято.
Всё это угнетало меня всё сильнее. Март 1968 был уже не за горами, но воображения на подобное у меня не хватало. Я даже произнес нечто вроде: у нас, по счастью, это совершенно невозможно. Мне потом напомнили про эти слова. Затем я услышал еще, как благодаря счастливой протекции ей подыскали работу в Союзе Писателей, но за это ожидали доводов признательности и лояльности в виде доносов. А когда не дождались, начались мелкие интриги. Я крикнул, кажется: «Девушка, да как вообще вы можете здесь жить!» Фраза, понятно, бессмысленная, но меня извиняло отсутствие советского опыта жизни; вскоре я убедился, что это страна, где жить одновременно нельзя и нужно, а жизнь представляет собой неустанную попытку примирения взаимоисключающих начал. Девушка тогда посмотрела на меня полунасмешливо – полуиспуганно: «Тсс!». Но кроме нас в зале было только двое пьяниц, занятых своим ритуалом. Что она ответила, уже не помню.
Тем временем снаружи стемнело, рейс подходил к концу. Внезапно сделалось людно. Вокруг нас, ожидавших причаливания, выросла большая толпа, единообразная, однозначная по своему составу – одни парочки, молодых и средних лет, на вид – все категории, слои, сословия. Мужчины штатские и военные. Мы переглянулись, моя спутница слегка покраснела. Всё стало ясно. Это был плавучий бордель. Единственная, пожалуй, в условиях тогдашней страшной тесноты и вынужденного квартирного коллективизма, возможность два часа побыть друг с другом без свидетелей. Для этого и устраивались такие рейсы. О чем знали все – за исключением нас, так уж получилось. А теперь мы все сравнялись в ситуации и ждали причала. Мужчины украдкой бросали в меру нахальные взгляды на чужих спутниц, а те – гораздо более открыто – рассматривали других женщин: цепко и оценивающе.
Это было какое-то пронзительное ощущение, которое я чувствую и сейчас, но не в состоянии назвать: отталкивающее уродство подобного существования, а одновременно милосердие, сочувствие, сострадание. Через несколько лет что-то из этого, пожалуй, общий тон, я услышу в песенке Булата к русскому представлению «Аппетита на черешни»: «Ах, пани, пановье – тепла нет ни на грош…» Именно это – ни на грош. Но когда это споешь, тепло рождается – от осознания беды. Повторю: это ощущение постоянно живет во мне, хотя и остается безымянным.
А может, это и есть как раз его имя: поцелуй на морозе.
Кроме того, тогда и завязался мой собственный, личный узелок. Возможно, в его основе была та нитка, о которой я упоминал: нитка или жилка, протянувшаяся еще с детских лет. Только теперь вместо взгляда Маяковского меня держали на привязи другие глаза, потому что девушка очень мне понравилась. Это и было главное. А дальше намотался, накрутился целый клубок наших сходств и различий, наш знак судьбы. Наша общая безотцовщина, две смерти, должно быть, почти в одно время и почти в одном месте. Мой отец, жертва сталинизма, человек, убитый людьми в форме, похожей на ту, что носил ее отец, жертва сталинизма. Тени отцов, что падают на наши жизни. Наше комсомольское воспитание в духе наивности и готовности самоотверженно служить бесчеловечным идеям – и благодать отрезвления. А поскольку жизнь не любит излишнего пафоса, всё это связало нас в один изящный вензель.
Три недели спустя мы объявили о нашей свадьбе. Я в жизни сделал немало глупостей, а к умным своим шагам отношу, слава Богу, именно этот. Осенью мы отметим четверть века совместной жизни.
Из всего этого и составился мой образ России.
Примечания
1
Оговорка, касающаяся терминологии, но не только: сознавая принципиальную разницу между понятиями «русский» и «советский», я постараюсь пользоваться ими так, чтобы надобность их различения была очевидной. Впрочем, порой их границы размываются и выбор определения становится трудным: это может быть вина моя или самой действительности, где далеко не всё однозначно. Во всяком случае, прошу моих русских друзей в эмиграции, где в некоторых кругах царит в последнее время повышенная бдительность в вопросе различения этих терминов, чтобы в случае чего не обращались сразу к тяжелой артиллерии полемической стрельбы и не считали, что здесь оспаривается фундамент их патриотизма. Спорить, понятно, можно всегда, но лишь бы со смыслом. И еще одно. Не трогая уже утвердившихся в обиходе сокращений типа ZSRR (СССР) или TPPR (Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej – Общество польско-советской дружбы), либо названий вроде «Literatura Radziecka» (журнал «Советская литература»), я буду пользоваться определением «sowiecki», а не «radziecki». Так говорили и писали у нас до войны и так поступают (почти?) во всех языках. Термин «radziecki» появился, как я слышал, где-то в 1940 г. во Львове, по образцу украинского, а после войны был введен официально. В нем ощутимы сервилизм и подхалимство. Не думаю, чтобы мы – страна de nomine суверенная – как раз в этом вопросе должны были следовать примеру союзных республик. К тому же лизоблюдная «теплота» определения «radziecki» приводит к тому, что, скажем, сочетание «radziecki łagier» как-то не звучит, не правда ли? В независимых публикациях в последнее время выступает тенденция возврата к довоенной терминологии.
(обратно)2
ЗМП (ZMP – Związek Młodzieży Polskiej) – Союз Польской Молодежи, польский аналог Комсомола.
(обратно)3
На самом деле – Рябушинскому (прим. пер.).
(обратно)4
4 Агнешка Осецкая (1936-1997) – писательница, драматург, поэтесса, автор песенных текстов, театральный режиссер. Друг и переводчик произведений Осецкой (песни, пьеса «Вкус черешни») Булат Окуджава посвятил ей пронзительные и пророческие строки:
Поверь мне, Агнешка, грядут перемены… Так я написал тебе в прежние дни, Я знал и тогда, что они непременны, Лишь ручку свою ты до них дотяни… А если не так, для чего ж мы сгораем? Так, значит, свершится всё то, что хотим. Да, всё совершится, чего мы желаем, Оно совершится, да мы улетим…(прим. пер.)
(обратно)5
Автор вспоминает фрашку великого Циприана Камиля Норвида (1821-1883):
Огромные войска и генералов свора, Полиции – тайные, явные и обоего пола – Против кого орава та идти готова? Да против пары мыслей, что совсем не новы!(прим. и перевод М.Малькова).
(обратно)6
Текст песенки принадлежал известному киносценаристу и поэту, безвременно умершему Геннадию Шпаликову.
(обратно)7
Использование многих деминутивов (уменьшительных форм) типа „Вася”, „Володя”, „Жора”, „Юра” требует дополнительного объяснения. Не принимайте это за проявление амикошонства, которого не выношу. С людьми, которых я так называю, меня связывали добрые и сердечные отношения, позволявшие пользоваться ими, это первое. Второе и более важное – в широко понимаемой литературной среде эти обозначения были (и, вероятнее всего, остаются) повсеместно распространенными как доказательства признания и симпатии, поэтому желание передать атмосферу описываемых встреч заставляет прибегать к ним. Известно было, например, в мои русские времена, что вопросы: «Вы читали нового Юру?» или «Видели пьесу Васи?» относятся наверняка к Трифонову и Аксёнову, подобным образом я никогда не слышал, чтобы о Балтере кто-нибудь сказал иначе, чем «Боря», хотя никак не допускалось (кроме, понятно, круга самых близких людей) говорить так о Слуцком: я думал и думаю о нем всегда как о Борисе Абрамовиче. Русский этикет обхождения, кстати сказать, имеет свои нюансы: доказательством почтения может быть как уменьшительная форма (употребляемая обычно по отношению к ровесникам), так и зарезервированная для великих и выдающихся привилегия называния по имени и отчеству. Последнее не только распространено, но одновременно выступает как некий знак цехового братства: говорят, например, обычно «Борис Леонидович», «Анна Андреевна» или «Осип Эмильевич» вместо «Пастернак», «Ахматова», «Мандельштам». Кстати, грузины вкладывают в употребление имени особый, высший смысл: своих самых великих поэтов они называют только «Паоло» (Яшвили) или «Тициан» (Табидзе), что в свою очередь предполагает повсеместную идентификацию этих авторов. Отсюда как утонченный и изящный комплимент, который, не скрою, доставил мне как-то удовольствие в Тбилиси, прозвучал вопрос «Знают ли в Польше стихи Галактиона?», скрывавший в себе как определенную информационную цель, так и предположение, что гость – это свой человек, поскольку знает крупнейшего лирика современной Грузии Галактиона Табидзе.
(обратно)8
Перевод М.Малькова.
(обратно)9
Сегодняшнее примечание. Четверть века назад все читатели «Штандара» были обязаны знать, кем был Матросов, но нынче, пожалуй, уместно пояснение. Александр Матросов, атакуя немецкий бункер, закрыл амбразуру дота собственным телом и стал – наряду с Зоей Космодемьянской, Олегом Кошевым, Николаем Гастелло и другими – символом героя последней войны.
(обратно)10
Сегодняшнее примечание. Тут я немного приврал ради художественного эффекта: эту фразу произнес вовсе не фронтовик, а практически мой ровесник Илья Зверев (см. главу «Лица моих друзей»).
(обратно)11
Вл. Лакшин. Эскизы к трем портретам. Елена Сергеевна. / «Дружба народов», 1978, № 9, стр. 216.
(обратно)12
Л. Белозерская-Булгакова. О, мёд воспоминаний… Ardis. Ann Arbor. 1975.
(обратно)13
За пределы этого текста выношу размышления об особой категории вдов, мужья которых были людьми злыми, скверными – литературными наемниками и ищейками типа Ермилова, Эльсберга, Аркадия Васильева. Они, наверное, тоже были разными – солидарными в творимом зле или несшими трагическое бремя несогласия с ним, закосневшими в догмах или полными комплексов. Как человеческая, вдовья боль может уживаться с сознанием зла, причиненного другим людям, а доброе сердце со злопамятством? Какая атмосфера царит в этих домах? Может, все притворяются, что верят в честность покойного? Или стараются о нем поскорее забыть (и это становится карой)? Не знаю. Такой России мне познать не довелось.
(обратно)14
Автор вспоминает фрашку великого Циприана Камиля Норвида (1821-1883):
Огромные войска и генералов свора, Полиции – тайные, явные и обоего пола – Против кого орава та идти готова? Да против пары мыслей, что совсем не новы!(прим. и перевод М.Малькова).
(обратно)15
Иллюстрацией может служить анонимное двустишие, одна из тех убийственных эпиграмм, которыми унижаемая и репрессируемая русская литература колола и жалила своих палачей, предателей и прислужников тирании:
«Каин, где брат твой Авель? Никулин, где брат твой Бабель?». (обратно)16
Сегодняшнее примечание. Я ошибался – он, однако, жив. Его фамилия снова встретилась мне в литературной прессе. Поэтому в последний момент я заменяю ее в тексте инициалом. Ведь я не могу быть абсолютно уверен, что всё в деятельности Х. выглядело так, как мне тогда представлялось. А вдруг были какие-то серьезные смягчающие обстоятельства?
(обратно)17
Инъяз – сокращенно Институт Иностранных Языков. Впрочем, не совсем уверен, что речь шла именно о нем, фигурировать мог и другой институт подобного, элитарного плана, это не имеет принципиального значения.
(обратно)18
Первый из поэтов – Сергей Городецкий, второй – Борис Слуцкий.
(обратно)19
В. Лёвшин. Садовая 302-бис/ «Театр», 1971, № 11.
(обратно)20
В 1920 г. польские войска под командованием генерала Люциана Желиговского захватили Вильно (Вильнюс) /прим. перев./.
(обратно)21
Книга написана Адольфом Рудницким (прим. пер.).
(обратно)22
Названную ни более, ни менее как: «Философские основы и практика перестройки в СССР»
(обратно)



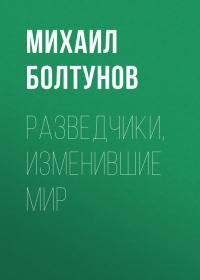
Комментарии к книге «Поцелуй на морозе», Анджей Дравич
Всего 0 комментариев