Временное правительство и большевистский переворот
Начало
Как найти начало начал, не обращаясь к сотворению мира? Но если ограничиться более скромной задачей и отправиться на поиски начала нашей эры, нельзя обойти воспоминания Владимира Дмитриевича Набокова. Он начал их писать 21 апреля 1918 г. ровно год спустя после событий, которые видел и определил как «путь, поведший Россию к падению и позору». Не совсем случайно и то, что «Временное Правительство» В. Д. Набокова открывает первый том «Архива русской революции», бесценного источника свидетельств современников о годах катаклизма.
И. В. Гессен, издатель «Архива русской революции», составившего с 1921 по 1930 гг. двадцать томов, писал о цели издания: «Задача заключается в том, чтобы сохранить письменный след развер-тывающихся перед нами трагических событий. Многое из того, что каждому из нас привелось видеть или в чем участвовать, осталось единственным в своем роде и больше уже нигде не повторилось. Поэтому если сейчас не записать всего, чему каждый свидетелем был… то многое из фактических данных пропадет бесследно и такой недостаток может безнадежно затруднить раскрытие истинного смысла переживаемого нами величайшего исторического перелома».
В. Д. Набоков был привилегированным свидетелем начала, первых месяцев русской революции, в ту ее пору, когда она еще называлась Февральской. Его коротенькую биографию можно найти в пятом томе «Малой советской энциклопедии», вышедшем в 1930 г.: «Набоков, Владимир Дмитриевич (1869–1922), видный член к.-д. партии, юрист, один из редакторов „Речи“. Член 1 Госуд. думы. В 1917 – управ. делами Временного Правительства. Во время гражданской войны входил в состав Крымского правительства. Один из редакторов „Руля“. Убит в Берлине монархистом».
Иначе пишет – и трудно этому удивляться – о Владимире Дмитриевиче его сын – замечательный писатель Владимир Набоков. В английском варианте своих воспоминаний «Speak, memory» он рассказывает биографию отца, от которого унаследовал любовь к бабочкам, шахматам, боксу, поэзии. Владимир Набоков подчеркивает независимость суждений, смелость, широту и либеральность взглядов своего отца. Юрист, профессор уголовного права, В. Д. Набоков был лишен камер-юнкерского звания за публикацию в журнале «Право» знаменитой статьи «Кишиневская кровавая баня», разоблачающей роль полиции в организации в 1903 году погрома в Кишиневе. В 1913 году он будет оштрафован на 100 рублей за репортажи из Киева с процесса Бейлиса, публиковавшиеся в либеральной газете «Речь», одним из редакторов которой с 1906 по 1917 гг. В. Д. Набоков был.
С его именем связано создание конституционно-демократической партии, позднее переименованной в партию народной свободы. Депутат первой Государственной Думы, он произнес несколько блестящих речей, принесших ему всероссийскую известность. Потом была война и революция, о которой он говорит в своих воспоминаниях. В 1919 году В. Д. Набоков с семьей эмигрирует. После года пребывания в Лондоне он переезжает в Берлин, где, как пишет его сын, «до своей смерти 28 марта 1922 года редактировал с И. В. Гессеном антисоветскую газету „Руль“» («Другие берега»). 28 марта 1922 года В. Д. Набоков загородил собой своего друга Милюкова, выступавшего с публичной лекцией. Как пишет Владимир Набоков, пока отец «боксовым ударом сбивал с ног одного из темных негодяев, был другим смертельно ранен выстрелом в спину» («Другие берега»).
Близкий друг В. Д. Набокова, основатель журнала «Право» и газеты «Речь» И. В. Гессен писал в своем «жизненном отчете» («Два века»): «Я бесконечно благодарен и благословляю судьбу, которая сблизила меня с „орденом“ русской интеллигенции. Такого ордена не было тогда в Европе и больше не будет его в России. Отличительным признаком интеллигенции было, что на первом месте стояло для нее общественное служение, подчинявшее себе все другие интересы. Это создавало особое возвышенное настроение, точно первая любовь, заставляло звучать в душе золотые струны и высоко поднимало над будничной суетой».
Без всякого сомнения В. Д. Набоков принадлежал к лучшим представителям «ордена» русской интел-лигенции. Обладал всеми ее достоинствами. И ее недостатками, которые обнажились в первые же месяцы после революции. Предельная честность, удивительная скромность, проявившаяся в частности в решении занять не бросающийся в глаза пост управляющего делами Временного Правительства, позволили В. Д. Набокову представить первые два месяца русской революции «в ярком, неподкупном свете дня». Русская интеллигенция, русские либералы оказались неподготовленными к революции, о которой они столько времени мечтали, которую столько времени готовили.
Положительные качества оборачивались отри-цательными: общественное служение становилось слепой верой в «народушко», идеализм превращался в политическую незрелость, жертвенность – в безволие, личная отвага – в беспечность, вера в будущее – в отсутствие представления о реальности.
В. Д. Набоков рисует уничтожающий портрет Керенского, неприятного мемуаристу и как человек, и как политик. Но не менее критичен и портрет П. Н. Милюкова, человека, которого автор любит и считает выдающимся государственным деятелем.
Воспоминания В. Д. Набокова воскрешают первые месяцы «пулеметного», как выразился Владимир Набоков, 1917 года, начало страшных времен, смысла которых не осознавали, не предвидели до конца даже ведущие актеры исторической трагедии.
Михаил Геллер
Временное правительство
I
Ровно год тому назад,1 в эти самые дни, 20–22 апреля, произошли в Петербурге события, все значение которых для судьбы войны и судеб нашей Родины тогда еще не могло быть в достаточной степени понято и оценено. Теперь уже ясно видно, что именно в эти бурные дни, когда впервые после торжества революции открылось на мгновение уродливо-свирепое лицо анархии, когда вновь, во имя партийной интриги и демагогических вожделений, поднят был Ахеронт, и преступное легкомыслие, бессознательно подавая руку предательскому политическому расчету, поставило Временному Правительству ультиматум и добилось от него роковых уступок и отступлений в двух основных вопросах – внешней политики и организации власти, – в эти дни закончился первый, блестящий и победный, фазис революции и определился – пока еще неясно – путь, поведший Россию к падению и позору.
Это не значит, конечно, что в течение двух первых месяцев, когда на развалинах самодержавия – формально отжившего еще 17 октября 1905 года, но фактически еще целых 11 лет пытавшегося сохранить свое значение, – организовывалась новая, свободная Россия, – что в этот короткий период все обстояло благополучно. Напротив того: внимательный и объективный взгляд мог бы в первые же дни «бескровной революции» найти симптомы грядущего разложения. Теперь, post factum, когда просматриваешь газеты того времени, эти симптомы кажутся такими несомненными, такими очевидными! А тогда те люди, которые взвалили на свои плечи неслыханно тяжелую задачу управления Россией, – в особенности на первых порах – как будто предавались иллюзиям. Они хотели верить в конечный успех; без этой веры откуда бы могли они почерпнуть нравственные силы? И впервые должна была пошатнуться их вера именно в эти роковые апрельские дни, когда «революционный Петроград» вынес на площадь жизненный для России вопрос о задачах ее внешней политики и на красных знаменах впервые появились надписи, призывавшие к свержению Временного Правительства или отдельных его членов.
С этого момента начался мартиролог Временного Правительства. Можно констатировать, что уход Гучкова и принесение Милюкова в жертву требованиям Исполнительного Комитета Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов были для Врем. Правительства первым ударом, от которого оно уже более не оправилось. И, в сущности говоря, последующие шесть месяцев, с их периодическими потрясениями и кризисами, с тщетными попытками создать сильную коалиционную власть, с фантастическими совещаниями в Малахитовом Зале и в Московском Большом Театре, – эти шесть месяцев были одним сплошным умиранием. Правда, в начале июля был один короткий момент, когда словно поднялся опять авторитет власти: это было после подавления первого большевистского выступления. Но этим моментом Вр. Правительство не сумело воспользоваться, и тогдашние благоприятные условия были пропущены. Они более не повторились. Легкость, с которой Ленину и Троцкому удалось свергнуть последнее коалиционное правительство Керенского, обнаружила его внутреннее бессилие. Степень этого бессилия изумила тогда даже хорошо осведомленных людей…
С первых дней переворота я стоял довольно близко к Временному Правительству; в течение первых двух месяцев (до первого кризиса) занимал должность управляющего делами Временного Правительства, а впоследствии находился с ним – по разным поводам и при разных обстоятельствах – в довольно тесном контакте. К сожалению, я не вел тогда ни дневника, ни каких-либо систематических записей. Занятый с утра и до поздней ночи, я еле находил время для того, чтобы выполнять всю выпавшую на мою долю работу. Поэтому у меня не сохранилось почти никаких документальных данных, относящихся к тому времени. Я долго колебался, стоит ли теперь, по прошествии стольких месяцев, приниматься за перо и пытаться записать то, что уцелело в памяти. Трудность этой задачи увеличена теми условиями, в которых я теперь нахожусь, – проживая в «медвежьем углу» Крыма, уже целый месяц совершенно отрезанного от всей остальной России и только что занятого немцами. У меня под рукой нет ничего для облегчения работы памяти, если не считать кипы номеров «Речи», по счастью сохранившихся у И. Петрункевича и им мне предоставленных. Правда, это очень драгоценное пособие, но оно не могло, конечно, отражать хода той внутренней, закулисной политической жизни, которая, как это всегда бывает, направляла и всецело определяла ход жизни внешней. В течение тех двух месяцев, что я находился на посту Управляющего делами Врем. Правительства, я чуть не ежедневно присутствовал при закрытых его заседаниях, где я был единственным лицом, не принадлежавшим официально к составу правительства. Впоследствии я подробнее коснусь вопроса о моем положении и о тех причинах, которые побудили меня мириться в течение моей кратковременной работы с этим положением только свидетеля, но не участника политического «творчества» Врем. Правительства. Сейчас я хочу только констатировать, что, насколько мне известно, от всех этих совещаний не осталось никакого следа. Записывать прения в самом заседании я не мог, ввиду их строго конфиденциального характера. Это, конечно, вызвало бы протест прежде всего со стороны Керенского, всегда очень подозрительно и ревниво относившегося ко всему, в чем он мог усматривать покушение на «верховные прерогативы» Врем. Правительства. Писать же post factum у меня не было времени. Думаю, что ни один из министров не имел возможности делать какие-либо записи после заседания. Само собой разумеется, что теперь, год спустя, я не имею ни малейшей возможности систематически восстановить то, что происходило на этих совещаниях.
И тем не менее, я все-таки решил приступить к этим запискам. Как ни скуден тот материал, которым располагает моя память, все же было бы, думается мне, жаль, если бы этот материал погиб бесследно. Я считал бы крайне важным, чтобы все те, кто так или иначе оказались причастными работе Вр. Правительства, поступили бы так же. Будущий историк соберет и оценит все эти свидетельства. Они могут оказаться очень разноценными, но ни одно из них не будет лишенным цены, если пишущий задастся двумя абсолютными требованиями: не допускать никакой сознательной неправды (от ошибок никто не гарантирован) и быть вполне и до конца искренним.
Вступление это мне казалось необходимым, так как оно пояснит самый характер моих воспоминаний и мое собственное отношение к этим запискам. Приступаю к моему повествованию.
II
Как только вспыхнула война, я немедленно – 21 июля 1914 года – получил бумажку, уведомлявшую меня, что я, в качестве офицера ополчения, призываюсь в 318-ую пешую Новгородскую дружину и обязан явиться в место формирования этой дружины, в г. Старую Руссу. Не собираюсь сейчас подробно касаться всего, пережитого мною, сперва в Старой Руссе, потом в Выборге, где дружина находилась до мая 1915 года, затем в местечке Гайнаше, на берегу Рижского залива, на полпути между Перновом и Ригой. Я был сперва дружинным адъютантом, потом в Гайнаше, где из трех дружин был образован полк (под названием 434-го пехотного Тихвинского), полковым адъютантом, и в этот первый год войны был свидетелем работы по подготовлению тыла, протекавшей, вероятно, более или менее одинаково по всей России. Думаю, что мои наблюдения в этой области также не будут лишены некоторого интереса, но покамест откладываю записывание этого материала, а также и всего того, что относится к моей службе в Азиатской части Главного Штаба, куда я был совершенно для себя неожиданно и без всякого своего участия переведен из Гайнаша в сентябре 1915 года и где оставался до самого переворота, заставшего меня временно исполняющим обязанности делопроиз-водителя этого учреждения. Если я здесь упоминаю о своей военной службе, то только для того, чтобы пояснить, что с июля 1914 года и до марта 1917 года я не принимал никакого участия в политике. Даже вернувшись в Петербург, я не возобновил ни публицистической работы в газете «Речь», ни работы в Центральном Комитете партии народной свободы. Открыто вернуться к той и другой я – в силу своего положения офицера, служащего в Главном Штабе – не мог, сделать же это, так сказать, конспиративно у меня не было никакой охоты, да и не было бы в таком тайном участии большого смысла. Как бы то ни было, мне важно, для пояснения многого дальнейшего, констатировать это обстоятельство. С начала войны и до самой революции я был оторван от политической и – в частности – от партийной жизни и следил за нею только извне, как сторонний наблюдатель. Мне были неизвестны сложные отношения, развившиеся в эти годы внутри Думы и в недрах нашего ЦК. Я совершенно не знал Керенского, – мое знакомство с ним было чисто внешнее, мы кланялись при встрече и обменивались банальными фразами, – о политической его физиономии я мог судить только по его речам в Думе, о которых я никогда не был высокого мнения. Конечно, в силу моей близости к редакции «Речи», личных отношений с Милюковым, Гессеном, Шингаревым, Родичевым и другими, я не мог, да и не хотел, вполне терять связь – вернее, контакт – с партией и политикой; и не потерял ее. Но все же внешняя моя отчужденность была причиной того, что после переворота, на первых порах моей возобновившейся политической деятельности, я не сразу мог разобраться в той сложной сети и личных, и партийных отношений, которая опутала – отчасти сковала – работу Вр. Правительства. Я многого не знал и многого поэтому не понимал. Это отразилось и на собственной моей роли, как будет видно далее.
Перехожу к внешним фактам, в их хроно-логической последовательности.
23 февраля жена моя должна была вернуться из Раухи, в Финляндии, куда она уехала с сыном еще в середине января и где оставалась несколько дней после возвращения сына, поправляясь от бронхита. Я ездил на вокзал ее встречать и живо помню, как на пути домой я рассказывал ей и полковнику Мятлеву (которого мы в своем автомобиле довезли до его дома на Исаакиевской площади), что в Петербурге очень неспокойно, рабочее движение, забастовки, большие толпы на улицах, что власть проявляет нервность и как бы растерянность и, кажется, не может особенно рассчитывать на войска – в частности, на казаков.2 В пятницу 24-го и в субботу 25-го я ходил, как всегда, на службу. 26-го, в воскресенье, Невский получил вид военного лагеря, – он был оцеплен. Вечером я был у И. В. Гессена, у которого по воскресеньям обычно собирались друзья и знакомые. На этот раз я, помнится, застал у него только Губера (Арзубьева), который вскоре ушел. Мы обменивались впечатлениями. Происходившее нам казалось довольно грозным. То обстоятельство, что власть – высшая – находилась в такую критическую минуту в руках таких людей, как кн. Голицын, Протопопов и ген. Хабалов, не могло не внушать самой серьезной тревоги. Тем не менее, еще 26-го вечером мы были далеки от мысли, что ближайшие два-три дня принесут с собою такие колоссальные, решающие события всемирно-исторического значения.
Возвращаясь домой с Малой Конюшенной, я не мог взять обычный путь – прямо на Невский и Морскую, так как через Невский меня бы не пустили. Я прошел переулком на Большую Конюшенную, потом через Волынкин переулок на Мойку, через Певческий мост, Дворцовую площадь, совершенно пустынную, мрачную, огромную, мимо Невского, по Адмиралтейскому проспекту. Проходя мимо градоначальства, я не мог не обратить внимания на большое количество автомобилей (10–12), стоявших перед подъездом. Вернулся я в начале первого, встревоженный и с мрачными предчувствиями.
Утром в понедельник 27-го я, как всегда, в десять часов утра отправился на службу. Азиатская часть Главного Штаба помещалась тогда в здании бывшего Главного Управления казачьих войск, на Караванной против Симеоновского моста. Проходя по Караванной и поравнявшись со сквером, я был остановлен каким-то господином со знакомым лицом (кто он такой – я ни тогда, ни потом вспомнить не мог), который мне сказал, что на Кирочной – стрельба, что часть солдат взбунтовалась. Он упомянул, помнится, о Преображенском полке. Придя затем в помещение Азиатской части, я никаких новых сведений не получил. Началась обычная работа, шедшая в этот день как-то вяло. Тем не менее, мы (мои сослуживцы и я) досидели обычное время – до трех часов, и в три часа я пошел домой, по Невскому, по которому в это время уже был свободный проход и толпились массы народу.
К вечеру Морская – насколько можно было видеть из окон, в особенности из боковых окон тамбура, выходящего на улицу и дающего возможность обозревать ее до «Астории», с одной стороны, и до Конногвардейского переулка, с другой, совершенно вымерла. Начали проноситься броневики, послы-шались выстрелы из винтовок и пулеметов, пробегали, прижимаясь к стенам, отдельные солдаты и матросы. Временами отдельные выстрелы переходили в оживленную перестрелку. Временами – но всегда на короткое время – все затихало. Телефон продолжал работать и сведения о происходившем в течение дня передавались мне, помнится, моими друзьями. В обычное время мы легли спать. С утра 28 февраля возобновилась сильнейшая пальба на площади, а также в той части Морской, которая идет от лютеранской кирки к Поцелуеву мосту. Выходить было опасно – отчасти из-за стрельбы, отчасти потому, что с офицеров начали срывать погоны, и уже ходили слухи о насилиях над ними со стороны солдат. Часов в 11 утра (может быть, даже раньше) под окнами нашего дома прошла большая толпа солдат и матросов, направляясь к Невскому. Шли беспорядочно и нестройно, офицеров не было. В эту толпу, по-видимому, стреляли – не то из «Астории», не то из Министерства Земледелия: точно это никогда не было установлено, да и самый факт стрельбы также не установлен, – возможно, что это было позднее выдумано. Как бы то ни было, под влиянием ли выстрелов (если они были), или по каким-либо другим побуждениям, эта толпа начала громить «Асторию». Оттуда начали к нам являться «беженцы»: сестра моя с мужем – адмиралом Коломейцовым, потом семья целая, с маленькими детьми, приведенная знакомыми английскими офицерами, потом еще другая семья наших отдаленных родственников Набоковых. Все это кое-как разместилось у нас в доме.
Весь вторник 28-го, а также среду 1-го марта я не выходил из дому. Было много хлопот по устройству неожиданных и невольных гостей, но большая часть дня проходила в каком-то тупом и тревожном ожидании. Точных сведений было мало. Известно было только, что центральным пунктом является Государственная Дума, а к вечеру 1-го марта уже говорили, что весь Петербургский гарнизон, а также некоторые прибывшие из окрестностей части присоединились к восставшим.
Утром 2-го марта уже офицеры могли свободно появляться на улицах, и я решил отправиться в Азиатскую часть выяснить положение. Придя туда, я застал на первой большой площадке огромную толпу служащих, офицеров и писарей. Я быстро прошел в наше собственное помещение, но через некоторое время пришли мне сказать, что меня просят, чтобы сказать несколько слов по поводу происшедших событий. Я пошел к собравшимся. Меня встретили аплодисментами. Мы все перешли в большую залу. Я взобрался на стол и сказал краткую речь. Точно не помню своих слов, – смысл их заключался в том, что деспотизм и бесправие свергнуты, что победила свобода, что теперь долг всей страны ее укрепить, что для этого необходима неустанная работа и огромная дисциплина. На отдельные вопросы я отвечал, что я сам еще не в курсе происшедших событий, но что собираюсь днем в Государственную Думу и там всё, конечно, узнаю в подробности, а завтра мы все можем вновь собраться. На этом мы и покончили, служащие разошлись, оживленно разговаривая. Я недолго пробыл в Азиатской части, где не было ни начальника ее, ген. Манакина, ни ближайшего его помощника, ген. Давлетшина, и где, разумеется, в этот день ни о какой работе нельзя было думать. Вернувшись домой, я позавтракал, и в два часа снова вышел с намерением пробраться в Государственную Думу.
На углу Невского и Морской я как раз столкнулся со всем составом служащих Главного Штаба, которые шли в Государственную Думу для того, чтобы заявить Временному Правительству, о сформировании которого только что стало известно, свое подчинение ему. Я к ним присоединился, мы пошли по Невскому, Литейной, Сергиевской, Потемкинской, Шпалерной. На улицах была масса народу. Везде видны были взволнованные, возбужденные лица, уже висели красные флаги. В то время как мы проходили мимо Аничкова дворца, какой-то старик, интеллигентного вида и прилично одетый, увидя меня (я шел с края), сошел с тротуара, подбежал ко мне, схватил меня за руку и, потрясая ее, благодарил меня «за все то, что вы сделали», прибавляя с большой энергией и решительностью: «но только Романовых нам не оставляйте, нам их не нужно!» На Потемкинской мы встретили довольно большую толпу городовых, которых вели под конвоем, – по-видимому, из манежа Кавалергардского полка, куда они были заключены при начале восстания.
В эти 40–50 минут, пока мы шли к Государственной Думе, я пережил не повторившийся больше подъем душевный. Мне казалось, что в самом деле произошло нечто великое и священное, что народ сбросил цепи, что рухнул деспотизм… Я не отдавал себе тогда отчета в том, что основой происшедшего был военный бунт, вспыхнувший стихийно вследствие условий, созданных тремя годами войны, и что в этой основе лежит семя будущей анархии и гибели… Если такие мысли и являлись, то я гнал их прочь.
Когда мы подошли к Шпалерной, она оказалась совершенно запруженной войсками, направлявшимися к Думе. Приходилось несколько раз останавливаться и довольно долго ждать. То и дело проползали моторы, с трудом прокладывая себе дорогу через толпу. Площадь перед зданием Думы была переполнена так, что яблоку негде было упасть; на аллее, ведущей к подъезду, происходила невероятная давка, раздавались крики; у входных ворот какие-то молодые люди еврейского типа опрашивали проходивших; по временам слышались раскаты «ура». Одну минуту я уже отчаялся дойти до подъезда Думы и потерял связь с моими товарищами. Наконец, протискиваясь и проталкиваясь, я добрался до ступеней подъезда. В это время на возвышение, устроенное перед дверью, – а может быть – на открытый автомобиль (мне с моего места не было хорошо видно) взобрался В. Н. Львов и сказал приветственную коротенькую речь по адресу тех воинских частей, которые находились на площади. Его плохо было слышно и речь его не производила никакого впечатления. Когда он кончил и спустился к дверям Думы, туда хлынула толпа, давка стала еще сильнее. Не помню уже, как я оказался в вестибюле. Внутренность Таврического дворца сразу поражала своим необычным видом. Солдаты, солдаты, солдаты, с усталыми, тупыми, редко с добрыми или радостными лицами; всюду следы импровизированного лагеря, сор, солома; воздух густой, стоит какой-то сплошной туман, пахнет солдатскими сапогами, сукном, потом; откуда-то слышатся истерические голоса ораторов, митингующих в Екатерининском зале, – везде давка и суетливая растерянность. Уже ходили по рукам листки со списком членов Временного Правительства. Помню, как я был изумлен, узнав, что министром юстиции назначен Керенский. (Я не понимал тогда значение этого факта и ожидал, что на этот пост будет назначен Маклаков.) Такой же неожиданностью было назначение М. И. Терещенка. Встретившийся мне знакомый журналист, по моей просьбе, взялся показать мне дорогу к комнатам, где находились Милюков, Шингарев и другие мои друзья. Мы пошли какими-то коридорами, комнатушками, везде встречая множество знакомых лиц, – по дороге попался нам кн. Г. Е. Львов. Меня поразил его мрачный, унылый вид и усталое выражение глаз. В самой задней комнате я нашел Милюкова, он сидел за какими-то бумагами, с пером в руках; как оказалось, он выправлял текст речи, произнесенной им только что, – той речи, в которой он высказывался за сохранение монархии (предполагая, что Николай II отречется или будет свергнут). Около него сидела Анна Сергеевна (его жена). Милюков совсем не мог говорить, он потерял голос, сорвав его, по-видимому, ночью, на солдатских митингах. Такими же беззвучными охрипшими голосами говорили Шингарев и Некрасов. В комнатах была разнообразная публика. Почему-то находился тут кн. С. К. Бело-сельский (генерал), ожидавший, по его словам, Гучкова, – очень растерянный. Через некоторое время откуда-то появился Керенский, – сопровождаемый графом Алексеем Орловым-Давыдовым (героем процесса с Пуаре), – взвинченный, взволнованный, истеричный. Кажется, он пришел прямо из заседания Исполнительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, где он заявил о принятии им портфеля министра юстиции – и получил санкцию в форме переизбрания в товарищи председателя комитета. Насколько Милюков казался спокойным и сохраняющим полное самообладание, настолько Керенский поражал какой-то потерей душевного равновесия. Помню один его странный жест. Одет он был, как всегда (т. е. до того, как принял на себя роль «заложника демократии» во Вр. Правительстве): на нем был пиджак, а воротничок рубашки – крахмальный, с загнутыми углами. Он взялся за эти углы и отодрал их, так что получился, вместо франтовского, какой-то нарочито-пролетарский вид… При мне он едва не падал в обморок, причем Орлов-Давыдов не то давал ему что-то нюхать, не то поил чем-то, не помню.
В соседней комнате происходило какое-то военное совещание. Я издали увидел генералов Михневича и Аверьянова.
Кажется, в то время уже говорили о том, что Гучков и Шульгин уехали в Псков, – и говорили как-то неодобрительно-скептически.
Делать в Думе мне было нечего. Вести сколько-нибудь систематический разговор с людьми смертельно усталыми – было невозможно. Пробыв некоторое время, вобрав в себя атмосферу – лихорадочную, сумасшедшую какую-то – я направился к выходу. По дороге, в одной из маленьких комнат, я встретил П. Б. Струве, который находился в Думе, если не ошибаюсь, чуть ли не со вторника. Настроение его было крайне скептическое. Мы с ним недолго поговорили на тему о необычайной сложности и трудности создавшегося положения. Потом я направился домой.
На другой день, 3 марта, я утром, в обычное время, пошел в Азиатскую часть. На углу Морской и Вознесенского я встретил М. А. Стаховича, который сообщил мне, как о свершившемся факте, об отречении Николая II (за себя и за сына) и о передаче им престола Михаилу Александровичу. Это же самое подтвердил мне М. П. Кауфман (бывший министр народного просвещения), которого я встретил недалеко от Караванной. Придя на службу, я застал опять крайнее оживление, толпу народа на лестнице и в большом зале заседаний, и снова ко мне обратились с просьбой сделать какие-нибудь разъяснения по поводу создавшегося положения. Я согласился. В зале собрались все служащие, пришел и почтенный ген. Агапов, начальник казачьего отдела Главного Штаба. В своей речи я поделился теми сведениями, которые у меня были (правда, крайне скудными), – сказал, что факт отречения царя должен разрешить вопрос и для всех тех, кто стоит на почве верноподданнической лояльности quand-meme, и затем, останавливаясь на предстоящей задаче, развивал вчерашние свои мысли о необходимости положить все свои силы на работу и на поддержку безусловной дисциплины. Вслед за мною говорили и другие, в том числе ген. Агапов. Настроение было очень твердое и хорошее, никаких диссонансов не было заметно. Помню даже, что Агапов поднял некоторые ближайшие практические вопросы, требующие, как он указал, немедленного решения для того, чтобы не останавливать налаженной работы и не вносить расстройства в нормальный ход дел.
Пробыв недолго со своими сослуживцами, я решил отправиться к начальнику Азиатской части, ген. Манакину, не выходившему из дому по нездоровью (кажется, он по телефону просил меня зайти к нему). Была чудная, солнечная морозная погода. Не успел я прийти к ген. Манакину и поговорить с ним, как к нему позвонили из моего дома и жена сказала мне, что меня просят немедленно, от имени князя Львова, на Миллионную 12, где находится – в квартире кн. Путятина – вел. кн. Михаил Александрович. Я тотчас распростился с ген. Манакиным и поспешил по указанному адресу, разумеется, пешком, так как ни извозчиков, ни трамвая не было. Невский представлял необычайную картину: ни одного экипажа, ни одного автомобиля, отсутствие полиции и толпы народа, занимающие всю ширину улицы. Перед въездом в Аничков дворец жгли орлы, снятые с вывесок придворных поставщиков.
Я пришел на Миллионную, должно быть, уже в третьем часу. На лестнице дома № 12 стоял караул Преображенского полка. Ко мне вышел офицер, я себя назвал, он ушел за инструкциями и, тотчас же вернувшись, пригласил меня наверх.
Раздевшись в прихожей, я вошел сперва в большую гостиную (в ней, как я узнал, в это утро происходило то совещание Михаила Александровича с членами Временного Правительства и Вр. Комитета Госуд. Думы, которое закончилось решением велик. князя отказаться от навязанного ему «наследия»). В следующей комнате – по-видимому, будуаре хозяйки – сидел кн. Львов и Шульгин. Кн. Львов объяснил мне мотив моего приглашения. Он рассказал мне, что в самом Вр. Правительстве мнения по вопросу о том, принимать ли Михаилу Александровичу престол или нет, – разделились. Милюков и Гучков были решительно и категорически за и делали из этого вопроса punctum saliens, от которого должно было зависеть участие их в кабинете. Другие были напротив на стороне отрицательного решения. Вел. князь выслушал всех и просил дать ему подумать в одиночестве (я предполагаю, что он посоветовался со своим секретарем Матвеевым, которому он очень доверял, и что тот был сторонником отказа). Через некоторое время он вернулся в комнату, где происходило совещание, и заявил, что при настоящих условиях он далеко не уверен в том, что принятие им престола будет на благо родине, что оно может послужить не к объединению, а к разъединению, что он не хочет быть невольной причиной возможного кровопролития и потому не считает возможным принять престол и предоставляет решение (окончательное) вопроса Учредительному Собранию.
Тут же кн. Львов прибавил, что в результате этого решения Милюков и Гучков выходят из состава Вр. Правительства. «Что Гучков уходит – это не беда: ведь оказывается (sic), что его в армии терпеть не могут, солдаты его просто ненавидят. А вот Милюкова непременно надо уговорить остаться. Это уже дело Ваше и Ваших друзей, помочь нам». На мой вопрос, зачем меня просили прийти, кн. Львов сказал, что нужно составить акт отречения Михаила Александровича. Проект такого акта набросан Некрасовым, но он не закончен и не вполне удачен, – а так как все страшно устали и больше не в состоянии думать, не спав всю ночь, то меня и просят заняться этой работой. Тут же он передал мне черновик Некрасова, сохранившийся до настоящего времени в моих бумагах, вместе с окончательно установленным текстом.
Здесь я хотел бы открыть скобку, прервать на минуту нить моего рассказа и коснуться вопроса об отречении Михаила Александровича по существу.
Много раз впоследствии я возвращался мысленно к этому моменту и теперь вот, в конце апреля 1918 г., когда я пишу эти строки, в Крыму, завоеванном немцами («временно занятом», как они говорят), пережив все горькие разочарования, все ужасы, всё унижение и весь позор этого кошмарного года революции, стоя у разбитого корыта истерзанной, загаженной, расчлененной России, испытав всю мерзость большевистской вакханалии, убедившись в глубокой несостоятельности тех сил, на долю которых выпала задача создания новой России, я спрашиваю себя: не было ли больше шансов на благополучный исход, если бы Михаил Александрович принял тогда корону из рук царя?
Надо сказать, что из всех возможных «монар-хических» решений это было самым неудачным. Прежде всего, в нем был неустранимый внутренний порок. Наши основные законы не предусматривали возможности отречения царствующего императора и не устанавливали никаких правил, касающихся престолонаследия в этом случае. Но, разумеется, никакие законы не могут устранить или лишить значения самый факт отречения, или помешать ему. Это есть именно факт, с которым должны быть связаны известные юридические последствия. И так как при таком молчании основных законов отречение имеет то же самое значение, как смерть, то очевидно, что и последствия его должны быть те же, т. е. – престол переходит к законному наследнику. Отрекаться можно только за самого себя. Лишать престола то лицо, которое по закону имеет на него право, – будь то лицо совершеннолетний или не совершеннолетний, – отрекающийся император не имеет права. Престол российский – не частная собственность, не вотчина императора, которой он может распоряжаться по своему произволу. Основываться на предполагаемом согласии наследника также нет возможности, раз этому наследнику не было еще полных 13-ти лет. Во всяком случае, даже если бы это согласие было категорически выражено, оно подлежало бы оспариванию, здесь же его и в помине не было. Поэтому передача престола Михаилу была актом незаконным. Никакого юридического титула для Михаила она не создавала. Единственный законный исход заключался бы в том, чтобы последовать тому же порядку, какой имел бы место, если бы умер Николай II. Наследник сделался бы императором, а Михаил – регентом. Если бы решение, принятое Николаем II, не оказалось для Гучкова и Шульгина такой неожиданностью, они, быть может, обратили бы внимание Николая на недопустимость такого решения, предлагающего Михаилу принять корону, на которую он – при живом законном наследнике – не имел права.
Я касаюсь этой стороны вопроса потому, что она не является только юридической тонкостью. Несомненно, она значительно ослабляла позицию сторонников сохранения монархии. И, несомненно, она влияла и на психику Михаила. Я не знаю, обсуждался ли вопрос с этой точки зрения в утреннем совещании, но несомненно, что Николай II сам (едва ли сознательно) сделал наибольшее для того, чтобы затруднить и запутать создавшееся положение. Правда, им – по словам акта об отречении – руководили чувства нежного отца, не желающего расстаться с сыном. Как ни почтенны эти чувства, не в них, конечно, может он найти себе оправдание.
Принятие Михаилом престола было бы, таким образом, как выражаются юристы, ab initio vitiosum, с самого начала порочным. Но допустим, что эта – так сказать формальная – сторона дела была бы оставлена без внимания. Как обстояло положение по существу?
Рассуждая a priori, можно привести очень сильные доводы в пользу благоприятных последствий положительного решения.
Прежде всего, оно сохраняло преемственность аппарата власти и его устройства. Сохранена была бы основа государственного устройства России, и имелись бы налицо все данные для того, чтобы обеспечить монархии характер конституционный. Этому способствовали бы и те условия, при которых воцарился бы Михаил, и его личные черты: прямота и несомненное благородство характера, лишенного при том властолюбия и деспотических замашек. Устранен был бы роковой вопрос о созыве Учредительного Собрания во время войны. Могло бы быть создано не Временное Правительство, формально облеченное диктаторской властью и фактически вынужденное завоевать и укреплять эту власть, а настоящее конституционное правительство, на твердых основах закона, в рамки которого вставлено бы было новое содержание. Избегнуто бы было то великое потрясение всенародной психики, которое вызвано было крушением престола. Словом сказать, переворот был бы введен в известные границы, и может быть, была бы сохранена международная позиция России. Были шансы сохранения армии.
Но все это, к сожалению, только одна сторона дела. Для того, чтобы она была решающей, необходим был ряд условий, которых налицо не было. Приняв престол из рук Николая, Михаил сразу имел бы против себя те силы, которые в первые же дни революции выступили на первый план и захотели овладеть положением, войдя в ближайший контакт с войсками Петер-бургского гарнизона. Эти восставшие войска к тому времени (3 марта) уже были отравлены. Реальной опоры они не представляли. Несомненно, для укрепления Михаила потребовались бы очень решительные действия, не останавливающиеся перед кровопролитием, перед арестом Исполнительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, перед провозглашением, в случае попыток сопро-тивления, осадного положения. Через неделю, вероятно, все вошло бы в надлежащие рамки. Но для этой недели надо было располагать реальными силами, на которые можно бы было безоглядно рассчитывать и безусловно опереться. Таких сил не было. И сам по себе Михаил был человеком, мало или совсем не подходившим к той трудной, ответственной и опасной роли, которую ему предстояло бы сыграть. Он не обладал ни популярностью в глазах масс, ни репутацией умственно выдающегося человека. Правда, его имя было не запятнано, он остался не причастным всем темным перипетиям скандальной хроники Распутинской, – он даже некоторое время был как бы в оппозиции, – но всего этого, конечно, было недостаточно для того, чтобы твердой и уверенной рукой взяться за руль государственного корабля. Я не вижу тех элементов, которые его бы поддержали, – не во имя своих личных интересов, а во имя интересов высших. Кадеты, три недели спустя выкинувшие республиканский флаг (об этом я подробнее скажу в своем месте), такой опорой не могли быть. Бюрократия, дворянство, придворные сферы? Все это было совсем не организовано, совершенно растерялось и боевой силы не представляло. Наконец приходится считаться с тем общим настроением, которое преобладало в эти дни в Петербурге: это было опьянение переворотом, был бессознательный большевизм, вскруживший наиболее трезвые умы. В этой атмосфере монархическая традиция, лишенная к тому же глубоких элементов внутренней жизни, не могла быть действенной, объединяющей и собирающей силой…
Таким образом, я так формулирую тот окон-чательный вывод, к которому я уже давно пришел. Если бы принятие Михаилом престола было возможно, оно оказалось бы благодетельным или, по крайней мере, дающим надежду на благополучный исход. Но, к несчастью, вся совокупность условий была такова, что принятие престола было невозможно. Говоря тривиальным языком, из него бы «ничего не вышло». И прежде всего это должен был чувствовать сам Михаил. Если «мы все глядим в Наполеоны», то он – меньше всех. Любопытно отметить, что он очень подчеркивал свою обиду по поводу того, что брат его «навязал» ему престол, даже не спросив его согласия. И было бы еще интереснее знать, как бы он поступил, если бы об этом согласии его заранее спросил Николай?..
Возвращаюсь к прерванному рассказу.
Само собой разумеется, при данных обстоя-тельствах мне не приходилось заниматься размыш-лениями на тему о том, правильно ли или неправильно принятое решение. Одно для меня было ясно: необходимо было удержать Милюкова в составе Вр. Правительства во что бы то ни стало, а затем надо было, в отношении того ближайшего дела, для которого меня призвали, найти вполне ясную, определительную и точную формулировку отречения великого князя. В первом отношении я обещал кн. Львову употребить все усилия и все влияние, которое я мог иметь на Милюкова, причем я имел в виду встретиться с ним вечером в Таврическом дворце. Что касается акта отречения, то я тотчас же остановился на мысли попросить содействия такого тонкого и осторожного специалиста по государственному праву, как барона Б. Э. Нольде. С согласия кн. Львова я позвонил к нему, он оказался поблизости, в Министерстве Иностранных дел, и пришел через четверть часа. Нас поместили в комнате дочери кн. Путятина. К нам же присоединился В. В. Шульгин. Текст отречения и был составлен нами втроем, с сильным видоизменением некрасовского черновика. Чтобы покончить с внешней историей составления, скажу, что после окончания нашей работы составленный текст был мною переписан и через Матвеева представлен великому князю. Изменения, им предложенные (и принятые), заключались в том, что было сделано (первоначально отсутствовавшее) указание на Бога и в обращении к населению словом «прошу» было заменено проектированное нами «повелеваю». Вследствие таких изменений мне пришлось еще раз переписать исторический документ. В это время было около шести часов вечера. Приехал М. В. Родзянко. Вошел и вел. князь, который при нас подписал документ. Он держался несколько смущенно – как-то сконфуженно. Я не сомневаюсь, что ему было очень тяжело, но самообладание он сохранял полное, и я, признаться, не думал, чтоб он вполне отдавал себе отчет в важности и значении совершаемого акта. Перед тем как разойтись, он и М. В. Родзянко обнялись и поцеловались, причем Родзянко назвал его благороднейшим человеком.
Для того, чтобы найти правильную форму для акта об отречении, надо было предварительно решить ряд преюдициальных вопросов. Из них первым являлся вопрос, связанный с внешней формой акта. Надо ли было считать, что в момент его написания Михаил Александрович уже был Императором и что акт является таким же актом отречения, как и документ, подписанный Николаем II? Но, во-первых, в случае решения вопроса в положительном смысле отречение Михаила могло вызвать такие же сомнения относительно прав других членов императорской фамилии, какие, в сущности, вытекали и из отречения Николая II. С другой стороны, этим санкциони-ровалось бы неверное предположение Николая II, будто он вправе был сделать Михаила Императором. Таким образом, мы пришли к выводу, что создавшееся положение должно быть трактуемо так: Михаил отказывается от принятия верховной власти. К этому, собственно, должно было свестись юридически ценное содержание акта. Но по условиям момента, казалось необходимым, не ограничиваясь его отрицательной стороной, воспользоваться этим актом для того, чтобы – в глазах той части населения, для которой он мог иметь серьезное нравственное значение, – торжественно подкрепить полноту власти Вр. Правительства и преемственную связь его с Госуд. Думой. Это и было сделано в словах «Вр. Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти». Первая часть формулы дана Шульгиным, другая мною. Опять-таки с юридической точки зрения можно возразить, что Михаил Александрович, не принимая верховной власти, не мог давать никаких обязательных и связывающих указаний насчет пределов и существа власти Вр. Правительства. Но, повторяю, мы в данном случае не видели центра тяжести в юридической силе формулы, а только в ее нравственно-политическом значении. И нельзя не отметить, что акт об отказе от престола, подписанный Михаилом, был единственным актом, определившим объем власти Вр. Правительства и вместе с тем разрешившим вопрос о формах его функционирования, – в частности (и главным образом) вопрос о дальнейшей деятельности законодательных учреждений. Как известно, в первой декларации Вр. Правительства оно говорило о себе как о «кабинете» и образование этого кабинета рассматривалось как «более прочное устройство исполнительной власти». Очевидно, при составлении этой декларации было еще неясно, какие очертания примет временный государственный строй. С момента акта отказа счита-лось установленным, что Вр. Правительству принадлежит в полном объеме и законодательная власть. Между тем еще накануне в составе Временного Правительства поднимался (по словам Б. Э. Нольде) вопрос об издании законов и принятии финансовых мер в порядке ст. 87 основного закона.
Может показаться странным, что я так подробно останавливаюсь на содержании акта об отказе. Могут сказать, что акт этот не произвел большого впечатления на население, что он был скоро забыт, заслонен событиями. Может быть, это и так. Но все же несомненно, что с более общей исторической точки зрения акт 3 марта имел очень большое значение, что он является именно историческим актом и что значение его, может быть, еще скажется в будущем. Для нас же в тот момент, в самые первые дни революции, когда еще было совершенно неизвестно, как будет реагировать вся Россия и иностранные державы-союзницы на переворот, на образование Вр. Правительства, на всё создавшееся новое положение, казалось бесконечно важным каждое слово. И мне кажется, что мы были правы.
Я уже упомянул о том, что работа наша затянулась до вечера. Когда мы вышли, было уже темно. Если память мне не изменяет, я не возвращался домой, а прямо поехал в Госуд. Думу, чтобы увидеться с Милюковым, показать ему захваченный мною черновик акта, принять меры к его оглашению в печати. Но прежде всего, конечно, я должен был выполнить данное мною князю Г. Е. Львову обещание – употребить все усилия, чтобы убедить Милюкова не выходить из состава Вр. Правительства.
Для меня, конечно, не было никакого сомнения в том, что, если бы Милюков настоял на своем решении, результатом были бы самые серьезные – может быть, даже гибельные – осложнения. Не говоря уже о впечатлении разлада с первых же шагов, о последствиях для партии, которая была бы сразу сбита с толку, – о тяжелом положении остающихся министров-кадетов, – с уходом Милюкова Вр. Правительство теряло свою крупнейшую умственную силу и единственного человека, который мог вести внешнюю политику и которого знала Европа. В сущности, этот уход был бы настоящей катастрофой.
Придя в Таврический дворец, я тотчас нашел Милюкова. С ним в этот день на ту же тему уже говорил Винавер, также убеждавший его изменить свое решение. Я прочитал ему текст отказа Михаила. Его этот текст удовлетворил и, кажется, послужил окончательным толчком, побудившим его остаться в составе Вр. Правительства. Кто и когда повлиял в том же смысле на Гучкова, я не знаю.
С Милюковым по-прежнему была Анна Сергеевна. От нее я услышал трагическое известие об убийствах в Гельсингфорсе и о грозном положении во флоте. Она сама казалась совершенно подавленной этими событиями. Меня они чрезвычайно потрясли. Сразу же в радостное ликование врывались мрачные, скорбные ноты, не предвещавшие ничего хорошего. Я должен тут же отметить, что сразу же было высказано убеждение, приписывающее эти убийства немецкой агитации.
В какой мере германская рука активно участвовала в нашей революции – это вопрос, который никогда, надо думать, не получит полного, исчерпывающего ответа. По этому поводу я припоминаю один очень резкий эпизод, происшедший недели через две в одном из закрытых заседаний Временного Правительства. Говорил Милюков, и не помню, по какому поводу заметил, что ни для кого не тайна, что германские деньги сыграли свою роль в числе факторов, содействовавших перевороту. Оговариваюсь, что я не помню точных его слов, но мысль была именно такова и выражена она была достаточно категорично. Заседание происходило поздно ночью, в Мариинском дворце. Милюков сидел за столом. Керенский, по своему обыкновению, нетерпеливо и раздраженно ходил из одного конца залы в другой. В ту минуту, как Милюков произнес приведенные мною слова, Керенский находился в далеком углу комнаты. Он вдруг остановился и оттуда закричал: «Как? Что Вы сказали? Повторите!» и быстрыми шагами приблизился к своему месту у стола. Милюков спокойно и, так сказать, увесисто повторил свою фразу. Керенский словно осатанел. Он схватил свой портфель и, хлопнув им по столу, завопил: «После того, как г. Милюков осмелился в моем присутствии оклеветать святое дело великой русской революции, я ни одной минуты здесь больше не желаю оставаться». С этими словами он повернулся и стрелой вылетел из залы. За ним побежал Терещенко и еще кто-то из министров, но, вернувшись, они сообщили, что его не удалось удержать и что он уехал домой (в министерство юстиции, где он тогда жил). Я помню, что Милюков сохранил полное хладнокровие и на мои слова ему: «Какая безобразная и нелепая выходка!» отвечал: «Да это обычный стиль Керенского. Он и в Думе часто проделывал такие штуки, вылавливая у политического противника какую-нибудь фразу, которую он потом переиначивал и пользовался ею, как оружием». По существу, никто из оставшихся министров не высказал ни одного слова по поводу фразы, вызвавшей негодование Керенского, но все находили, что его следует сейчас же успокоить и уговорить, объяснив ему, что в словах Милюкова не было общей оценки революции. Кто-то (кажется, Терещенко) сказал, что к Керенскому следовало бы поехать князю Львову. Другие с этим согласились (Милюков держался пассивно – конечно, весь этот инцидент был ему глубоко противен). Кн. Львов охотно согласился поехать «объясниться» с Керенским. Конечно, все кончилось пуфом, но тяжелое впечатление осталось. Впрочем, было ли хотя одно закрытое заседание, которое бы не оставило такого впечатления? Но об этом – позже…
В этот же вечер в Таврическом дворце (3-го марта) Милюков сказал мне, что на меня рассчитывают для одного из открывающихся крупных постов, и спросил, согласился ли бы я принять должность финляндского генерал-губернатора. Я сразу же и очень решительно отказался. Помимо всяких соображений личного характера, прежде всего необходимости уехать из Петербурга, мое отрицательное отношение вызывалось сознанием моей полной неподготовленности к заве-дованию финляндскими делами. Я никогда ими специально не интересовался, у меня в Финляндии не было ни связей, ни даже близких знакомств, я плохо ориентировался в тамошних политических настрое-ниях и партийных течениях.
Отказавшись от какого-либо административного поста, я сам предложил свои услуги в качестве «Управляющего делами Временного Правительства», – должность, соответствующая прежнему управляющему делами Совета Министров. Я считал, что пост этот, с внешней стороны как бы второстепенный, в условиях нового временного государственного строя, в функционировании которого оставалось так много еще неясного и неопределенного, – приобретал особое значение. Здесь, в сущности говоря, предстояло создать твердые внешние рамки правительственной деятельности, дать ей правильную, однообразную форму, разрешить целый ряд вопросов, которые никого из министров в отдельности не интересовали. Но помимо того, – не отдавая себе еще в то время отчета в той атмосфере, в которую я попаду, – связанный тесными партийными отношениями с рядом министров, я ожидал, что в заседаниях Временного Правительства мне будет предоставлен совещательный голос. Впоследствии я вернусь к вопросу о том положении, которое для меня создалось и которое привело меня, при первом же кризисе, связанном с уходом Милюкова и Гучкова, решительно заявить о своем желании покинуть пост управляющего делами.
Милюков не мог не согласиться с теми доводами, которые я ему привел. Мы с ним еще побеседовали на тему о возможных кандидатах на пост Финляндского генерал-губернатора. О моем старом приятеле Стаховиче в то время еще речь не заходила, и я не знаю, кто предложил эту кандидатуру, оказавшуюся если не во всех, то во многих отношениях вполне удачной. Не помню, в тот же ли вечер или на другое утро вопрос о назначении Управляющим делами был решен положительно. Во всяком случае уже в субботу, 4 марта, я присутствовал в вечернем заседании Вр. Правительства, происходившем в большом зале совета министра внутренних дел, в здании министерства на площади Александровского театра.
В первые дни существования Вр. Правительства (четверг 2-го и пятницу 3-го марта) не могло быть, конечно, и речи ни о каком организованном делопроизводстве. Но какое-то подобие канцелярии пришлось импровизировать немедленно, причем дело это было поручено Я. Н. Глинке, заведовавшему делопроизводством Госуд. Думы. Он воспользовался силами канцелярии Думы. Должен, однако, указать, что запись первого – чрезвычайно важного – заседания Вр. Правительства, в котором оно установило основные начала своей власти и своей политики, была сделана совершенно неудовлетворительно и даже невразу-мительно. Когда я ознакомился с этой записью, то пришел в некоторое недоумение и сказал об этом Милюкову. Прочитав запись, он квалифицировал ее гораздо резче меня. Тогда же было условлено, что он возьмет эту запись и восстановит по памяти ход и решения первого заседания, после чего Вр. Правительство, проверив в полном составе журнал, подпишет его. Запись П. Н. действительно взял, но за два месяца своего пребывания на посту министра иностранных дел не имел, по-видимому, необходимого досуга, чтобы выполнить эту работу. Сколько раз я ему о ней ни напоминал, он всегда смущенно улыбался и обещал в ближайшие дни заняться ею, – да так и не исполнил своего обещания. Так и осталась запись неиспользованной, – кажется, он и не вернул ее. Этим объясняется, что журналы (печатные) заседаний Вр. Правительства начинаются с № 2.
Скажу здесь вкратце о том, как мною была организована канцелярия Вр. правительства. Прежде всего надо было разрешить вопрос о моем помощнике, – о лице, на долю которого должна была выпасть значительнейшая доля черной канцелярской работы. Очевидно, таким лицом мог быть только человек, которому бы я всецело и до конца мог доверять, а вместе с тем он не должен был быть чужд той канцелярии Совета Министров, которой пред-стояло превратиться в канцелярию Врем. Прави-тельства. Само собой разумеется, что первому из этих требований не удовлетворял тогдашний помощник (или товарищ) управляющего делами Совета Министров (И. Н. Лодыженского) – А. С. Путилов, которого я лично совсем не знал и который притом даже не пользовался симпатиями своих сослуживцев. Мой выбор остановился на А. М. Ону. Я его знал с 1894 года, служил пять лет вместе с ним (с 1894 до 1899 года, когда я вышел в отставку) в Государственной канцелярии, абсолютно доверял его лояльности и его готовности отдать свои силы работе. С другой стороны, я считал, что он имеет солидный деловой опыт, занимая должность помощника статс-секретаря Госуд. Совета, и что он для канцелярии не будет homo novus. В самой канцелярии (где я нашел некоторых из бывших моих слушателей в Училище правоведения – гг. Киршбаума, Фрейганга) я не предполагал встретить особенного предубеждения против себя. Но вместе с тем, я не мог ожидать, что в те два месяца, в течение которых я работал с канцелярией, у меня установятся с нею такие исключительно сердечные отношения. Должен здесь засвидетельствовать, что в огромном большинстве своем служащие канцелярии оказались вполне на высоте своей задачи, требовавшей от них совершенно исключительной трудоспособности, добросовестности и «дискретности». У меня остались самые лучшие воспоминания о нашей общей работе и о нашем прощании, когда я получил от них адрес, очень тепло составленный. Что касается А. М. Ону, то я не разочаровался ни в его преданности и готовности работать, ни в прекрасных качествах его ума и сердца. Должен прибавить, что наши личные отношения были все время и остались наилучшими и что кроме горячей признательности и искреннего уважения я к нему никаких чувств питать не могу. О своих намерениях по его адресу я его оповестил по телефону еще в субботу, получил от него согласие. Предстояло еще оформить мое собственное положение. Очевидно, назначение меня управляющим делами Вр. Правительства было несовместимо с дальнейшим пребыванием прапор-щиком. Уже в субботу, 4-го, вечером А. И. Гучков подписал приказ, коим я увольнялся по этому случаю в отставку. В понедельник, 6-го, я в Мариинском дворце принял канцелярию. Представлял ее мне Путилов, утром посетивший меня. Он приветствовал меня речью, я ответил тоже короткой речью. Потом пришел И. Н. Лодыженский и мы с ним довольно долго беседовали в бывшем его служебном кабинете. Все обошлось вполне корректно, доброжелательно, по-хорошему. Но в применении к Лодыженскому и к Путилову я впервые столкнулся с тем вопросом о материальном обеспечении ушедших в отставку чиновников, достигших более или менее высоких степеней, который впоследствии должен был причинить Вр. Правительству столько затруднений. Так как я не намерен, да и не мог бы, держаться в этих записках хронологического порядка, то я и коснусь сейчас этого вопроса, благо он подвернулся под перо.
Как известно, в первые дни и даже в первые недели революции и в прессе и в разных публичных речах любили развивать – наряду с темой о «бескровном» характере революции, пролившей с тех пор, в дальнейшем своем течении и развитии, такие реки крови, – еще и тему о волшебной ее быстроте, о той легкости, с какой был признан новый строй всеми теми силами, которые, казалось, были надежнейшей и вернейшей опорой старого порядка. В числе этих была и бюрократия – всероссийская и, в частности, петербургская. Я припоминаю, что еще в 1905 году, на первом, после 17 октября, съезде земских и городских деятелей (в Москве, в доме Морозовой на Воздвиженке), был поставлен вопрос о коренном обновлении всей местной администрации (главным образом, конечно, губернаторов), причем выставлялось соображение, что от слуг абсолютизма нельзя ожидать ни готовности, ни уменья служить новому строю, – что они будут ему недоброжелательствовать и проявлять к нему то отношение, которое на современном револю-ционном жаргоне получило название «саботажа». Я тогда выступал против этого предположения. Я указывал, что едва ли в нашем распоряжении имеется достаточное количество подготовленных идейных работников, способных немедленно вовлечься в сложную государственную машину, – с другой же стороны, шутливо напоминая известное изречение Кукольника «прикажет государь, могу быть акушером», я доказывал, что от местных администраторов (в их большинстве, конечно) не приходится ожидать той стойкости убеждений и глубины приверженности старым началам, того упорства, которые устояли бы против властного mot d'ordre'a, данного сверху (предполагая, разумеется, искренность и «подлинность» этого mot d'ordre). Мне возражал тогда И. И. Петрункевич. К сожалению, я не присутствовал при этом возражении, в котором Ив. Ил., очень удачно и остроумно воспользовавшись моей цитатой, при общем смехе заявил, что он не хотел бы быть той роженицей, которую обслуживал бы такой «по Высочайшему повелению акушер», и что в данном случае участь этой роженицы была бы участью России. При всем остроумии этого возражения оно меня не убедило. Ибо главным основанием неприемлемости старых администраторов выставлялась не их техническая неподготовленность (много ли у нас вообще технически подготовленных людей?), а их внутреннее отношение, их настроение, и только в этом отношении и имела смысл моя цитата. Я хотел сказать – и думаю теперь, – что огромное большинство бюрократии нисколько не заражено стремлением быть plus royalist que Ie roi, – оно охотно бы признало fait accompli, подчинилось бы новому порядку и никаким «саботажем» не стало бы заниматься. Конечно, и в центрах, и на местах, как тогда, в 1905 году, так и теперь, в 1917-м, были отдельные люди, которых их прежняя деятельность и совершенно определенная, яркая политическая физиономия делала и принципиально, и практически неприемлемыми для нового строя. Эти единицы и подлежали бы изъятию.
Вр. Правительство поступило, как известно, иначе. Одним из первых – и одним из самых неудачных – его актов была знаменитая телеграмма князя Львова от 5 марта, отправленная циркулярно всем председателям губернских земских управ: «Придавая самое серьезное значение в целях устроения порядка внутри страны и для успеха обороны государства обеспечению безостановочной деятельности всех правительственных и общественных учреждений, Вр. Правительство признало необходимым устранить губернатора и вице-губернатора от исполнения обязанностей», причем управление губернией временно возлагалось на председателя губернской управы в качестве губернского комиссара Вр. Правительства. Не говоря о том, что в целом ряде губерний, где председателем управы являлось лицо, назначенное старым правительством, это распоряжение сводилось к лишенной всякого смысла и основания замене одних чиновников – другими, далеко не лучшими, даже и в коренных земских губерниях оно привело – во многих случаях – к явной чепухе. Председатель управы был нередко ставленником реакционного большинства, а губернатор – лицом вполне приемлемым и не обладавшим никакой реакционной окраской. Вр. Правительство очень скоро – почти тотчас же – убедилось в том, что рассматриваемая мера была крайне необдуманной и легкомысленной импрови-зацией. Но что было ему делать? И в этом случае, как и во многих других, оно должно было считаться не с существом, не с действительными реальными интересами, а с требованиями революционной фразы, революционной демагогией и предполагаемыми настроениями масс. Так, всему этому была принесена в жертву вся полиция, личный состав которой (а также и жандармерии) несколько месяцев спустя естественным образом влился в ряды наиболее разбойных большевиков («рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше»).
Результатом такой политики явилось массовое увольнение – и выход в отставку, добровольный или вынужденный, – целого ряда высших чиновников, военных и гражданских. К этому же приводила ликвидация ряда учреждений и, наконец, естественное прекращение работы (напр., в Государственном Совете). И вот ставился вопрос: как быть с этой многочисленной армией людей, очутившихся, по их собственным заявлениям, в положении «раков на мели»? Ничтожное меньшинство этих людей не заслуживало внимания и не возбуждало симпатий, – среди них были, конечно, и люди вполне обеспеченные в материальном отношении. Но подавляющее большинство представляли люди, многие годы добросовестно тянувшие бюрократи-ческую лямку, дожившие иногда до преклонных лет, обремененные многочисленными семьями – люди, всю жизнь бывшие совершенно чуждыми политике, но честно и усердно трудившиеся. А среди членов Госуд. Совета были такие люди, как Н. С. Таганцев, А. Ф. Кони и другие, менее известные люди, но вполне почтенные и безупречные.
Теперешние хозяева положения (час которых, впрочем, уже пробил)3, гг. большевики, конечно, не задавались никогда подобными вопросами, и самая их возможность встретила бы со стороны Лениных и Троцких откровенное глумление. Для них совершенно безразлична судьба отдельных людей. «Лес рубят – щепки летят» – вот удобный ответ на все. Да им и не приходится и не приходилось сталкиваться с описанными затруднениями, потому что никто, конечно, не мог быть столь наивным, чтобы обращаться к ним, ожидая от них справедливого и человеческого отношения. С совершенно спокойной совестью они выбросили на улицу весь сенат и всю магистратуру, и трагически безвыходное положение людей, работавших всю жизнь и на старости лет оказавшихся в буквальном смысле слова без куска хлеба, их нисколько не смущает.
Вр. Правительство было в ином положении. Не обладая якобинской неустрашимостью, в ее частом сочетании с якобинской же бессовестностью, оно оказывалось в крайнем затруднении при разрешении и общего вопроса о судьбе членов ликвидируемых учреждений, и частных вопросов о судьбе отдельных лиц. Возьму, как одну из наиболее ярких иллюстраций, вопрос о членах Государственного Совета по назначению. Среди них были люди, не имевшие никаких заслуг перед страной, назначенные по соображениям черносотенной политики, для образования реакционного большинства, – но были, как я уже упомянул, государственные люди, такие, как Кони или Таганцев, а также ряд лиц, для которых Госуд. Совет был венцом долгой и безупречной службы в рядах администрации или магистратуры. По закону, члены Госуд. Совета по назначению получали содержание, каждый раз определяемое персонально Верховной Властью. Равным образом и пенсии членам Госуд. Совета не определены общим образом в законе. В ближайшее же время после переворота, в первые же недели, когда выяснилось с полной несомненностью, что Госуд. Совет как учреждение обречен на совершенную праздность до Учредительного Собра-ния, причем Учредит. Собрание его, конечно, не сохранит (ни вообще, ни тем более в теперешнем его виде), наиболее добросовестные и тактичные члены Госуд. Совета почувствовали неловкость своего положения и нравственную невозможность получать крупное содержание, не делая ничего, и возбудили вопрос об уместности подачи в отставку. При этом они считались (как мне точно известно из личных переговоров с некоторыми из них) с соображениями двоякого рода.
Вр. Правительствоо не упразднило с самого начала Госуд. Совет как учреждение. Потому членам по назначению, не считавшим возможным продолжать пользоваться преимуществами своего положения, приходилось бы подавать прошения об отставке, т. е. брать инициативу на себя. Если бы одни подали прошения, а другие нет, получилась бы, очевидно, нелепость: на местах остались бы лица, прежде всего более всего дорожившие своими окладами и положением, а уволены бы были наилучшие. Кроме того, мне приходилось слышать опасения (искрен-ности которых я не имел никакого основания не верить, принимая во внимание, от кого они исходили), что подача таких прошений рядом лиц одновременно или непосредственно одними вслед за другими могло бы произвести впечатление какой-то демонстрации против Вр. Правительства, производимой наиболее авторитетными людьми, – а это, конечно, меньше всего входило в их намерения. Наконец, last not least, возникал вопрос о личной материальной судьбе, тревоживший всех тех, кто существовал только жалованием и кто не мог рассчитывать ни на получение другого места, ни на частный заработок. Таких, конечно, было немало. И все они спрашивали, будет ли им назначена пенсия и в каком размере. В самом начале Вр. Правительство в двух случаях назначило пенсии в размере 7–10 тысяч (кажется, дело шло о В. Н. Коковцове и об А. С. Танееве, но может быть, здесь я ошибаюсь). И тотчас же митинговые речи перед домом Ксешинской (с первых же дней ставшим штаб-квартирой большевизма) подхватили этот факт. «Вр. Правительство дает многотысячные пенсии, расточая народные деньги на слуг старого царского режима». Социалистические газеты вторили этим обвинениям. Мне особенно памятны подленькие статейки г. Гойхбарта (к сожалению, одного из сотрудников «Права») в «Новой Жизни». Весь этот шум произвел на Вр. Правительство большое впечатление. И когда, наконец, пришлось поставить во всем объеме вопрос о членах Гос. Совета (так как в связи с этим печать и митинги завопили по поводу того, что члены Гос. Совета продолжают получать содержание), Правительство потратило целых два заседания на обсуждение его – и не могло прийти ни к какому определенному решению. Некоторые из членов Госуд. Совета, соответственно их собственному желанию, были назначены в Сенат (и получили, стало быть, сенаторские оклады). Судьба других так и осталась – при мне – неразрешенной. Были ли впоследствии приняты какие-нибудь общие меры, я не знаю. Припоминаю, в связи с этим, эпизод, произведший на меня крайне грустное впечатление. Н. С. Таганцев, с которым меня связывали двадцатилетние дружеские отношения, как-то попросил меня (по телефону) побывать у него. Оказалось, что он хотел лично мне передать собственноручно им написанное прошение об отставке и о назначении ему пенсии (впоследствии он был назначен в 1-ый департамент Сената и был председателем того отделения, в которое я зачислился; об этом – позже). Передавая мне бумагу, он не мог сдержать своего волнения и всхлипнул. «Да, голубчик, очень тяжело!» – сказал он. – «Ведь я всю жизнь ждал осуществления нового строя. Все, чего я достиг – я, сын крестьянина, записавшегося в купцы 3-ей гильдии, чтобы дать мне образование, – всего этого я достиг только своим трудом, я никому ничем не обязан. И вот теперь – я оказываюсь никому не нужным и возвращаюсь в первобытное состояние».
Сюда же относится и другой эпизод. Героем его был малопочтенный человек – Липский, товарищ и в свое время правая рука финляндского генерал-губернатора, имевший репутацию одного из наиболее воинствующих бобриковцев. Революция его совершенно выбросила за борт, он, помнится, даже был вначале арестован и вывезен из пределов Финляндии. Политическая его физиономия была такова, что о назначении ему какого-нибудь оклада нельзя было и мыслить. Меня он знал потому, что в конце 90-х годов он служил в Госуд. Канцелярии. И вот – начались его посещения. Он рассказал мне, что положение его совершенно безвыходное. Жене его предстояла какая-то тяжелая операция, ее приходилось поместить в санаторий, – у него в Петербурге не было пристанища, «мы ютимся у знакомых», поиски частной службы оказались тщетными. Он умолял меня помочь, посодействовать тому, чтобы ему назначили сенаторское жалованье (он был сенатором). Что я мог ему сказать? Я понимал, что его дело безнадежно, – по человечеству я видел, что человек просто гибнет. К несовершенствам моим, как политического деятеля, я должен причислить то мое свойство, которое в подобных случаях мешает мне сказать «туда ему и дорога»… В революционную эпоху политическому деятелю приходится быть жестоким и безжалостным. Тяжело тем, кто к этому органически неспособен!
Возвращаюсь к моему рассказу.
В субботу 4 марта Н. В. Некрасов просил меня и Лазаревского прибыть к нему в министерство путей сообщения для выполнения поручения, данного Вр. Правительством. Поручение состояло в том, чтобы написать первое воззвание Вр. Правительства ко всей стране, излагающее смысл происшедших исторических событий и profession de foi Вр. Правительства, а также политическую программу, более определенную и полную, чем та, которая заключалась в первой декларации, сопровождавшей самое образование Вр. Правительства. Часа в два мы встретились с Н. И. и вместе отправились в министерство. Там кипела лихорадочная деятельность, бегали служащие, сидело, стояло, ходило множество народа. Не без труда разыскали мы Некрасова, председательствовавшего в каком-то совещании. Пришлось немного подождать, совещание при нас закончилось, и Некрасов повел нас внутренним ходом из здания министерства в квартиру министра. Там, в кабинете министра, мы нашли члена Гос. Думы А. А. Добровольского, тоже принявшего, по собственной охоте (и конечно, с общего согласия), участие в нашей работе. Некрасов объяснил нам программу воззвания и его задачи и оставил нас. Тотчас мы принялись за работу, она продолжалась часов до шести-семи вечера. Шла она очень скоро, и результатом ее явился проект, сохранившийся в моих бумагах, но не увидевший света. Этот проект был на другой день доложен Н. В. Некрасовым Вр. Правительству, но, как я потом узнал, встретил некоторые частичные возражения. А. А. Мануилов внес предложение – передать его Ф. Ф. Кокошкину (утром приехавшему из Москвы) для переделки. Это было принято. Каким-то образом очутился при этом М. М. Винавер, в качестве сотрудника Кокошкина, причем этот последний предоставил ему написать текст воззвания заново и – как мне впоследствии говорил сам Кокошкин – текст этот, целиком написанный Винавером, был им, Кокошкиным, внесен Вр. Правительству, которое его санкционировало без изменения. В конце того же месяца, на страницах «Речи», Винавер обратился также с чем-то вроде манифеста «к еврейскому народу», причем этот документ начинался теми же словами: «Свершилось великое».
Вечером того же дня происходило первое при моем участии – вернее, в моем присутствии – заседание Вр. Правительства, в здании Министерства Внутренних Дел, в зале Совета. Там же происходило второе и третье заседание, 5-го и 6-го марта. С 7-го марта заседания были перенесены в Мариинский дворец и происходили там во все время, пока я был управляющим делами, а также и впоследствии, до премьерства Керенского, переехавшего (в середине июля) в Зимний дворец и перенесшего заседания в Малахитовый зал.
Эти первые заседания имели (вполне понятно!) характер хаотический. Много времени отнимали всякие мелочи. Помню, что чуть ли не в первом заседании, в субботу, Керенский объявил, что он в товарищи себе берет Н. Н. Шнитникова, и помню, что этот незначительный факт произвел тогда на меня большое и крайне отрицательное впечатление. Здесь для меня впервые проявилась одна из основных черт этого рокового человека. Эта черта – абсолютная неспособность разбираться в людях и правильно их оценивать. Шнитников – личность достаточно хорошо известная. Человек добрый и вполне порядочный, он вместе с тем человек с узко предвзятым отношением к каждому вопросу. Ни в адвокатуре, ни в городской думе, ни в какой-либо другой сфере он – как хорошо известно – никогда не пользовался ни малейшим авторитетом. И его Керенский хотел поставить рядом с собою, во главе всего судебного ведомства! Само собою разумеется, он бы этим достиг только одного: полного дискредитирования своего собственного и своего товарища. Помню, что стоило некоторого труда отговорить Керенского. Но нужно заметить, что, наряду со внезапностью и стремительностью, его решения отличались всегда большой неустойчивостью и переменчивостью. Это впоследствии проявилось в целом ряде случаев, о которых я скажу в свое время.
В самые первые дни вопрос о судьбе отрекшегося императора оставался совершенно неопределенным. Как известно, немедленно после своего отречения Николай II уехал в ставку. Вр. Правительство сначала отнеслось к этому обстоятельству как-то индиф-ферентно. Ни в субботу, ни в воскресенье, ни в понедельник не заходила речь в заседаниях, где я присутствовал, о необходимости принять какие-либо меры. Возможно, конечно, что вопрос этот уже тогда обсуждался в частных совещаниях. Во всяком случае, для меня было большою неожиданностью, когда во вторник 7 марта я был приглашен в служебный кабинет князя Львова, в Министерстве Внутрен. Дел, где я нашел кроме членов Вр. Правительства еще и членов Госуд. Думы Вершинина, Грибунина и – кажется – Калинина, причем выяснилось, что Вр. Правительство решило лишить Николая II свободы и перевезти его в Царское Село. Императрицу Александру Федоровну также решено было признать лишенной свободы. Мне было поручено редактировать соответствующую телеграмму на имя генерала Алексеева, который в то время был начальником штаба Верховного Главнокомандующего. Это было первым, мною скрепленным, постановлением Врем. Правительства, опубликованным с моей скрепой…
Не подлежит сомнению, что при данных обстоятельствах вопрос о том, что делать с Никола- ем II, представлял очень большие трудности. При более нормальных условиях не было бы, вероятно, препятствий к выезду его из России в Англию, и наши союзнические отношения были бы порукой, что не будут допущены никакие конспиративные попытки к восстановлению Николая II на престоле. Может быть, если бы правительство немедленно, 3-го или 4-го марта, проявило больше находчивости и распоря-дительности, удалось бы получить от Англии согласие на приезд туда Николая, и он был бы тотчас вывезен. Не знаю, были ли предприняты тогда какие-нибудь шаги в этом направлении. Думается, что нет. Отъезд в Ставку осложнил положение, вызвав большое раздражение Исполнительного Комитета совета раб. и солд. депутатов и соответствующую агитацию, результатом которой и явился демонстративный акт Временного Правительства. Ведь в сущности говоря, не было никаких оснований – ни формальных, ни по существу – объявлять Николая II лишенным свободы. Отречение его не было – формально – вынужденным. Подвергать его ответственности за те или иные поступки его, в качестве императора, было бы бессмыслицей и противоречило бы аксиомам государственного права. При таких условиях прави-тельство имело, конечно, право принять меры к обезврежению Николая II, оно могло войти с ним в соглашение об установлении для него определенного местожительства и установить охрану его личности. Вероятно, отъезд в Англию и для самого Николая был бы всего желательнее. Между тем, актом о лишении свободы завязан был узел, который и по настоящее время остался не распутанным.4 Но этого мало. Я лично убежден, что это «битье лежачего» – арест бывшего императора – сыграло свою роль и имело более глубокое влияние в смысле разжигания бунтарских страстей. Он придавал «отречению» характер «низложения», так как никаких мотивов к этому аресту не было указано. Затем пребывание Николая II в Царском Селе, в двух шагах от столицы, от бунтующего Кронштадта, все время волновало и беспокоило Вр. Правительство – не в смысле возможности каких-нибудь попыток реставрационного характера, а наоборот – опасением самосуда, кровавой расправы. Были моменты, когда, под влиянием все усиливающейся бунтарской проповеди, эти опасения становились особенно грозными.
Как бы то ни было, после прибытия Николая II в Царское Село всякий дальнейший путь оказался отрезанным – увезти бывшего императора за границу в ближайшие же дни стало совершенно невозможным. Значительно позже, уже в премьерство Керенского, решено было увезти всю царскую семью в Тобольск, причем эта мера была обставлена очень конспиративно, настолько, что, кажется, о ней даже не все члены Вр. Правительства были осведомлены.
Вечером 7 марта впервые Вр. Правительство заседало, как мною уже было упомянуто, в Мариинском дворце. В первые недели заседания назначались два раза в день – в четыре часа и в девять часов. Фактически дневное заседание начиналось (как и вечернее) с огромным запозданием и продолжалось до восьмого часа. Вечернее заседание заканчивалось всегда глубокой ночью. Обычно во второй своей части оно бывало закрытым, т. е. удалялась канцелярия, – я оставался один.
Здесь уместно сказать о внешнем ходе тех заседаний Вр. Правительства, коих я был свидетелем в течение первых двух месяцев революции.
Как я сейчас сказал, заседания неизменно начинались с очень большим запаздыванием. Я дожидался начала в своем служебном кабинете, занятый какой-нибудь работой или приемом ежедневных многочисленных посетителей. Мне приходили сказать, когда набиралось достаточное количество министров для открытия заседания. Аккуратнее других был князь Львов, также И. В. Годнев (государственный контролер) и Мануилов. Иногда заседания начинались при очень небольшом кворуме министров, имевших спешные дела не крупного значения. Эти дела тут же докладывались ими и получали разрешение. Не сразу удалось добиться установления определенной повестки и того, чтобы дела, подлежащие докладу, сообщались заранее Управляющему делами. В первых заседаниях, которые велись очень хаотично, министры докладывали дела, причем то или другое решение записывалось очень приблизительно. Я добился того, что, как общее правило, каждое представление, вносимое Вр. Правительству, заканчивалось проектом постановления, который, разумеется, мог подвергаться изменениям в зависимости от хода и исхода суждений. Что касается суждений, происходивших в заседаниях, то сразу решено было их формально не записывать, а также не отмечать разногласий при голосованиях, не вносить особых мнений в журнал и т. д. Исходной точкой при этом было стремление избегнуть всего того, что могло нарушить единство правительства и ответственность его в целом за каждое принятое решение. Ведение подробного протокола каждого заседания представляло бы, кроме того, и ряд существенных затруднений, трудно преодолимых. Члены Вр. Правительства склонны были – особенно в начале – с некоторой подозрительностью и недоверием относиться к присутствию в заседаниях чинов канцелярии. Подробное записывание всего того, что говорилось, вызвало бы протест, требование проверки, и, в конце концов, при массе вопросов, рассматриваемых в каждом заседании, ни один журнал не был бы закончен. Нужно, впрочем, сказать, что за редкими исключениями суждения, происходившие в открытых заседаниях, не представляли большого интереса. Министры приходили в заседание всегда до последней степени утомленные. Работа каждого из них, конечно, превышала нормальные человеческие силы. В заседаниях часто рассматривались очень специальные вопросы, чуждые большинству, и министры часто полудремали, чуть-чуть прислушиваясь к докладу. Оживление и страстные речи начинались только в закрытых заседаниях, а также в заседаниях с «контактной комиссией» Исполнительного Комитета рабочих и солдатских депутатов.
Здесь мое положение было особенно тягостным и здесь я сразу почувствовал, что роль моя существенно разнится от той, которую я себе представлял, идя на сравнительно второстепенный пост управляющего делами. Дело заключается в следующем.
В составе Вр. Правительства у меня были друзья – личные и политические, – были случайные знакомые, были, наконец, люди, с которыми я встретился впервые. К первым я относил: Милюкова, Шингарева, Некрасова, Мануилова, отчасти кн. Львова. Ко вторым – Керенского, Гучкова, Терещенко. К третьим – Коновалова, В. Н. Львова, И. В. Годнева. Из второй группы лучше других я знал М. И. Терещенко, причем, однако, это знакомство было чисто светское. Я сохранил о нем представление как о блестящем молодом человеке, очень приятном в обращении, меломане и театрале, чиновнике особых поручений при Теляковском. Скачок к министру финансов Вр. Правительства был, конечно, очень велик, и мне трудно было сочетать новую роль Терещенка со старым моим представлением о нем. Но вместе с тем, у меня не было никаких оснований ожидать от него какого-либо иного отношения, кроме полного дружелюбия. Гучкова я знал со времени общеземских съездов 1905 года. Он сразу отнесся ко мне с полным доверием и предупредительностью. То же самое приходится мне сказать и о трех лицах третьей группы. Для меня нет сомнений, что, не будь в составе правительства Керенского, я бы чувствовал себя в среде Вр. Правительства совершенно свободно, не обрек бы себя на молчание, на ту роль пассивного слушателя и свидетеля, которая в конце концов стала для меня совершенно невыносимой.
В связи с этим мне хотелось бы здесь свести мои впечатления как о Керенском, так и о других. Я не собираюсь давать им исчерпывающую характеристику: для этого у меня, прежде всего, нет достаточно материала. Но как-никак я встречался со всеми этими людьми ежедневно в течение двух месяцев; я видел их в очень важные и ответственные минуты, я мог пристально наблюдать их, а потому, полагаю, даже и отрывочные мои впечатления не лишены некоторого интереса и могут со временем, когда эти мои заметки, в том или другом виде, будут использованы, войти в общую массу исторических материалов о русской революции 1917 года и ее деятелях.
A tout seigneur tout honneur. Начну с Керенского.
Прошло семь месяцев с тех пор, как я в последний раз видел Керенского, но мне не стоит никакого труда вызвать в памяти его внешний облик. Я впервые с ним познакомился лет восемь тому назад. Наши встречи были совершенно мимолетные, случайные: на Невском, на какой-нибудь панихиде и т. п. Мне про него говорили (еще до избрания его в Госуд. Думу), что это человек даровитый, но не крупного калибра. Его внешний вид – некоторая франтоватость, бритое актерское лицо, почти постоянно прищуренные глаза, неприятная улыбка, как-то особенно открыто обнажавшая верхний ряд зубов, – все это вместе взятое мало привлекало. Во всяком случае, ни в нем самом, ни в том, что приходилось о нем слышать, не только не было ничего, дающего хотя бы отдаленную возможность предполагать будущую его роль, но вообще не было никаких данных, останавливающих внимание. Один из многих политических защитников, далеко не первого разряда. В большой публике его стали замечать только со времени его выступлений в Госуд. Думе. Там он в силу партийных условий фактически оказался в первых рядах и, так как он во всяком случае был головою выше той серой компании, которая его в Думе окружала, – так как он был недурным оратором, порою даже очень ярким, а поводов к ответственным выступлениям было сколько угодно, то естественно, что за четыре года его стали узнавать и замечать. При всем том настоящего, большого, общепризнанного успеха он никогда не имел. Никому бы не пришло в голову поставить его, как оратора, рядом с Маклаковым или Родичевым, или сравнить его авторитет, как парламентария, с авторитетом Милюкова или Шингарева. Партия его в четвертой Думе была незначительной и мало-влиятельной. Позиция его по вопросу о войне была, в сущности, чисто циммервальдской. Все это далеко не способствовало образованию вокруг его имени какого-либо ореола. Он это чувствовал и, так как самолюбие его – огромное и болезненное, а самомнение – такое же, то естественно, в нем очень прочно укоренились такие чувства к своим выдающимся политическим противникам, с которыми довольно мудрено было совместить стремление к искреннему и единодушному сотрудничеству. Я могу удостоверить, что Милюков был его bete noire в полном смысле слова. Он не пропускал случая отозваться о нем с недобро-желательством, иронией, иногда с настоящей ненавистью. При всей болезненной гипертрофии своего самомнения он не мог не сознавать, что между ним и Милюковым – дистанция огромного размера. Милюков вообще был несоизмерим с прочими своими товарищами по кабинету, как умственная сила, как человек огромных, почти неисчерпаемых знаний и широкого ума. Я ниже постараюсь определить, в чем были недостатки его, по моему мнению, как политического деятеля. Но он имел одно огромное преимущество: позиция его по основному вопросу – тому вопросу, от решения которого зависел весь ход революции, вопросу о войне – позиция эта была совершенно ясна и определенна, и последовательна, тогда как позиция «заложника демократии» была и двусмысленной, и недоговоренной, и, по существу, ложной. В Милюкове не было никогда ни тени мелочности, тщеславия, – вообще личные его чувства и отношения в ничтожнейшей степени отражались на его политическом поведении; оно ими никогда не определялось. Совсем наоборот у Керенского. Он весь был соткан из личных импульсов.
Трудно даже себе представить, как должна была отразиться на психике Керенского та головокружительная высота, на которую он был вознесен в первые недели и месяцы революции. В душе своей он все-таки не мог не сознавать, что все это преклонение, идолизация его, – не что иное, как психоз толпы, – что за ним, Керенским, нет таких заслуг и умственных или нравственных качеств, которые бы оправдывали такое истерически-восторженное отношение. Но несомненно, что с первых же дней душа его была «ушиблена» той ролью, которую история ему – случайному, маленькому человеку – навязала, и в которой ему суждено было так бесславно и бесследно провалиться.
Я сейчас сказал, что в «идолизации» Керенского проявился какой-то психоз русского общества. Это, может быть, слишком мягко сказано. Ведь в самом деле нельзя же было не спросить себя, каков политический багаж того, в ком решили признать «героя революции», что имеется в его активе? С этой точки зрения любопытно теперь, когда «облетели цветы, догорели огни», перечитать в газетной передаче faits et gestes Керенского за 8 месяцев, его речи, его интервью… Если он действительно был героем первых месяцев революции, то этим самым произнесен достаточно веский приговор этой революции.
С упомянутым сейчас болезненным тщеславием в Керенском соединялось еще одно неприятное свойство: актерство, любовь к позе и, вместе с тем, ко всякой пышности и помпе. Актерство его, я помню, проявлялось даже в тесном кругу Вр. Правительства, где, казалось бы, оно было особенно бесполезно и нелепо, так как все друг друга хорошо знали и обмануть не могли. Один из эпизодов такого актерства – столкновение с Милюковым по поводу заявления этого последнего о роли немецких денег в русской революции – рассказан выше.
Те, кто были на так называемом Государственном Совещании в большом Московском театре в августе 1917 года, конечно, не забыли выступлений Керенского – первого, которым началось совещание, и последнего, которым оно закончилось. На тех, кто здесь видел или слышал его впервые, он произвел удручающее и отталкивающее впечатление. То, что он говорил, не было спокойной и веской речью государственного человека, а сплошным истерическим воплем психопата, обуянного манией величия. Чувствовалось напряженное, доведенное до последней степени желание произвести впечатление, импо-нировать. Во второй – заключительной – речи он, по-видимому, совершенно потерял самообладание и наговорил такой чепухи, которую пришлось тщательно вытравлять из стенограммы. До самого конца он совершенно не отдавал себе отчета в положении. За четыре-пять дней до октябрьского большевистского восстания, в одно из наших свиданий в Зимнем дворце, я его прямо спросил, как он относится к возможности большевистского выступ-ления, о котором тогда все говорили. «Я был бы готов отслужить молебен, чтобы такое выступление произошло», – ответил он мне. «А уверены ли Вы, что сможете с ним справиться?». «У меня больше сил, чем нужно. Они будут раздавлены окончательно».
Единственная страница из всей печальной истории пребывания Керенского у власти, дающая возможность смягчить общее суждение о нем, это его роль в деле последнего нашего наступления (18 июня). В своей речи на московском совещании я указал на эту роль в выражениях, быть может, даже преувеличенных. Но несомненно, что в этом случае в Керенском проявилось подлинное горение, блеснул патриотический энтузиазм, – увы, слишком поздно…
Чрезвычайно любопытно было отношение Керенского к Исполнительному Комитету Совета раб. и солд. депутатов. Он искренно считал, что Вр. Правительство обладает верховной властью и что Исполнительный Комитет не вправе вмешиваться в его деятельность. Он относился с враждой и презрением к Стеклову-Нахамкису, который в течение первого месяца был porte-parole Исполнительного Комитета в заседаниях Вр. Правительства и контактной комиссии. Нередко после конца заседания и в a parte во время заседания он негодовал на слишком большую мягкость кн. Львова в обращении со Стекловым. Но сам он решительно избегал полемики с ним, ни разу не попытался отстоять позицию Вр. Правительства. Он все как-то лавировал, все как-то хотел сохранить какое-то особенное положение «заложника демократии» – положение фальшивое по существу и ставившее Вр. Правительство нередко в очень большое затруднение.
Мои личные отношения с Керенским пережили несколько стадий. В самом начале, при моем вступлении в должность управляющего делами, он чувствовал ко мне большое недоверие. Ему, по-видимому, казалось, что я усиливаю чисто кадетский элемент во Вр. Правительстве, и он старался мне помешать играть какую-либо политическую роль. Я отлично сознавал, что всякая попытка с моей стороны принять участие в обсуждении того или другого вопроса, хотя бы в закрытых заседаниях Вр. Правительства, вызовет резкий протест со стороны Керенского (во имя прерогатив Вр. Правительства) и поставит меня в крайне неудобное положение. В сущности говоря, именно благодаря присутствию Керенского, моя роль оказалась настолько несо-ответствующей тому, что я ожидал, что на первых же порах у меня возник вопрос, оставаться ли мне на моем посту? И если я на этот вопрос не ответил сразу отрицательно и ушел только тогда, когда произошел первый кризис и состав Вр. Правительства, с уходом Милюкова (и Гучкова), пополнился Черновым, Церетели, Скобелевым и Пешехоновым, то поступил я так исключительно в интересах дела, которое хотел оставить вполне налаженным и устроенным. Впоследствии, когда Керенский убедился, что я не питаю никаких личных замыслов, он изменил свое отношение. Это выразилось не только в сделанных мне предложениях занять министерский пост, но и во всем характере личного обращения. Наконец, в самое последнее время Керенский пытался через меня влиять на партию народной свободы и получить ее поддержку в Совете российской республики. Об этом я скажу ниже.
После всего сказанного едва ли кто заподозрит меня в пристрастии, если я все-таки не могу присоединиться к тому потоку хулы и анафематствования, которым теперь сопровождается всякое упоминание имени Керенского. Я не стану отрицать, что он сыграл поистине роковую роль в истории русской революции, но произошло это потому, что бездарная, бессознательная бунтарская стихия случайно вознесла на неподходящую высоту недостаточно сильную личность. Худшее, что можно сказать о Керенском, касается оценки основных свойств его ума и характера. Но о нем можно повторить те слова, которые он недавно – с таким изумительным отсутствием нравственного чутья и элементарного такта – произнес по адресу Корнилова. «По-своему» он любил родину, – он в самом деле горел революционным пафосом, – и бывали случаи, когда из-под маски актера пробивалось подлинное чувство. Вспомним его речь о взбунто-вавшихся рабах, его вопль отчаяния, когда он почуял ту пропасть, в которую влечет Россию разнузданная демагогия. Конечно, здесь не чувствовалось ни подлинной силы, ни ясных велений разума, но был какой-то искренний, хотя и бесплодный, порыв. Керенский был в плену у своих бездарных друзей, у своего прошлого. Он органически не мог действовать прямо и смело и, при всем его самомнении и самолюбии, у него не было той спокойной и непреклонной уверенности, которая свойственна действительно сильным людям. «Героического» в смысле Карлейля в нем не было решительно ничего. Самое черное пятно в его кратковременной карьере – это история его отношений с Корниловым, но о ней я говорить не буду, так как знаю только то, что общеизвестно.
К Керенскому мне придется еще не раз вернуться на протяжении моего рассказа. Покамест ограничиваюсь написанным и перехожу к другому лицу, на которое вся Россия возлагала такие колоссальные ожидания и которых он не оправдал.
Я знал кн. Г. Е. Львова со времени 1-ой Думы. Хотя он числился в рядах партии народной свободы, но я не помню, чтобы он принимал сколько-нибудь деятельное участие в партийной жизни, в заседаниях фракции или центрального комитета. Думаю, я не погрешу против истины, если скажу, что у него была репутация чистейшего и порядочнейшего человека, но не выдающейся политической силы. Он, после роспуска 1-ой Думы, также был в Выборге, но не принимал участия в совещаниях и не подписал воззвания. Я помню, что он остановился в тех же номерах, в которых жил я и Д. Д. Протопопов, тотчас по приезде заболел и не выходил из номера до отъезда из Выборга. Протопопов приписывал болезнь тому волнению, в котором он находился. Подобно многим из нас, он в душе не сочувствовал воззванию, не верил в него, считал его ошибкой, но сознавал свое бессилие воспрепятствовать ему, не имея никакого другого приемлемого и яркого плана действий. Помню его бледное расстроенное лицо, его беспомощную фигуру. С тех пор я его 11 лет не встречал. Как и все, я считал его отличным организатором, возлагал большие упования на его огромную популярность в земской России и в армии. Выше я уже упомянул о впечатлении, произведенном на меня первой встречей с кн. Львовым в Таврическом дворце, в день конституирования Вр. Правительства. Я бы сказал, что это впечатление было пророческое. Правда, в ближайшие дни кн. Львов внешне преобразился, загорелся какой-то лихорадочной энергией и, как мне казалось, – по крайней мере в первое время, – какой-то верой в возможность устроить Россию.
Задача министра-председателя в первом Вр. Правительстве была действительно очень трудна. Она требовала величайшего такта, уменья подчинять себе людей, объединять их, руководить ими. И, прежде всего, она требовала строго определенного, систематически осуществляемого плана. В первые дни после переворота авторитет Вр. Правительства и самого Львова стоял очень высоко. Надо было воспользоваться этим обстоятельством, прежде всего, для укрепления и усиления власти. Надо было понять, что все разлагающие силы наготове начать свою разрушительную работу, пользуясь тем колоссальным переворотом в психологии масс, которым не мог не сопровождаться политический переворот, так совершенный и так развернувшийся. Надо было уметь найти энергичных и авторитетных сотрудников и либо самому отдаться всецело Министерству Внутренних Дел, либо – раз оказывалось невозможным по-настоящему совмещать обязанности министра внутренних дел с ролью премьера, – найти для первой должности настоящего заместителя.
Я не хочу сказать ничего пренебрежительного, – а тем паче – дурного о Д. М. Щепкине или о кн. С. Д. Урусове, но я думаю, что от них трудно было ожидать того, чего не мог дать сам кн. Львов. Щепкин – добросовестнейший и трудолюбивейший работник, прекрасный человек, полный энергии и bonne volonte. Но он не мог импонировать ни опытом, ни общественным авторитетом, ни личной своей индивидуальностью, – сам это прекрасно сознавал и в самостоятельных действиях был парализован этим сознанием. Князь Урусов, видимо, совершенно растерялся в новой обстановке, плохо ориентировался, чувствовал себя совершенно не на месте. Как-никак вся его бюрократическая карьера протекла в условиях, радикально противоположных тем, в которых он очутился. И он прошел какой-то бледной тенью, тоже одушевленной самыми лучшими намерениями, но бессильной их осуществить. И он смог бы быть помощником и исполнителем, но нельзя было от него ожидать решимости, инициативы, творчества.
То обстоятельство, что Министерство Внутренних дел – другими словами, все управление, вся полиция – осталось совершенно неорганизованным, сыграло очень большую роль в общем процессе разложения России. В первое время была какая-то странная вера, что все как-то само собою образуется и пойдет правильным, организованным путем. Подобно тому, как идеализировали революцию («великая», «бескров-ная»), идеализировали и население. Имели, например, наивность думать, что огромная столица, со своими подонками, со всегда готовыми к выступлению порочными и преступными элементами, может существовать без полиции, или же с такими безобразными и нелепыми суррогатами, как импровизированная, щедро оплачиваемая милиция, в которую записывались профессиональные воры и беглые арестанты. Всероссийский поход против городовых и жандармов очень быстро привел к своему естественному последствию. Аппарат, хоть кое-как, хоть слабо, но все же работавший, был разбит вдребезги. Городовые и жандармы во множестве пошли на пополнение большевистских рядов. И постепенно в Петербурге и в Москве начала развиваться анархия. Рост ее сразу страшно увеличился после большевистского переворота. Но сам переворот стал возможным и таким удобоисполнимым только потому, что исчезло сознание существования власти, готовой решительно отстаивать и охранять граж-данский порядок.
Было бы, конечно, в высшей степени неспра-ведливо возлагать всю ответственность за совершив-шееся на кн. Львова. Но одно должно сказать, как бы сурово ни звучал такой приговор: кн. Львов не только не сделал, но даже не попытался сделать что-нибудь для противодействия все растущему разложению. Он сидел на козлах, но даже не пробовал собрать вожжи. Сколько я пережил мучительных заседаний, в которых с какою-то неумолимой ясностью выступали наружу все бессилие Временного Правительства, разного-лосица, внутренняя несогласованность, глухая и явная вражда одних к другим, и я не помню ни одного случая, когда бы раздался со стороны министра-председателя властный призыв, когда бы он высказался решительно и определенно. При всем том кн. Львов был осаждаем буквально с утра до вечера. Беспрерывно несся поток срочных телеграмм со всех концов России с требованиями указаний, разъяснений, немедленного осуществления безотлагательных мер. К Львову обращались по всевозможным поводам, серьезным и пустым, – как к главе правительства и как к министру внутренних дел, – беспрерывно вызывали его по телефону, приезжали к нему в министерство и в Мариинский дворец. Первоначально я пытался установить час для ежедневного своего доклада и получения всех нужных указаний, но очень скоро убедился, что эти попытки совершенно тщетны, а в редких случаях, когда их удавалось осуществлять, они оказывались и совершенно бесполезными. Никогда не случалось получить от него твердого, определенного решения, – скорее всего он склонен бывал согласиться с тем решением, которое ему предлагали. Я бы сказал, что он был воплощением пассивности. Не знаю, было ли это сознательной политикой или результатом ощущения своего бессилия, но казалось иногда, что у Львова какая-то мистическая вера, что все образуется как-то само собой. А в иные моменты мне казалось, что у него совершенно безнадежное отношение к событиям, что он весь проникнут сознанием невозможности повлиять на их ход, что им владеет фатализм и что он только для внешности продолжает играть ту роль, которая – помимо всякого с его стороны желания и стремления – выпала на его долю.
В избрании Львова для занятия должности министра-председателя – и в отстранении Родзянко – деятельную роль сыграл Милюков и мне пришлось впоследствии слышать от П. Н., что он нередко ставил себе мучительный вопрос, не было бы лучше, если бы Львова оставили в покое и поставили Родзянко, человека, во всяком случае, способного действовать решительно и смело, имеющего свое мнение и умеющего на нем настаивать.
Тяжелое впечатление производило на меня и отношение кн. Львова к Керенскому. Мои помощники по канцелярии нередко им возмущались, усматривая в нем недостаточное сознание своего достоинства как главы правительства. Часто было похоже на какое-то робкое заискивание. Конечно, здесь не было никаких личных мотивов. У кн. Львова абсолютно они отсутствовали, он чужд был честолюбия и никогда не цеплялся за власть. Я думаю, он был глубоко счастлив в тот день, когда освободился от ее бремени. Тем удивительнее, что он не умел использовать тот нравственный авторитет, с которым он пришел к власти. Тоном власть имеющего говорил во Вр. Правительстве не он, а Керенский…
В естественной последовательности мне прихо-дится теперь говорить о Гучкове, – но это мне всего труднее.
Прежде всего, я очень мало мог наблюдать Гучкова в составе Вр. Правительства. Значительную часть времени он отсутствовал, занятый поездками на фронт и в Ставку. Потом – в середине апреля – он хворал. Но главное: во все время его пребывания в должности военного и морского министра он был для внешнего наблюдения почти непроницаем. Теперь, оглядываясь назад на это безумное время, я склонен думать, что Гучков с самого начала в глубине души считал дело проигранным и оставался только par acquit de conscience. Во всяком случае, ни у кого не звучала с такой силой, как у него, нота глубочайшего разочарования и скептицизма, поскольку вопрос шел об армии и флоте. Когда он начинал говорить своим негромким и мягким голосом, смотря куда-то в пространство слегка косыми глазами, меня охватывала жуть, сознание какой-то полной безнадежности. Все казалось обреченным.
Первое заседание, всецело посвященное вопросу о положении на фронте, было, должно быть, 7 марта, вечером того дня, когда заседания Вр. Правительства были перенесены в Мариинский дворец. Я могу восстановить эту дату потому, что в этом заседании решено было составить то воззвание к армии и к населению, которое появилось 10 марта. Оно было поручено мне, написано мною на другой день, 8-го, обсуждалось в данном заседании 9-го и было принято почти без изменений. (Почему-то оно не помещено в изданном Государственной Канцелярией сборнике и сохранилось только в Вестнике Вр. Правительства и в газетах.) Я помню, что в этом заседании сказались две точки зрения на значение происшедших событий для военных наших операций. Одна была та, которая официально высказывалась в речах и сообщениях: согласно этой точке зрения, устанавливалась причинная связь между плохим ведением войны царским правительством и революцией. В революции как бы концентрировался взрыв протеста против бездарного, неумелого, изменнического (Штюрмер!) поведения этого царского правительства. Революция должна была все это изменить, она должна была создать более полную, более искреннюю и потому более плодотворную связь между нами и великими европейскими демократиями, нашими союзниками. С этой точки зрения революция могла рассматриваться как положительный фактор в деле ведения войны. Предполагалось, что командный состав будет обновлен, что найдутся даровитые и энергичные генералы, что дисциплина быстро восстановится. Должен с грустью сказать, что наши партийные взгляды все время стремились поддерживать этот официальный оптимизм. У некоторых, как, например, у А. И. Шингарева, он сохранился до очень позднего времени – до осени 1917 г. Я считаю, что неправильное понимание того значения, которое война имела в качестве фактора революции, и нежелание считаться со всеми последствиями, которые революция должна была иметь в отношении войны, – и то и другое сыграло роковую роль в истории событий 1917 года. Я припоминаю, как в одну из моих поездок куда-то в автомобиле вместе с Милюковым я ему высказал (это было еще в бытность его министром иностранных дел) свое убеждение, что одной из основных причин революции было утомление войной и нежелание ее продолжать. Милюков с этим решительно не соглашался. По существу же он выразился так: «кто его знает, может быть, благодаря войне все у нас еще кое-как держится, а без войны скорее бы все рассыпалось». Конечно, от одного сознания, что война разлагает Россию, было бы не легче. Ни один мудрец ни тогда, ни позже не нашел бы способа закончить ее без колоссального ущерба – морального и материального – для России. Но если бы в первые же недели было ясно осознано, что для России война безнадежно кончена и что все попытки продолжать ее ни к чему не приведут, – была бы по этому основному вопросу другая ориентация и – кто знает? – катастрофу, быть может, удалось бы предотвратить. Я не хочу этим сказать, что один только факт революции разложил армию, и менее, чем кто-либо, я склонен преуменьшать гибельное значение той преступной и предательской пропаганды, которая сразу же началась. Менее, чем кто-либо, я склонен оправдывать, в отношении этой пропаганды, дряблость и равнодушие Вр. Правительства. Но все же я глубоко убежден, что сколько-нибудь успешное ведение войны было просто несовместимо с теми задачами, которые революция поставила внутри страны, и с теми условиями, в которых эти задачи приходилось осуществлять. Мне кажется, что и у Гучкова было это сознание. Я помню, что его речь в заседании 7 марта, вся построенная на тему «не до жиру, быть бы живу», дышала такой безнадежностью, что на вопрос, по окончании заседания, «какое у вас мнение по этому вопросу?», я ему ответил, что, по-моему, если его оценка положения правильна, то из нее нет другого выхода, кроме необходимости сепаратного мира с Германией. Гучков с этим, правда, не соглашался, но опровергнуть такой вывод он не мог. В этот же памятный вечер он предложил мне, после заседания, поехать с ним на квартиру военного министра (которую он в то время уже занял) и присутствовать при разговоре его по прямому проводу с ген. Алексеевым. «Посмотрим, что он нам скажет?» Сообщения ген. Алексеева были в высшей степени мрачны. В том колоссальном сумбуре, который создался в первые же дни революции, он сразу распознал элементы грядущего разложения и огромную опасность, грозившую армии. Гучков сообщил ему предполагаемое содержание воззвания и спросил его, полагает ли он, что такое воззвание будет полезно. Алексеев ответил утвердительно. Кстати скажу, что почти одновременно с составленным мною воззванием появилось аналогичное, написанное в военном министерстве, а также приказ по войскам. Все они развивали те же мысли, и все остались совершенно бесплодными.
Гучков – и это характерно – первый из среды Вр. Правительства пришел к убеждению, что работа Вр. Правительства безнадежна и бесполезна, и что «нужно уходить». На эту тему он неоднократно говорил во второй половине апреля. Он все требовал, чтобы Вр. Правительство сложило свои полномочия, написав себе самому некую эпитафию с диагнозом положения и прогнозом будущего. Известная декларация Вр. Правительства от 23 апреля (о которой я впоследствии буду еще говорить) ведет свое происхождение от этих разговоров. «Мы должны дать отчет, что нами сделано, и почему мы дальше работать не можем, – написать своего рода политическое завещание». Декларация 23 апреля оказалась, однако, в иных тонах и с иными выводами. Я думаю, что она была той последней каплей, которая переполнила чашу и вызвала решение Гучкова уйти из состава Правительства.
За те два месяца, в течение которых Гучков занимал должность военного министра, роль его во Вр. Правительстве оставалась неясною. В заседаниях, как я уже сказал, он бывал редко. Высказывался еще реже. В возникавших конфликтах он старался вносить ноту примирения, но в том памятном столкновении между Керенским и Милюковым по вопросу о целях войны и задачах внешней политики он как-то остался в тени, не оказал поддержки ни той, ни другой стороне. Да и вообще, он как будто умышленно уходил в эту тень. Его уход из состава Вр. Правительства был неожиданностью. Помню, что Некрасов назвал этот уход – «ударом в спину». Но сам Гучков решительно доказывал, что кн. Львов должен был ждать отставки военного министра, что он, Гучков, о ней категорически предупреждал.
В составе Вр. Правительства чрезвычайно характерной фигурой был И. В. Годнев – госу-дарственный контролер. Я его совершенно не знал, даже в лицо, и впервые с ним встретился в заседаниях Вр. Правительства. Постоянно встречая его фамилию в думских отчетах в связи с разного рода юридическими вопросами и спорами по толкованию закона, я составил себе представление о нем, как о знатоке нашего права, как о человеке, хотя, быть может, и не получившем юридического специального образования, но приобретшем соответствующие познания на практике и умеющем ориентироваться в юридических вопросах. Кроме того, я полагал, что Годнев – одна из крупных политических фигур Государственной Думы. Хорошо помню мое впечатление от первого знакомства с Годневым. На нем самом, на всей его повадке и, конечно, всего более на тех приемах, с какими он подходил к тому или другому политическому или юридическому вопросу, лежала печать самой простодушной обывательщины, глубочайшего провинциализма, что-то в высшей степени наивное и ограниченное. В его преклонении пред началом законности было нечто почтенное и даже трогательное, но так как он был совершенно неспособен разобраться в постоянных столкновениях нового порядка с неотмененными правилами основных законов, то на каждом шагу он попадал в тупик, испытывал мучительное недоумение, искренне волновался. Как политическая величина, он держался совершенно пассивно; и так же волновался во всех случаях, когда в среде правительства происходили какие-нибудь резкие пререкания и несогласия. Человек безусловно чистый, исполненный самых лучших намерений и заслуживающий самого нелицемерного уважения, он был – в среде Вр. Правительства – воплощенным недоразумением и, по-видимому, оставался на своем месте только по инерции и потому, что на это место не было желательных кандидатов. Как только выяснилась кандидатура Кокошкина (в июле), Годнев, безропотно сидевший с Церетели и Скобелевым, так же безропотно и, наверное, с облегченным сердцем передал Кокошкину свою должность.
Обер-прокурор Свят. Синода В. Н. Львов так же, как и Годнев, был одушевлен самыми лучшими намерениями и так же поражал своей наивностью да еще каким-то невероятно легкомысленным отноше-нием к делу, – не к своему специальному делу, а к общему положению, к тем задачам, которые действительность каждый день ставила перед Вр. Правительством. Он выступал всегда с большим жаром и одушевлением и вызывал неизменно самое веселое настроение не только в среде правительства, но даже у чинов канцелярии.
Говоря о В. Н. Львове, я не могу здесь же не записать эпизода, случившегося гораздо позднее, но имеющего тесную связь с характеристикой Львова.
Это было в двадцатых числах августа (1917 года), во вторник на той неделе, в конце которой Корнилов подступил к Петербургу. Утром ко мне позвонил Львов и сказал мне, что у него есть важное и срочное дело, по которому он пытался переговорить с Милюковым, как председателем Центрального Комитета, и с Винавером, как товарищем председателя, но ни того, ни другого ему не удалось добиться (кажется, они были в отъезде), и потому он обращается ко мне и просит назначить время, когда бы он мог со мной повидаться. Мы условились, что он будет у меня в шесть часов вечера. Я несколько запоздал возвращением домой и, когда пришел, застал Львова у себя в кабинете. У него был таинственный вид, очень значительный. Не говоря ни слова, он протянул мне бумажку, на которой было написано приблизительно следующее (списать я текста не мог, но помню очень отчетливо): «Тот генерал, который был Вашим визави за столом, просит Вас предупредить министров к. д., чтобы они такого-то августа (указана была дата, в которую произошло выступление Корнилова, пять дней спустя; кажется, 28 августа; сейчас я не могу точно ее восстановить, но по газетам это нетрудно сделать) подали в отставку, в целях создания правительству новых затруднений и в интересах собственной безопасности». Это было несколько строк посредине страницы, без подписи. Не понимая ничего, я спросил Львова, что значит эта энигма и что требуется, собственно говоря, от меня? «Только довести об этом до сведения министров к. д.». «Но, – сказал я, – едва ли такие анонимные указания и предупреждения будут иметь какое бы то ни было значение в их глазах». «Не расспрашивайте меня, я не имею права ничего добавить». «Но тогда, повторяю, я не вижу, какое практическое употребление я могу сделать из Вашего сообщения». После некоторых загадочных фраз и недомолвок Львов наконец заявил, что будет говорить откровенно, но берет с меня слово, что сказанное останется между нами, «иначе меня самого могут арестовать». Я ответил, что хочу оставить за собою право передать то, что узнаю от Львова, Милюкову и Кокошкину, на что он тотчас же согласился. Затем он мне сказал следующее: «От Вас я еду к Керенскому и везу ему ультиматум: готовится переворот, выработана программа для новой власти с диктаторскими полномочиями. Керенскому будет предложено принять эту программу. Если он откажется, то с ним произойдет окончательный разрыв, и тогда мне, как человеку, близкому к Керенскому и расположенному к нему, останется только позаботиться о спасении его жизни». На дальнейшие мои вопросы, имевшие целью более определенно выяснить, в чем же дело, Львов упорно отмалчивался, заявляя, что он и так уже слишком много сказал. Насколько я помню, имя Корнилова не было произнесено, но несомненно сказано, что ультиматум исходит из Ставки. На этом разговор закончился, и Львов поехал к Керенскому. Насколько можно судить из тех сведений, которые впоследствии были опубликованы, Львов в этом первом разговоре с Керенским совсем не выполнил того плана, о котором он мне сообщал. Он не ставил никаких ультиматумов (это было сделано в конце недели, после того как Львов съездил в Москву и снова вернулся), а просто говорил о каких-то положениях и требованиях, исходящих от каких-то общественных групп. Так, по крайней мере, передавал разговор сам Керенский, и Львов этого не опроверг. Я, к сожалению, не имел потом случая встретиться со Львовым, и весь инцидент до настоящего времени остался для меня недостаточно разъясненным. Но одно для меня несомненно. Или Львов по дороге в Зимний дворец резко изменил свои намерения, или – Керенский уже пять дней знал о том, что готовится. Я лично склонен скорее ко второму предположению. К сожалению, в то время, когда я пишу эти строки,5 я еще не знаком с книгой Керенского, в которой он излагает свои показания по делу Корнилова, разукрашивая их разными позднейшими добавлениями. Но если действительно столь ответственные поручения были даны такому человеку, как В. Н. Львов, то это только свидетельствует о том, что инициаторы переворота очень плохо разбирались в людях и действовали крайне легкомысленно… Милюков впоследствии выра-жал предположение, что Львов «жестоко напутал» во всей этой истории. Повторяю, она осталась для меня загадочной. Должен еще прибавить, что о разговоре моем я в тот же вечер сообщил Кокошкину, а также другим нашим министрам (Ольденбургу и Карташову), с которыми виделся почти ежедневно в квартире А. Г. Хрущева. Помню, что я просил их обратить внимание на поведение Керенского в вечернем заседании. Впоследствии они мне сообщили, что Керенский держался как всегда, никакой разницы.
К характеристике В. Н. Львова еще добавлю: когда Милюков в двух заседаниях познакомил Вр. Правительство с нашими «тайными» договорами, ничего не могло быть искреннее, непосредственнее и наивнее негодования Львова. Он характеризовал эти договоры, как разбойничьи и мошенничьи и, кажется, высказывался за немедленный отказ от них. В особенности возмущался он Италией и теми «аннексиями» (тогда еще это слово не стало крылатым), которые она себе выговорила. С такой же непосредственностью он говорил об «идиотах и мерзавцах», заседающих в Синоде. Доклады его бывали проникнуты каким-то почти комическим отчаянием. Несомненно, В. Н. Львов имел не одну положи-тельную черту: он не был политическим интриганом, он всею душою отдавался той задаче, которую себе поставил: оздоровление высшего церковного управления. К несчастию, эта задача была ему решительно не по плечу. Так же, как и Годнев, он безропотно уступил свое место, когда оно понадобилось для другого. И несмотря на всю развитую им за пять месяцев пребывания в должности обер-прокурора энергию, я не знаю, оставила ли его деятельность хоть какие-нибудь следы в «ведомстве православного исповедания».
Я уже выше упомянул о том, какой неожиданностью для меня было появление на посту министра финансов М. И. Терещенко. Сперва я даже не хотел верить, что дело идет о том самом блестящем молодом человеке, который несколько лет до того появился на петербургском горизонте, проник в театральные сферы, стал известен, как страстный меломан и покровитель искусства, а с начала войны, благодаря своему колоссальному богатству и связям, сделался видным деятелем в Красном Кресте. Позднее, я знал, он стал во главе Киевского военно-промышленного комитета и на каком-то съезде, бывшем в Петербурге, произнес речь, которую можно характеризовать как речь «кающегося капиталиста». Это было единственным его общественным выступлением, о котором я знал. Я не знал, что он был в довольно, по-видимому, тесных отношениях с Гучковым и с Некрасовым и пользовался расположением Родзянко. До сих пор я точно не знаю, кто выставил его кандидатуру. Я слышал, что он от нее упорно отказывался. В настоящее время о нем сохранилось воспоминание главным образом, как о министре иностранных дел, пробывшем на этом посту в течение шести месяцев, с начала мая по конец октября, когда свергнуто было Вр. Правительство. Как министр финансов он – за два месяца пребывания в этой должности, – кажется, не оставил сколько-нибудь заметного следа. Занят он был главным образом выпуском знаменитого займа свободы. Я помню, что когда ему приходилось докладывать Вр. Правительству, его доклады были всегда очень ясными, не растянутыми, а напротив, сжатыми и прекрасно изложенными. По существу я не берусь судить о его качествах как министра финансов. Он отлично схватывал внешнюю сторону вещей, умел ориентироваться, умел говорить с людьми – и говорить именно то, что должно было быть приятно его собеседнику и соответствовать взглядам последнего. В своей деятельности, как министр иностранных дел, он задался целью следовать политике Милюкова, но так, чтобы Совет рабочих депутатов ему не мешал. Он хотел всех надуть – и одно время это ему удавалось… В сентябре 1917 года социалисты в нем разочаровались и ничего больше от него не ждали, а Суханов-Гиммер на страницах «Новой Жизни» уже значительно раньше начал против него кампанию. В июле и августе он, вместе с Некрасовым и Керенским, составлял триум-вират, направлявший политику Вр. Правительства, – и в этом качестве он несет ответственность за слабость, двуличность, беспринципность и бесплодность этой политики, вечно лавировавшей, вечно искавшей компромисса тогда, когда выход из положения мог заключаться только – в отказе от компромисса, в решительности и определенности. В октябре – главным образом со времени образования «Совета российской республики» – Терещенко демонстративно порвал с социалистами. Я был нечаянным свидетелем его бурного объяснения с Керенским и его настояний, чтобы Вр. Правительство освободило его от портфеля министра иностранных дел, причем он указывал на меня, как на своего преемника. Но все это было слишком поздно. М. И. Терещенко постигла печальная судьба. Он хотел завоевать общие симпатии, общее расположение. Между тем он нигде, решительно ни в каком общественном круге, ни в какой политической группе не пустил прочных корней, никто им не дорожил, никто не ставил его высоко. Се n'etait pas un caractere. Замечательно при этом, что дипломатические представители союзников относились к Терещенко с гораздо большими симпатиями, чем к Милюкову. Его souplesse, самая его светскость, отсутствие у него твердых убеждений, продуманного плана, полный его дилетантизм в вопросах внешней политики, – все это делало из него, при данных обстоятельствах, человека, чрезвычайно удобного для разговоров. А за все время существования Вр. Правительства вся наша международная политика ограничивалась разговорами.
К концу существования Вр. Правительства, после ухода из его состава Н. В. Некрасова, Терещенко воспылал ненавистью к социалистам. Он переменил фронт. Я имею основание думать, что на такую перемену настроения повлияла Корниловская история. Я не знаю, как держался Терещенко в то время, когда развивалась сама история, но его очень потрясло самоубийство Крымова, с которым он был в дружеских отношениях. Травля, поднятая против Корнилова всем «социалистическим фронтом», была для него очень тяжела и неприятна, возмущала его: об этом он мне сам говорил. На этой почве, я думаю, произошло и некоторое охлаждение между ним и Керенским. В то же самое время он до самого конца верил – или хотел верить – в возможность возрождения армии и восстановления фронта. На эту тему я говорил с ним в сентябре или октябре 1917 года. Он категорически утверждал, что Алексеев к весне 1918 года может подготовить новую армию. Когда последний военный министр Временного Правительства, ген. Верховский, прямо заявил в военной комиссии Совета республики, что Россия больше воевать не может, Терещенко реагировал на это заявление очень резко. Его столкновение с Верховским в заседании комиссии было одним из самых памятных эпизодов последних дней жизни Вр. Правительства.
Увы, приходится признать, что по существу Верховский был прав…
Резюмируя свое мнение о Терещенке, я сказал бы, что при всех его выдающихся способностях и несомненной bonne volonte, он не был и не мог быть на высоте политической задачи, выпавшей ему на долю. Роль его была для него столь же не по плечу, как и для большинства прочих министров. Столь же мало, как они, мог он «спасти Россию». А в марте-октябре 1917 года Россию приходилось спасать в самом буквальном смысле слова.
К числу мало знакомых мне членов Вр. Пра-вительства принадлежал, наконец, и А. И. Коновалов – министр торговли и промышленности. Я в первый раз с ним встретился в Таврическом дворце, в первые же дни революции, и наблюдал его в течение тех двух месяцев, что я состоял в должности управляющего делами Вр. Правительства. Затем я его совсем потерял из виду и встретился с ним вторично уже при Вр. Правительстве последней формации, в котором он был заместителем председателя.
Вот человек, о котором я, с точки зрения личной оценки, не мог бы сказать ни одного слова в сколько-нибудь отрицательном смысле. И на посту министра торговли, и позднее, когда – к своему несчастию – он счел долгом патриотизма согласиться на настояния Керенского и вступил вновь в кабинет, – притом в очень ответственной и очень тягостной роли заместителя Керенского, – он неизменно был мучеником, он глубоко страдал. Я думаю, он ни минуты не верил в возможность благополучного выхода из положения. Как министр промышленности, он ближе и яснее видел катастрофический ход нашей хозяйственной разрухи. Впоследствии, как заместитель председателя, он столкнулся со всеми отрицательными сторонами характера Керенского. Вместе с тем Коновалов в октябре 1917 г. уже совершенно отчетливо сознавал, что война для России – кончена. Когда – в это именно время (даже раньше, в сентябре, но уже после образования последнего кабинета) в квартире кн. Григория Николаевича Трубецкого (на Сергиевской, в доме Вейнера, – там, где мы жили в 1906–1907 году, зимой) собралось совещание, в котором участвовали Нератов, бар. Нольде, Родзянко, Савич, Маклаков, М. Стахович, Струве, Третьяков, Коновалов и я (кажется, я перечислил всех; Милюкова не было, он в это время был в Крыму, куда уехал после Корниловской истории), для обсуждения вопроса о том, возможно ли и следует ли ориентировать дальнейшую политику России в сторону всеобщего мира, Коновалов самым решительным образом поддержал точку зрения бар. Нольде, который в подробном, очень глубоком и тонком докладе доказывал необходимость именно такой ориентации. К несчастию, это было все равно уже слишком поздно…
Но это все касается второго периода деятельности Коновалова. В первом составе Вр. Правительства я не помню, чтобы он играл заметную роль. Чаще всего, мне кажется, он жаловался; жаловался на то, что Вр. Правительство не в достаточной степени занято разрухой промышленности, растущей не по дням, а по часам, – разрухой, в виду безмерно растущих требований рабочих. Красноречивым он никогда не был, он говорил чрезвычайно просто и искренно, так сказать, бесхитростно, но мне кажется, что раньше всего в его обращениях к Вр. Правительству зазвучали панические ноты. И в частных разговорах он нередко обращался к этим темам, словно искал одобрения и нравственной помощи. Для меня представляется неразрешимой загадкой, как мог А. И. Коновалов пойти вторично во Вр. Правительство, с его председателем Керенским. По-видимому, он счел долгом патриотизма не отказываться и думал, что до Учредительного Собрания удастся дотянуть. Этот мираж – Учредительное Собрание – во многих умах тогда возбуждал совершенно непостижимые надежды. Но о значении идеи Учредит. Собрания в деятельности Вр. Правительства я буду говорить особо.
В последний раз я виделся с А. И. Коноваловым при трагических обстоятельствах, в день свержения Вр. Правительства, 26 октября. Об этом дне мне также придется говорить в своем месте.
До сих пор я касался характеристики и роли во Временном Правительстве тех лиц, которые не являлись моими партийными единомышленниками. С некоторыми из них я в этой обстановке познакомился впервые. Теперь мне остается сказать о четырех министрах-кадетах: Милюкове, Шингареве, Некрасове, Мануилове, которых я знал давно, хотя личная близость у меня была только с Милюковым.
Меньше всего я знал Мануилова. Это, конечно, объясняется тем, что Мануилов – москвич, в заседаниях Центр. Комитета он никогда не принимал особенно деятельного участия, а вне этих заседаний я почти с ним не встречался. Должен сказать, что и за два месяца моего участия в делах Вр. Правительства Мануилов все время оставался в тени. Он очень редко, почти никогда не принимал участия в страстных политических прениях, происходивших в закрытых заседаниях. Я припоминаю, что по отношению к основной контроверзе, возникшей в первый же месяц, – по вопросу внешней политики, отношения к целям войны, – Мануилов очень вяло поддерживал Милю-кова, – я бы сказал даже, что фактической поддержки вовсе и не было. С другой стороны, Мануилов как-то скорее других проникся безнадежностью в отношении деятельности Вр. Правительства вообще и чаще и раньше других говорил о необходимости ухода Вр. Правительства, ввиду невозможных условий работы, создаваемых контролем и постоянной помехой со стороны Совета рабочих депутатов. Специальная его деятельность в качестве министра народного просвещения не отличалась той авторитетностью, которой можно было от него ожидать. Очень возможно, что это была не его вина, – не вина его личных качеств. При других, более нормальных условиях, эти качества сделали бы из него образцового министра просвещения, так как не может быть сомнения ни в его широких взглядах, ни в его больших знаниях, ни в общих положительных сторонах его как политика и администратора. Но по существу, он не был боевой натурой, борцом. Он и раньше главным методом борьбы избирал – подачу в отставку. Это, может быть, было правильно при Кассо, но здесь, в данный момент, требовалось что-то другое. Мануилов, быть может, оказался бы вполне подходящим на посту министра земледелия; хотя мне представляется, что он вообще не подходил, по своему темпераменту, по настроению, к данному революционному моменту. Он не импонировал никому. И вместе с тем, его уравновешенной натуре духовного европейца глубоко претила та атмосфера безудержного демагогического радикализма, в которой орудовали всякие Чарнолусские. Помню его отчаяние во время учительского съезда. Именно в области народного просвещения зловещие стороны нашего радикализма-якобинства выразились особенно рельефно и, если в конце концов эта область получила в качестве руководителя г. Луначарского, то здесь скорее всего можно сказать: tu l'as voulu, Georges Dandin. Среди других министров Мануилов имел исключительно «дурную прессу». На него нападали и справа, и слева: справа – за бездеятельность и апатию перед растущей революционной волной, за реформу орфографии (в которой он, как известно, был ни при чем: это безобразие лежит на совести Академии наук). Слева его обвиняли в бюрократизме, в сохранении канцелярской рутины, в призыве деятелей старого режима. Особенное раздражение вызвало назначение Гера-симова. Мануилов не умел отбиваться и огрызаться. Он приходил в уныние и отчаяние. В сущности говоря, он, быть может, был вполне прав, признавая положение безнадежным. Но и в этом случае ему следовало действовать иначе: решительнее, я бы сказал, демонстративнее. При всех своих достоинствах он остался какой-то тусклой фигурой, и если все приветствовали его назначение, то уход его и замена С. Ф. Ольденбургом не только не вызвали ни с чьей стороны сожаления, но даже в симпатизирующих ему кругах оценивались скорее положительно, чем отрицательно.
Труднее всего мне говорить о Некрасове. Я уже упоминал, в начале моих записок, что вследствие моего продолжительного отсутствия в Центр. Комитете я был очень плохо осведомлен насчет создавшихся там (и в Госуд. Думе) личных взаимоотношений. Только значительно позднее моего вступления в должность управляющего делами Вр. Правительства я имел беседу с А. И. Шингаревым, который раскрыл мне глаза. Он рассказал мне про ту «подземную войну», которую издавна вел Некрасов против Милюкова. Я тогда только понял многое в поведении Некрасова, которого я до того, по старой памяти, считал одним из самых преданных Милюкову друзей. Но все-таки для меня оставалось неясным, к чему стремится Некрасов. Однако с каждым днем все яснее обозначался уклон Некрасова в сторону социалистов, приближение его к Керенскому, на которого он приобретал все большее и большее влияние и с которым все чаще и чаще пел в унисон. Я все-таки недостаточно близко знаю Некрасова, чтобы с уверенностью судить о нем, но я боюсь, что в течение своего пребывания у власти он прежде всего, больше всего руководим был побуждениями честолюбия. Он стремился играть первую роль, – и он достиг цели, но лишь для того, чтобы вдохновить постыдное поведение Керенского в деле Корнилова и затем сойти со сцены с поврежденной политической репутацией, оставленный всеми прежними друзьями (даже таким преданным и близким, как И. П. Демидов), с кличкой «злого гения русской революции». А между тем Некрасов, по моему глубокому убеждению, один из немногих крупных людей, выдвинувшихся на политической арене за последние годы. У него огромные деловые способ-ности, умение ориентироваться, широкий кругозор, практическая сметка. Человек умный, хитрый, красноречивый, он умеет казаться искренним и простодушным, когда это нужно. Но очевидно, этические его свойства (говорю, разумеется, не о личных, а об общественно-политических) не находятся на высоте его интеллектуальных качеств. Я охотно верю, что в конце концов он стремился к победе тех идей, которые объединяли его с товарищами по партии. Но для этого он избрал путь необычайно извилистый и в конце концов зашел в тупик. Мне представляется, что в данный момент (1918 год) он должен быть одним из несчастнейших людей и что его политическая карьера завершилась окончательно. Доверия он ни в ком больше не вызовет, а доверие есть как-никак абсолютно необходимое условие для политического деятеля. Раз проявленная двуличность – никогда не забывается. Некрасов оставил именно впечатление двуличности, – маски, скрывающей подлинное лицо. И это особенно чувствуется потому, что все его внешние приемы подкупают своим видимым добродушием. «Faux bonhomme» – как выражаются метко французы – пожалуй, самая неприятная разновидность человека вообще, политического деятеля в частности.
В конце концов, если иметь в виду, что кадетский элемент в составе Вр. Правительства олицетворялся прежде всего Милюковым, приходится сказать, что только один Шингарев был, безусловно, всей душой и до конца поддержкой и помощью лидера партии.
Когда я пишу эти строки, прошло уже более полугода со дня трагической смерти Шингарева, – и все же как-то трудно, даже в этих записках с полной свободой говорить о покойном. Слишком крупной ценой заплатил он за подвиг своей жизни. Но все же я постараюсь и здесь писать всю правду, как она мне представляется. А правда эта заключается в том, что Шингарев всю свою жизнь оставался по существу тем, чем он должен был бы остаться при более нормальных условиях: русским провинциальным интеллигентом, представителем третьего элемента, очень способным, очень трудолюбивым, с горячим сердцем и высоким строем души, с кристально чистыми побуждениями, чрезвычайно обаятельным и симпатичным как человек, но в конце концов «рассчитанным» не на госу-дарственный, а на губернский или уездный масштаб. Совершенно случайно он сделался финансистом. Благодаря своему таланту и трудолюбию, он в этой области настолько освоился, что мог удачно выступать на думской трибуне в оппозиционном направлении и одерживать победы. Но настоящим знатокам – теоретикам и практикам – он совершенно не мог импонировать. Слишком очевиден был его дилетантизм, слабая подготовка, ограниченный кругозор. Благодаря личным своим качествам, своей удивительной привлекательности, он в Думе был одним из самых популярных, самых любимых депутатов. Пресса с ним носилась. Правительство очень с ним считалось. Масса народу по тем или другим причинам к нему обращалась ежедневно. В партии его популярность была огромна. Если она уступала популярности Милюкова, то разве только в том смысле, что Милюков ставился выше как умственная величина, как духовный вождь и руководитель, как государственный человек, – но Шингарева больше любили, особенно в провинции, где его выступления – доклады, лекции – всегда пользовались исключительным успехом. Средние круги чувствовали больше свою духовную связь с Шингаревым, чем с Милюковым. Он был им ближе, казался более своим. Как оратор, Шингарев уступал, разумеется, и Маклакову, и Родичеву (когда Ф. И. в ударе). Сила в нем чувствовалась очень редко. Образности, яркости в его речах не найти. Приковывать внимание, ударять по сердцам, потрясать – он совершенно не мог. Вместе с тем, в этих речах – всегда к тому же очень многословных – не чувствовался тот огромный запас идей и знаний, который так явственно ощущался у Милюкова. Он не очаровывал, как Маклаков, не волновал и не натягивал нервов, как Родичев. Но он говорил легко и свободно, ход его мыслей всегда был очень ясен и доступен, нередко его полемика бывала находчивой и остроумной, манера и голос очень подкупали. Если его можно было без всякого сожаления перестать слушать, то почти никогда не приходилось чувствовать, что его и не стоило слушать. Достоевский говорит в «Бесах», что ни одного оратора нельзя слушать больше 20 минут. Для нашей провинциальной публики это совершенно неверно. Она любит многословие и принимает испытываемую ею скуку за доказательство серьезности и ценности речи или лекции. Недаром пользовались всегда в провинции огромным успехом такие серые бездарности, как Гредескул.
К концу четвертой Думы авторитет Шингарева стоял очень высоко. И для всякого объективного наблюдателя был ясен рост его самомнения и самоуверенности, в особенности после заграничной поездки членов Думы весною 1916 года. Чувствовалось, что у Шингарева слегка кружилась голова от той высоты, на которую его, скромного земского врача, вознесла не случайная удача, не чужая рука, а его собственная работа. Без Госуд. Думы Шингарев прожил бы честную и чистую жизнь интеллигентного местного деятеля, самоотверженного труженика. Госуд. Дума выдвинула его в первые ряды и подготовила всех к тому, что Шингарев явился одним из бесспорнейших кандидатов на министерский портфель, как только старая бюрократия пала. И здесь он сразу утонул в море непомерной, недоступной силам одного человека работы. Он мало кому доверял, мало на кого полагался. Он хотел сам во все входить, а это было физически невозможно. Он работал, вероятно, 15–18 часов в день, сразу переутомился, и как-то очень скоро потерял бодрость и жизнерадостность. В заседаниях Вр. Правительства он выступал очень много, но здесь-то именно и оказались недостаточными его силы. Он и в этих заседаниях чувствовал себя на трибуне Государственной Думы, говорил длительно, страшно многоречиво, утомлялся сам и утомлял других до крайности. При этом нельзя было обидеть его ничем больше, как словами: «Андрей Иваныч, нельзя ли покороче». Он в этих случаях отвечал: «Я могу и совсем не говорить», тем самым заставляя упрашивать себя… К Керенскому, ко всему социалистическому болоту он относился отрицательно и враждебно, но не только не мог энергически с ними бороться, а наоборот, такими мероприятиями, как создание земельных комитетов и передача им необрабатываемых помещичьих земель, а также (уже на посту министра финансов) ничем не оправдываемым и ни с чем не сообразным повы-шением ставок подоходного налога, он играл в руку социалистам, наживая себе непримиримых врагов в среде земельных собственников и имущих классов вообще. Своему закону о введении хлебной монополии он сам плохо верил. Кстати сказать, установленные в этом законе цены вплоть до последней минуты беспрестанно менялись. Кажется, в конце концов пришлось на многие из них махнуть рукой. По вопросам общеполитическим и внешней политики Шингарев был неизменно на стороне Милюкова, но я не припоминаю каких-либо сильных или ярких его выступлений. После своего окончательного ухода из состава Вр. Правительства Шингарев стал чрезвычайно раздражительным, желчным, я бы сказал, озлобленным. В Центр. Комитете было трудно с ним спорить, так как всякое возражение воспринималось им очень болезненно, словно нечто, лично против него направленное. Он говорил порою чрезвычайно резко. Личные несчастия (смерть жены), постигшие его в этот период времени, надо думать, сильно потрясли его и без того измученные нервы. Он стал тяжелым, и лишь по отношению к немногим (ко мне в том числе) он сохранил вполне и прежнюю манеру, и прежнее обращение. И. И. Лазаревский рассказывал мне, что с Шингаревым было очень трудно работать. Он – по словам Н. И. – был необыкновенно подозрителен и недоверчив по отношению ко всем тем, что его окружал, за исключением небольшого кружка близких ему лиц, лично им избранных. Гибель его в январе 1918 года – один из самых трагических и в то же время бессмысленных эпизодов кровавой истории большевизма.
Как мне уже, кажется, пришлось выше сказать, несомненно, что во Вр. Правительстве первого состава самой крупной величиной – умственной и полити-ческой – был Милюков. Его я считаю вообще одним из самых замечательных русских людей и хотел бы попытаться дать ему более подробную характеристику.
Мне много и часто приходилось слушать Милюкова: в Центральном Комитете, на партийных съездах и собраниях, на митингах и публичных лекциях, в государственных учреждениях. Его свойства, как оратора, тесно связаны с основными чертами его духовной личности. Удачнее всего он бывает тогда, когда приходится вести полемический анализ того или другого положения. Он хорошо владеет иронией и сарказмом. Своими великолепными схемами, подку-пающими логичностью и ясностью, он может раздавить противника. На митингах ораторам враждебных партий никогда не удавалось смутить его, заставить растеряться. О внешней форме своей речи он мало заботится. В ней нет образности, пластической красоты. Но в ней никогда нет того, что французы называют du remplissage. Если он и в речах, и в писаниях бывает многословен, то это только потому, что ему необходимо с исчерпывающей полнотой высказать свою мысль. И тут также сказывается его полное пренебрежение к внешней обстановке, соединенное с редкой неутомимостью. В поздние ночные часы, после целого дня жарких прений, когда доходит до него очередь, он неторопливо и методически начинает свою речь, и тотчас же для него исчезают все побочные соображения: ему нет дела до утомления слушателей, он не обращает внимания на то обстоятельство, что они, быть может, просто не в состоянии следить за течением его мыслей. И в газетных своих статьях ему также нет дела до соображений чисто журналистических. Если ему нужно 200 строк, он напишет 200 строк, но если в них не уместится его мысль и его аргументация, ему совершенно будет безразлично, что передовая статья растянется на три газетных столбца.
И Милюков, как и многие другие, живет и жил в крайне неблагоприятный для его личных дарований исторический момент. Волею судеб Милюков оказался у власти в такое время, когда прежде всего необходима была сильная, не колеблющаяся и не отступающая перед самыми решительными действиями власть, – когда требовалась высшая степень единства и солидарности членов правительства, полное их доверие друг к другу. Он очутился во главе ведомства, делающего иностранную политику, причем во взглядах на предпосылки этой политики существовало глубокое разногласие между Милюковым и тем течением, которое олицетворялось в Керенском. Керенский в моем присутствии причислял себя, если не прямо к циммервальдцам, то во всяком случае к элементам, духовно очень близким Циммервальду. Милюков и в прессе, и с трибуны Госуд. Думы с самого начала вел упорную борьбу с Циммервальдом. Он был абсолютно чужд и враждебен идее мира без аннексий и контрибуций. Он считал, что было бы и нелепо и просто преступно с нашей стороны отказаться от «самого крупного приза войны» (так Грей называл Константинополь и проливы) во имя гуманитарно-космополитических идей интернационального социализма. А главное – он верил, что этот приз действительно не вышел из наших рук. Это находится в связи с общими его взглядами на значение революции для войны. Здесь – самый ключ к пережитой Россией трагедии.
Хорошо известно, как относился Милюков к угрозе надвигающейся войны в июне и июле 1914 года. Он писал о ней, как о грозной и страшной опасности, чреватой огромными бедствиями. Конечно, ни он, ни кто другой из политических деятелей не отдавал и не мог себе отдавать отчета в том, во что Европу превратит война – и что она сделает с Россией. И прежде всего, ни один человек на свете не поверил бы, если бы ему сказали в 1914 году, что тогдашние тринадцатилетние дети окажутся участниками войны, – что через четыре года она будет в полном разгаре и что к этому времени будет мало надежды на сколько-нибудь близкий ее конец. Но все же Милюков хорошо сознавал, во-первых, какой страшный риск сопряжен для России с объявлением европейской войны, и, во-вторых, – как трудно ожидать, чтобы «историческая власть», оказавшаяся столь безнадежно и безгранично бездарной и несостоятельной в деле мирного управления Россией, могла вырасти до высоты той задачи, которая ей выпадала. Поэтому в ряде статей в «Речи» он со всею силою убеждения призывал к хладнокровию и самообладанию, к умеренности. Хорошо также известно, с какой злобой тогда на него обрушилась наша воинствующая националистическая пресса, с «Новым Временем» во главе. Речь шла о «заступничестве за Сербию», и так как Милюков считался болгарофилом, а следовательно – сербо-фобом, то в его выступлениях усмотрели – или им приписали – враждебное отношение к «маленькой Сербии» и равнодушие к международному престижу России. Поднялась бешеная травля, имевшая результатом закрытие «Речи» (правда, кратковременное) в день объявления войны. Война началась – и сразу же Милюков занял по отношению к ней совершенно определенное положение. И в Госуд. Думе, и в партии, и на страницах «Речи» он повел энергичнейшую кампанию в направлении поднятия военного энтузиазма. Лозунг «война до победного конца» относится к позднейшему времени, но корни его доходят до самых первых дней войны. Когда выяснилось, что Англия присоединяется к Франции и России, убеждение в возможности быстрого окончания войны и разгрома Германии стало положительно господствующим. Я живо помню, как в августе или сентябре граф П. Н. Игнатьев (давний мой друг, с которым я в студенческие годы был очень близок), встреченный мною за обедом в ресторане, совершенно серьезно и, по-видимому, сам вполне веря в осуществимость этого плана, рассказывал мне, что Ренненкампф идет прямо на Берлин, обходя крепости и оставляя заслоны, и что он ручается головой, что через два месяца будет в Берлине. Я также помню, как я впервые из Старой Руссы, где формировалась моя дружина, писал А. И. Каминке о том, что я с каждым днем убеждаюсь в огромности начатого предприятия и в невозможности сколько-нибудь скорого его осуществления. Но первые наши успехи в Восточной Пруссии, а потом и в Галиции очень укрепили наши надежды, – и только страшные неожиданности второй половины зимы 1914–1915 года обнаружили, как легковесны они были. Вместе с тем, резко изменилась тактика Госуд. Думы в отношении правительства. Mot l'ordre'om осени 1914 года была поддержка кабинета, нечто вроде французского «Union Sacre». Но к весне 1915 года обнаружилось, что поддерживать Сухомлинова, Маклакова и Щегловитова значит вести Россию сознательно к поражению и к катастрофе. И началась борьба. Ход и перипетии этой борьбы известны. Известна и роль, которую играл в ней Милюков, и вот тут с самого начала и сказалось то трагическое недоразумение, которое отразилось на всем течении русской революции и привело к гибели России.
Во имя чего велась борьба? Очевидно, прежде всего и так сказать, ex professo – во имя создания в России такого правительства, которое было бы способно исправить уже сделанные ошибки и заблуждения и успешно организовать снабжение и пополнение армии. Другими словами, борьба имела целью поставить такую власть, которая бы лучше, умелее воевала. Между тем, все правительственные перемещения приобретали все более и более характер какой-то безумной министерской чехарды. Люди приличные и дельные, вроде князя Щербатова или Поливанова, недолго пробыли на своих постах. На их места назначались либо такие несостоятельные бездарности, как ген. Шуваев, либо прямо зловещие фигуры вроде Алексея Хвостова, а впоследствии Штюрмера. Чувствовалось дыхание безумия и смерти. За кулисами орудовали Распутин, кн. Андронников и другие проходимцы. Царь, с самого начала войны и до катастрофы, постигшей его в первые дни марта 1917 года, абсолютно не отдавал себе отчета в роковом значении развертывающихся событий. Те, кто пережил в Петербурге зимы 1915–1916 и 1916–1917 гг., хорошо помнят, как с каждым днем нарастало сознание какой-то неизбежной катастрофы. Мне передавали, что еще в 1914 г., в заседании Центрального Комитета партии к.-д., немедленно после начала войны (я в это время уже был в Старой Руссе), Родичев воскликнул: «Да неужели вы думаете, что с этими дураками можно победить?» Постепенно выяснялось, что безумие нашей внутренней политики, тот дух безответственного авантюризма, полного пренебрежения к интересам родины, которым веяло вокруг трона, вполне отчужденного от всей страны, занятого слабым, ничтожным, двуличным человеком, – все это должно было повести либо к необходимости заключить сепаратный мир, либо к перевороту. И передовое русское общественное мнение, давно изверившееся в Николае II, постепенно пришло к сознанию, что, как красноречиво выразился Кокошкин в своей речи о республике и монархии, нельзя одновременно быть с царем и быть с Россией, – что быть с царем значит быть против России.
1 ноября 1916 года Милюков произнес свою знаменитую речь на тему: «Глупость или измена?». Направленная непосредственно против Штюрмера, речь эта метила, однако, гораздо выше. Имя императрицы Александры Феодоровны в ней прямо упоминалось. Все помнят, какое она произвела огромное впечатление, но не все, вероятно, отдавали себе отчет в ее будущих последствиях. Только гораздо позже, уже после переворота, стало ходячим, особенно в устах друзей Милюкова, утверждение, что с речи 1 ноября следует датировать начало русской революции. Сам Милюков, я думаю, смотрел на дело иначе. Он боролся за министерство общественного доверия, за изолирование и обессиление царя (раз выяснилось, что ни в каком случае и ни при каких условиях царь не может стать положительным фактором в управлении страною и в деле ведения войны), за возможность активного и ответственного участия творческих сил в государственной работе. Думаю, что в течение зимы 1916–1917 гг. для него выяснилась необходимость более решительного переворота собственно в отношении Николая II. Но я полагаю, что он, как и многие другие, представлял себе скорее нечто вроде наших дворцовых переворотов XVIII века и не отдавал себе отчета в глубине будущих потрясений. С другой стороны, основная позиция Милюкова по отношению к войне становилась все более и более решительной, все теснее связывалась с позицией союзников, в частности Англии, и делалась все непримиримее в отношении Германии. Я хорошо помню, какое впечатление произвел он на меня и на некоторых близких людей, собравшихся за обедом у И. В. Гессена в тот день, когда телеграф принес известие о первых германских мирных предложениях. Для нас это было фактом потрясающего значения, прежде всего потому, что в нем блеснул луч слабой и очень отдаленной, но все же надежды на возможность мира. С такой стороны мы прежде всего и оценивали этот факт. Милюков сразу и решительно облил нас ледяной водой. Спокойно и даже весело он заявил, что германские предложения имеют значение только постольку, поскольку они свидетельствуют о тяжелом положении Германии, – что в этом только смысле их следует понимать и приветствовать, но что единственное возможное реагирование на них – это категорическое и возможно более резкое их отклонение. Очевидно, только глубочайшая вера в «победный конец» и в возможность для России вести войну до такого конца с тем, чтобы воспользоваться его плодами, диктовали Милюкову такое отношение. Сам Милюков недавно в одном письме назвал то настроение, которое владеет руководящими кругами в Европе, «военным азартом». Я думаю, что этот азарт лежит в основе всей международной политики с начала войны. Вступление в нее Италии, потом Румынии, а позднее всех – Америки диктовалось не какими-либо правильно понятыми и законными национальными интересами, а тем менее какими-либо соображениями или побуждениями политической этики, а всецело азартом, развивающимся в душе того, кто присутствует при огромной игре с колоссальными ставками и знает, что от него зависит принять участие в этой игре, тем самым обеспечивая себе участие в будущем дележе добычи. Известные договоры с Италией и Румынией иного значения, как договоров о дележе добычи, не имеют. Конечно, к этой добыче стремились во имя национальных, а не каких-либо личных интересов. Конечно, и Милюков, ухватившийся и до самого конца цепко державшийся за обещание Константинополя и проливов, думал только о благе России. Но в конце концов все завоевательные стремления точно так же могут быть всегда оправдываемы ссылкой на заботу о благе страны. Подлинное отношение Милюкова к войне гораздо ближе всегда было к Romain Rolland, чем к Barres и Action francaise. Тот круг идей и настроений, который владел Милюковым в годы 1914–1917, был лишь поверхностной накипью, он даже ощущался Милюковым, как нечто ему чуждое, и выход из этого круга идей и настроений должен был ощущаться им как «духовное» освобождение. Как я себе представляю, это освобождение состоит в возвращении к объективным критериям, соответствующим не той или другой ближайшей цели практической политики, а основным идеям справедливости, гуманности, отрицания крови и насилия.
Как бы то ни было, из того, что сказано в предшествующих строках, уже вытекает с полной очевидностью неизбежность будущих конфликтов как в среде самого Вр. Правительства, так и между ним и окружавшими его элементами, наиболее причастными к революционному движению в тесном смысле слова. Самой влиятельной фигурой в составе Вр. Правительства оказался «заложник демократии» – Керенский. Если бы кому-нибудь пришло в голову в день образования Вр. Правительства назвать Керенского военным министром, то, я думаю, сам Керенский, несмотря на свой безграничный апломб, смутился бы. А все другие приняли бы такое предложение за насмешку, за глупую шутку. Между тем, через два месяца Керенский оказался «провиден-циальным» военным министром. В еще большей степени это приходится сказать о Верховном главнокомандующем. Я помню продолжительное заседание в Мариинском дворце, посвященное обсуждению и решению вопроса о том, кого следует назначить на эту должность – Алексеева (в то время бывшего начальником штаба Верх. Главно-командующего) или Брусилова. За последнего особенно стоял Родзянко. Я представляю себе, какой эффект произвело бы, при этих условиях, предложение кандидатуры Керенского. И оно, наверно, сочтено бы было просто за шутку дурного тона. И оно опять-таки осуществилось несколько месяцев спустя. Мне кажется, нет лучшего критерия степени стреми-тельности в деле возобладания идей Циммервальда и связанного с ним разрушения нашей армии, как эти два назначения. Но в сущности говоря, зачатки будущего разложения уже заключались в том факте, что основной вопрос – отношение к войне – был, при составлении Вр. Правительства, обойден: иначе, как допустить, что в рядах его вместе с Милюковым оказался Керенский, взгляды которого достаточно были известны из его речей в Госуд. Думе?
Нужно заметить, что в первые дни и даже недели существования Вр. Правительства вопросы внешней политики, связанные с войной, как-то совсем не выдвигались. Оставалось нераскрытым глубокое внутреннее противоречие, заключавшееся в том, что переворот, будучи фактически результатом военного бунта, по существу должен был повести к разрушению дисциплины и разложению сперва в Петербургском гарнизоне, а затем, по мере того, как этот гарнизон становился питомником большевизма, очагом заразы, – разложение должно было проникнуть и дальше; между тем, по официальной идеологии, революция должна была поднять нашу военную силу, так как отныне войска боролись не за ненавистный самодержавный строй, а за освобожденную Россию. Известно, что в первое время многие наивные люди думали (и даже писали в газетах), будто Германия очень была смущена патриотическим порывом русской революции; она-де сперва возложила на эту революцию большие надежды, но теперь должна убедиться, что «созна-тельная» русская армия, завоевавшая себе свободу, будет для нее гораздо страшнее… и т. д. Не знаю, верил ли кто в самом деле этому вздору, но, повторяю, он был не только развиваем на страницах газет, но многократно и настойчиво преподносился официально (напр., при приемах послов, а также многочисленных военных депутаций, которые стали являться в конце марта). А между тем незаметно и помаленьку начался подкоп против лозунга «войны до победного конца», во имя другого – «мир без аннексий и контрибуций». Постепенно начались в составе Вр. Правительства жалобы на то, что Милюков ведет какую-то свою международную политику и ведет ее совершенно самостоятельно. Начало обнаруживаться внутреннее расхождение, но на первых порах довольно неясно и нерешительно. Если я не ошибаюсь, впервые вопрос был поставлен резко после появления в печати беседы с Милюковым по вопросу о задачах войны (в № от 23 марта «Речи»), за неделю, приблизительно, было опубликовано пресловутое воззвание Совета рабочих и солдатских депутатов к народам всего мира (от 14 марта), в котором впервые показала свое истинное лицо группа вожаков Исполнительного Комитета. Ничего, конечно, нельзя себе представить более противоположного друг другу, чем эти два документа. Не знаю, под влиянием ли своих друзей или непосредственно – Керенский был приведен опубликованием беседы с Милюковым в состояние большого возбуждения. Кажется, он только что вернулся из Москвы. Я живо помню, как он принес с собой в заседание номер «Речи» и – до прихода Милюкова – по свойственной ему манере, неестест-венно похохатывая, стуча пальцами по газете, приговаривал: «Ну нет, этот номер не пройдет». Когда вопрос был поставлен, Милюков заявил, что его беседа появилась в противовес интервью с Керенским, напечатанным, если не ошибаюсь, в московских газетах. Не помню, в этом ли именно или в другом, близком по времени, совещании Керенский в очень резкой форме доказывал Милюкову, что если при «царизме» (одно из гнусных выражений револю-ционного жаргона, чуждого духу русского языка) у министра иностранных дел не могло и не должно было быть своей политики, а была политика императора, то и теперь у министра иностранных дел не может быть своей политики, а есть только политика Вр. Правительства. «Мы для Вас – Государь Император». Милюков, внешне хладнокровно, но внутренне сильно возбужденный, на это отвечал приблизительно так: «Я и считал, и считаю, что та политика, которую я провожу, – она и есть политика Вр. Правительства. Если я ошибаюсь, пусть это мне будет прямо сказано. Я требую определенного ответа и в зависимости от этого ответа буду знать, что мне дальше делать». Здесь был прямой и решительный вызов, и на этот раз Керенский спасовал. Устами кн. Львова Вр. Правительство удостоверило, что Милюков ведет не свою самостоятельную политику, а ту, которая соответствует взгляду и планам Вр. Правительства. Выход из получившегося неловкого положения был найден в том, чтобы принять за правило – не давать на будущее время никаких отдельных политических интервью. В то же самое время было выражено пожелание, чтобы Милюков возможно скорее сделал Вр. Правительству подробный доклад с целью полного его ознакомления с международным положением во всех его деталях и, прежде всего, со всеми знаменитыми «тайными договорами». Это было сделано уже в первой половине апреля, но еще до того, в конце марта, опубликована была декларация Вр. Правительства по вопросу о задачах войны.
Инициатива этой декларации исходила от Церетели. Примерно в середине марта он вернулся из ссылки и в начале 20-х чисел появился в контактной комиссии, заменив Стеклова. Он с особенной настойчивостью, с самого начала, – вероятно, в первом же заседании, в котором он участвовал, – начал проводить мысль, что нужно, не теряя времени, обратиться к армии, к населению с торжественным заявлением, заключающим в себе, во-первых, решительный разрыв с империалистическими стремлениями и, во-вторых, обязательство безотла-гательно предпринять шаги, направленные к достижению всеобщего мира. Он доказывал, что если Вр. Правительство сделает такую декларацию, последует небывалый подъем духа в армии, что ему и его единомышленникам можно будет тогда с полной верой и с несомненным успехом приступить к сплачиванию армии вокруг Вр. Правительства, которое сразу приобретет огромную нравственную силу. «Скажите это», – говорил он, – «и за вами все пойдут, как один человек». Я помню, что тогда еще его тон и манера действовали подкупающе. В них ощущалось страстное, подлинное убеждение. В своих возражениях Милюков главным образом касался второго пункта и доказывал совершенную недопустимость и в лучшем случае бесплодность обращения при данных условиях к союзникам с какими-либо разговорами о мире. Церетели настаивал, причем несколько комическое впечатление производили его уверения, что если только основная мысль, директива будет признана, Милюков сумеет найти те тонкие дипломатические приемы, с помощью которых эта директива осуществится. Но в этом втором пункте Милюков никакой уступки не сделал. Также решительно он уперся и по вопросу об аннексиях и контрибуциях.
Я теперь себя спрашиваю: не было ли бы лучше, если бы тогда Милюков действительно поставил ультиматум не по поводу только этих злосчастных слов, а в отношении самой мысли в них заключающейся и нашедшей, в конце концов, себе место в декларации, правда, в несколько смягченных и умышленно двусмысленных выражениях? Для меня этот вопрос – ретроспективно – имеет и личное значение. Как и при самом первом моменте, когда грозил уход Милюкова из-за вопроса о Михаиле, так и теперь мне казалось, что этот уход будет иметь роковые последствия с точки зрения международного положения и отношения к нам союзников. Мне казалось, что следует идти, в случае необходимости, даже на самые большие уступки только для того, чтобы сохранить Милюкова в составе Вр. Правительства. И здесь я считал возможным некоторый макиавеллизм. Я помню, что мы вдвоем с Милюковым обсуждали и исправляли текст декларации за завтраком в «Европейской гостинице», куда мы приехали прямо со съезда партии народной свободы, открывшегося 25 марта в зрительном зале Михайловского театра. Я убеждал его согласиться на включение тех слов декларации (объясняющих, чего не хочет Россия от войны), в которых иносказательно фигурировали «аннексии и контрибуции». Я говорил, что слова эти допускают очень широкое и очень субъективное толкование, что поскольку в них заключается отказ от завоевательной политики, они соответствуют и нашим взглядам, но что они вовсе не имеют такого значения, которое могло бы связать нас в будущем, на мирной конференции, в случае если война закончится в пользу нашу. Я помню, что мы несколько раз меняли текст, пока не нашли тех выражений, с которыми в конце концов примирился Милюков. В этом примирении оставалась некоторая reservatio mentalis. Но и помимо того, разве, если сравнить последовательные декларации Вильсона, ту, например, которая доказывала, что настоящая война должна окончиться без того, чтобы кто-нибудь победил, с теми, которые инсценировали и сопровождали объявление войны Америкой, разве в них нет явных противоречий? Думать, что простая правительственная декларация, не имеющая договорного характера, связывает все последующие правительства, – разумеется, нельзя. Но и то правительство, которое выпустило данную декларацию, связано ею лишь постольку, поскольку она заключает в себе известные непреложные принципы правительственной политики. Уже давным-давно доказано, что такого «принципа» – «без аннексий и контрибуций» – выставить было нельзя, что это принцип двусмысленный и практически не дающий никакого разрешения ряду вопросов. Недаром последующая терминология выработала выражение «дезаннексия». Превращение Дарданелл и Босфора в русский канал, разумеется, трудно было бы совместить со строгим толкованием слов декларации. Но если наступили бы те обстоятельства, при которых стало бы возможным такое превращение, кто бы помнил слова этой декларации и кто бы решился ими аргументировать против России? Другое дело, если бы русское правительство expressis verbis отказалось от тех возможных выгод, которые были ей обеспечены международными договорами, и заявило бы этот отказ другим договаривающимся сторонам. Но этого не было, – да и не могло быть сделано Милюковым. Сам он на партийном съезде, последовавшем за его отставкой, вполне искренно и очень убедительно утверждал и доказывал, что он ничего не уступил конкретного и ни в чем не повредил интересам России. Но с другой стороны, трудно отрицать, что во всей этой позиции было что-то искусственное. Искус-ственность эта заключалась, впрочем, не в том или другом толковании отдельных выражений декларации, а в том, что по существу была пропасть между отношением к войне и ее задачам Милюкова и тех социалистических групп, которые влияли на Керенс-кого. Я помню случай, когда эта искусственность была как-то особенно подчеркнута, особенно болезненно воспринята. Это произошло несколько дней спустя после приема Вр. Правительством делегации французских и английских социалистов. Речь Милюкова была всецело выдержана в свойственных ему тонах и по сущности своей соответствовала традициям русской иностранной политики во время войны. После Милюкова говорил Керенский. Он говорил по-русски – причем Милюков переводил его речь на английский язык (а один из французов – с английского на французский). И вот здесь действительно ощущалось разительное противо-речие, – противоречие в самом духе, в самой отправной точке зрения. Здесь стало ясно, что в самом Вр. Правительстве есть два враждебных друг другу основных течения. И было несомненно, что рано или поздно – скорее рано, чем поздно – искусственная комбинация Керенский-Милюков должна будет разрушиться. И вот здесь я и нахожу ответ на поставленный мною выше вопрос – не было ли бы лучше, если бы Милюков еще раньше декларации 28 марта поставил ультиматум и ушел бы из Вр. Правительства, не дожидаясь событий 20–23 апреля – выступления войск, вызванного нотой министра иностранных дел от 18 апреля? Я думаю, что по тем же соображениям, по которым Милюкову следовало идти в состав Вр. Правительства, ему следовало в нем оставаться, борясь до конца, в интересах того дела, которому он служил. Революция с самого начала создавала компромиссы, искусственные сочетания. Компромиссным было отношение Вр. Правительства к Совету рабочих и солдатских депутатов, компро-миссом было и сосуществование в кабинете двух лиц, радикально неспособных идти рука об руку, – Керенского и Милюкова. Эти компромиссы оказались гнилыми и не остановили катастрофического хода русской революции. Но они, при данных условиях, были неизбежны, – отказаться от них для нас, кадетов, означало бы стать на точку зрения «чем хуже, тем лучше» или, во всяком случае, умыть руки. Тем горше сознавали бы мы свою ответственность за дальнейшие события.
В том, что до сих пор много сказано о роли Милюкова во Врем. Правительстве, я касался только той стороны этой роли, которая связана была с международной политикой. Надо сказать, что в моей памяти, по крайней мере, это остается и наиболее яркой стороной. Я не помню, чтобы Милюков ставил ребром какие-нибудь вопросы внутренней политики, чтобы он требовал каких-нибудь решительных мер. По-видимому, он все-таки полагался больше, чем следовало, и на государственный инстинкт русского народа, и на здравое понимание им своих интересов. Он не понимал, не хотел понимать и не мирился с тем, что трехлетняя война осталась чуждой русскому народу, что он ведет ее нехотя, из-под палки, не понимая ни значения ее, ни целей, – что он ею утомлен и что в том восторженном сочувствии, с которым была встречена революция, сказалась надежда, что она приведет к скорому окончанию войны. Он не знал, какую благодарную почву найдут в русской армии те ядовитые семена, которые с первых же дней стали открыто в ней сеять безответственные агитаторы. Потому он не проявил решительного, ультимативного противодействия допущению в пределы России пассажиров знаменитого запломбированного вагона. Надо сказать, что по отношению к этим пассажирам у Вр. Правительства были самые глубокие иллюзии. Думали, что уже сам по себе факт «импорта» Ленина и К° германцами должен будет абсолютно дискредитировать их в глазах общественного мнения и воспрепятствовать какому бы то ни было успеху их проповеди. И действительно, на разных митингах эта тема о «запломбированном вагоне» всегда имела большой успех. Но это не помешало развитию путем «Правды», «Окопной правды» и ряду других анархических листков самой бешеной и самой разрушительной пропаганды. Теперь гг. большевики показывают нам, как беззастенчивая власть может задушить – без всяких экивоков – враждебную ей печать. Вр. Правительство было связано своими декларациями о свободе слова, всей своей идеологией. Оно смотрело на газетную пропаганду совершенно пассивно. Отчасти в этой пассивности сказывалось тоже сознание своего бессилия, которое помешало Вр. Правительству принять решительные меры против таких явлений прямо уголовного характера, как захват особняка Кшесинской и устройство из него цитадели и публичной кафедры самого разнузданного больше-визма. Теперь, конечно, легко упрекать Вр. Прави-тельство за эту пассивность. Но если перенестись мысленно в ту эпоху и вызвать в себе вновь то настроение, которое тогда было преобладающим, то станет ясным, что иначе правительство не могло действовать, не рискуя остаться в полном одиночестве. Кто бы его поддержал? Петербургский гарнизон не был в его руках. «Буржуазные» классы, неоргани-зованные, не боевые, были бы, конечно, на его стороне, но ограничились бы платоническим сочувствием. А между тем, здесь недостаточно было такого сочувствия, хотя бы и со стороны очень многочисленных групп населения.
Не так давно мне пришлось с Милюковым говорить на эти темы. Мы коснулись вопроса о том, была ли возможность предотвратить катастрофу, если бы в самом начале Вр. Правительство поставило вопрос о власти ребром, оперлось на Государственную Думу, не допустило бы политической роли Совета и Исполнительного Комитета и, в случае сопротивления, арестовало бы его главарей. Я считал и считаю эту возможность чисто теоретической. Но Милюков утверждал, что в первые дни переворота гарнизон был в руках Госуд. Думы, и если бы этот первый момент не был упущен, положение могло быть спасено. Очевидно, с этим связан и вопрос о Михаиле. Если бы династия удержалась на троне, власть и ее престиж были бы сохранены. Но я не вижу, каким образом это могло бы удаться Вр. Правительству без монарха. Какие силы сохранили бы его престиж и авторитет? А главное, как бы оно справилось с вопросом о войне, – этим оселком всей революции?
Я хорошо помню, что Милюков неоднократно возбуждал вопрос о необходимости более твердой и решительной борьбы с растущей анархией. Это же делали и другие. Но я не помню, чтобы были предложены когда-нибудь какие-нибудь определенные практические меры, чтобы они обсуждались Вр. Правительством. Отсутствие хорошо организованной полицейской силы и безусловно преданной правительству силы военной парализовали его. Здесь и был зародыш разрушения, и росту его не могла воспрепятствовать вся огромная энергия, проявленная Вр. Правительством в деле органического законо-дательствования. А кроме того, каждый из министров был настолько поглощен своим ведомством, что ни у кого из них не было времени практически обдумывать то, что касалось других ведомств, и предлагать какие-нибудь конкретные меры. В частных совещаниях обсуждались лишь общеполитические вопросы. Конечно, Милюков неоднократно обращал внимание хотя бы, например, на необходимость покончить с безобразным скандалом, невозбранно творившимся перед домом Кшесинской и в нем самом. Но как это сделать? – на этот вопрос у него ответа не было.
История ухода Милюкова, наверно, очень полно им изложена в уже написанном первом томе истории русской революции. Фактически, конечно, этот уход был делом рук социалистов, которым в данном случае помог Альбер Тома, приехавший 9 апреля в Петербург. Не помню, до приезда ли Тома или уже в 10-х числах апреля Милюков в одно утреннее мое посещение сказал мне, что он в самом деле думает, не лучше ли ему передать портфель министра иностранных дел Терещенко («он, по крайней мере, не совсем в этих вопросах безграмотный и хоть с послами будет в состоянии говорить»), с тем, чтобы Мануилов взял финансы (а может быть, Шингарев – финансы, а Мануилов – земледелие), передав портфель министра народного просвещения ему, Милюкову. Но я не поддерживал этой мысли, и Милюков вскоре сам ее оставил. Как раз в это же время вернулся в Россию Чернов, и кампания против Милюкова началась вовсю. В том совместном заседании Временного Прави-тельства с Комитетом Государственной Думы и Исполнит. Комитетом Совета депутатов, в котором обсуждались вопросы внешней политики, и сделано было Черновым заявление о том, что пора-де России перестать говорить с Европой языком «бедной родственницы», он прямо заявил, со свойственными ему пошлыми ужимками, сладенькой улыбкой и кривляниями, что и он и его друзья безгранично уважают П. Н. Милюкова, считают его участие во Вр. Правительстве необходимым, но что по их мнению он бы лучше мог развернуть свои таланты на любом другом посту, хотя бы в качестве министра народного просвещения. В то же время произошел резкий инцидент с Керенским, в связи с данным им бюро прессы официозным communique о том, что предстоит опубликование правительственного сообщения по вопросам иностранной политики. О том, что это communique дано Керенским, я узнал от Львова (игравшего в бюро главную роль). Мне было хорошо известно, что ни о чем подобном не было речи во Вр. Правительстве, и я усмотрел в поступке Керенского недопустимый подвох, чтобы не сказать провокацию. Тотчас же я сообщил об этом Милюкову в происходившем в то время заседании Врем. Правительства. По окончании заседания Милюков обратился с вопросом, кто дал такое заведомо несоответствующее действительности communique прессе. Керенский несколько смутился, пытался увиливать, говоря, что он не отвечает за ту форму, в которой пресса передала его слова, но в конце концов заявил, что при сложившихся обстоятельствах такое сообщение он считает необходимым. Тогда Милюков сказал кн. Львову, что, если Керенский не опровергнет сообщения, он, Милюков, немедленно подаст в отставку. Так как уже было поздно и все устали, решено было обсудить вопрос вечером. Произошло очень бурное заседание, в котором Керенский почувствовал себя совершенно одиноким, так как даже его наиболее твердые сторонники находили допущенный им прием совершенно неприличным и невозможным. Ему пришлось уступить, и он по телефону (из моего кабинета) сделал требуемое опровержение. Вместе с тем, однако был поднят вопрос о том, что декларация о задачах войны официально не сообщена союзникам и потому является как бы документом лишь для внутреннего употребления, что, разумеется, подрывает его значение. Соответственно этому предъявлено было требование официально уведомить дипломатических представителей о взгляде Вр. Правительства по данному вопросу. Против этого трудно было спорить, Милюкову пришлось согласиться; и тогда уже было решено, что нота министра иностранных дел будет обсуждена во всем составе Вр. Правительства, что и произошло. В то время А. И. Гучков был болен, у него было ослабление сердечной деятельности, и заседания происходили у него. Я очень отчетливо помню, что доложенный Милюковым проект при первом его прочтении произвел на всех, и даже на Керенского, впечатление бесспорно приемлемого, – мало того, впечатление, что Милюков здесь проявил максимум уступчивости и готовности идти навстречу своим противникам. Потому вначале прения еле завязались, но потом Керенский стал придираться к отдельным выражениям, предлагая крайне неудачный вариант, настроение стало портиться, обычный личный антагонизм дал себя почувствовать в повышенном тоне и резких выходках. Все-таки, в конце концов, удалось обойти разногласия и объединиться на одном тексте, – на том, который был опубликован. Милюков, помнится, в конце заседания подчеркнул, что стало быть правительство целиком солидарно с данным документом и берет на себя ответственность за его содержание. Керенский не возражал. Очевидно, в этом случае здравый смысл и разумное отношение к делу оказались в нем сильнее партийных шор. С другой стороны, в данной обстановке он, по-видимому, не счел возможным консультировать своих друзей, добросовестно уверенный, что и для них нота является вполне приемлемой. Она была опубликована в № от 20 апреля. Произошли известные события, подробно изложенные в тогдашних газетах. Так как демонст-рации были направлены против Милюкова, Вр. Правительство вынуждено было официально заявить, что нота была им одобрена без разногласия с чьей бы то ни было стороны. В сущности говоря, вся эта демонстрация была совершеннейшим пуфом и вызвала очень внушительные контрдемонстрации. Но создалось обостренное и повышенное настроение. Вероятно, тот факт, что в вопросе о ноте Керенский вынужден был солидаризоваться формально с Милюковым, обострил и личный антагонизм. Социалисты упорно продолжали свою работу, Тома играл двусмысленную роль и отзывался о Милюкове пренебрежительно и враждебно. Но так как к тому времени Милюков6 окончательно решил не уступать, то ясно было, что должен произойти кризис уже по инициативе Вр. Правительства. Он и произошел. Какую роль при этом играли прочие министры-кадеты, – я не берусь теперь сказать. Милюкову был предложен портфель министра народного просвещения, он категорически отказался и уехал из заседания уже не министром. На следующее утро мы с Винавером были у него, по поручению Центр. Комитета, и долго и настойчиво уговаривали его остаться и согласиться принять портфель министра народного просвещения. Нам казалось, что уход Милюкова одновременно с введением в состав правительства социалистов есть начало крушения. Конечно, мы при этом находили, что, оставаясь в правительстве, Милюков, хотя и занимая пост министра народного просвещения, должен иметь возможность влиять на иностранную политику и быть все время в ее курсе. Это было осуществимо в связи с возникшим тогда проектом особого совещания, выделенного из состава Вр. Правительства и долженствовавшего ведать вопросами обороны, а наряду с ними и общими вопросами международной политики. Это совещание было придумано против Милюкова. Мы предлагали ему при изменившихся условиях воспользоваться им в интересах дела и остаться в правительстве, обусловливая свое дальнейшее пребывание тем, что он будет одним из членов совещания. Милюков не согласился. Сперва он спорил, но потом, когда аргументы были исчерпаны, он сказал буквально следующее: «Возможно, что ваши доводы правильны, но у меня есть внутренний голос, говорящий мне, что я не должен им следовать. Когда у меня бывает такое ясное и определенное сознание, хотя бы и немотивированное, необходимой линии пове-дения, я следую ему. Я не могу поступить иначе». Мы поняли, что вопрос исчерпан, и ретировались. С этой минуты начался между Милюковым и Вр. Правительством разрыв по существу.
Я уже упомянул о декларации-воззвании 23 апреля, в которой было обещано обращение к социалистам с предложением им принять участие в правительстве. Это воззвание было развитием той идеи (на которой чуть не с самого начала настаивал Гучков, а потом и Мануилов), что Вр. Правительство должно уйти, сказав стране, что оно сделало и почему дальнейшие усилия оно считает бесплодными: своего рода эпитафия или политическое завещание. Но воззвание фактически не заявляло об уходе правительства. Оно, в сущности, раскрывало во всем ее объеме картину того, что происходило в стране, и делало вывод: или – крушение и гибель «завоеваний революции», или – поддержка власти населением, призываемым к добровольному подчинению. Составление этого документа было поручено Кокошкину. Милюков впоследствии утверждал, что Кокошкинский текст, благодаря Керенскому, превратился в отвлеченное социоло-гическое рассуждение, лишенное всякой практической силы. Это – преувеличенный отзыв. Керенским – и даже не им, а редакцией «Дела Народа» – было введено в воззвание только несколько строк, которые, действительно, довольно туманно и отвлеченно излагали причины происходившей неурядицы и видели ее корни в том, что старые общественно-политические скрепы рухнули прежде, чем успели сложиться и окрепнуть новые связи. Это, конечно, была «социология», но вполне безобидная, и не она придавала основной тон воззванию. Если оно было слабым документом (а я считаю его одним из слабейших), то не по вине Керенского и, конечно, тем более не по вине Кокошкина. Оно было слабо в своем основном тоне, и нельзя отрицать, что его идеология – ставящая во главу угла добровольное подчинение граждан ими же избранной власти – очень была сродни идеологии анархизма. Во всяком случае, суть дела была не в этих увещаниях, а в призыве социалистов. Кажется, Вр. Правительство само не верило, что они откликнутся. Но социалисты поняли, что дальнейший отказ создал бы против них сильное орудие и сделал бы их положение «безответственных критиков» и «контролеров» крайне затруднительным. Они пошли в министры. В сущности говоря, с этой минуты можно было сказать, что дни Вр. Правительства, поставленного «победоносной рево-люцией», – сочтены, что мы перешли в период всяких министерских кризисов, из которых каждый ослабляет власть, – что остановиться на пути к торжеству большевистских стремлений будет невозможно. Если бы Милюков не ушел в первые дни мая, – все равно ему было не по пути с Церетели и Скобелевым.
«Контактная комиссия», о которой я уже неоднократно упоминал, была образована Советом рабочих и солдатских депутатов 10 марта, причем в первый ее состав вошли Чхеидзе, Скобелев, Стеклов-Нахамкис, Филипповский и Суханов. В конце марта Церетели заменил Стеклова. Впрочем, если память мне не изменяет, они первое время участвовали совместно. Значительно позже появился Чернов. В течение первых недель существования Вр. Правительства заседания в контактной комиссии происходили часто, раза три в неделю, иногда и больше, всегда по вечерам, довольно поздно, по окончании заседания Вр. Правительства, в этих случаях всегда сокращаемого. Главным действующим лицом в этих заседаниях был Стеклов. Я впервые тогда с ним познакомился, не подозревал ни того, что он еврей, ни того, что за его благозвучным псевдонимом скрывается отнюдь не благозвучная подлинная фамилия. Тем не менее, конечно, могла быть известна история, – впоследствии раскрытая Л. Львовым, – о том, к каким униженным всеподданнейшим ходатайствам прибегал Нахамкис для того, чтобы «легализовать» свой псевдоним и официально заменить им свою подлинную фамилию. Но как бы то ни было, с первой же встречи на меня произвела самое отвратительное впечатление его манера, вполне подходящая к фамилии, в которой как-то органически сочетались «нахал» и «хам». Тон его был тоном человека, уверенного в том, что Вр. Правительство существует только по его милости и до тех пор, пока это ему угодно. Он как бы разыгрывал роль гувернера, наблюдающего за тем, чтобы доверенный ему воспитанник вел себя как следует, не шалил, исполнял его требования и всегда помнил, что ему то и то позволено, а вот это – запрещено; при этом – постоянно прорывающееся сознание своего собственного могущества и подчеркивание своего великодушия. Сколько раз мне пришлось выслушивать фразы, в которых прямо или косвенно говорилось: «Вы (т. е. Вр. Правительство) очень хорошо ведь знаете, что стоило бы нам захотеть, и мы беспрепятственно взяли бы власть в свои руки, причем это была бы самая крепкая и авторитетная власть. Если мы этого не сделали и пока не делаем, то лишь потому, что считаем вас в настоящее время более соответствующими историческому моменту. Мы согласились допустить вас к власти, но именно потому вы в отношении нас должны помнить свое место, – вообще не забываться, не предпринимать никаких важных и ответственных шагов, не посоветовавшись с нами и не получив нашего одобрения. Так должны вы помнить, что стоит нам захотеть, и вас сейчас же не будет, так как никакого самостоятельного значения и веса вы не имеете». Он не упускал случая развивать эти мысли. Помню, по какому-то случаю кн. Львов упомянул о том потоке приветствий и благопожеланий, который ежедневно приносит сотни телеграмм со всех концов России, обещающих Вр. Правительству помощь и поддержку. «Мы, – тотчас же возразил Стеклов, – могли бы вам сейчас же представить гораздо большее, в десять раз большее количество телеграмм, за которыми стоят сотни тысяч организованных граждан, и в этих телеграммах от нас требуют, чтобы мы взяли власть в свои руки». Это была тоже другая сторона позиции: «Мы, дескать, т. е. Исполн. Комитет, своим телом заслоняем вас от враждебных ударов, мы внушаем подчиненным нам массам доверие к вам».
Эта сторона была особенно неприятна Керенскому, который с первых же шагов стремился ставить дело так, что именно он, Керенский, являясь «заложником демократии» и продолжая формально носить звание товарища председателя Исполн. Комитета, считал – или хотел, чтобы другие считали, – что именно он, Керенский, привлекает к Вр. Правительству все сердца «широких масс». Оттого он менее других выносил Нахамкиса и с наибольшим раздражением реагировал – в составе Вр. Правительства – на его тон. Он считал, вместе с тем, что его положение во Вр. Правительстве не дает ему возможности полемизировать со Стекловым и «отделывать» его. Он поэтому часто уклонялся от участия в заседаниях с контактной комиссией, а когда бывал в них, то только «присутствовал», сидя возможно дальше, храня упорное молчание и лишь злобно и презрительно поглядывая своими всегда прищуренными близорукими глазами на оратора и на других. А по окончании заседания, оставшись наедине с коллегами-министрами, он зачастую с большой страстностью обрушивался на кн. Львова, упрекая его в слишком большой мягкости и деликатности и изумляясь, что он допустил те или другие заявления Нахамкиса, не ответив на них как следует.
Надо сказать, что Стеклов в иных случаях возбуждал раздражение даже среди своих «друзей», вернее говоря, среди других членов контактной комиссии, так как друзей у него, по-видимому, немного. Бывали случаи, когда Чхеидзе или Скобелев перебивали то или другое его заявление или же тотчас вслед за ним замечали, что в данном вопросе Стеклов говорит лишь от своего имени и выражает свое субъективное мнение и что «у нас этого не было постановлено». Впрочем, это ничуть не смущало Стеклова… Бывало даже, что он тут же пытался вступать в полемику со своими коллегами. И в сущности говоря, я не знаю, кто из них был в самом деле способен противопоставить себя Стеклову в отношении безграничного апломба и способности беззастенчиво отождествлять себя и свой голос с голосом «трудящихся масс». Впоследствии разглашение истории со всеподданнейшим ходатайством («припа-дение к стопам») было сильно использовано против Стеклова, и он вынужден был на время – и даже надолго – стушеваться. Но в первые недели он в самом деле играл какую-то роль. На первом съезде делегатов Совета рабочих и солдатских депутатов, 29 марта, он выступал с изложением истории отношений между Вр. Правительством и Исп. Комитетом, причем развивал проект введения во все ведомства комиссаров Совета «для неусыпного надзора за всею деятельностью Вр. Правительства». Мысль об этих комиссарах создавала один из самых острых конфликтных вопросов. Она была оставлена только тогда, когда введение в состав Вр. Правительства социалистов сделало его более «надежным» в глазах Совета раб. и солд. депутатов.
Из числа других членов контактной комиссии двое – Филипповский и Суханов – почти никогда не говорили, по крайней мере за то время, что я принимал участие в делах Вр. Правительства. После Стеклова чаще других выступал Скобелев. Его я раньше тоже совсем не знал. Это один из самых-самых малюсеньких людей, мало одаренных, очень ограниченных, но случайно благодаря тому, что Госуд. Дума создала всероссийскую трибуну для их политических выступлений, инспирируемых, а порою прямо продик-тованных из-за кулис, – сделавшихся известными во всей России в качестве porte-voix «рабочих масс». Он и старался – и старался добросовестно – быть таким porte-voix. Даром слова он, кажется, вовсе не обладает. Не знаю, может быть, в роли митингового оратора в сочувствующей ему среде он может производить известное впечатление, но здесь, где трафаретов не было, а приходилось брать содержанием речи, он неизменно оказывался необыкновенно бедным, беспомощным, скучным – и робким. Все же нельзя отрицать, что в нем было больше привлекательности, чем в окружавших его. Он казался простодушным, более искренним – более добросовестным, чем они. И, пожалуй, он – под влиянием атмосферы Госуд. Думы – более отдавал себе отчет в огромности создавшихся затруднений. Впрочем, еще недавно, в Киеве, мне приходилось слышать от Шульгина, что Чхеидзе уже в самые первые дни, чуть ли не часы, революции впадал в полное отчаяние и, хватаясь за голову, говорил, что все пропало. Чхеидзе – гораздо более красочная фигура, чем Скобелев. В нем всегда было, на мой взгляд, что-то трагикомическое, – во всем даже его внешнем облике, в выражении лица, в манере говорить, в акценте. И, конечно, самым трагическим было то, что такой человек, как Чхеидзе, оказался «вождем демократии» всей России, председателем Совета рабочих депутатов, влиятельной фигурой и, по крайней мере в то время, будущим кандидатом в председатели Учредительного Собрания, а пожалуй, – и в президенты российской республики. В заседаниях с контактной комиссией он выступал тогда, когда надо было придать особую вескость заявлению или запросу. Но, кажется, и он относился отрицательно к Стеклову.
Заседания с контактной комиссией происходили не каждый день и не в определенные дни. Инициатива их чаще всего исходила от самой комиссии: сообщалось оттуда (обыкновенно это делал Чхеидзе), что комиссия желала бы иметь совещание с Вр. Правительством для обсуждения некоторых вопросов. При этом, в большинстве случаев, правительство заранее не было уведомлено о том, какие будут поставлены вопросы, и на этой почве порою происходили довольно забавные неожиданности, обнаруживавшие всю степень разности во взглядах на относительное значение того или другого факта или мероприятия. Я помню, что одним из вопросов, наиболее привлекавших внимание на первых порах, был вопрос о похоронах жертв революции. Совет раб. депутатов с большой бесцеремонностью хотел монополизировать эту церемонию. Не предваряя Вр. Правительство, Исполнит. Комитет назначил день, опубликовал церемониал похорон и выбрал местом для братской могилы Дворцовую площадь, где, как известно, даже приступили к рытью могилы. После долгих утомительных и нелепых пререканий этот вопрос наконец был ликвидирован, правительство сгово-рилось с Испонит. Комитетом и произошла одна из тех грандиозных демонстраций, успех которых зависит отчасти от наличности массы праздных людей, готовых стать участниками или зрителями торжественных шествий, отчасти от настроения, жаждущего вылиться в какую-то демонстрацию и находящего себе здесь удовлетворение.
Как я уже сказал, примерно в конце марта в заседаниях контактной комиссии появился Церетели. Для меня это была совсем незнакомая фигура. Во времена второй Думы я его слышал неоднократно на кафедре, но не имел случая с ним встречаться. Первое впечатление безусловно подкупало в его пользу. Имя его было окружено ореолом политического муче-ничества, самого подлинного и трагического. Краткая его карьера во второй Думе, привлекшая к нему все симпатии, закончилась 10-летней ссылкой, протекавшей, по крайней мере вначале, в самых тягостных для него условиях. Наружность его как-то соответствовала тому представлению, которое созда-валось о его характере, нравственном облике. Его восточного типа лицо красиво и тонко, а большие черные глаза то горят, то подернуты какой-то тоскливой задумчивостью. Он очень незаурядный оратор. Его акцент, менее заметный, менее грубый, чем у Чхеидзе, порою придает особенно выразительную силу тому, что он говорит. Он может достигать большой силы, особенно в сочувствующей ему атмосфере, и когда говорит на излюбленные социал-демократические темы. Но рядом с этим он, может быть, и нередко бывает, нестерпимо трескучим, по существу бессодержательным и фальшивым. В этом отношении мне особенно памятны две его речи – одна, сказанная в торжественном заседании всех четырех Дум, 27 апреля, и другая – в Московском Госу-дарственном Совещании. Особенно тяжело было слушать последнюю, так ясно было, что Церетели сам совершенно не верит тому, что говорит. Между тем, обычно его речь производит впечатление большой убежденности и искренности, и в этом одно из условий ее успеха. Конечно, если подходить к его речам с какими-нибудь требованиями глубокого содержания, обилия идей, разносторонних знаний – придется испытать полное разочарование. Круг руководящих идей Церетели очень мал и узок, это, в сущности говоря, ординарнейший марксистский трафарет, крепко усвоенный еще на студенческой скамье. Все, что вне этого трафарета, все, что требует внутреннего проникновения, индивидуального подхода, самостоя-тельной работы мысли, – все это оставляет Церетели совершенно беспомощным.
Лично с ним мне пришлось войти в более близкое соприкосновение в середине сентября 1917 года в тех, организованных Керенским, совещаниях с представи-телями политических партий, результатом которых было образование кабинета последней формации (с Кишкиным, Коноваловым, Третьяковым, Смирновым, Малянтовичем, Масловым) и учреждение Совета Российской республики. Самой характерной чертой его тогдашнего настроения был страх перед растущей мощью большевизма. Я помню, как он, в беседе со мною с глаза на глаз, говорил о возможности захвата власти большевиками. «Конечно, – говорил он, – они продержатся не более двух-трех недель, но подумайте только, какие будут разрушения! Этого надо избежать во что бы то ни стало». В его голосе звучала неподдельная, паническая тревога. Он в то время верил в спасительное значение Совета Российской респуб-лики. Это название придумано им (или его единомышленниками). Он мне предложил его в тот вечер, когда я пришел, по уговору, на квартиру Скобелева, чтобы обсудить проект министерской декларации, составленной Церетели. В этот вечер у меня было очень нужное для меня свидание в другом месте, и я хотел быть свободным пораньше. Каюсь, возможно, что в силу этого обстоятельства я с недостаточной внимательностью отнесся и к тексту декларации, и к предложению назвать вновь созда-ваемое учреждение «Советом Российской республики». Должен, однако, прибавить в свое оправдание, что предыдущий опыт настроил меня скептически в отношении всяких деклараций. Я постепенно прихо-дил к убеждению, что эта вечная торговля из-за отдельных слов и выражений, какое-то староверческое упорство в отстаивании одних и в оспаривании других, все это – самое жалкое и бесплодное византийство, важное и интересное только для партийных кружков, разных центральных комитетов и проч., но на жизни совершенно не отражающееся, ей чуждое. Все содержание декларации было уже наперед выяснено в совещаниях в Зимнем Дворце, где выработана была программа министерства. Редакция этой программы казалась для меня второстепенной. Благодаря этому в первоначальном проекте, установленном Церетели и принятом мною, оказалось 2–3 очень неудачных места, которые были исправлены или даже изъяты А. Я. Гальпериным, тогдашним управляющим делами Вр. Правительства (сейчас я не могу припомнить содержание этих lapsus'os). Церетели протестовал по телефону, но в конце концов уступил. Что касается названия «Совет Российской республики», то мне, как кадету, надлежало, конечно, решительно возразить, так как мы считали совершенно неправильным установ-ление формальной квалификации того временного строя, который установился в дни переворота и должен был дожить до Учредит. Собрания. Я помню, что когда Церетели с некоторой восторженностью заявил мне: «Мы придумали название: Совет Российской республики. Правда, хорошо? Как вы думаете, В. Д.? Мне кажется, это сразу произведет большое впечатление и создаст симпатии». Я ответил, что более подходящим было бы название «Совет Российского государства» или «Совет при Вр. Правительстве»7, но первое название слишком сближало новое учреждение с прежним Государственным Советом, а второе как бы сводило его на уровень обыкновенной совещательной коллегии при правительстве. Потому я не стал спорить против предложения Церетели…
Мне придется еще вернуться ко всей этой затее с «Советом Российской республики», которой я здесь коснулся только в связи с характеристикой Церетели. Как известно, он тогда же, в конце сентября, уехал на Кавказ и вернулся в Петербург только в начале ноября, после большевистского захвата. Тогда, встретившись со мною в Городской Думе, он сказал мне: «Да, конечно, все, что мы тогда делали, было тщетной попыткой остановить какими-то ничтожными щепочками разрушительный стихийный поток».
Здесь я хочу только вставить еще один эпизод, характерный уже не для Церетели. Он просто фактически находится в связи с историей учреждения Совета республики. Когда был установлен текст «положения» об этом учреждении, мы условились с П. Н. Малянтовичем – только что назначенным новым министром юстиции, – что я приду к нему для окончательного проредактирования текста. Он мне предложил очень поздний час, 12 ночи, – я согласился. Застал я его в столь мне памятном по детским воспоминаниям кабинете в квартире генерал-прокурора, очень озабоченного… Он поведал мне причину своей озабоченности. Она касалась пресло-вутого Н. Д. Соколова, которого Керенский назначил за два-три месяца до того сенатором первого департамента. У Соколова вышло столкновение с первоприсутствующим по вопросу о мундире. Соколов не захотел подчиниться решению, принятому сенаторами, сохранить для открытых заседаний и общих собраний мундир. Он явился в одно из таких заседаний в сюртуке и имел довольно бурное, по-видимому, пререкание с Враским (меня в этом заседании не было), в результате чего вынужден был удалиться. Тогда он прислал заявление министру юстиции, в котором указывал на то, что сенат поставил совершенно незаконное и произвольное требование, заставляя сенаторов надевать на себя «эмблемы рабства» (этими словами он обозначал пуговицы на мундире с изображением двуглавого орла над законом), и сам в свою очередь требовал решения вопроса законо-дательным путем в демократическом духе. Малянтович был страшно озадачен. «Как вы думаете, что нужно сделать?» – спрашивал он меня. Я ему иронически отвечал, что не задумывался над этим серьезным и сложным вопросом, и прибавил, что на его месте бросил бы заявление Соколова в корзину под стол. «Как можно! Ведь вы же знаете Николая Дмитриевича. Он этого так не оставит. Я уже думаю образовать по этому вопросу какую-нибудь комиссию. Главное, сейчас очень трудно вводить новые пуговицы. Откуда их взять? И они будут для сенаторов новым большим расходом…» Так как я не отвечал ничего, он со вздохом закончил: «Может быть, вы потом что-нибудь надумаете по этому вопросу…»
Таким ничтожным, жалким вздором занимался член Вр. Правительства за месяц до переворота… Так, кажется, и остался до самого конца открытым вопрос о пуговицах…
* * *
Когда теперь, более года спустя, я мысленно хочу вновь пережить первые два месяца существования Временного правительства, в моем воспоминании возникает довольно хаотическая картина. Припо-минаются отдельные эпизоды, бурные столкновения, возникавшие иногда совершенно неожиданно, беско-нечные прения, затягивавшие заседание порою до глубокой ночи. Припоминается ежедневная лихо-радочная работа, начинавшаяся с утра и прерывавшаяся только завтраком и обедом. Я жил у себя на Морской, в пяти минутах ходьбы от Мариинского дворца, это было очень удобно. Припоминаются беспрестанные телефоны, ежедневные посетители, – почти полная невозможность сосредоточиться. И припоминается основное настроение: все переживаемое представ-лялось нереальным. Не верилось, чтобы нам удалось выполнить две основные задачи: продолжение войны и благополучное доведение страны до Учредительного Собрания…
Известно, что постановление Вр. Правительства об образовании особого совещания по изготовлению закона о выборах в Учредительное Собрание состо-ялось лишь в конце марта. Способ комплектования этого учреждения (назначение лиц, представленных группами и партиями) был выбран такой, который обеспечивал бы полное к нему доверие. Но к сожалению, это комплектование сильно затянулось. Фактически в этом более всего был виноват Исполнит. Комитет совета раб. депутатов, страшно запоздавший представлением своих кандидатов. Нужно, однако, сказать, что и вся постановка вопроса об Учредит. Собрании заключала в себе внутренний порок, и это бессознательно ощущалось с первых же дней. Нередко мне приходилось впоследствии слышать такие мнения: Вр. Правительство должно было немедленно, в первые же дни, образовать небольшую комиссию из нескольких наиболее знающих и авторитетных юристов, поручить им в двухнедельный срок выработать закон о выборах и назначить выборы возможно скорее, в мае, например. Помню, что такую мысль высказывал, в числе других (несколько неожиданно), Л. М. Брамсон. Лично я, с первых же дней пребывания в должности управляющего делами, неоднократно и настойчиво заговаривал с кн. Львовым о необходимости возможно скорее поднять в конкретной форме и разрешить вопрос. Но всегда оказывались другие, более настоятельные, не терпящие отлагательства дела. Когда же образовано было наконец особое совещание и началась разработка закона, весь аппарат оказался столь сложным и громоздким, что стало невозможным рассчитывать на сколько-нибудь быстрое окончание работы и назначение выборов в близком будущем. Следует ли из этого, что другой план – образование маленькой комиссии, быстрая разработка закона, назначение выборов возможно скорее – был и осуществим и целесообразен? Я этого не думаю. Прежде всего, для меня несомненно, что начался бы немедленный поход против правительства, с обвинением его в намерении составить закон кабинетным, бюрократическим путем. Всякие недостатки этого закона ставились бы на счет правительству. Подрывался бы авторитет соста-вителей – и, конечно, выполненного ими проекта. Думаю, что и сами составители оказались бы в величайшем затруднении по ряду коренных, принципиальных решений, – хотя бы, например, по вопросу о той или другой системе выборов – мажоритарной или пропорциональной, или по вопросу об участии в выборах чинов действующей армии и флота, или, наконец, по организации выборов на окраинах. Но допустим, что все эти затруднения удалось бы преодолеть. Как можно было организовать выборы в России, сверху донизу потрясенной переворотом, в России, еще не имеющей ни демократического самоуправления, ни правильно налаженного местного административного аппарата? А выборы в армии?.. Но, конечно, самый огромный риск заключался бы в самом созыве Учредит. Собрания. Наивные люди могли теоретически представлять себе это собрание и роль его в таком виде: собралось бы оно, выработало бы основной закон, разрешило вопрос о форме правления – назначило бы правительство и облекло его всею полнотою власти для окончания войны, а затем разошлось бы… Это можно себе представить, но кто поверит, что так в самом деле могло случиться? Если бы до Учредит. Собрания удержалась какая-нибудь власть, то созыв его был бы несомненно началом анархии.
Теперь опыт с Учредит. Собранием проделан. Вероятно, сами большевики в октябре еще не представляли, что уже в начале января, два месяца спустя после переворота, удастся так легко разделаться с этим собранием. Как известно, одно из обвинений, предъявленных ими Временному Правительству, заключалось в том, что Вр. Правительство затягивало выборы… А когда для них Учредит. Собрание оказалось не подходящим, они без колебаний его разогнали. Если бы Вр. Правительство чувствовало подлинную, реальную силу, оно могло сразу объявить, что созыв Учредит. Собрания произойдет по окончании войны, – и это, конечно, по существу было бы единственно правильным решением вопроса, после того как отказ Михаила Александровича сделал необходимой постановку вопроса о форме правления. Но Вр. Правительство не чувствовало реальной силы. Ибо с первых же дней его существования началась та борьба, в которой на одной стороне стояли все благоразумные и умеренные, но – увы! – робкие, неорганизованные, привыкшие лишь повиноваться, неспособные властвовать элементы общества, а на другой – организованное rascality, со своими тупыми, фанатическими, а порою бесчестными вожаками.
Центром тяжести всего положения сразу стал вопрос об армии.
Недели через три после переворота, начиная с двадцатых чисел марта, стали прибывать в Петербург депутации с фронта. Целью их приезда выставлялось, с одной стороны, – заявить Вр. Правительству о своей готовности поддержать новый строй и защищать свободу, а с другой, – уяснить себе настоящую сущность отношений между Вр. Правительством и Советом раб. депутатов. Депутации прибывали ежедневно, с разных фронтов, от разных частей, в более или менее многочисленном составе, с командирами и офицерами во главе, с красными значками и красными знаменами. Почти всегда Вр. Правительство принимало их в ротонде Мариинского дворца. Помню, как в начале меня поражала картина внутренности этого дворца и как трудно было сочетать ее со старыми воспоминаниями, относящимися к эпохе дореформенного Совета и моей службы в Госу-дарственной канцелярии. Тогда Мариинский дворец был святилищем высшей бюрократии. В нем помещались Государственный Совет с Государст-венной канцелярией, Комитет Министров и его канцелярия и канцелярия по принятию прошений, на Высочайшее Имя приносимых. В великолепных залах дворца, устланных бархатными коврами, обвешанных тяжелыми драпировками, уставленных золоченой мебелью, бесшумно двигались необыкновенно статные камер-лакеи в расшитых ливреях и белых чулках, разнося чай и кофе. В дни заседаний пленума (по понедельникам) царила какая-то взволнованная торжественность. Внушительные фигуры по большей части престарелых сановников, в лентах и орденах, – военные и придворные мундиры, – сдержанные разговоры – всё создавало какую-то атмосферу недоступности, оторванности от низменной буднич-ной жизни. В эти дни человек в пиджаке показался бы какой-то неприличной и дикой аномалией, если бы он вдруг очутился в среде этих выхоленных, нарядных, осанистых людей.
Сейчас все это исчезло бесследно. Мариинский дворец подвергся радикальному «опрощению». В его роскошные залы хлынули толпы лохматых, небрежно одетых людей, в пиджаках и косоворотках самого пролетарского вида. Великолепные лакеи, сменив ливреи на серые тужурки, потеряли всю свою представительность. Прежнее торжественное священ-нодействие заменилось крикливой суетой. Все это произошло хотя и постепенно, но в очень короткий промежуток времени. В первые недели в Мариинском дворце собиралось только Вр. Правительство да Юридическое Совещание. Тогдашний «револю-ционный» городской голова Ю. Н. Глебов настойчиво хлопотал о том, чтобы большой зал Государственного Совета, вместе с аванзалом, был предоставлен Городской Думе для ее заседаний. Я так же настойчиво противодействовал этой попытке, которая и провалилась. Но зато Мариинский дворец очень скоро стал центральным местом всяких комиссий, а когда начало свои работы Совещание по выработке закона о выборах в Учредит. Собрание, бывали дни, когда все залы, до ротонды включительно, были заняты комиссиями. В марте еще этого не было, ротонда почти всегда бывала свободна, и ею пользовались для приема воинских депутаций.
Как больно, как тягостно сейчас вспоминать об этих депутациях! Сколько выслушано было нами заявлений о готовности поддержать всеми силами «Народное Временное Правительство», дружно отстаивать свободу и неприкосновенность родины, не слушать смутьянов, не поддаваться на происки врагов! Какие горячие, часто восторженные речи! Правда, лица солдат по большей части выражали – в лучшем случае – какую-то растерянную тупость; правда, в словах офицеров не чувствовалось ни уверенности, ни властности, и часто резала революционная фраза, гибельная по своему духу. Правда, казалась непонятной и неправдо-подобной эта внезапная революционная созна-тельность и шевелился в душе вопрос: не есть ли это просто голос бунтарства, не сказывается ли здесь элементарный протест против всякой дисциплины, всякого подчинения? Главной темой речей был почти неизменно вопрос об отношениях между Вр. Правительством и Советом раб. депутатов. Часто говорилось, что армия смущена и недоумевает под впечатлением какого-то двоевластия, что ей нужна единая власть. В ответ на это из уст представителей правительства слышались довольно-таки елейные заявления о том, что никакого двоевластия нет, что между ним, Вр. Правительством, и Советом раб. депутатов полное единение, взаимное доверие, наилучшие отношения. Говорилось и на тему о войне, но здесь как-то меньше всего чувствовалось уверенности.
Первые депутации производили и на Вр. Правительство и на самых депутатов сильное впечатление. Казалось, что устанавливается какая-то духовная связь с армией, и что можно будет удержать или даже воссоздать крепкую и стойкую военную силу. Но это только казалось. Прибывавшие с фронта депутации вступали в контакт не только с правительством, но и с Советом депутатов. Прави-тельство ограничивалось тем, что принимало их в залах Мариинского дворца, выслушивало, отвечало, депутации кричали ему «ура» – и уходили в Таврический дворец, где им прежде всего внушали убеждение в величии и всемогуществе Совета раб. депутатов и его Исполнительного Комитета и где всевозможные безответственные люди занимались демагогической и анархической пропагандой. Эту же пропаганду они встречали везде – на уличных митингах, в казармах – они входили в соприкосновение с разнузданными и развращенными элементами Петербургского гарнизона, гордящимися тем, что «мы сделали революцию», и сами развращались. В результате паломничество депутаций от армий в Петербурге сделалось средством заражения и разло-жения войск, а не их оздоровления.
Когда в середине апреля ген. Алексеев приехал в Петербург и в заседаниях Вр. Правительства (собиравшегося, по случаю болезни Гучкова, на его квартире) обрисовывал настроение в армии, я хорошо припоминаю, какое чувство жути и безнадежности меня охватывало. Вывод был совершенно ясен. Несмотря на все оговорки, приходилось уже тогда констатировать, что революция нанесла страшнейший удар нашей военной силе, что ее разложение идет колоссальными шагами, что командование бессильно. Обнаружилось в командном составе два течения, два типа людей. Одни очень скоро поняли, что они могут удержаться на своих местах только безудержным потаканием революционизированных солдат, заиски-ванием, утрированием новых «товарищеских» отношений, – попросту говоря – подличанием перед солдатами. Эти лица, конечно, только способствовали разрушению дисциплины, утрате сознания воинского долга, – вообще, гибели армии. Другие не хотели мириться с новыми порядками и новым духом, пытались им противодействовать, проявить власть, – и либо попадали в трагические истории, либо оказывались неудобными в глазах более высокого начальства и были смещаемы со своих должностей. Таким образом, лучшие, наиболее сильные, наиболее добросовестные элементы исчезали, а оставалась либо жалкая дрянь, либо особенно ловкие люди, умевшие балансировать между двумя крайностями.
В моих бумагах хранится несколько писем, в то время и позже мною полученных от гр. Н. Н. Игнатьева, человека, прослужившего всю свою жизнь на военной службе, командовавшего во время войны Преображенским полком, – настоящего офицера и притом очень неглупого, вдумчивого и серьезного человека. Если не ошибаюсь, революция застала его либо начальником штаба гвардейского корпуса, либо начальником гвардейской пехотной дивизии. Эти его письма произвели на меня большое впечатление. Они подтвердили мои худшие догадки. Сейчас их у меня нет под рукой, и я не могу проверить даты, но мне помнится, что очень скоро в этих письмах зазвучала такая нота: надо отдать себе ясный отчет в том, что война кончена, что мы больше воевать не можем и не будем, потому что армия стихийно не хочет воевать. Умные люди должны придумать способ ликвидировать войну безболезненно, иначе произойдет катастрофа… Я показал одно из писем Гучкову. Он его прочел и вернул мне, сказав при этом, что он получает такие письма массами. «Что же вы думаете по этому поводу?» – спросил я. Он только пожал плечами и ответил что-то вроде того, что приходится надеяться на чудо. Но чудо не произошло, процесс пошел естественным и необходимым путем и привел к естественному и необходимому концу.
Большевистский переворот (Октябрь 1917 г.)
В одном из мартовских заседаний Временного Правительства, в перерыве, во время продолжавшегося разговора на тему о все развивающейся большевистской пропаганде, Керенский заявил – по обыкновению, истерически похохатывая: «А вот погодите, сам Ленин едет… Вот когда начнется по-настоящему!» По этому поводу произошел краткий обмен мнениями между министрами. Уже было известно, что Ленин и его друзья собираются прибегнуть к услугам Германии для того, чтобы пробраться из Швейцарии в Россию. Было также известно, что Германия как будто идет этому навстречу, хорошо учитывая результаты. Если не ошибаюсь, Милюков (да, именно он!) заметил: «Господа, неужели мы их впустим при таких условиях?» Но на это довольно единодушно отвечали, что формальных оснований воспрепятствовать въезду Ленина не имеется, что, наоборот, Ленин имеет право вернуться, так как он амнистирован, что способ, к которому он прибегает для совершения путешествия, не является формально преступным. К этому прибавляли, – уже с точки зрения политической целесообразности подходя к вопросу, – что самый факт обращения к услугам Германии в такой мере подорвет авторитет Ленина, что его не придется бояться. В общем, все смотрели довольно поверхностно на опасности, связанные с приездом вождя большевизма. Этим был дан основной тон. Связанное своими провозглашениями свобод, само беспрерывно митингуя, Вр. Правительство не считало возможным противодействовать, хотя бы самой необузданной и разрушительной пропаганде, устной и в печати.
В газетах того времени нашло себе отражение то странное и неожиданное впечатление, которое произвел приезд Ленина и его первые выступления. Даже Стеклов-Нахамкис нашел нужным заявить, что Ленин, по-видимому, потерял контакт с русской действительностью. «Правда» не сразу сумела подняться до уровня своего идейного вождя. В Исполнит. Комитете первоначальное смущение скоро перешло в определенную враждебность. Но колос-сальную настойчивость и самоуверенность Ленина нельзя было, конечно, победить так просто. Все последующее показало, до какой степени ясно, даже в деталях, был продуман план. Он немедленно, шаг за шагом, начал осуществляться, причем главным рычагом было утомление армии войною и начавшееся на фронте, под прямым влиянием Петербургского переворота, быстрое – можно сказать катастро-фическое – разложение.
По своим воспоминаниям мне приходится констатировать, что Вр. Правительство с изумительной пассивностью относилось к этой гибельной работе. О Ленине почти никогда не говорили. Помню, Керенский уже в апреле, через некоторое время после приезда Ленина, как-то сказал, что он хочет побывать у Ленина и побеседовать с ним, и в ответ на недоуменные вопросы пояснил, что «ведь он живет в совершенно изолированной атмосфере, он ничего не знает, видит всё через очки своего фанатизма, около нет никого, кто бы хоть сколько-нибудь помог ему ориентироваться в том, что происходит». Визит, сколько мне известно, не состоялся. Не знаю, отклонил ли его Ленин, или Керенский сам отказался от своего намерения. Затем, как я уже, кажется, отмечал, неоднократно возникали во Вр. Правительстве разговоры по поводу безобразий, творившихся с домом Кшесинской, – частной собственностью, захваченной явно насильственным способом и ежедневно подвергавшейся порче и разрушению. Но дальше разговоров дело не шло. Когда поверенный Кшесинской возбудил у мирового судьи иск о выселении организаций, произвольно завладевших особняком, Керенский с удовольствием указывал, что вот наконец вступили на правильный путь. Но когда его спросили, каким же образом будет приведено в исполнение решение мирового судьи, он ответил, что это его не касается, что это – дело администрации, исполнительной власти, Министерства внутренних дел, – каковое министерство в то время находилось в нетях. Как известно, в конце концов удалось выселить большевиков, но дело уже было сделано, – они вполне и до конца использовали свою площадную трибуну.
В первом, до известной степени организованном, выступлении против Вр. Правительства, 19–21 апреля, когда войска пришли к Мариинскому дворцу с плакатами, требовавшими отставки Милюкова, еще не была ясна роль большевиков. Выступление это было ликвидировано, как известно, вполне безболезненно. Население Петербурга в огромной своей массе реагировало вполне определенно в пользу Вр. Правительства. В эти дни Гучков хворал, и заседания происходили у него на квартире. Я помню бурный день, начавшийся появлением войск на площади Мариинского дворца и закончившийся беспрерывным митингом перед домом военного министерства и горячими овациями по адресу Милюкова и Гучкова. В тот день еще чувствовалась большая моральная сила Вр. Правительства, остававшаяся – увы! – совершенно неиспользованной… Петербург тогда как бы впервые почуял возможность будущих потрясений и в массе своей сказал, что он их не хочет.
История июльских дней – дней второго выступления войск, на этот раз уже имевшего характер настоящей попытки восстания, – когда-нибудь будет исследована во всех подробностях, и выяснится весь тайный ход ее. Я хочу только вспомнить свои личные переживания и впечатления. В то время я уже давно перестал быть управляющим делами Временного Правительства. Официальные мои занятия были, однако, довольно разнообразны, так как я работал в Юридическом Совещании и в комиссиях и пленуме Совещания по составлению закона о выборах в Учредит. Собрание. Кроме того, я был членом комиссии по пересмотру и введению в действие Уголовного Уложения. Кстати сказать: как больно теперь вспомнить всю эту напряженную работу, поглотившую столько труда, энергии, времени, – работу, часто очень высокого качества (я, конечно, имею в виду работу коллектива, а не свое личное участие) – и оставшуюся абсолютно бесплодной, наполовину забытой!..
О том, что готовится вооруженное выступление большевиков, уже давно ходили толки. Керенский находился на фронте. Пропаганда уличная, митинговая и газетная с каждым днем становилась необузданнее. После первых известий об успехах в первые дни наступления (18 июня) стали приходить тревожные слухи. Настроение создавалось беспокойное, подав-ленное.
2 июля у нас было назначено в помещении Центрального Комитета заседание, по обыкновению в 8 1/2 часов вечера. Отправившись туда после обеда, я заметил, подходя к набережной, очень большое оживление. По Миллионной было много солдат, какие-то части стояли на Марсовом поле, около начала Миллионной. Слышались шумные разговоры, что-то рассказывали об идущих с того берега Невы демонстрациях. Суворовская площадь была запружена народом. Уже пройдя мимо английского посольства, я увидел, что по Троицкому мосту, с Петербургской стороны, движется большая толпа со знаменами и плакатами. Иду дальше. На Французской набережной меня обгоняет мотор, наполненный вооруженными солдатами, расположившимися внутри и лежащими на передних крыльях с наведенными вперед винтовками. Те же безумные, тупые, зверские лица, какие мы все помним в февральские дни… Промчался в том же направлении броневик. Придя в помещение Центрального Комитета, я встретил там одну из служащих в секретариате и узнал от нее, что заседание состоится не здесь, а на Фурштадтской: она назвала номер. Я отправился на Фурштадтскую. На углу Шпалерной и Литейной трудно было двигаться. Стояли плотные массы народу, слышались нестройные крики, а с Литейной шли вооруженные толпы рабочих, направлявшиеся затем налево по Шпалерной, к Таврическому дворцу и к Смольному. На плакатах были большевистские надписи: «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам» и др. Лица были мрачные, злобные. Я пошел по Литейной к Фурштадтской, но, придя к указанному мне дому, должен был убедиться, что мне, по-видимому, дали неверный адрес. Пришлось идти обратно на Французскую набережную, выяснить недоразумение и вернуться вновь на Фурштадтскую, получив уже правильное указание. Заседание происходило в одной из квартир большого дома, с двумя парадными подъездами. Я застал Центральный Комитет в довольно большом составе. Председательствовал Милюков. Обсуждался проект обращения к населению. Обмен мнениями шел как-то вяло, – поминутно выходили в соседнюю комнату, звонил телефон, происходили a parte. Мы сидели уже больше часа, когда пришли сообщить, что к дому подъехал броневик и что выход на улицу занят солдатами. Это известие вызвало оживленный разговор по вопросу о том, не следует ли как-нибудь и куда-нибудь укрыть Милюкова и Шингарева8: провести их по черному ходу, отвести в какую-нибудь другую квартиру. Но оба они заявили, что если хозяев квартиры не смущает их дальнейшее пребывание, они останутся. Заседание продолжалось, и обсуждение закончилось без каких-либо инцидентов. Кажется, и Милюков, и Шингарев остались ночевать в квартире. Выяснилось, что броневик уехал и что выход на улицу свободен. Был двенадцатый час ночи, было душно и пыльно. Мне предстоял большой путь. Я решил пойти по Литейной, Пантелеймоновской, мимо Летнего сада и Марсова поля на Мойку и через Дворцовую площадь прямо к Исаакию. Несмотря на поздний час, на Литейном было совсем дневное оживление. То и дело сходились кучками, шли солдаты с винтовками, матросы, гудели автомобили. Поближе к Марсову полю стало тише и пустыннее. Я прошел свой путь без всяких инцидентов и, дойдя (по Адмиралтейскому бульвару) до Вознесенского проспекта, свернул налево. Перед гостиницей «Англия» стояла кучка встревоженных жильцов, – среди них моя кузина Катя Д., сказавшая мне, что войска стоят на Морской, вдоль площади (Мариинской) и на улицах, и что меня едва ли пропустят. Я, однако, направился мимо дома Мятлевых и германского посольства к Морской и прошел беспрепятственно. Войска были расположены двумя длинными шеренгами, захватывавшими и часть Морской, – до итальянского посольства примерно.
По-видимому, это были войска, вызванные правительством для охраны Мариинского дворца.
Ход событий в последующие дни припоминается мне смутно. Физиономия города быстро изменилась. Исчезли автомобили частных людей, по улицам помчались броневики и моторы, набитые воору-женными рабочими и солдатами. То и дело в разных местах вспыхивала перестрелка, с разных сторон начинали трещать выстрелы. Многочисленная публика, переполнявшая тротуары Невского проспекта, вдруг шарахалась в сторону, бросалась опрометью бежать, чуть не сбивая с ног встречных. То и дело появлялись большие отряды, шедшие куда-то с красными знаменами и плакатами уже отмеченного содержания.
Стояли чудесные жаркие дни, сияло солнце, – какой-то разительный контраст между жизнью природы и тревожными, взволнованными впечат-лениями от всего происходящего. Мариинский дворец опустел, в заседания комиссий никто почти не являлся. Я ходил по улицам, бывал в редакции «Речи», старался ориентироваться в том, что совершалось. Кн. Львов и кое-кто из министров находились в штабе округа (на Дворцовой площади). Рассказывали, что в первый день была сделана неудачная попытка арестовать Вр. Правительство. Все чего-то напряженно ждали… Кончилась вся история, как известно, прибытием верных правительству войск с фронта (кавалерийская дивизия), изоляцией и последующим обезоруживанием восставших, полной победой правительства и временной – увы! – ликвидацией большевизма. Это был момент, который Вр. Правительство вполне могло использовать для окончательной ликвидации Ленина и К°. Оно не решилось это сделать. Новая правительственная декларация содержала лишь новые уступки социализму и циммервальдизму, – затем покинул свой пост кн. Львов и правительство перешло к Керенскому…
После июльского кризиса, образования нового министерства, созыва Московского Государственного Совещания, корниловской истории и временного функционирования так называемой «директории», – учреждение «Совета Российской республики» и призыв в состав правительства представителей торгово-промышленного элемента (Третьякова, Смирнова, Коновалова), а также видных кадетов (Кишкина) – были последней попыткой противопоставить нечто растущей волне большевизма. Я принимал деятельное участие в этом последнем фазисе существования Вр. Правительства. Милюков и Винавер были в отъезде, я фактически стоял во главе Центрального Комитета. Выше я уже рассказал кое-какие эпизоды, относящиеся к этому времени. Когда выяснилось, что Церетели, игравший в переговорах наиболее видную роль (со стороны социалистов), уезжает на Кавказ и в заседаниях Совета не будет принимать участия, я спросил его, с кем же нам придется иметь дело при партийных переговорах и соглашениях. Он указал на Ф. Дана (Гурвича).
Как известно, при создании Совета республики сговаривавшиеся стороны (социалисты и кадеты, главным образом) преследовали совершенно опреде-ленную цель – укрепление Вр. Правительства в его борьбе с большевизмом. Нужно было разрядить атмосферу, дать правительству трибуну, с которой оно могло выступать официально и открыто перед всей страной, дать ему реальную поддержку в лице партий, выступивших в коалицию и представленных в самом правительстве. Для всего этого требовалось, конечно, прежде всего твердое и ясное решение всех партий в двух направлениях: борьбы с большевизмом – поддержки власти. Когда заключена была работа по намечанию будущих членов Совета республики, я и Аджемов сговорились с Гоцом, Даном и Скобелевым и условились встретиться (на квартире Аджемова), чтобы выяснить дальнейший план действий и установить тактический план.
Если не ошибаюсь, мы раза два собирались у Аджемова, и я живо вспоминаю то чувство безнадежности и раздражения, которое постепенно овладевало мною во время этих разговоров. Я Дана знал мало, встречался с ним в 1906 году и с тех пор его не видал. Его отношение к создавшемуся положению вещей имело очень мало общего с отношением Церетели. На наше (с Аджемовым) определенное заявление, что главнейшей задачей вновь учреж-денного Совета мы считаем создание атмосферы общественного доверия вокруг Вр. Правительства и поддержки его в борьбе с большевиками, Дан ответил, что он и его друзья не склонны наперед обещать свое доверие и свою поддержку, что все будет зависеть от образа действий правительства, и что, в частности, они не видят возможности встать на точку зрения борьбы с большевиками прежде всего и во что бы то ни стало… «Но ведь в этом-то и заключалась вся цель нашего соглашения», – возражали мы, – «а Ваше теперешнее отношение есть опять-таки прежнее двусмысленное, неверное, колеблющееся доверие – „постольку, поскольку“, которое ничуть не помогает правительству и не облегчает его задачи». Дан вилял, мямлил, вел какую-то талмудическую полемику… Мы разошлись с тяжелым чувством – с сознанием, что начинается опять старая канитель, что наши «левые друзья» неисправимы и что все затраченные нами усилия, направленные к тому, чтобы добиться соглашения и поддержки власти в ее борьбе с анархией и бунтарством, едва ли не пропали даром.
В конце концов, как известно, оно так и оказалось. Вр. Правительство не имело в Совете республики определенного и прочного большинства, которое бы его поддержало. Решающее значение в этом вопросе имел, как мне кажется, демонстративный уход большевиков, после которого крайнюю левую пришлось занять интернационалистам, связанным довольно тесно с прочим социалистическим болотом. Совет оказался весьма громоздкой машиной и много времени пошло на то, чтобы его сорганизовать и пустить в ход. Совещание старшин можно было смело назвать синедрионом. Подавляющая часть его состава были евреи. Из русских были только Авксентьев, я, Пешехонов, Чайковский… Помню, что на это обстоятельство обратил мое внимание Марк Вишняк, сидевший – в качестве секретаря – рядом со мною (я был товарищем председателя).
В предварительных переговорах выяснилось, что в председатели Совета намечен Авксентьев, в товарищи председателя – Пешехонов, Крохмал и я, в секретари – Вишняк. С Авксентьевым я раньше не был знаком, – его сумбурно-бессодержательная речь на Московском Совещании (произнесенная им в качестве министра внутренних дел) произвела на меня очень невыгодное впечатление. Более близкое знакомство в течение октября и ноября изменило это впечатление. Лично Авксентьев очень привлекательный человек, – несомненно искренний, отнюдь не страдающий самомнением, хорошо отдававший себе отчет в том, что Россия находится на краю бездны. Как председатель Совета, он держал себя безукоризненно, а в личных отношениях был и корректен и приятен. При всем том, однако, о нем менее всего можно было бы сказать, чтобы он был выдающейся, сильной личностью, способной импонировать другим и вести их за собою. Как председатель, он показал полную объективность и беспристрастие, но конечно, ему трудно было за один месяц – даже меньше – завоевать себе какой бы то ни было авторитет.
Одна из практических задач, которые наша партия себе поставила в совете, заключалась в том, чтобы добиться удаления ген. Верховского с поста военного министра. Он с самого начала обнаружил свою полную несостоятельность и представлялся прямо какой-то загадочной фигурой, каким-то психопатом, не заслуживающим никакого доверия. Против Верховс-кого выступили в Совещании сперва Аджемов, чрезвычайно резко и страстно, а потом К. Н. Соколов (пользовавшийся материалами, доставленными ему Аджемовым). Несколько времени спустя, должно быть, в десятых числах октября, придя утром из кабинета Аксентьева, где происходило заседание президиума, в зал заседания совета, я застал Шингарева, Милюкова и Аджемова совещающимися. Они сообщили мне, что пришел в Мариинский дворец посланец от генерала Верховского и передал от имени последнего, что он желал бы побеседовать по серьезным вопросам с лидерами к.-д. и просит, в случае их на то согласия, указать какое-либо нейтральное место, где бы можно было собраться. Мы предложили Верховскому приехать в Мариинский дворец, но он по телефону ответил, что предпочел бы сойтись где-нибудь не так на виду. Тогда остановили выбор на моей квартире, на Морской. Время было назначено 2 часа дня. Мне кажется, что кроме названных выше лиц от кадетов участвовал также Ф. Ф. Кокошкин. Верховский приехал аккуратно в назначенный час, в сопровождении адъютанта. Мы уселись в моем кабинете, кругом. Верховский сразу вошел in medias res, заявил, что он хотел бы знать мнение лидеров к.-д. по вопросу о том, не следует ли немедленно принять все меры – в том числе воздействие на союзников – для того, чтобы начать мирные переговоры. Затем он стал мотивировать свое предложение и развернул отчасти знакомую нам картину полного развала армии, отчаянного положения продовольственного дела и снабжения вообще, гибель конского состава, полную разруху путей сообщения, с таким выводом: «При таких условиях воевать дольше нельзя, и всякие попытки продолжать войну только могут приблизить катастрофу».
Мое положение было психологически очень трудное. Не менее, как за месяц до того, я принимал участие в частном совещании, созванном кн. Григорием Ник. Трубецким как раз по этому вопросу. В этом заседании были Терещенко и Нератов, а из приглашенных припоминаю Родзянко, Коновалова, Третьякова (оба уже были министрами), Савича (члена Государственной Думы), Стаховича Мих. Ал., Маклакова, П. Б. Струве, бар. Б. Э. Нольде, – кажется, все, Милюков отсутствовал, его в то время не было в Петербурге. Вопрос, собственно, сводился к тому, допускает ли конъюнктура данного момента ориентацию в сторону мира и требуется ли такая ориентация нашим военным положением.
За время, довольно долго предшествовавшее этому совещанию, я неоднократно и со все растущей тревогой задумывался над этим вопросом. Мне пришлось раз довольно случайно, в Зимнем дворце, поговорить на эти темы с Терещенко и высказать ему мои опасения. Он, в сущности, их разделял, но все же утверждал, что по словам генерала Алексеева возможно оздоровление и реорганизация армии и подготовка к весенней кампании, – пока же нужно и можно держать фронт. Должен сказать, что меня нисколько не убедили его соображения. Когда затем, главным образом по инициативе бар. Нольде и Аджемова, вопрос был поставлен в Центральном Комитете у нас (это было, должно быть, в двадцатых числах сентября и также в отсутствие Милюкова), бар. Нольде сделал обширный доклад, сводившийся к тому, что чем дольше продолжается война, тем больше и невознаградимее наши потери, что армия наша все в большей степени становится добычей большевизма, что по всему ходу дел можно уже теперь предвидеть окончание войны «ни в чью», без решительной победы с чьей бы то ни было стороны, и что нам нужно напрячь все силы для того, чтобы побудить союзников к мирным перего-ворам, так как о сепаратном мире, понятное дело, не может быть речи.
Центральный Комитет отнесся к докладу и ко всему в нем развитому ходу мыслей – в подавляющем большинстве своем – отрицательно. Защищали его, сколько мне помнится, только А. А. Добровольский (очень решительно и определенно) и я. Никаких постановлений сделано не было, было решено дождаться возвращения Милюкова и вновь поставить во всем объеме вопрос о войне и о международной политике. Кстати сказать, это обсуждение так и не состоялось. Милюков вернулся только около 10-го октября (после нашего московского съезда), а через две недели произошел большевистский переворот.
На совещании у Трубецкого бар. Нольде более или менее точно воспроизвел всю свою аргументацию. И на этот раз она в общем не встретила сочувствия. Особенно резко возражал М. В. Родзянко, возражал и Савич, и другие. Суть возражений заключалась отчасти в оспаривании факта полного и бесповоротного разложения нашей армии, отчасти в указании, что нет ни малейших данных рассчитывать на склонность наших союзников отнестись сколько-нибудь благо-приятно к какой бы то ни было нашей инициативе в постановке вопроса о мирных переговорах. Я и тут поддерживал Нольде. А. И. Коновалов с большим жаром и искренностью также присоединился к его выводам. Помню его слова о том, что то правительство, которому удалось бы дать России мир, приобрело бы огромную популярность и сделалось бы чрезвычайно сильным.
Мне пришлось уйти до конца заседания и я не слыхал речей Струве и Маклакова, но, как мне потом сказали, из них только последний отчасти поддерживал Нольде. Было решено периодически собираться для обмена мнениями, но вторичного собрания уже не было.
Само собою разумеется, что и в Центральном Комитете, и в этом совещании у Трубецкого мое положение было иное, чем при беседе с Верховским. Он к нам обращался, как к лидерам кадетов. Наиболее авторитетными среди нас были, конечно, Милюков и Шингарев. Они сразу обрушились на Верховского. Мне приходилось молчать, – тем более что как бы ни была обоснованна и доказательна аргументация Верховского, его собственная несостоятельность была слишком очевидна и ожидать от него планомерной и успешной деятельности в этом сложнейшем и деликатнейшем вопросе было невозможно. Он и здесь, и раньше всею своею личностью вызывал определенно отрицательное отношение. Можно было опасаться, что, предоставленный своей собственной инициативе, он заведет нас в безвыходный тупик. Кроме того, все его недавнее прошлое было настолько – в политическом отношении – сомнительно, что не исключалось предположение, что он просто играет в руку большевикам. Разговор закончился тем, что Верховский спросил: «Таким образом я не могу рассчитывать на Вашу поддержку в этом направлении?» и, получив отрицательный ответ, встал и раскланялся, – а на другой день, в вечернем заседании комиссии Совета Республики (комиссии по военным делам) повторил в дополненном виде всю свою аргумен-тацию, с теми же выводами. Здесь произошло его столкновение с Терещенко, поставившим ему в упор вопрос (на который он должен был ответить утвердительно): «Может ли он, Верховский, подтвердить, что всё, им сказанное, впервые говорится в заседании комиссии и что в правительстве никакого обмена мнениями по этому вопросу не было?» Верховский ответил, что действительно он до настоящего времени такого доклада в заседании Вр. Правительства не делал. Впечатление получилось совершенно скандальное. Верховский был уволен в отпуск, причем подразумевалось, что он из отпуска не вернется. А через несколько дней произошел большевистский переворот.
В эти октябрьские дни, в хорошо мне знакомом доме № 10 на Адмиралтейской набережной, в бывшей квартире моего тестя, теперь занятой А. Г. Хрущевым (это была квартира управляющего дворянским банком), ежедневно, в шестом часу, собирались министры к.-д. (Коновалов, Кишкин, Карташов, примыкающий Третьяков), вместе с делегированными в эти совещания членами Центрального Комитета – Милюковым, Шингаревым, Винавером, Аджемовым и мною. Цель этих совещаний заключалась в том, чтобы, во-первых, держать министров в постоянном контакте с Центральным Комитетом и, с другой стороны, иметь постоянное и правильное осведомление обо всем, происходящем в правительстве. В этих наших собраниях Коновалов имел всегда крайне подавленный вид, и казалось, что он потерял всякую надежду. «Ах, дорогой В. Д., худо, очень худо!» – эту его фразу я хорошо помню, он неоднократно говорил мне ее (ко мне он относился с особенным доверием и доброжелательностью). В особенности его угнетал Керенский. Он к тому времени окончательно разоча-ровался в Керенском, потерял всякое доверие к нему. Главным образом его приводило в отчаяние непостоянство Керенского, полная невозможность положиться на его слова, доступность его всякому влиянию и давлению извне, иногда самому случайному. «Сплошь и рядом, чуть ли не каждый день так бывает», – говорил он. «Сговоришься обо всем, настоишь на тех или других мерах, добьешься, наконец, согласия. – „Так как, Александр Федорович, теперь крепко, решено окончательно, перемены не будет?“ – Получаешь категорическое заверение. Выходишь из его кабинета – и через несколько часов узнаешь о совершенно ином решении, уже осуществ-ленном или, в лучшем случае, о том, что неотложная мера, которая должна была быть принята именно сейчас, именно сегодня, опять откладывается, возникли новые сомнения или воскресли старые, – казалось бы, уже устраненные. И так изо дня в день. Настоящая сказка про белого бычка». Особенно беспокоило его и всех нас военное положение Петербурга и роль полковника Полковникова, к которому он не чувствовал ни капли доверия. По-видимому, Керенский в эти дни находился в периоде упадка духа, подвинуть его на какие-нибудь энергические меры было совершенно невозможно, а время шло, большевики работали вовсю, все меньше и меньше стесняясь. Положение с каждым днем становилось все более и более грозным. Слухи о предстоящем в ближайшие дни выступлении большевиков ходили по городу, волнуя и тревожа всех. В эти дни было отдано – совершенно академическое – распоряжение об аресте Ленина.
Накануне большевистского восстания, как известно, Керенский появился в Совете республики, сообщил о раскрытом заговоре и просил поддержки и полномочий. Случайно меня не было в это время в Мариинском дворце, я вернулся немного спустя и застал картину полной растерянности. Происходил обычный тягостный и в данных условиях особенно поражавший своим ничтожеством и ненужностью процесс отыскивания таких компромиссных формул, которые могли бы быть поддержаны каким ни на есть большинством. Кадеты в конце концов своей формулы не предложили, решив примкнуть к формуле народных социалистов и кооперативов, но эти последние голосовали далеко не дружно, и в результате, после проверки голосования путем выхода в двери, большинства не составилось. В наиболее решительный момент Совет республики оказался несостоятельным, он не дал правительству нравственной поддержки, – напротив того, он нанес ему моральный удар, обнаружив его изолированность. Я не решусь сказать, что иное голосование предотвратило бы на сколько-нибудь долгий срок течение событий и помешало бы большевикам, но результат этого печального и постыдного дня не мог не поднять их духа, не окрылить их надеждой, не придать им решимости. И с другой стороны, в этот день с особенной яркостью выказались отрицательные черты нашей «революционной демок-ратии», ее близорукая тупость, фанатизм слов и формул, отсутствие государственного чутья. Никакое разумное, сильное, настоящее правительство с такими элементами работать бы не могло. Мы разошлись крайне подавленные.
На другой день, часу в десятом утра, когда я еще был в своей уборной, ко мне постучала прислуга и сказала, что меня хотят видеть два офицера. Я велел просить их в кабинет и через несколько минут вышел к ним. Офицеры эти (один, сколько помнится, штабс-капитан, другой – поручик) были мне незнакомы. Они казались крайне взволнованными. Назвав себя и свою должность, старший из них сказал: «Вы, вероятно, уже в курсе событий и знаете, что началось восстание; почта, телеграф, телефон, арсенал, вокзалы захвачены, все главные пункты в руках большевиков, войска переходят на их сторону, сопротивления никакого, дело Вр. Правительства проиграно. Наша задача – спасти Керенского, увезти его поскорее на автомобиле, навстречу тем, оставшимся верными Вр. Правительству войскам, которые двигаются к Луге. Все наши моторы захвачены или испорчены. Мы приехали просить вас, не можете ли вы либо сами дать два закрытых автомобиля, либо указать нам, к кому мы бы могли обратиться за этими автомобилями. Сейчас каждая минута дорога». Я был до такой степени поражен этими словами, что в первую минуту подумал, нет ли тут мошеннического покушения с целью получить мотор и увезти его. Я спросил, где же находится Керенский? Офицер ответил мне, что он в штабе округа, в кабинете Полковникова. Я предложил еще два-три вопроса, а затем должен был объяснить офицерам, что у меня самого имеется только один старенький ландолэ Бенца, для городской езды, малосильный и потре-панный, абсолютно не соответствующий предпола-гаемой цели, а другие какие-либо машины я затрудняюсь указать, так как после всех реквизиций – до и после переворота – у меня нет знакомых, которые обладали бы такими машинами. Таким образом, я никакой пользы принести не могу. Офицеры тотчас же ушли, сказав, что они отправятся искать в других местах. Проводив их, я предупредил жену о происходящих событиях и немного погодя вышел из дому и пошел в Мариинский дворец, где каждое утро, в одиннадцатом часу, собирался президиум Совета республики. Там уже было довольно много народу. Преобладало растерянное, взволнованное, беспо-мощное настроение. Фракция с.-р. отсутствовала совершенно, с.-д. также было немного. Авксентьев не знал, что делать. Членов было слишком мало, чтобы начать заседание, а главное – отсутствовала вся его фракция. После довольно долгого ожидания собравшиеся члены Совета стали проявлять нетерпение и начали требовать, чтобы либо было открыто заседание, либо было заявлено, что оно не состоится. Тогда Авксентьев собрал сениорен-конвент, чтобы решить, что делать. В это время пристав Совета сообщил, что сейчас Керенский проехал через площадь, направляясь к Вознесенскому проспекту – в открытом (sic!) автомобиле, с двумя адъютантами, имея позади себя второй закрытый мотор. О том, где прочие члены Вр. Правительства и что они делают, – никто ничего не знал… Собрался сениорен-конвент. Очень короткое время спустя, после открытия заседания, Е. Д. Кускова (не входившая в состав сениорен-конвента) попросила разрешения войти и сообщила, что прибыл отряд солдат с офицером во главе, что все выходы на площадь заняты и что офицер желает видеть председателя. В ответ было заявлено, что председатель занят, что происходит заседание совета старшин и что, когда оно кончится, можно будет переговорить с председателем. Через некоторое время Е. Д. Кускова вновь вошла в комнату и передала, что начальник отряда предлагает всем собравшимся и всем членам совета немедленно покинуть Мариинский дворец, иначе будут приняты решительные меры, вплоть до стрельбы. Впечатление получилось ошеломляющее. Никто, по-видимому, не соблазнялся перспективой лечь костьми во славу Совета российской республики, и не было никакого повода вспоминать знаменитые исторические прецеденты, так как Совет республики был учреждением совершенно случайным, выдуман-ным ad hoc, ни в каком отношении не подходящим под понятие народного представительства. Идейной почвы для защиты его во что бы то ни стало – совершенно не было. С полной ясностью ощущалось, что дело Совета тесно связано с положением Вр. Правительства. В ответ на поставленный ультиматум была наскоро составлена трафаретная формула о примененном к Совету насилии и о том, что при первой возможности он будет созван вновь. Кажется, кто-то предложил собрать всех наличных членов Совета в зале общего собрания, но это предложение не было принято, так как количество членов быстро таяло и никакой внушительной демонстрации нельзя было ожидать. Когда мы вышли в аванзал, непосредственно примыкающий к залу общего собрания, оказалось, что вся лестница и первая передняя наверху сплошь заняты вооруженными солдатами и матросами. Они стояли двумя шеренгами, с обеих сторон лестницы. Обычные бессмысленные, тупые, злобные физиономии. Я думаю, ни один из них не мог бы объяснить, зачем он здесь, кто его послал и кого он имеет перед собою. Я шел с Милюковым, мне хотелось убедиться в том, что он беспрепятственно вышел из дворца. В большой прихожей внизу было большое скопление солдат и матросов, стоявших также шеренгами до дверей. Подъезд был занят снаружи, выпускал из подъезда морской офицер. Каждый выходящий предъявлял свой именной билет. Думая, что это делается с целью выяснения личностей и выполнения заранее данных указаний, я был совершенно убежден, что Милюков и я сам – будем арестованы. Мы шли к дверям гуськом, я впереди него. Как раз перед тем, как мне выходить из дверей, на подъезде произошла какая-то заминка, движение остановилось. Прошли две-три томительные минуты. Как и во все подобные минуты, мною в жизни пережитые, я ощущал только большой подъем нервов, ничего более. Нас выпустили. Мне показалось, что, взглянув на билет Милюкова, офицер заколебался, но во всяком случае это продолжалось только одну секунду, – и мы с ним вдвоем очутились на площади. Я его позвал к себе позавтракать, но он сказал мне, что предпочитает отправиться домой, и мы расстались, пожав друг другу руку. Вновь мы с ним встретились уже только в 1918 году, 10/23 июня, в Киеве, после кошмарных семи с половиной месяцев…
Вернувшись домой, я некоторое время побыл у себя и около трех часов пошел к знакомым, живущим на Фонтанке, недалеко от угла Вознесенского проспекта. Около четырех часов я оттуда позвонил домой, справляясь, нет ли чего нового. Жена мне сообщила, что только что заезжал посланец от А. И. Коновалова (газетный сотрудник) и передал настойчивое пригла-шение прибыть в Зимний дворец, где собираются члены Совета республики и представители общест-венных организаций. Там будто бы происходит заседание Вр. Правительства, в нормальных условиях, под охраной военной силы. Я удивился этому неожиданному приглашению, но, разумеется, тотчас же решил ему последовать. На Подъяческой я сел в трамвай, доехал до Конногвардейского бульвара, там пересел и доехал до Дворцовой площади. Оказалось, что площадь оцеплена. Солдаты стояли редкими шеренгами вдоль аллеи, идущей параллельно Александровскому саду, кругом площади и вдоль решетки, окружающей дворцовый сад. По тротуарам толпилось довольно много народу. Трудно было понять, что происходит и какое назначение имели расставленные войска. Верный своей привычке, в подобных случаях избегать расспросов, я вынул имеющийся у меня пропуск в Зимний дворец (этим пропуском я пользовался при посещении заседаний Вр. Правительства), молча предъявил его первому попавшемуся солдату, и беспрекословно был им пропущен. Беспрепятственно я прошел через ворота и вошел во дворец обычным путем, через Салтыковский подъезд, поднялся по лестнице и прошел в Малахитовый зал. Там я застал такую картину: в зале находились все министры, за исключением Н. М. Кишкина (он был в это время в здании штаба округа, тут же на Дворцовой площади, и «организовывал» оборону, – как известно, с весьма плачевным результатом). Чрезвычайно взволнованным казался Коновалов. Министры группировались кучками, одни ходили взад и вперед по зале, другие стояли у окна. С. Н. Третьяков сел рядом со мною на диван и стал с негодованием говорить, что Керенский их бросил и предал, что положение безнадежное. Другие говорили (помнится, Терещенко, бывший в повышенно-нервном, возбужденном состоянии), что стоит только «продержаться» 48 часов – и подоспеют идущие к Петербургу верные правительству войска. Мой приход очень приветствовали. Оказалось, что Коновалов разослал посланцев во все стороны, созывая «живые силы», которые были бы готовы группироваться вокруг правительства и поддержать его. Кое-кого из посланцев по дороге задержали большевики, но другие доехали по назначению и передали приглашение. На него, однако, никто не откликнулся, кроме меня. Само собою разумеется, что присутствие мое оказалось совершенно бесполезным. Помочь я ничем не мог, и когда выяснилось, что Вр. Правительство ничего не намерено предпринимать, а занимает выжидательно-пассивную позицию, я предпочел удалиться, – как раз в ту минуту (в начале 7-го часа), когда пришли сказать Коновалову, что подан обед. В коридоре я встретил журналистов, с Клячко-Львовым во главе. Они сообщили мне, что собираются остаться с Вр. Правительством до конца. На самом деле, они побыли после меня очень недолго и с трудом выбрались из дворца, я же вышел совершенно свободно – и пошел домой. Минут через пятнадцать-двадцать после моего ухода все выходы и ворота были заняты большевиками, уже никого больше не пропускавшими. Таким образом, только счастливая случайность помешала мне «разделить участь» Вр. Правительства и пройти через все последовавшие мытарства, закончившиеся Петропавловской крепостью.
Вечер этого бурного дня я, помнится, провел дома. На другой день, часам к двум, я отправился в Городскую думу. Утром наш Центр. Комитет собрался в доме графини С. В. Паниной и продолжал ежедневно собираться в течение ближайших 10–15 дней, то у Паниной, то у В. А. Степанова – раз у Кутлера, в тот день, когда юнкерами была произведена попытка захвата телефонной станции. Днем ежедневно собиралась Городская дума, а по вечерам – образо-вавшийся немедленно после переворота «Комитет спасения родины и революции» заседал в Училище правоведения, воспользовавшись помещением Кресть-янского союза.
Городская дума в эти дни напоминала собой огромный растревоженный муравейник. Все залы, комнаты, кулуары, лестницы кишели людьми. Кого только тут не приходилось встречать! Но увы, только в самые первые дни можно было предаваться иллюзиям и думать, что Городская дума вместе с Комитетом спасения смогут стать каким-то организующим центром, который окажет большевикам сильное сопротивление. Очень скоро стало ясно, что никакой действительной, организованной силы в их распоря-жении не имеется. К числу самых тяжелых моих воспоминаний я отношу воспоминание о поездке – вместе с Авксентьевым и, помнится, Шрейдером (городским головой) и Исаевым (председателем городской думы) к английскому послу Бьюкенену. Поездка эта была предпринята на другой день после переворота. Она имела целью «успокоить» посла, уверить его, что успех большевистского восстания – чисто кажущийся, мишурный, что Керенский ведет целый корпус на выручку Петербурга и Вр. правительства… Бог знает, в какой степени сами мы верили этим успокоительным заявлениям… Бьюкенен, которого я видел перед своей поездкой в Англию в январе 1916 года в этом самом кабинете, где он теперь нас принимал, был расстроен и угнетен. Разговор плохо клеился, тем более что Авксентьев с трудом изъяснялся по-французски. При упоминании об ожидаемом корпусе посол несколько оживился, но все же в общем этот никчемный визит оставил у меня отвратительное впечатление. Вспоминались широко-вещательные речи при приеме послов Вр. Правительством в Мариинском дворце, – речи, звучавшие уверенностью в силе правительства и в величии революции, – и невольно сопоставлялся тот момент, такой еще недавний, с позорными переживаниями большевистского coup de main. Как известно, ближайшие же дни обнаружили всю тщету надежд на военную силу, закончившись разгромом казаков Краснова и бегством Керенского.
Заседания гор. думы были сплошной истерикой. Основной тон давался городским головой, Г. И. Шрейдером, человеком, во многих отношениях почтенным, но как будто лишенным задерживающих центров. Смехотворный «Всероссийский земский собор», им созванный во исполнение будто бы состоявшегося постановления Городской думы (на самом деле были сумбурные прения и принято было нечто вроде пожелания), оказался полной неудачей: при данных условиях ничего другого нельзя было ожидать. Большевики, вероятно, относились с большой иронией к этой попытке «организации общественного мнения» и продолжали делать свое очень реальное дело. Что касается ежедневных думских заседаний, то они носили характер сплошного митинга. Не было никакой повестки, никакого плана занятий. Все проходило в виде срочных, спешных, внеочередных заявлений. Чаще всего их делал сам городской голова. Вслед затем начинались бурные прения. Большевики в массе своей после переворота перестали ходить в заседания, но оставили предста-вителей фракции: гласного Кобозева, отврати-тельнейшего субъекта, и кого-то еще. Эти господа вначале пробовали отругиваться, но потом по большей части сидели молча и через некоторое время тоже перестали являться в заседания. В нашей фракции первую скрипку играл бедный А. И. Шингарев. Он выступал постоянно, с большой страстностью, неизменно обзывая большевиков предателями и убийцами. Увы, мы не могли подозревать, что эти выступления были его лебединой песнью… Несколько позже приехал из Москвы (где его застал переворот) Винавер. Но я не помню каких-нибудь его ярких выступлений в этот период.
От Гор. думы в Комитет спасения родины и революции были от фракции кадетов делегированы гр. С. В. Панина, кн. В.А. Оболенский и я. Мы очень аккуратно посещали эти заседания, особенно в первые дни, когда еще казалось, что вокруг комитета можно объединить какие-то действенные силы, что-то такое предпринять. Но наше личное положение в комитете было довольно своеобразное. Состав его, ex professo, был «демократический», в том особенном смысле этого слова, который исключает из понятия «демократии» все не социалистические элементы. Ни один из нас поэтому не вошел в состав бюро Комитета. Между тем, вся сколько-нибудь реальная работа комитета протекала в бюро. Отсюда шла и организация военного выступления (юнкеров), приведшая к такому трагическому финалу. В самом же комитете занимались резолюциями, – по обыкновению, споря о каждой фразе, о каждом отдельном слове, точно от этих фраз и слов зависело спасение «родины и революции». Количество собиравшихся все таяло, бесцельность и бесплодность заседаний все больше и больше бросалась в глаза… Так проходили первые дни после переворота. Утром – заседания Центр. Комитета, разговоры, так называемая «информация», наполовину, если не больше, состоявшая из разных непроверенных слухов и фантастических рассказов, потом длинные, утомительные, совершенно бесплодные прения, заканчивавшиеся принятием какого-нибудь проекта воззвания или никому ненужной резолюцией. Те 15–20 человек, которые собирались, слишком ясно, слишком несомненно ощущали свое полное бессилие, отор-ванность, отсутствие организаций, на которые они могли бы опираться. То же самое ощущалось и в городской думе, и в комитете спасения…
В первые дни казалось, что вопрос о возможности какой бы то ни было избирательной кампании, связанной с Учредительным Собранием, решается сам собою отрицательно. Помнится, я сам высказывался в этом смысле и в Центр. Комитете, и во Всероссийской Комиссии по выборам. Последняя решила временно прекратить свои занятия и действительно не собиралась в течение двух (приблизительно) недель. Все ожидали, что большевики начнут кампанию против Учредительного Собрания. Они оказались хитрее. Как известно, в своем первом манифесте они поставили Вр. Правительству в вину, что оно медлило созывом Учредительного Собрания, и в течение первого месяца после переворота они афишировали свои стремления к этому созыву. И только почувствовав свои силы – или, правильнее говоря, – убедившись в бессилии противников, они сперва осторожно, а потом откровенно и грубо открыли свой поход. Изби-рательной кампании в Петербурге они в течение ноября не препятствовали. Первый митинг, организованный нашей партией, был назначен, если не ошибаюсь, на воскресенье 5 ноября. Должен был выступать А. И. Шингарев. Мы ожидали больше-вистских демонстраций, обструкции и т. п. Ничего этого не произошло. Как обыкновенно бывает, митинг привлек исключительно кадетскую или сочувствующую кадетам публику, – к тому же он происходил в Тенишевском училище, в Литейном районе, – этой цитадели кадетства – и прошел он, как передавали, с большим подъемом. После того была целая серия митингов в Петербурге и окрестностях. Я выступал в Тенишевском училище, в зале Калашниковской биржи, в гимназии на Казанской, в Луге и Петергофе. Кроме того – по особым приглашениям – в зале Главного штаба (для чинов его) и в обществе «Саламандра» (для служащих). Возможно, что были и другие выступления, которых я сейчас не припомню. Представители других (социалистических) партий на этих митингах почти не выступали, большевики отсутствовали совершенно. Настроение публики в общем было тревожное и угрюмое…
В одном из первых заседаний Комитета спасения родины и революции гр. С. В. Панина сообщила мне, что очень желательно мое участие в заседании товарищей министров Вр. Правительства, назначенном у А. А. Демьянова, в его квартире на Бассейной. Если не ошибаюсь, я был только в одном заседании (первом) и вспоминаю о нем с величайшим отвращением. Это было собрание людей, совершенно растерявшихся. В нем принимали участие, кроме товарищей министров, и три министра-социалиста, выпущенных, как известно, большевиками в первые же дни из Петропавловской крепости. Когда они (Никитин, Малянтович, Гвоздев) вошли в комнату, Демьянов попытался было «встретить их аплодисментами», но его никто не поддержал. Более чуткие люди понимали, что аплодировать тут нечему. Освобождение министров-социалистов произошло при обстоятельствах, отнюдь для них не почетных. Казалось бы, когда им было заявлено, что они свободны, но что другие – «буржуазные» – министры остаются в крепости, простое чувство товарищеской солидарности должно было побудить их категорически протестовать против такого различия (абсурдность которого подчеркивалась тем, что ведь глава Вр. Правительства был социалист) – и притом протес-товать не словами только, не письменными заявле-ниями, а фактически, действенно, отказавшись от предоставляемой им при таких условиях свободы. Пусть бы их насильно выдворили из крепости: против силы, конечно, ничего не поделаешь. Но уйти так, как они ушли, – этически было недопустимо, и я вполне понимаю, что когда Коновалову было об этом уходе сказано, он был крайне подавлен. Как бы для полноты картины один из министров (кажется, Гвоздев) нашел возможным и нужным попросить свидания с М. И. Терещенко, чтобы «посоветоваться» с ним и спросить, как отнесется он и другие, остающиеся в крепости, министры к освобождению социалистов! Что мог на это ответить бедный Терещенко? Разумеется, он сказал, что следует воспользоваться любезностью больше-виков, но настоящие свои чувства он все-таки вполне скрыть не мог, и, по-видимому, также был угнетен, – так передавал сам его собеседник… Разумеется, не было недостатка в благовидных предлогах, объясняющих поведение министров-социалистов. Они, дескать, вышли для того, чтобы «вести борьбу», сохранить видимость «аппарата власти» и – в первую голову – добиваться освобождения остальных членов Вр. Правительства. Фактически, сразу обнаружилось, что они во всех этих направлениях совершенно бессильны. Наиболее, по-видимому, чуткий из них – А. М. Никитин – явно страдал от создавшегося положения. В том заседании, в котором я присутствовал, он с большим волнением интерпеллировал Гвоздева, требуя, чтобы Гвоздев вместе с ним, Никитиным, отправился в Смольный, чтобы потребовать в категорической форме и «ни перед чем не останавливаясь», освобождения оставшихся в заклю-чении министров, а в случае отказа – потребовать, чтобы освобожденные были вновь посажены!.. Однако Гвоздев не обнаружил ни малейшего желания последовать этому зову, и прочие присутствовавшие – в первую голову Демьянов – доказывали Никитину, что его план фантастичен, неосуществим, что задача заключается в том, чтобы «сберечь» обломки Временного Правительства… И в конце концов Никитин отказался от своего намерения.
Эпизод с А. М. Никитиным – самое яркое, что осталось в моей памяти от всего этого заседания. Оно велось крайне сумбурно. Демьянов, в качестве председателя, не умел ни ставить вопросы, ни конкретизировать прения. Было обычное нестерпимое многословие, бесконечные речи, которых никто не слушает. Настроение в общем было отвратительное, а у иных – в особенности у Гвоздева – просто какое-то паническое. В качестве конкретных мер борьбы обсуждалась, кажется, только одна: чиновничья забастовка, – и надо сказать, что эта забастовка и героически безумное выступление юнкеров были единственными, реально проявленными формами сопротивления большевикам.
В дальнейшем я не принимал больше участия в этих собраниях, так как официально мое положение во Вр. Правительстве совершенно не уполномочивало меня на то, личное же мое отношение было вполне отрицательное.
В связи с начавшейся избирательной кампанией, недели через две после переворота, Всероссийская Комиссия по выборам решила собраться в полном составе, вместе с канцелярией, в Мариинском дворце, откуда внутренняя и внешняя большевистская охрана была уже в то время уведена, чтобы обсудить вопрос о том, возобновить ли ей свою деятельность или нет. Помимо политических сомнений, вопрос этот вызывал и серьезные юридические сомнения. В условиях, при которых должна была протекать избирательная кам-пания и предстояло совершиться выборам, несомненно предвиделось, что целый ряд требований избирательного закона (касающихся сроков, составов комиссий и т. п.) не могли быть соблюдены. Во всех этих случаях, представлявшихся и раньше, до переворота, Всероссийская Комиссия вносила соот-ветствующее представление Вр. Правительству, с проектом постановления, допускавшим (в законо-дательном порядке) отступление для отдельного случая от общего требования закона. Большевистский переворот устранял возможность этого пути, так как Вр. Правительство фактически было свергнуто, а вновь образовавшуюся советскую власть Всероссийская Комиссия не могла признать. Таким образом, во всех тех случаях, когда, например, оказывалось фактически невозможным соблюсти требуемые законом сроки, или образовать избирательную комиссию в составе, требуемом по закону, получалось безвыходное положение. Всероссийская Комиссия, по самому своему положению, могла работать только при наличности правительства. Этими соображениями мы руководились, когда, тотчас после переворота, решили прервать деятельность комиссии, приняв меры к сохранению ее делопроизводства и документов. Не следует забывать, что в это время все – и мы в том числе – ни минуты не верили в прочность большевистского режима и ожидали его быстрой ликвидации. Независимо от этих соображений, тот повсеместный сумбур и хаос, который наступил вслед за переворотом, прервал деятельность всех учреждений по выборам и – временно, по крайней мере, – остановил стоящую с ними в непосредственной органической связи деятельность Всероссийской Комиссии.
Однако дни шли за днями – и положение менялось в том смысле, что бездеятельность Всероссийской Комиссии могла очень легко быть истолкована в смысле злостного ее намерения тормозить выборы, «саботировать» их. Поступали с мест телеграммы с запросами, как быть, состоятся ли выборы, какие директивы должны служить руководством для местных учреждений по выборам. С другой стороны, большевистское «правительство», нагло обвинив Вр. Правительство в намерении «затянуть» выборы, само как будто готовилось содействовать созыву Учре-дительного Собрания в назначенный срок, то есть 28 ноября. Все эти обстоятельства побуждали комиссию вновь обсудить вопрос о дальнейшей своей деятель-ности. С этой целью и решено было собраться.
В назначенный день придя в Мариинский дворец, я застал очень смущенных чинов канцелярии. Оказалось, что председатель комиссии, Н. Н. Авинов, экстренно и неожиданно выехал в Москву, и председательские обязанности переходили ко мне, – и первое, что приходилось мне, в качестве председательствующего, выполнить, было объяснение с прибывшими по поручению Совета народных комиссаров представи-телями его – заведующим делами Бонч-Бруевичем и каким-то солдатом. По словам чинов канцелярии, эти два лица, прибыв во дворец, расспросили о местопребывании Всероссийской Комиссии и, получив соответствующие указания, отправились в канцелярию и потребовали, чтобы им показали делопроизводство и вообще осведомили их насчет деятельности комиссии. Им было заявлено, что сейчас должен прийти товарищ председателя комиссии, заменяющий отсутствующего председателя, и предложено было подождать меня и объясняться со мною.
Бонч-Бруевича я немного знал по встрече с ним в Киеве осенью 1913 года, на деле Бейлиса. Тогда он был весь – почтительность. Если я не ошибаюсь, я с ним обедал у С. В. Глинки. Так как мы с ним тогда говорили только о деле Бейлиса, то у меня не могло о самом Бонч-Бруевиче составиться никакого представления. Как я впоследствии узнал, он попал в заведующие делами Совета комиссаров по протекции Стеклова-Нахамкиса, – был креатурой этого последнего. Брамсон рассказал мне, что он пользовался самой отвратительной репутацией и считался человеком, нечистым на руку. В истории возникновения газеты «Новая Жизнь» он сыграл определенно грязную роль, по словам А. И. Коновалова. Здесь, в Мариинском дворце, он встретился со мною, как старый знакомый, подчеркнуто вежливо, и заявил, что Совет народных комиссаров живо интересуется вопросом о выборах в Учредительное Собрание и желал бы выяснить себе роль Всероссийской Комиссии. Я пригласил его и спутника его – солдата – в залу, служившую чайной комнатой (рядом с аванзалой), туда же пришел Л. М. Брамсон (второй товарищ председателя), и мы приступили к беседе. Я выяснил Бонч-Бруевичу точку зрения Всероссийской Комиссии, в основе которой лежало непризнание вновь возникшей власти «Совнаркома»9. Бонч-Бруевич пытался начать убеждать меня в том, что власть большевиков столь же – если не более – законного происхождения, как и власть Вр. Правительства, но я отклонил этот разговор. К этому я прибавил, что сейчас предстоит совещание комиссии, на котором будет вновь обсужден вопрос о дальнейшей работе. «Могу ли я надеяться, что вы поставите меня в известность о результатах обсуждения?» Я ответил, что официально ни в какие сношения с Советом комиссия, наверно, не вступит, но ему, Бонч-Бруевичу, я готов, в виде частного разговора, если комиссия не будет против этого возражать, – сообщить о последующем решении. Он этим вполне удовольствовался. Солдат, бывший с ним, почти не принимал участия в разговоре и только раз вмешался для того, чтобы «от имени фронта» заявить о том огромном нетерпении, с которым ожидаются выборы, и о необходимости всячески им содействовать. В ответ ему было указано, что именно большевистский переворот, произве-денный накануне выборов и за месяц до Учредительного Собрания, нанес огромный удар всему делу выборов и поставил под сомнение возможность их осуществления. На этом разговор кончился, и оба наших собеседника удалились. Я открыл заседание Комиссии и после непродолжительных дебатов мы приняли решение возобновить ее комиссии, совершенно игнорировав большевистское прави-тельство и, в случае возникновения таких вопросов, которые требовали бы разрешения в законодательном порядке, предоставлять местным органам выпутываться из затруднения, отнюдь, однако, не санкционируя отступлений от закона. При этом предполагалось, что Учредит. Собрание, при проверке полномочий своих членов, будет считаться с создавшимся безвыходным положением и признает несущественными те отступления (в отношении, главным образом, сроков и состава комиссий), которые будут допущены местными организациями. На другой день я позвонил утром к Бонч-Бруевичу и передал ему следующее: «Прежде всего, мне поручено вам сообщить, что Всероссийская Комиссия постановила безусловно игнорировать Совет народных комиссаров, не признавать его законной властью и ни в какие отношения с ним не вступать. Этим собственно кончается официальная часть нашей с вами беседы. Частным образом, согласно данному Вам мною обещанию, могу сообщить Вам, что Комиссия постановила возобновить свои занятия, и тотчас же к ним приступила». Бонч-Бруевич горячо меня благодарил…
Тут же я должен отметить, что большевистское правительство не имело, по-видимому, ни малейшего представления ни о составе Комиссии, ни о ее функциях, и по-видимому, полагало, что Комиссия по существу руководит выборами и имеет возможность влиять на их ход и исход. Но как бы то ни было, в течение ближайших 2–3 недель Комиссия могла работать беспрепятственно. Мы собирались ежедневно в Мариинском дворце, неоднократно мне приходилось председательствовать в виду частых поездок Н. Н. Авинова в Москву. У нас были оживленные сношения с местными органами, ежедневно приходили кипы телеграмм, свидетельствовавших об огромных затруднениях, которые испытывались на местах. По большей части эти телеграммы просили у Всероссийской Комиссии разрешения допустить те или другие изъятия или отклонения от требований избирательного закона, – и Комиссия, бессильная выполнить эти просьбы, вынуждена была оставлять их без ответа… Наряду с этим, было, однако, множество случаев, когда приходилось давать разъяснения закона, всякие указания. Затем, само собою разумеется, что из получаемых телеграмм складывалась общая картина выборов, хотя и неполная и отрывочная. Больше-вистская власть, после визита Бонч-Бруевича, совершенно перестала интересоваться деятельностью Комиссии. Около 20 ноября решено было перенести делопроизводство и заседания Комиссии в Таврический дворец. Это было выполнено в мое отсутствие. Я 19 ноября уехал в Москву и вернулся 22-го, в среду, к вечеру. Вернувшись, я узнал, что 23-го утром назначено заседание уже в Таврическом дворце. В самый день моего отъезда, час спустя после того как я уехал на вокзал, в доме моем был произведен обыск, подробности которого мне до сих пор неизвестны. 23-го, часа два после того, что Комиссия приступила к своим занятиям, явился комендант Таврического дворца – большевистский прапорщик, фамилию которого я позабыл, и потребовал от имени Совета народных комиссаров, чтобы комиссия разошлась. Председательствовал Н. Н. Авинов, который ответил, от имени всей Комиссии, категорическим отказом. Офицер удалился, – поехал за инструкциями в Смольный – и вернулся с бумагой, подписанной Лениным и содержавшей предписание – весьма нелепо редактированное – арестовать «кадетскую» комиссию по выборам и препроводить ее в Смольный.
Заключение наше в Смольном продолжалось пять дней. Все эти пять дней мы провели в узкой, низенькой, тесной комнатке, в которую приходилось подниматься по лесенке, ведущей из нижнего коридора. Нас было человек 12–15: точно не помню. Человека 4–5 уходили ночевать в другую камеру. «Среди присутствовавших» припоминаю: Авинова, Брамсона, бар. Нольде, Вишняка, Гронского, двух членов Государственной Думы (одного октябриста, другого – мирнообновленца [прогрессиста], фамилии их мною совершенно позабыты), редактора известий комиссии, Добраницкого и трех солдат, предста-вителей фронта, В. М. Гессена, не арестованного вместе с нами, но явившегося добровольно, севшего под арест, пробывшего с нами сутки (кажется) и чуть ли не насильственно удаленного на второй день.10
В первый день нам было очень неважно. В комнате были деревянные лавки, стулья, две скверных постели, на которых спали наши два старших сочлена – члены Госуд. Думы, больше ничего. Я спал на узенькой деревянной лавке, Вишняк – на столе. Ни белья, ни тюфяков нам не дали. О пище или хотя бы о чае тоже в первый день не было и речи, и если бы жена бар. Нольде не принесла провизии (она первая узнала о случившемся и успела кое-что собрать), мы бы оставались голодными. Со второго дня все наладилось, мы стали обедать в общей столовой, семьи приносили обильную провизию, появились походные кровати, белье, принесли еще два-три тюфяка, – и мы провели остальные дни очень весело и оживленно. Единственное, что нас смущало, была полная неопределенность нашей судьбы и грозящая нам перспектива быть отправленными в «Кресты». Допра-шивали нас в первый уже вечер, допрос производился неким Красиковым, – присяжным поверенным последнего разбора, – и неизменно заключал в себе вопрос, на который мы неизменно отвечали отрицательно: «Признаете ли вы власть Совета народных комиссаров?» Я, в конце допроса, катего-рически поставил вопрос: какая причина нашего ареста? И получил ответ: «непризнание власти народных комиссаров».
В понедельник 27 ноября, накануне дня, назначенного для открытия Учредит. Собрания, часа в три, в нашу комнату вошел лохматый матрос – член следственной комиссии – и «именем народной власти» объявил нам, что мы свободны. Не могу сказать, чтобы это известие особенно меня обрадовало. Слишком ясно сознавалось, что наш арест и наше освобож-дение – простая случайность в надвигающихся стихийных бедствиях, что освобожденные сегодня, мы завтра же можем снова быть посаженными и, быть может, в гораздо худших условиях. Прежде чем разойтись, мы в последний раз пили чай и закусывали, хотели составить акт, излагающий процедуру нашего допроса и освобождения, но потом решили отложить его до другого дня и собраться во вторник утром в Таврическом дворце, сойдясь предварительно в квартире Брамсона. Однако какие-то обстоятельства помешали мне вовремя прийти к Брамсону, и когда я добрался до квартиры, оказалось, что мои коллеги уже ушли в Таврический дворец. Я поспешил вслед за ними. Чем ближе я подходил, тем гуще были толпы народа. Я хотел войти во дворец с Таврической, но стоявшие у входа солдаты меня не пустили. На мое заявление, что я член Всероссийской Комиссии по выборам и иду в заседание Комиссии, мне ответили: «Обратитесь к коменданту». «А где комендант?» «Это другой вход, со Шпалерной». Я отправился на Шпалерную, но там пройти было совершенно невозможно. Густая толпа стеной окружала решетку, слышались крики, была сильная давка. Я вернулся на Таврическую, толкнулся в другой подъезд, там оказался более нерешительный солдат, – я, напротив, обнаружил большую решительность – и прошел. Как только я вошел во дворец, я узнал о произведенных утром, часа за два до того, арестах в доме графини Паниной: самой С. В., Шингарева, Кокошкина, кн. Павла Дм. Долгорукова… Комиссия уже заседала. Оказалось, что комендант уже приходил и требовал, чтобы она разошлась, причем в комнату были введены вооруженные солдаты. Комиссия, однако, отказалась разойтись и продолжала заседать в присутствии солдат. Несколько времени спустя к нам явился Г. И. Шрейдер и еще два-три члена Учредит. Собрания, узнавшие, что Комиссии чинят препятствия. Вызвали коменданта, вступили с ним в бурные объяснения, потребовали увода солдат. Комендант сослался на полученные от Урицкого (комиссара Таврического дворца) распоря-жения и пошел к нему за указаниями. Через некоторое время пришел Урицкий. Как сейчас помню эту отвратительную фигуру плюгавого человечка, со шляпой на голове, с наглой еврейской физиономией… Он также потребовал, чтобы мы разошлись, и пригрозил пустить в ход оружие. Шрейдера и других членов Учредит. Собрания в это время уже не было, они пошли в заседание. Мы потребовали, чтобы Урицкий снял шляпу, – он поспешил это сделать. Дальнейшие переговоры ни к чему не привели; Урицкий ушел, мы продолжали заседание, ожидая каждую минуту, что нас начнут силой разгонять. Этого, однако, не произошло, мы закончили наши занятия, исчерпав все предметы, и часа в два разошлись, условившись собраться на другой день опять-таки у Брамсона и поступить сообразно обстоятельствам.
На другой день я вышел из дому часов в десять, далекий от мысли, что я больше не переступлю его порога – ни в 1917 году, ни, вероятно, в 1918 году…
По дороге к Брамсону я прочел декрет, ставящий партию к.-д. вне закона и предписывающий арест ее руководителей. Придя к Брамсону, я был встречен оживленными приветствиями: все думали, что я арестован.
В тот же день, под влиянием настойчивых советов близких мне лиц, я решил уехать в Крым, где моя семья находилась уже с половины ноября, воспользовавшись гостеприимством графини С. В. Паниной. По неве-роятной случайности мне удалось без труда получить в конторе спальных вагонов билет I класса и место до Симферополя. Не возвращаясь домой и отдав по телефону все нужные распоряжения, я вечером выехал, взяв только самые необходимые вещи. В воскресенье 3 декабря я благополучно добрался до Гаспры. Здесь я провел всю зиму, весну и часть лета безвыездно, – пережил большевистский захват Крыма, потом немецкое нашествие. 7 июня я уехал в Киев, намереваясь пробраться в Петербург.
Это, однако, мне не удалось, 22 июля я вернулся в Гаспру, после пяти с половиной довольно мучи-тельных недель, проведенных в Киеве. Заканчиваю эту часть своих записок 25 сентября (8 октября), когда только что получены известия о колоссальной важности событиях в Германии и Болгарии…
1
Писано 21 апреля 1918 г.
(обратно)2
Не так давно, в апреле 1918 года, Мятлев, находящийся в Ялте, при встрече напомнил мне об этой поездке и о моем рассказе.
(обратно)3
Так можно было думать в апреле 1918 года…
(обратно)4
Май-июнь 1918 г. Позднейшее примечание (16/29 июля 1918 г.): 16 июля в Екатеринбурге этот узел разрублен «товарищем» Белобородовым.
(обратно)5
Конец июля 1918 года.
(обратно)6
В это же время Вр. Прав. пришло к решению о необходимости пополнить свой состав социалистами (см. декларацию 23 апреля). Милюков был принципиально против этого и очень нехотя согласился на текст декларации. Об этом я хочу сказать еще отдельно.
(обратно)7
Замечательно, что впоследствии это последнее название очень защищал А. А. Демьянов в заседании Врем. Прав., в котором был заслушан и утвержден проект.
(обратно)8
Шингарев только что ушел из состава Вр. Правительства, вместе с Мануиловым.
(обратно)9
Тогда еще это подлое выражение не было в употреблении. Называю его «подлым» по ассоциации представлений.
(обратно)10
Добраницкий и другие члены фронтовой комиссии не были арестованы и сидели по собственному настоянию. Их тоже пытались удалить и они употребили военные хитрости (с переодеваниями), чтобы вернуться в наш состав.
(обратно)



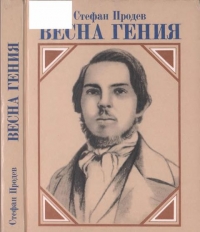
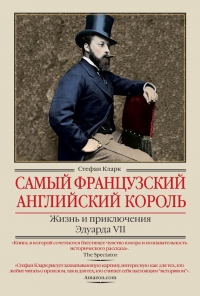

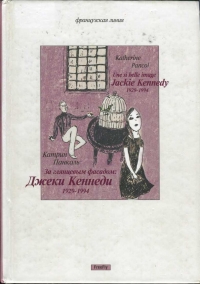
Комментарии к книге «Временное правительство и большевистский переворот», Владимир Дмитриевич Набоков
Всего 0 комментариев