Дайан Китон Кое-что ещё…
Посвящается моим подругам: Стефани Хитон, Сандре Шэдик, Линдси Дуэйли. А также двум мужчинам: Дэвиду Эберсхоффу и Биллу Клеггу. Спасибо вам (сами знаете, за что).
Я всегда говорила, что не представляю своей жизни без семьи.
Дороти Диэнн Китон ХоллDiane Keaton
Then Again
Фотографии дневников Дороти Холл Ник Рид
Фото Дайан Китон в тексте Энни Лейбовиц
© Diane Keaton, 2011
© А. Головина, перевод на русский язык, 2017
© С. Николаевич, предисловие, 2017
© Dewey Nicks / Trunk Archive / PhotoSenso, фотография на обложке
© ООО «Издательство АСТ», 2017
* * *
Глубокое и вдумчивое автобиографическое путешествие.
THE NEW YORK TIMESДля тех, кто желает окунуться в трогательный и занятный водоворот извечной темы родителей и детей с одной известной актрисой в главной роли, книга «Кое-что ещё…» станет исключительно честным гидом.
USA TODAYНесмотря на то, что эпизоды из личной жизни вызовут интерес у любого читателя (тут вам и Вуди Аллен, и Уоррен Битти, и Джек Николсон!), в первую очередь – это книга о матери и дочери, чьи откровения будут близки каждому.
THE WALL STREET JOURNALОдновременно пронзительная и увлекательная, эта автобиография станет бесконечным источником жизненной мудрости, которая пригодится каждой женщине.
CHICAGO SUN-TIMESНа страницах книги Дайан Китон не культовая актриса, а просто дочь своей мамы – что делает эту автобиографию по-настоящему потрясающей.
THE NEW YORKER«Кое-что ещё…» читается как дневник обычной женщины, которая внезапно стала кинозвездой и не может поверить, что всё это происходит с ней наяву.
LOS ANGELES TIMESНеобыкновенно-обыкновенная Дайан Китон
У Дайан Китон редкий дар: она совсем не меняется. Какой была в первых фильмах Вуди Аллена, такой и осталась. При этом без всяких заметных усилий и мучительных самоистязаний, как это принято у голливудских див, помешавшихся на том, чтобы остановить время и сохранить свою неземную красоту. Справедливости ради стоит признать, что Дайан никогда и не проходила по разряду патентованных красавиц. Она – прежде всего актриса, тем, как говорится, и интересна. Поэтому и время ей не враг, а скорее сообщник. Никогда она так много и успешно не снималась, как переступив разные опасные возрастные рубежи. Камера ее любит. Ее морщинки, задорную улыбку, кокетливые, смешные гримаски. В то время как другие ее знаменитые ровесницы доблестно демонстрируют неподвижные, застывшие от ботокса маски, у Дайан живое пленительное лицо счастливой женщины, принимающей и свой возраст, и свое прошлое, и свою нынешнюю жизнь. Когда видишь ее на экране, то не покидает чувство, что она путешествует по жизни налегке. Без тягостных обременений в виде скандалов, разводов, судебных разбирательств – обязательных спутников любой звездной судьбы. Впрочем, она и замужем никогда не была. Хотя мужчины, с которыми ее связывали романтические отношения, были все как на подбор, фигуры яркие, харизматичные, даже выдающиеся. И Вуди Аллен, сделавший ее звездой своих ранних лент, и голливудский сердцеед Уоррен Битти, снявший ее в своем лучшем фильме «Красные», и Ал Пачино, роман с которым начался на «Крестном отце-1», а закончился спустя двадцать лет на «Крестном отце-3». Но брака ни с одним из них так и не получилось. Почему? Ответ на этот вопрос, долгое время мучивший американские таблоиды, можно при желании отыскать в книге “Кое-что еще…”. Моя версия, – слишком умна, слишком независима, слишком иронична. И все-таки, книга Дайаны Китон – про другое.
По сути, здесь представлены целых две автобиографии, где доминирующая роль принадлежит матери Дайан, образцовой домохозяйке и верной жене, миссис Дороти Холл. Она всю жизнь мечтала о славе звезды, но так и не поднялась выше титула «Миссис Калифорния». Звездой стала ее старшая дочь, предоставив матери почетную обязанность собирать рецензии на свои фильмы, вырезать из журналов портреты и интервью, жить отраженной жизнью, которая спустя годы обернется грудой самодельных альбомов с любовно выклеенными коллажами, красиво подобранными картинками и броскими, многозначительными заголовками.
В какой-то момент дочь возьмет все это ветхое богатство в свои руки и с удивлением обнаружит, что ничего про свою мать не знала. Ни про ее талант незаурядной художницы, ни про ее глубинное, беспросветное одиночество, ни про ее тоску от собственной невостребованности и ненужности. За благополучным фасадом идеального американского семейства притаилась драма, тщательно скрытая от посторонних глаз, о которой не полагалось знать даже самым близким. Наверное, это было самое главное открытие, которое сделала Дайан Китон уже после смерти матери, погрузившись в изучение ее дневников и альбомов.
В американской культуре принята традиция шокирующих признаний. Многие книги пишутся с обязательным расчетом на то, чтобы потрясти воображение читателей какими-то сногсшибательными откровениями. Как правило, все вертится вокруг инцестов, тайного или явного алкоголизма, домашнего насилия и прочих ужасов, которыми буквально переполнена мемуарная литература звезд. Что правда, а что нет – выяснять их добросовестным биографам. Но ведь для издателей важнее всего, чтобы книга как можно лучше продавалась. И в этом смысле мемуары Дайан Китон – на первый взгляд не очень-то коммерческий проект. Ну кому могут быть интересны дневники какой-то безвестной домохозяйки? Все хотят знать подробности про знаменитых любовников, а тут через каждую страницу мама, мама, мама…
Но Китон никогда бы не заслужила славу самой умной женщины Голливуда, если бы пошла на поводу у массовых вкусов и пожеланий редакторов. В своем желании договорить все до конца она куда последовательнее и смелее многих своих коллег. Она не придумывает миф, не ошарашивает подробностями. Но просто, без лишних комментариев предъявляет миру свои горестные улики, эти доказательства собственной вины, кровоточащий автобиографический коллаж, где все разрезано, перерезано и склеено по живому.
Ироничные картинки американской пригородной жизни в Южной Калифорнии сменяются жесткими зарисовками Нью-Йорка конца шестидесятых годов, тягостные симптомы болезни Альцгеймера, от которой страдала под конец жизни мать, чередуются с описаниями приступов булимии, отравившей всю молодость Дайан. «Наша история – меня и моей мамы – это клубок нашего прошлого, который не распутаешь, глядя на подборку вырезок о девушке, которую звали Энни Холл».
Это имя тоже возникло неслучайно. Во-первых, Холл – девичья фамилия матери. А во-вторых, это самая известная роль в фильмографии Дайан Китон, за которую она получила «Оскар».
Можно сказать, с нее в американском кино началась целая плеяда неприкаянных одиноких нью-йоркских интеллектуалок, исправных пациенток психоаналитиков, экстравагантных любительниц мужских шляп и галстуков. Женский тип, созданный фантазией и любовью Вуди Аллена, вошел в американскую мифологию под именем Энни Холл и навсегда закрепился за самой Дайан.
Все, что она делала потом в кино, так или иначе имело точку отчета в виде фильма, ставшего непререкаемой классикой. Как и полагается серьезной актрисе, она пыталась бунтовать. Искала и находила для себя другие роли. Старалась нигде не повторяться. Снималась у больших режиссеров в надежде, что они подскажут, как ей наконец выбраться из шляп и прикидов Энни Холл. Но такой, как Вуди Аллен, в ее жизни был один. Да и публика желала видеть ее только в амплуа crazy girl, немного чокнутой, странноватой девицы не от мира сего. К слову сказать, у этой странности было много разных оттенков и градаций. Как правило, это была форма защиты от жестокости и абсурдности мира. Так же как и лучезарная улыбка – что-то вроде рефлекса на любое уродство или грубость. В кино и в жизни Дайан надевает ее, как маску. И шагает дальше, не оглядываясь по сторонам, не прислушиваясь к тому, что о ней говорят за спиной.
Жизнь показала, что она человек цели и действия. Иначе она не продержалась бы так долго. И не было бы ни фильмов, ни этой книги, написанной с настоящим писательским блеском. Тут уж точно у нее нет соперниц. Она такая одна на весь Голливуд. Чувствуются характер и вполне определенные установки. Надоело сниматься – занялась фотографией. Нет интересных ролей – решила сама стать режиссером и продюсером. Когда исполнилось 50, удочерила первого ребенка – девочку Декстер, через пять лет усыновила чернокожего мальчика Дьюка. Девиз ее жизни звучит так же, как и команда на съемочной площадке, – action! Действовать. Не сдаваться, не сидеть сложа руки в ожидании, когда настигнут старость и болезни. Главный, хотя далеко не единственный урок, который выносишь из этой книги, – бездействие хуже смерти. Мы призваны в этот мир, чтобы исполнить свою главную роль. И если это по каким-то причинам у нас не выходит или получается не очень, то виноваты в этом только мы сами. А чтобы не расслабляться от жалости к себе и своим неудачам, пусть перед глазами будут дневники ее мамы – несчастной и прекрасной жертвы обстоятельств. Ведь любовь не отменяет искренности, а дочерняя жалость – правды. И кто знает, может быть, прочитав эту книгу, мы будем лучше понимать, как жили и зачем страдали вполне благополучные американцы на рубеже XXI века. Ничего не изменилось со времен чеховских «Трех сестер»! Все те же мечты, печали и страхи. И та же надежда, которая гонит кого-то в Москву, кого-то в Нью-Йорк…
В одном из своих последних фильмов “5 Flights Up” (в российском прокате он называется «Сама жизнь») Дайан Китон снова вернулась в город, с которым связаны лучшие фильмы в ее актерской биографии. Там она опять без устали носится по Манхэттену, как будто и не прошло сорока лет. Быстро-быстро, перебирая тонкими ножками-спичками в черных узких брючках, она спешит, бежит, летит сквозь толпу и ревущий трафик. Невесомая, как бабочка-однодневка, стойкая, как андерсеновский солдатик. Кажется, еще немного – и она взлетит над толпой, подхваченная морским ветром с Гудзона. Куда? Зачем? Если бы знать…
Сергей НиколаевичДумай
Мама любила цитаты, поговорки и мудрые изречения. На кухонной стене у нас всегда красовались маленькие записочки. Например, одно время висела бумажка со словом “ДУМАЙ”. Такая же была прикреплена на доске в темной комнате, где мама проявляла фотографии, еще одна – приклеена скотчем к коробке из-под карандашей, разукрашенной мамой. Даже на тумбочке возле маминой кровати лежала брошюрка с тем же призывом: “ДУМАЙ”. Мама любила думать. В своем дневнике она писала:
Сейчас читаю книгу Тома Роббинса “Даже пастушкам бывает тоскливо”[1], тот момент, где он пишет о неразрывной связи брака и стремления женщины добиться успеха. Специально решила написать об этом в дневник, чтобы потом хорошенько ОБДУМАТЬ эту мысль.
Затем мама привела цитату из книги Роббинса:
Для большинства недалеких теток с промытыми мозгами свадьба представляется кульминацией их жизни. Для мужчин брак – вопрос удобства. После свадьбы они получают вкусную еду, секс, чистое белье, наследников и единомышленников – и все это в комплекте, под одной с ними крышей. Но для женщины выйти замуж – все равно что воину сдаться в бою. Свадьба – момент, когда девушка признает свое поражение и передает право на все самое интересное и захватывающее в жизни мужу в обмен на обещание “заботы”. Женщины живут дольше мужчин – потому что на самом деле они жизни вовсе и не видели.
Мама любила размышлять и писать о жизни, особенно о том, каково приходится в нашем мире женщинам.
Однажды, когда в середине семидесятых я как-то приехала домой, во время проявки фотографий Атлантик-сити в темной комнате я наткнулась на кое-что совершенно неожиданное: что-то вроде блокнота, вместо обложки у которого был коллаж из семейных снимков. На блокноте виднелась надпись: “Важен процесс, а не результат”. Внутри обнаружились еще коллажи из фотографий и журнальных вырезок, но большая часть страниц были заполнены убористым почерком.
В “Книжном магазине Хантера” сегодня был удачный день. Разбирали книжки в отделе художественной литературы и наткнулись на множество интересных романов. Сегодня уже две недели, как я тут работаю. Мне платят 3 доллара и 35 центов в час, а сегодня выдали зарплату – всего 89 долларов.
Этот блокнот был не похож на все остальные мамины записные книжки с вклеенными внутрь черно-белыми снимками, разрисованными салфетками из кафе “У Клифтона” и моими позорными табелями с оценками. Этот блокнот оказался настоящим дневником.
Запись от 2 августа 1976 года гласила:
Если ты, читатель моих записок из будущего, добрался досюда – БУДЬ ОСТОРОЖЕН! На этих страницах я пишу только то, что думаю. В настоящий момент я вне себя от злости. Причина этому – Джек и все те скверные слова, что он сказал мне. Я НЕ простила и НЕ забыла их – и в этом, похоже, все дело. “Чертов ублюдок”, – это уже мои слова, прочувствованные на все сто. За кого он вообще себя принимает?
Тут я и остановилась – это было уже чересчур. Я не хотела знать подробности личной жизни родителей, особенно те, что могли разрушить мою веру в искренность их любви. Так что я убрала дневник к остальным восьмидесяти пяти блокнотам, вышла из темной комнаты и не открывала их вплоть до маминой смерти спустя тридцать лет. Но, как бы я ни пыталась делать вид, что дневников не существует, они то и дело попадались мне на глаза: на книжных полках, в кухонных ящиках и на тумбочках. Однажды, просматривая новый фотоальбом “Сто один цветок”, в нем я нашла дневник, озаглавленный “Кто сказал, что ты безнадежен?”. Он словно нашептывал мне: “Открой меня, Дайан. Прочти меня, Дайан”.
Ну уж нет, второй раз я на это не решусь. Хотя, надо сказать, меня восхищало мамино упорство – она продолжала писать, будучи абсолютно уверенной, что ее творчество никто и никогда не прочтет.
О чем она писала? О том, каково это – начать учиться, когда тебе уже сорок. Каково вообще учиться чему-то новому. Писала о всех бездомных кошках, которых приютила за свою жизнь. О своей сестре Марти, которая заболела раком кожи и лишилась большей части носа. О том, как ей страшно стареть. На страницах дневника за 1990 год, когда заболел раком мозга папа, она обрушивала потоки ярости на болезнь, пожиравшую ее мужа. Записки того времени поразили меня отточенным до совершенства слогом. Мне показалось, что, заботясь об умирающем муже, она стала любить его немного иначе – так, как любила бы его женщина, которой мама всегда хотела быть.
Пыталась сегодня заставить Джека поесть. Бесполезно. Через какое-то время сняла очки, прижалась к нему и прошептала, что скучаю. Потом начала плакать. Не хотелось, чтобы он заметил мои слезы, так что пришлось отвернуться. А Джек… Обессиленный, истощенный, он достал из моего кармана платок и, взглянув на меня пронзительно голубыми глазами, медленно, обстоятельно, как он всегда это делал, стер с моего лица все до последней слезинки. – Мы справимся, Дороти.
Но он ошибся. В конце мама ухаживала за папой, словно он был одним из ее детей – таким же, как Рэнди, Робин, Дорри или я. Но кто мог позаботиться о ней самой, когда она нетвердой рукой выводила страшные строки: “Июнь 1993. Сегодня узнала, что у меня Альцгеймер. Как страшно”. С этих слов началась мамина борьба с потерей памяти, продолжавшаяся пятнадцать лет.
Она не перестала писать. Когда сил не хватало на целые параграфы, начала заполнять дневники фразами: “Быть может, мы причиняли бы друг другу меньше боли, если бы просто чаще касались друг друга”. Или “Уважай себя”. Или просто – “Так, быстро соображай: какое сегодня число?”. Иногда попадались странные записи: “Голова свернула куда-то не туда”. Потом, когда и фразы стали маме не по силам, она перешла на отдельные слова: “АРЕНДА. ПОЗВОНИТЬ. ЦВЕТЫ. МАШИНА”. И, конечно, самое ее любимое слово: “ДУМАЙ”. После слов были числа и цифры. А после них – уже ничего.
Дороти Диэнн Китон родилась в 1921 году в Уинфилде, что в штате Канзас. Еще до того, как ей исполнилось три, ее родители, Бола и Рой, в поисках американской мечты перебрались в Калифорнию. Оба были выходцами из центральной части страны, а оказались в конце концов среди холмов Пасадены.
В школе мама играла на фортепиано и пела в трио “Две точки и тире”. Когда ей было шестнадцать, отец ушел из семьи, оставив Болу с тремя дочерьми на руках. Конец тридцатых годов оказался для семейства Китон непростым. Боле, которая всю жизнь была домохозяйкой, пришлось искать работу. Дороти пришлось отложить свои планы на колледж и помогать с хозяйством, пока ее мама наконец не нашла место уборщицы.
У меня есть фотография, на которой шестнадцатилетняя Дороти стоит рядом со своим отцом, Роем Китоном. Почему он решил уйти? Бросить свою любимую, так похожую на него дочь? Как он мог пойти на это, зная, что она никогда не оправится от такого предательства?
Все изменилось, когда на баскетбольной площадке лос-анджелесского колледжа в Хайленд-парк Дороти встретила Джека Холла. Мама любила вспоминать их первую с отцом встречу: красивый голубоглазый брюнет, по идее, предназначался в ухажеры ее сестре Марте, но с самого начала не мог отвести от мамы глаз. А мама всегда говорила, смеясь, что это была любовь с первого взгляда. Наверное, она была права – потому что спустя очень короткое время влюбленная парочка отправилась в отель “Стардаст” в Лас-Вегасе, где и обручилась.
Мама никогда не рассказывала, чего хотела добиться в жизни. Кое о чем я догадалась сама. Например, она была не только главой родительского комитета, но и возглавляла Женский клуб Арройо-Висты. Кроме того, по воскресеньям мама преподавала в школе при методистской церкви и всегда участвовала во всех конкурсах, условия которых печатали на пачках хлопьев и прочей снеди. Она обожала телевикторины. Самой любимой в нашем семействе была “Королева на день”, которую ведущий Джек Бэйли начинал одними и теми же словами пять раз в неделю: “А вы хотите стать КОРОЛЕВОЙ НА ОДИН ДЕНЬ?” Суть передачи состояла в следующем: Бэйли проводил интервью с четырьмя женщинами, и одну из них – самую несчастную, по мнению аудитории (для измерения степени сочувствия использовался датчик громкости аплодисментов), – объявляли “Королевой дня”. Под звуки торжественного марша Джек Бэйли укрывал победительницу бархатной мантией с белой опушкой, водружал ей на голову сверкающую тиару и вручал четыре дюжины алых роз. Мама вместе с тетей Мартой исписали жалостливыми историями немало бумаги, отправляя в передачу заявку за заявкой. Однажды мама даже почти прошла отбор, написав историю под заголовком “Моему мужу необходимо легкое”. Когда продюсеры стали расспрашивать маму, ей пришлось признаться, что она немножко драматизировала – папе, большому любителю подводного плавания без акваланга, для добычи жемчуга и, соответственно, лучшего заработка и впрямь нужны были оба его легких. Маму, конечно, тут же дисквалифицировали.
А как-то утром я проснулась и обнаружила, что по нашему дому шастает толпа любопытных зевак. Оказывается, мама решила поучаствовать в конкурсе «Миссис Америка» на местном уровне и забыла нам об этом рассказать. Цель конкурса была проста – выявить идеальную американскую домохозяйку. Как потом рассказала нам мама, в число необходимых для победы навыков входили сервировка стола, умение составлять букеты, заправлять постели, готовить, распоряжаться семейным бюджетом и ухаживать за собой. Мы тогда, помнится, были в шоке.
Мне в то время было девять лет, поэтому мне разрешили поприсутствовать при коронации мамы титулом “Миссис Хайленд-парк”, которая проходила в кинотеатре на Фигероа-стрит. Как-то неожиданно для меня оказалось, что мама, лучшая домохозяйка Хайленд-парка стоит где-то высоко-высоко на огромной сцене, а позади нее темнеет алый бархатный занавес. За ним скрывались: телевизор RCA Victor Shelby, стиральная и сушильная машины от Philco, набор чемоданов Samsonite, коллекция нарядов от магазина Ivers и шесть синих флаконов духов Evening in Paris. Помню, меня тогда охватило странное чувство. Что тут происходит? Почему мама стоит, залитая светом прожекторов, словно кинозвезда? Все это было очень волнующе и при этом как-то противно. Мне казалось, что меня предали, бросили, и, что еще хуже, в глубине души я мечтала оказаться на мамином месте.
Полгода спустя Дороти Холл короновали снова – на этот раз маму наградили титулом “Миссис Лос-Анджелес”, и сделал это знаменитый ведущий Арт Линклеттер в отеле “Амбассадор”. Мы с братом Рэнди смотрели церемонию по новенькому телевизору RCA. Мама же, как “Миссис Лос-Анджелес”, без конца разъезжала с выступлениями по женским клубам, супермаркетам и торговым центрам “города ангелов”. Дома она почти не бывала – а когда появлялась, все свое время проводила у плиты, оттачивая до совершенства один и тот же рецепт немецкого шоколадного торта с грецкими орехами. Она очень хотела стать “Миссис Калифорния”. Папу весь этот дурдом стал порядком бесить, о чем он не преминул сообщить маме. В борьбе за титул лучшей домохозяйки штата маму ждала неудача, но, как ни странно, она не стала долго горевать из-за своего поражения и просто вернулась к обычной жизни. Но все-таки кое-что в нашей жизни изменилось – во всяком случае, в моей жизни точно.
Интересно, как бы изменилась наша жизнь, получи мама титул “Миссис Америка”? Стала бы она выступать на телевидении, как Бесс Майерсон? Или ездить с лекциями, рассказывая о прелестях бытовой техники Philco? Или писать колонки в журнал McCall? И что бы стало с моими мечтами о славе, если бы реализовались мамины мечты? Тогда титул достался чьей-то еще маме, но меня это мало волновало: я просто радовалась, что мне не придется делить маму с остальным миром.
Мама искренне верила, что всех ее детей ждет блестящее будущее. Я была забавной, Рэнди писал стихи, Робин пела, а Дорри всегда была умнее нас всех, вместе взятых. К старшим классам за моими плечами было столько троек с минусом, что даже маме стало понятно: усердной ученицы из меня не выйдет. В 1957 году я, как и все остальные американцы, прошла тест на умственное развитие. Результаты никого не удивили. Я провалилась по всем категориям за исключением некоего параметра под названием “Абстрактное мышление”. Помню, мне не терпелось добраться до дома и расспросить маму об этом загадочном абстрактном мышлении. Услышав о моих достижениях, мама пришла в восторг. Оказывается, развитое абстрактное мышление означало, что я умею анализировать информацию и решать сложные задачи, опираясь исключительно на силу мысли. На протяжении всей жизни я пыталась решать самые разные проблемы, тщательно их обдумывая, но у меня это ни разу не получилось. Так что я до сих пор не очень понимаю, что это за зверь такой – абстрактное мышление.
В 1959 году культурный ландшафт нашей семьи заметно изменился – в дом по соседству заехала семья Бастендорфов. Билл был психологом с ученой степенью. Даже папа, вообще-то не доверявший “всем этим вашим мозгокопателям”, сразу проникся симпатией и к Биллу, и к его жене Лорель. Семейство Бастендорфов сразу вызвало порядочный переполох в нашем квартале – они позволяли своим детям бегать по дому и саду абсолютно голыми. Жильцы с нашей улицы, с ее одинаковыми домиками и идеальными лужайками, не очень-то оценили заросший сад Бастендорфов и постеры с репродукциями работ Пикассо, Брака и Миро, украшавшие стены их дома.
Иногда Лорель отвозила маму в единственное “битниковское” кафе во всей Санта-Ане. Там они пили эспрессо и обсуждали статьи журнала Sunset о таких ярких персоналиях, как Чарльз Эймс или Клифф Мэй – ну или что-то в этом духе. Как бы то ни было, мама ловила каждое слово Лорель, особенно после того, как та научила ее украшать разными ракушками досочки. Мама была так вдохновлена этой идеей, что придумала свой собственный вид досочек – с камушками вместо ракушек. Вскоре картины из камней заполонили весь наш дом. Больше всего мне запомнилась одна, размером почти метр на полтора – она была такой тяжеленной, что камни с нее вскоре стали отваливаться.
Конечно, большинство людей считали маму всего лишь обычной домохозяйкой, но я всегда видела в ней настоящую творческую личность в поисках своего пути.
Вдохновившись примером Бастендорфов, в 1961 году мама усадила нас всех в фургончик и мы поехали через всю страну в Нью-Йорк, чтобы увидеть выставку “Искусство ассамбляжа” в Музее современного искусства. Нас всех потрясли работы Джозефа Корнелла и то, как он при помощи коллажей и коробочек ловко создавал целые миры. По возвращении домой я немедленно решила, что украшу коллажами целую стену у себя в спальне. Мама поддержала эту идею и даже предлагала мне для коллажа вырезки из журналов, которые, по ее мнению, могли мне понравиться, – например, фотографию Джеймса Дина на Таймс-сквер. Вскоре мама начала составлять коллажи с чем угодно и где угодно, включая мусорные баки, старые коробки из вспухшего папье-маше и внутренности всех кухонных шкафов (ужас, и не говорите). Мой брат Рэнди подошел к делу серьезно и в итоге стал настоящим артистом – например, сейчас дома в духовке у нас подсыхает сотня (я не преувеличиваю) произведений искусства из его последней серии под названием “Ослепленный женщиной”. Наверное, можно сказать, что это у нас семейное: коллекционировать, обрабатывать и компоновать узоры и картинки так, чтобы получалось что-то совершенно необычное. Коллажирование, как и абстрактное мышление, было еще одним способом анализировать информацию, только в визуальной форме. Во всяком случае, так я всегда говорила маме, и она наверняка была уверена, что я права.
В четырнадцать лет я стала свидетелем картины, оставившей неизгладимый след в моей памяти. Дело было в мексиканской Энсенаде, вечером. Музыканты играли мариачи, а мои родители танцевали в свете яркой луны. Я наблюдала за ними со стороны, когда они вдруг поцеловались со страстью, которая должна была бы возмутить меня, как типичного подростка. Но я, напротив, была восхищена силой их любви и тем, что такая любовь вообще возможна. Глядя на папу и маму, я поняла, что и я когда-нибудь смогу вот так – любить до самого конца.
На последней странице своего тогдашнего дневника в тот день я написала следующее: “К сведению всех заинтересованных лиц. После моей свадьбы мы с мужем сядем и обговорим наиболее важные стороны брака. Никаких истерик в присутствии детей. Никакой ругани. Я не хочу, чтобы мой муж курил, но пропустить иногда стаканчик-другой – пожалуйста, я не против. Мои дети будут ходить в церковную школу по воскресеньям. И я буду шлепать их, если они будут себя плохо вести. Собственно, я хочу, чтобы мы с моим мужем жили так же, как живут сейчас мои мама и папа.”
“К сведению всех заинтересованных лиц”. О Господи, кого я пыталась обмануть? И зачем я изображала из себя такую хорошую и прилежную девочку, когда на самом деле все эти выдуманные правила и ограничения и замужество в целом вызывали у меня ужас? При этом я не написала ничего о событии, действительно важном для меня и навсегда оставшемся в моей памяти. Это случилось, когда я была в девятом классе. На уроке алгебры, которую вела у нас миссис Хопкинс, я обменивалась записочками с Дейвом Гарлендом – он был “шикарным” парнем, но, как я считала, терпеть меня не мог. Дейв положил нашей переписке конец, прислав мне послание из пяти слов: “Однажды ты станешь хорошей женой”.
Женой? Я не хотела быть женой! Я мечтала быть сексуальной и сводить парней с ума. Я хотела быть как Барбара Стрейзанд, когда та пела: “Нет, я никогда не выйду замуж; буду бродить на воле до конца дней своих”.
Собственно, так оно и вышло – я никогда не была замужем. В школе я ни с кем не “встречалась”. Радуя родителей своим прилежным поведением, я дни напролет проводила в мечтах о страстных объятиях недосягаемых красавцев вроде Дейва Гарленда. Как я сейчас понимаю, такое прилежание позволило мне в полной мере осознать, чего я на самом деле хочу – стать звездой и выступать на Бродвее. Любовь и брак не могли мне в этом помочь, а значит, о них нужно было забыть. Так что всю свою жизнь я продолжала мечтать о недосягаемых мужчинах.
Сами объекты моей страсти со временем менялись: Дейва сменил Вуди, того – Уоррен, а Уоррена – Ал. Получилось бы у меня построить крепкие отношения хоть с одним из них? Сложно сказать. Мне кажется, подсознательно я понимала, что все эти романы безнадежны. Я бы не позволила им встать у меня на пути – пути к осуществлению моих желаний. Мужчины – это так просто! Меня интересовала более крупная рыба – публика. Абсолютно любая публика. Что я делала, чтобы приблизиться к своей цели? Ходила на бесконечные прослушивания и пробовала себя в разных ипостасях. Я пела в церковном и школьном хоре, старалась пробиться в команду чирлидеров. Я пробовалась на любые роли во всех постановках, включая “Укрощение строптивой” – пьесу, смысла которой я тогда не понимала, – представляла наш класс в дискуссионном клубе школы и была редактором новостной рассылки Ассоциации молодых христианок. В девятом классе я баллотировалась на пост старосты класса. Я даже умоляла маму пропихнуть меня в масонский тайный клуб “Дочери Иова”, на собрания которого девочки приходили в длинных красивых платьях. Я хотела, чтобы мною восхищались, поэтому и решила остаться в уютной и тихой гавани родного дома – во всяком случае, так я думала тогда.
Теперь, когда мне уже за шестьдесят, мне особенно хочется понять, каково было моей маме – красивой женщине, супруге Джека Холла, воспитывавшей четырех детей в солнечной Калифорнии. Мне хочется понять, почему мама постоянно забывала о том, насколько она прекрасна. Если бы она знала, как здорово нам было, когда она играла веселые пьески на пианино и пела нам: “Солнышко на севере, солнышко на юге, лучше нашей мамы нет для нас подруги!” Не знаю, почему она не понимала, насколько чудесной была – например, однажды в музее, когда она показала мне мраморного льва без правой половинки морды и задних лап, а затем и величественную статую без рук и сказала: “Ах, Дайан, посмотри, как они великолепны!”
– Но они же безногие и безрукие! – удивилась я.
– Но ты только посмотри на них! Даже без морды, без лап и без руки, они все равно прекрасны.
Мама научила меня видеть. При этом сама она не считала, что в этом есть ее заслуга. Иногда я задумываюсь, не была ли мамина низкая самооценка в каком-то смысле предвестником болезни Альцгеймера. Может, это вовсе не болезнь похитила ее воспоминания, а парализующая, чудовищная неуверенность в собственных силах?
Мама прощалась с окружающим ее миром целых пятнадцать лет. На протяжении пятнадцати лет она говорила “прощай” именам знакомых и названиям родных мест; отточенному рецепту ее знаменитой запеканки с тунцом; подаренному на шестидесятипятилетие папой BMW. В конце концов она попрощалась и со мной, когда перестала узнавать. А что взамен? Одноразовые тарелочки с плесневелым кошачьим кормом в шкафу для лекарств. Сиделки, которые по утрам отвозили ее в инвалидном кресле смотреть любимое телешоу “Барни и друзья”. Бессмысленный пустой взгляд.
Где-то посреди этого страшного пути я удочерила маленькую девочку. Мне было пятьдесят. Я всегда избегала привязываться к кому-то, и вдруг все в моей жизни поменялось. Моя дочь Декстер, а потом спустя пару лет и сын Дьюк учились произносить слова, пытаясь выразить все, что происходило в их маленьких головках, а моя мама в это же время понемногу забывала, как составлять слова в фразы.
Я разрывалась между любовью к матери и любовью к своим детям, и это сильно меня изменило. Очень непросто наблюдать, как подлая болезнь отбирает у тебя мать, и одновременно пытаться обеспечить своим детям стабильную, полную любви и заботы жизнь. Мама всегда была самым важным для меня человеком. Я такая, какая я есть, только потому что у меня была такая мама. Значит ли это, что я окажу такое же сильное влияние на Дьюка и Декстер? Я задавала себе этот вопрос и не могла найти на него ответа – и абстрактное мышление мне в этом ни капельки не помогло.
В год перед смертью она растеряла чуть ли не всех своих близких друзей – оставшихся можно было пересчитать по пальцам. Она перестала быть похожей на себя. Правда, я и сама иногда задумываюсь: а много ли во мне осталось от той девушки, что снялась в “Энни Холл” почти тридцать пять лет назад? Помню, после выхода фильма ко мне как-то подошел на улице поклонник: “Не меняйтесь! Пожалуйста, никогда не меняйтесь!” Даже мама однажды сказала:
– Дайан, никогда не старей!
Как мне не понравилась эта фраза много лет назад, так она мне не нравится и сейчас. На попытки остановить ход времени уходит масса энергии, а счастья это еще никому не принесло. Вот вам еще хорошее слово: счастье. С какой стати я возомнила, что имею право на счастье? Да и что вообще есть счастье? Как сказал Теннесси Уильямс, счастье – всего лишь бесчувственность.
Последним маминым словом стало “нет”. Нет бесконечным понуканиям, нет непрошеным вмешательствам.
– Будешь ужинать, Дороти?
– Нет.
– Пора принимать таблетки, Дороти, открой рот.
– Нет!
– Ну-ка, давай перевернем тебя на другой бочок.
– НЕТ!
– Ну-ну, разве так не лучше?
– НЕТ!!!
– Посмотришь телевизор? Там “Я люблю Люси” показывают. Давай я принесу тебе вилку, давай я принесу тебе трубочку, давай помассирую плечи.
– Нет, нет, нет, нет, НЕТ!
Думаю, если бы мама могла, она бы просто сказала: “Оставьте меня в покое. Не трогайте меня. Это моя жизнь и моя смерть”.
И проблема была не в том, что о ней недостаточно заботились или делали это как-то холодно и без любви, нет. Маме страшно не хватало независимости. Когда я была маленькой, мама то и дело сбегала от нас в любую свободную комнату – ее потребность в одиночестве затмевала даже сильнейшую любовь к своим детям. Скрывшись от всех, мама переставала быть преданной матерью и любящей женой и могла наконец полностью погрузиться в собственные мысли. А в конце от маминой тяги к независимости осталось лишь одно жалкое слово “нет”.
– Мама освободилась от тягот земной жизни и воссоединилась с отцом и сестрами – Орфой и Мартой, – с матерью Болой и своими обожаемыми котами, начиная с Уголька и заканчивая Сайрусом. А я… Я обещаю, что не забуду о ее мыслях и словах. Я обещаю всегда думать. И я обещаю помнить о прекрасной, чудесной Дороти Диэнн Китон Холл, родившейся 31 октября 1921 года в Канзасе, – о моей любимой маме.
Эти слова я произнесла на похоронах мамы в ноябре 2008 года. Мама до сих пор остается самым важным человеком в моей жизни. Со стороны может показаться, что у нас с ней не было ничего общего. Она была домохозяйкой, мечтавшей о славе; я – актрисой, чья жизнь в некоторых аспектах превзошла мои самые смелые ожидания.
Можно было бы сравнить наши судьбы – жизнь матери и дочери, двух женщин с амбициями и мечтами, которых терзали одни и те же демоны. Чего я недополучила, добившись славы? И чего добилась мама, смирившаяся со своей обыденной, ничем не примечательной жизнью? Я была самой обыкновенной девочкой, которая выросла в самую обыкновенную женщину. За одним только маленьким исключением: мама наградила меня необыкновенной силой воли. Разумеется, она не досталась мне просто так. Впрочем, и у мамы жизнь была не сказать чтобы очень простая.
Так почему же я решила написать эту книгу? Потому что мама еще не ушла до конца. Потому что она сама пыталась запечатлеть историю нашей семьи в своих записках. Потому что мне понадобилось несколько десятков лет, чтобы понять: прелесть мамы была в ее непонятной, неоднозначной натуре. И потому что я не хочу, чтобы она исчезла без следа – хотя это уже и произошло.
В общем, у меня есть много причин. Но лучше всех на вопрос “почему” ответила сама мама в одной из своих записок. Этот текст, показывающий, от кого у меня зачатки пресловутого абстрактного мышления, был написан мамой в 1980 году, когда ей было пятьдесят девять лет.
Каждый, абсолютно каждый человек обязан написать автобиографию – перенестись в прошлое, вытащить на свет божий и перетрясти весь хлам, скопившийся за долгие годы жизни. Некоторые писатели очень необычно облекают свои мысли в слова. Значит, при желании и я смогу это сделать. Возможно, это позволит мне расслабиться и позабыть наконец о бесконечных воспоминаниях, которые сейчас то и дело всплывают в голове. Правда, тут есть одно “но”: это, конечно, неправильно, но прошлое и его привычки не дают мне расслабиться и писать, о чем мне хочется, – о жизни, о старых друзьях, о семье. Я постоянно сдерживаю себя. Иногда мне кажется, что, не будь я такой зажатой, однажды благодаря всей этой писанине я смогла бы лучше понять саму себя. Знаю, я перескакиваю с одной мысли на другую, но все же было бы неплохо однажды написать автобиографию.
Мама так никогда и не занялась мемуарами. Именно поэтому я и решила написать автобиографию – одну на нас двоих. Конечно, историю про девочку, чьи мечты сбылись благодаря ее маме, особенно новаторской не назовешь. Но тут уж ничего не попишешь.
Мамы больше нет рядом – но любовь и благодарность к ней подтолкнули меня к тому, чтобы попробовать рассказать о ее жизни и ее пути.
Я надеялась, что, работая над мемуарами, я лучше пойму наши с мамой отношения и, быть может, наконец узнаю, почему же осуществленные мечты давят таким тяжелым грузом. Эта книга включает как мои воспоминания и истории, так и записки из маминых блокнотов и дневников. Мы с мамой обе любили коллажи, так что я поместила ее слова рядом с моими – вместе с письмами, вырезками и прочими свидетельствами нашей жизни. Так, рядышком с историей ее жизни, идет и моя. Кто знает, может, посмотрев на них со стороны, я смогу лучше понять себя – и маму тоже.
Часть первая
1. Дороти
Необыкновенная
Страсть к сочинительству впервые одолела Дороти, когда она начала писать письма младшему лейтенанту Джеку Холлу, служившему во флоте в Бостоне. Стояли первые послевоенные годы. Дороти еще лежала в больнице после родов. Если не считать меня – трехкилограммового младенца, – она была совсем одна. Так что мама принялась за занятие, которое позже стало ее настоящей страстью, – она начала писать. В этих письмах сразу видно, что мама тогда находилась под большим влиянием тех немногих фильмов, что ей позволяла смотреть Бола, – например, “Бродвейской мелодии” 1938 года и других безобидных девичьих кинолент с Джуди Гарленд в главной роли. Мамина любовь к выражениям типа “ты – любовь всей моей жизни”, “только с тобой я могу быть счастлива” и словечкам вроде “шикарно” прекрасно отражает типично американский взгляд на жизнь в сороковые. Для Дороти в те годы не было ничего важнее любви, Джека и Дайан. И все это было “шикарно”.
Первое письмо ко мне, начинающееся словами “Привет, солнышко”, мама написала, когда мне было восемь дней от роду. Пятьдесят лет спустя я впервые взяла на руки мою восьмидневную дочь Декстер – чрезвычайно жизнеутверждающего младенца. Я никогда не была особенно радостным или даже симпатичным ребенком, хотя долго не могла в это поверить. Мама начала переживать по поводу моей внешности, получив особенно неудачную мою фотографию. Как видите, уже тогда камера начала серьезно влиять на восприятие меня людьми. В общем, я не казалась красивой ни папе, ни маме. Впрочем, у Дороти, сидевшей с ребенком в крошечном домике бабушки Китон на Монтерей-роуд в Хайленд-парк, не было особенного выбора, так что в конечном итоге она убедила себя, что я – необыкновенная девочка. Ну а мне пришлось подчиниться – убеждению такой силы месячный младенец сопротивляться никак не мог. А последующие полгода, которые мы с мамой провели вместе, окончательно убедили нас в нашей правоте насчет моей необыкновенности. Дороти переполняли радость, тревоги и страхи, столь присущие новоявленной матери, и она прекрасно запомнила этот период своей жизни.
13 января 1946 года
Дорогой Джек,
Сейчас ты, верно, уже приближаешься к Бостону и наверняка основательно вымотан. Даже странно представить, что там, у тебя, такие холода, в то время как у нас стоит чудесная погода.
Извини, что так вела себя при нашей последней встрече. Я не хотела тебя обидеть – просто при мысли, что придется с тобой расстаться, мне стало невыносимо грустно. Я очень старалась не плакать, зная, что это не пойдет на пользу Дайан.
Сейчас у нас восемь вечера, и твоя дочурка спит. С каждым днем она становится все краше. Уверена, когда ты приедешь, она сразу же станет “твоей любимой девочкой”. Но это было бы несправедливо – в конце концов, я первая тебя увидела, так что я должна быть на первом месте в твоем сердце, верно?
Сегодня в гости приходили Чикита с Лоис и нашли нашу дочку весьма симпатичной. Даже несмотря на то, что она опять проделала свой любимый фокус – как только кто-нибудь подходит к Дайан поближе, она начинает усиленно косить глазами.
Что же, родной, мне пора – пойду будить нашего ангелочка. Нам с ней так повезло! Каждый раз, глядя на нее, я мечтаю о тех временах, когда мы будем все вместе – одна дружная семья.
Спокойной ночи, любимый.
Дороти18 января 1946 года
Здравствуй, дорогой!
Ну почему я такая плакса? Сама не знаю. До замужества из меня и слезинки выдавить нельзя было. Я даже думала, что вообще не умею плакать! А сейчас, стоит мне только подумать о том, какой ты замечательный и как я по тебе скучаю, как тут же начинаю реветь, словно Дайан. Все же я очень люблю тебя, милый, даже больше, чем ты догадываешься. Хоть я и не всегда говорю о своих чувствах, знай: когда ты рядом, меня переполняет любовь.
На днях я сделала наши с Дайан фотографии – обычные дешевые фотокарточки. Вряд ли малютка Дайан (да и я тоже) выйдет на них очень хорошо – уж слишком она крошечная. Но я все равно надеюсь, что благодаря им ты наконец увидишь, как выглядит твоя дочурка. Фотограф сказал, что для ребенка ее возраста и роста Дайан – очень симпатичная малышка. Во всяком случае, она не такая толстушка, какой была ее мамочка.
Я и сейчас, как это ни прискорбно, та еще пампушка. Дайан весит уже больше четырех килограммов и с каждым днем все хорошеет. Отлично ты придумал – присылать ей двухдолларовые банкноты. Я откладываю их в копилочку – может, со временем откроем на ее имя сберегательный счет?
Спокойной ночи, дорогой мой.
С любовью,
Дороти21 февраля 1946 года
Здравствуй, милый!
Я в ужасе. Как я и ожидала, фотографии вышли просто отвратительно. Дайан на них сама на себя не похожа. Я решила, что не буду их отсылать – иначе ты подумаешь, что я попросту шутила, говоря, какая она хорошенькая.
В своем последнем письме ты сказал, что мечтаешь заново прожить те дни, что мы были вместе. Я и сама об этом думаю – нам тогда было так хорошо. Нам ведь совсем не обязательно меняться, правда? Даже несмотря на то, что у нас теперь есть ребенок и полно всяких важных дел – это ведь еще не значит, что мы вдруг должны начать вести себя как взрослые и занудные дядя с тетей?
Ведь так?
Спокойной ночи, дорогой Джек.
Твоя Дороти31 марта 1946 года
Дорогой Джек!
Будь ты сейчас рядом, я бы тебя хорошенько выбранила – так я на тебя зла. С какой стати ты вдруг решил, что я “изменилась и симпатизирую другому”? Я ведь, как и ты, искренне верю, что наш брак может быть очень счастливым, и для меня это так же важно, как и для тебя. Плохого же ты обо мне мнения, если считаешь, что я нахожусь в постоянном поиске кого-то “получше”!
Неужели ты думаешь, что для меня замужество – лишь игра? Ты, должно быть, знаешь, как сильно я люблю тебя – так зачем мне кто-то еще? Ты говоришь, что желаешь мне только счастья, – и причиняешь мне такую боль! Если бы только ты чуть больше верил в меня и мою любовь… Я тоже прекрасно помню наш уговор – не скрывать, если любовь угасла. Тебе самому понравилось бы, если бы я постоянно твердила, что не верю в нашу любовь и что ты скоро найдешь себе кого-нибудь еще? Мне это определенно не понравилось, так что, будь добр, больше не пиши мне такие глупости.
Наверное, не стоит отправлять это письмо. Правда, чем больше я думаю о твоих словах, тем больше злюсь. Но как бы я ни злилась, я все равно люблю тебя, мой милый, люблю всем сердцем. Даже если бы я обошла весь белый свет, я бы не нашла никого лучше тебя. Ты делаешь меня счастливой.
Ну вот, теперь мне уже гораздо лучше. Я уже успокоилась. Но учти: если еще раз напишешь мне такое письмо, я опять разозлюсь!
С любовью,
ДоротиP. S. Решила все-таки отправить тебе наши фотокарточки.
25 апреля 1946 года
Привет, милый!
Тебе все-таки не понравились наши снимки, да? Поверь, твоя дочка вовсе не такая, как на этих жутких фотографиях! Да даже если бы у нее не было ее хорошенькой мордашки, она все равно было бы симпатягой – просто из-за ее характера. А характер у нее уже проявляется, да еще какой! Надо будет попозже сфотографировать ее снова.
Как ты знаешь, Дайан – на удивление смышленый ребенок. Я недавно прочла, что должны уметь дети в 4 месяца, и знаешь что? Дайан умела делать все это уже в 2 месяца! Она уже пытается садиться, совсем как полугодовалый ребенок. Она во всем пошла в тебя – она умненькая, с сильным характером и интересной внешностью. Даже не сомневайся, что из нее вырастет настоящая красавица.
Дорогой, ты знаешь, что до нашей встречи осталось всего 38 дней? Дайан кричит: “Ура!” Ну, во всяком случае, улыбается.
До встречи, мой любимый!
ДоротиК западу
Мое первое воспоминание – тени на стене, складывающиеся в узор. Лежа в кроватке, сквозь прутья я вижу женщину с длинными волосами. Она загадочная и непонятная – даже когда склоняется надо мной и берет на руки. Мне кажется, я уже тогда знала, что жизнь в этом мире будет странной и неоднозначной, но притягательно прекрасной. И на протяжении всей этой жизни я буду пытаться понять свою маму. Было ли оно так на самом деле или я это придумала уже сейчас, сложно сказать.
Что-то отложилось в моей памяти особенно хорошо, например, метель в Лос-Анджелесе, приключившаяся, когда мне было три года. Или занятный сборный дом из жестяных листов, в котором мы жили до моих пяти лет, – забавной полукруглой формы. Наверное, из-за него я до сих пор питаю нежные чувства ко всякого вида аркам.
Еще помню, как однажды вечером наш сосед, мистер Эйнер, услышал, как я топчусь на подъездной дорожке, только что выложенной камнем, и пою “Over the Rainbow”. Я почему-то была уверена, что мистер Эйнер рассердится, а он вместо этого сказал, что я “чрезвычайно одаренная девочка”.
Мой папа работал в Управлении водными ресурсами и энергетикой в центре Лос-Анджелеса, и, когда мне было пять, я побывала у него в офисе. Туда мы добирались на трамвае, и мне запомнилось, какой удивительный вид открывался из вагончика – бесконечно высокие небоскребы и здание городской ратуши прямо на вершине холма. Мне тогда ужасно понравилось в кафе “У Клифтона” и в универмаге “Бродвей”. Кругом было полно людей, а улицы – все в асфальте, угловатые, строгие. Я влюбилась в центр Лос-Анджелеса и с тех пор искренне верила, что именно так и должен выглядеть рай. И, конечно, самое приятное воспоминание от той поездки: я хватаю маму за руку и кричу в восторге: “Мам, смотри! Смотри!” Мы обе обожали глазеть по сторонам.
Даже трудно сказать, что мама любила больше – наблюдать за жизнью или писать. В детстве я терпеть не могла разглядывать ее альбомы – только потому, что под каждой из фотографий красовалась целая простыня разъяснений и пояснений. Став постарше, я перестала открывать ее бесконечные письма. Кому нужна эта писанина? Фотографии куда интереснее. Натолкнувшись в темной комнате на мамины альбомы и записки, я стала избегать их, как огня. Впрочем, все изменилось в мои шестьдесят три года, когда я решила написать мемуары. Тогда-то я и прочла все мамины записки, без особого порядка, хватаясь то за одну, то за другую. В процессе я наткнулась на мамины мемуары – вернее, то, что осталось после ее попытки их написать. На обложке дневника золотом была выдавлена дата “1980” – получается, мама приступила к своим воспоминаниям в пятьдесят девять лет. Записи были датированы, но иногда встречались и незаконченные отрывки, после которых мама оставляла по дюжине пустых страниц подряд. Порой она писала абзац-другой о какой-нибудь истории, заканчивала ее лишь спустя пару лет, а через несколько месяцев описывала ее снова. Описывая пять лет своей взрослой жизни, она то и дело отвлекалась на истории из своего детства и в целом не очень придерживалась строгих временных рамок. Дороти, если судить по дневнику, вспоминала о своей жизни с благодарностью и радостью – правда, не всегда. Она не только ворошила приятные воспоминания, но и думала о тяжелых временах – например, о тридцатых годах, когда с одной стороны на нее давили строгие ограничения методистской церкви и ее собственной матери, а с другой – манили неизведанные и незнакомые удовольствия. Горько признавать, но жизнь не всегда была для Дороти легкой и приятной – от некоторых ударов судьбы она так никогда и не оправилась.
Семейные чувства
Когда мне было три-четыре года, мой отец, Рой Китон, прозвал меня “Коврижкой” – так он называл меня только в моменты прилива нежных “семейных чувств”. Во все остальное время я была просто Дороти. Отец мечтал о сыне и твердил об этом маме на протяжении всех ее трех беременностей. Но у них рождались только девочки, и со временем всем стало ясно, что идеальным сыном в представлении папы могла бы стать именно я. Я была пацанкой, но при этом тихой и послушной. Сама я не очень понимаю, почему отец любил меня больше сестер. Иногда он делился со мной мыслями, которые скрывал даже от мамы. Ну а я выслушивала его – безропотно и безмолвно. В конце он спрашивал: “Ну что, прав я или нет, Коврижка? А?” И я всегда отвечала, что он, конечно же, совершенно прав. Думаю, для отца не было секретом, что я всегда соглашалась и с мамой тоже.
Мы постоянно переезжали с места на место. Когда мне было четыре, мы жили в старом двухэтажном доме на Уолнат-стрит в Пасадене. Перед домом не было лужайки, только тротуар, но зато в нашем распоряжении был огромный задний двор, прямо по которому проходила железная дорога до Санта-Фе. Там даже не было забора, чтобы оградить нас от путей. Когда мы сидели на кухне, из окон проезжавшего мимо поезда на нас глазели любопытные пассажиры. Сегодня, конечно, такое и представить себе нельзя, но в те времена всем было плевать. Папина немецкая овчарка Грампи любила спать прямо на железнодорожных путях, спрыгивая в сторонку перед поездом.
У нас в доме всегда были кошки. Я была еще ребенком, когда мы сняли дом подешевле, прямо на верхушке холма в Хайленд-парк. К дому прилагалось пол-акра земли (вернее, грязи) с крошечной лужайкой. Соседей поблизости не было, да и прохожих тоже – кому придет в голову карабкаться по крутой лестнице на холм? Так что для кошек там было полное раздолье. Я завела 13 штук – и мама была не против. Папе было все равно – он почти не бывал дома. Несмотря на то что с деньгами у нас всегда было туго, мама умудрялась кормить каждый день не только нас пятерых, но и всю эту кошачью стаю. Помнится, четверых из них я нашла в одну неделю – Красавчика, Пирожка, Вопилку и Алекса. А одну кошечку, Малышку, я помню особенно хорошо. Это была глуповатая серая кошечка с тощими ногами, огромными ушами и переломанным кривым хвостом. Самое странное в ней было то, что она никогда не издавала ни звука – она не мяукала, не шипела, не мурчала. Все, кроме меня, считали Малышку ошибкой природы. Я же ее обожала. Однажды она принесла нам четырех котят, но, к моему горю, от родов так и не оправилась и вскоре умерла. Моей сестре Орфе было на это плевать – незадолго до этого она в тайне от мамы завела себе дружка и то и дело бегала к нему посреди ночи. Марти была еще совсем маленькой и на кошек особенного внимания не обращала.
А вот для меня они были моими лучшими друзьями. Мама всегда говорила, что я очень чувствительная – а все потому, что я – средний ребенок. Не знаю, права она была или нет, но помню, что переживала, почему никто в моей семье не любит кошек так же, как и я. Я так никому и не рассказала свой самый большой секрет: когда я вырасту, я открою кошачий приют на ферме и спасу всех-всех бездомных котят и кошек, каких только встречу на своем пути.
Первенец
Быть старшим ребенком не так уж и плохо. На какое-то время родители были в моем полном распоряжении, но потом появился Рэнди, на пару лет меня младше. Рэнди был очень ранимым ребенком – слишком ранимым. Однажды я, как президент и создатель элитного Клуба Бобров, заставила охотника за сокровищами (эта роль досталась Рэнди) отправиться со мной к высохшему руслу реки за монетками. Деньги я намеревалась потратить на покупку енотовых шапок как у Дэви Крокетта по 1,98 $ за штуку. Мы уже совсем было отчаялись, когда Рэнди наконец углядел настоящую монету в пятьдесят центов. Моему счастью не было предела. Я отвечала за финансовую сторону в нашем клубе, поэтому самостоятельно подняла монету и зажала ее в кулаке – на какое-то мгновение жизнь стала невообразимо прекрасной. Пока Рэнди не начал орать, как резаный. Оказывается, он испугался самолета, медленно ползущего по небу. Казалось бы, ерунда. Но Рэнди пришел в такой ужас, что, не прекращая рыдать, убежал домой и спрятался под кровать. Даже маме не удалось убедить его, что это был всего лишь безобидный самолет. После этого происшествия Рэнди стал с опаской относиться к окружающему миру и начал бояться любых летающих объектов. Подростком Рэнди практически невозможно было выманить из его собственной комнаты. Робин говорила, что рано или поздно он срастется с собственной комнатой и попросту исчезнет. В каком-то смысле так оно и было – Рэнди “исчезал” в музыке. Особенно любил он Фрэнка Заппу. Песня “Zomby Woof” стала его мантрой.
Родители переживали за Рэнди с самого его рождения. Я же в ответ постаралась стать совершенно не такой, как Рэнди. И зря. Я не понимала, что благодаря своей ранимости Рэнди научился понимать мир гораздо лучше меня.
При этом я всегда могла его обдурить – например, выцыганить у него единственный и неповторимый зеленый йо-йо, или шоколадку, припасенную с Хэллоуина, или драгоценные стеклянные шарики с узорами, которые он прятал под кроватью. Ну да, Рэнди был чутким и уникальным, ну и что с того? Зато у меня были теперь все его вещи!
Когда спустя три года после Рэнди у родителей родилась Робин, я чуть не позеленела от ревности. Как они могли родить девочку? Это же неправильно! Наверняка они ее удочерили. И, конечно же, Робин оказалась куда красивее меня и к тому же умела отлично петь. Что хуже всего, Робин оказалась папиной любимицей. Даже спустя много лет Уоррен Битти умудрялся доводить меня, называя Робин “более красивой и сексапильной сестрой Дайан”.
Дорри была незапланированным ребенком. Когда она родилась, мне было семь, так что для меня она уже угрозой не была. Дорри была очень похожа на маму и оказалась самой умной и одаренной в нашей семье. Собственно, она единственная смогла порадовать родителей табелем с одними пятерками. Дорри обожала читать биографии всяких знаменитых женщин вроде Симоны де Бовуар или Анаис Нин. Она даже проглотила “Шпиона в доме любви”, потому что там содержался “правильный посыл”, который позволил ей с оптимизмом смотреть в будущее. Дорри считала, что и мне надо прочесть этот роман – якобы некоторые отрывки были созвучны моим представлениям о любви. Правда, у меня-то никаких особых представлений о любви и не было. В Дорри меня всегда поражало то, что она была полна противоречий. Наверное, сказывалось то, что она была единственным “интеллектуалом” в нашем семействе.
Выходные и каникулы мы проводили на побережье. В 1955 году местным семьям еще разрешали разбивать палатки на пляже Хантингтон на месяц. Наша палатка – большой черный куб – стояла у самого берега. Помню, когда мне было девять, именно на пляже я прочла “Волшебника страны Оз” и “Приключения Перрин”. Мне тогда казалось, что жизнь всегда будет именно такой – черные буквы на белых страницах, белые волны и черные ночи. По утрам мама мазала нам с Рэнди носы кремом от загара, и мы отправлялись на поиски бутылок из-под газировки. Бутылки мы складывали в тележку из супермаркета и потом сдавали, по два цента за бутылку. Деньги мы тратили на билеты в бассейн с теплой соленой водой.
Спустя несколько лет папа вывез нас еще дальше на юг, к пляжу Доэни. Там мы тоже жили в палатке, а еще занимались серфингом и пели песни у костра. Иногда мы проводили выходные в Ринконе, прямо рядом с Тихоокеанским шоссе. Но самым любимым местом у папы была бухта Дайверс в Лагуна-Бич. Папа и его лучший друг Боб Бландин надевали гидрокостюмы и часами пропадали в океанских волнах, пока мы тихонько играли на берегу. Мама кормила нас бутербродами с колбасой и майонезом. С нами ездила и жена Боба, Уилли, которая красила губы ярко-красной китайской помадой и курила – совершенно неприемлемое с маминой точки зрения поведение.
Помню, что ночью утесы казались мне похожими на динозавров. Днем мы забирались на них и оглядывали наш любимый Лагуна-Бич. Если бы вы посмотрели на нас с пляжа, наверняка решили бы, что перед вами – идеальная калифорнийская семья пятидесятых, словно сошедшая со страниц журнала.
“Семья одного человека”
Радио играло в нашей жизни огромную роль. Больше всего мне запомнилась модель “Philco”, высокая, в виде шкафчика. Мы купили ее в кредит, как любые другие ценные вещи. Мы слушали радио по воскресеньям.
В три часа передавали “Семью одного человека”, мой любимый многосерийный радиоспектакль. Чтобы не пропустить подробности жизни отца Барбера и его семьи, мы с сестрами бегом бежали домой из церкви. Отец Барбер казался нам самым хорошим, мудрым и понимающим человеком на свете. Мне еще тогда казалось очень несправедливым, что мой папа не обнимает меня, не шутит и не разговаривает со мной, как отец Барбер. Почему он не такой добрый, не такой терпеливый, не такой любящий? Но что уж тут поделать, таков был мой отец. Я мечтала, чтобы однажды папа сказал мне: “Ну-ка, Коврижка, иди сюда, и я тебя крепко поцелую”. Или чтобы мама сказала: “Поторопись, а то пропустишь следующую серию истории про своих любимых Барберов”.
Но единственным, что объединяло мою семью с семьей Барберов, было вечное стремление родителей к лучшей жизни. Мне это казалось обидным, и я решила, что, когда вырасту, буду жить совсем по-другому. Моя собственная семья будет идеальной. Уж я-то об этом позабочусь. Идеальной, счастливой и красивой.
Вопросы без ответов
В шесть лет телевидение подарило мне Гейл Сторм, запустив сериал “Малышка Марджи”. Мне нравилась именно Гейл, а не Люсиль Болл. Гейл была моим идеалом – умная, бесстрашная, всегда готовая ввязаться в какую-нибудь переделку, которая, конечно же, приводила в ярость ее отца. Гейл была забавной, но беззащитной. Мне она очень нравилась. В то время самым популярным сериалом был “Я люблю Люси”, а похождения Гейл шли на втором месте – но только не для меня. Я знала, что мы с Гейл – родственные души. День, когда после 126 эпизодов сериал закрыли, стал для меня поистине черным.
Пятнадцать лет спустя, когда я училась в Школе театральных искусств, внезапно выяснилось, что один из моих соучеников, Фил Боннел, – на самом деле сын Гейл Сторм. И на Рождество он пригласил меня к своей маме в Беверли-Хиллз. Мы приехали где-то в полдень, но Гейл нигде видно не было. Фил сказал, что она поздно встает, – а я-то думала, что все мамы, как моя, вскакивают в шесть утра под бодрые вопли радиоведущего Боба Крейна и бегут на кухню варить овсянку. В особняке Боннелов – неудобном, старом доме в стиле ранчо – радио не играло. Гейл, когда она наконец спустилась, оказалась довольно мрачной женщиной, совершенно не склонной ни к каким проказам и проделкам. Потом Фил рассказал мне, что у его матери проблемы с выпивкой. Мне сложно было поверить в то, что Гейл Сторм оказалась пьяницей, но наконец до меня дошло: несмотря на то что все ее мечты вроде бы сбылись, Гейл все равно не была счастлива.
Следующего кумира я обрела в старших классах школы – им стал Грегори Пек. Вернее, Аттикус Финч – персонаж Грегори Пека в “Убить пересмешника”. То, как спокойно он подходил к решению самых сложных жизненных проблем, потрясло меня до глубины души. Пожалуй, я боготворила его даже больше, чем Уоррена Битти в “Великолепии в траве”.
Я почти всем и всегда делилась с мамой – ну, за исключением моих сексуальных переживаний и влюбленностей в кинозвезд. Впрочем, Грегори Пека мы любили и обсуждали обе. Если бы только мы с ним встретились! Он, по праву заслуживший звание моего героя, смог бы наставить меня на путь истинный, чтобы я стала тем, кем хотела быть. Под его чутким руководством я бы набралась смелости, чтобы спасать людей от несправедливостей расистского общества, и даже смогла бы пожертвовать своей жизнью ради своих убеждений.
Мама поддерживала меня всегда и во всем и не мешала мне высказывать вслух самые абсурдные и незрелые мысли. Помню, однажды я пожаловалась ей на отца. Вечно он мной недоволен! Всегда говорит: “Не сиди так близко к телевизору, ослепнешь”, или: “Доедай ужин, в Китае люди голодают”, а то и вовсе: “Не жуй с открытым ртом, мухи налетят”. Почему он такой зануда? Может, это его работа виновата? Поэтому он считает, что я ни на что не годна и все делаю не так, как надо? Мама вела себя иначе. Она никогда не осуждала меня и не говорила мне, что и как делать. Она позволяла мне думать самой.
Дедушка Китон
Однажды февральским вечером в доме раздался звонок. Звонили из Оклахомы. Было ясно, что стряслась какая-то беда – просто так в 1937 году по межгороду не звонили. Трубку поднял папа.
– Приезжай за своим отцом, мы с ним нянчиться больше не можем.
Отец не мог отлучиться с работы, поэтому за дедушкой решили отправить меня с мамой. По этому поводу мне даже пришлось пропустить две недели в школе – какое горе! Я делала вид, что страшно по этому поводу переживаю, но на самом деле была вне себя от радости.
Погрузив в наш “бьюик” 1936 года летнюю одежду и прихватив 25 долларов и две кредитки на бензин, мы отправились по Трассе 66. По пути в Оклахому мы проехали Кингман, Флагстафф и Голлап. Когда мы добрались до пункта назначения, дедушка уже ждал нас. Все его пожитки уместились в маленьком потертом чемоданчике. Сам дедушка – лохматый и непричесанный – улыбался со слезами на глазах. Родственники сказали нам, что он совершенно отупел и деградировал.
Дед Китон был ленивым, но добродушным человеком. Мириться с этим приходилось матери Роя, Анне, которая в конце концов была вынуждена устроиться на работу. Когда она заговорила о разводе – неслыханное в те годы дело, – дедушка уселся в свой красный грузовик “форд”, прихватил с собой пса Бадди и отправился колесить по стране. Когда дедушке стало совсем тяжко, он вернулся домой, и Анна приняла его. Правда, спустя некоторое время дедушка так начал действовать ей на нервы, что она позвонила нам и потребовала увезти его куда подальше.
По пути домой дед казался довольным. Прежде чем усесться на заднее сиденье “бьюика”, он достал пачку банкнот и всучил ее маме. Так что обратный путь показался нам куда комфортнее. Правда, за все приходилось платить. Одевать деда по утрам было сущей пыткой. Он натягивал штаны задом наперед, не мог просунуть руки в пиджак, не понимал, как завязывать шнурки, и отказывался носить носки. Он отвратительно вел себя за столом, шамкал беззубым ртом. На брюках то и дело расплывались пятна, он страдал недержанием и сводил маму с ума. Обратная дорога заняла три с половиной дня, которые показались нам вечностью.
Дед занял одну из трех спален, и жизнь наша переменилась. Отец отказывался принимать хоть какое-то участие в уходе за дедом, так что эта ноша упала на мамины плечи. А дедушка оказался тем еще пронырой. Как минимум два раза в неделю он убегал из дома, и маме приходилось обходить в его поисках весь район. В конце концов мы начали запирать его в комнате, а он – колошматить по двери, да так, что на нас принялись жаловаться соседи. Потом у деда случился запор, и мама заставила отца сделать ему клизму. Результаты превзошли все наши ожидания и засорили туалет. Скоро мы поняли, что ухаживать за дедушкой дома попросту невозможно, и определили его в ветеранскую больницу в Лос-Анджелесе. Отец был против этой идеи, но мама настояла на своем.
Последний раз, когда я видела дедушку, он махал нам на прощание рукой из автомобиля, который увозил его в отделение ветеранов в больнице. Отец, переваливший все заботы на маму, так никогда и не простил ее за то, что сдала деда. Стыдно сказать, но и мы с Мартой не особо помогали маме. Мы были подростками и очень стыдились деда. Позже я узнала, что, пока мама ухаживала за дедом, отец крутил интрижку с другой женщиной. Вскоре после этого он уехал из дома, чтобы уже больше туда никогда не вернуться.
Море белых крестов
Последние четыре года я пять дней в неделю проезжала мимо того самого ветеранского госпиталя. С северной стороны больницы – кладбище, которое Дьюк называет “морем белых крестов”. Я ему иногда рассказываю про солдат, которые умерли, защищая свою родину. Он всегда спрашивает, были ли они похожи на зеленых пластиковых солдатиков, которых ему покупают в супермаркете “Таргет”.
Пока я не прочла мамины записки, я ничего не знала о полоумном, писающем в штаны дедушке Китоне, который жил в одном доме с юной Дороти, которая должна была встретиться с Джеком Ньютоном Холлом, который должен был стать моим отцом. Как так вышло, что я много лет ездила мимо “моря белых крестов”, даже не догадываясь, что там, так близко от моего дома, покоится мой прадедушка Лемюэль У. Китон-младший?
Проповеди
Проповеди всегда были об одном и том же – о воскрешении Христа, урожденного спасти человечество от вечных адских мук. Самая большая сложность заключалась в том, что для спасения необходимо было родиться снова. Я решила не рисковать. Я читала Библию и на молитвенных собраниях не раз заявляла, что я была спасена, благословлена и рождена заново. Если я набиралась смелости встать и во всеуслышание произнести этот пассаж, все вокруг начинали улыбаться.
Я понятия не имела, о чем говорю. Мне просто нравилось бывать в церкви, такой красочной и яркой, нравилось слушать музыку – “Мессию” Генделя и “Весну в Аппалачах” Копленда. Я и слышать не хотела о крови и смерти, но этого было не избежать. Кровь. Грех. Вина. Слезы. Смерть. Плащаница. Гроб Господень. А по сути мы просто обменяли свободу воли на учение, в котором все рождаются грешниками и должны быть прощены и спасены, чтобы получить шанс на вечный покой. Мне понадобились все шестьдесят лет моей жизни, чтобы понять, что же я на самом деле обо всем этом думаю. Только теперь я почувствовала, как эта ноша упала с моих плеч.
Я свободна – от насаждаемого страха, от недоброго Господа, от прямой и узкой дорожки в рай и ужасных мук в аду. Я благодарна той безымянной силе, что избавила меня от уродливых и лживых представлений о жизни. Когда мое время на этой планете подойдет к концу, я не буду бояться. Аминь.
Игры со смертью
Когда мне исполнилось десять, мы на полгода перебрались в Гарден-Гров – папа снял там дом с черепичной крышей. Хозяева дома оказались весьма своеобразными людьми. Она была блондинкой с высвеченными перекисью волосами, а он держал бар. Папа говорил, что они “алкоголики”. Я раньше такого слова не слышала – оно значило, что хозяева дома слишком часто прикладывались к бутылке. Папа называл их и неряхами, и это тоже было правдой. Дом, который мы снимали, был ужасно грязным, но просторным – там было четыре спальни и две ванных комнаты. Куда больше, чем в нашем старом, отделанном голубой штукатуркой доме, все содержимое которого поместилось в грузовике, когда мы переезжали в Хайленд-парк. В кухню вели распашные двери, совсем как в вестерн-сериале “Дымок из ствола” с Джеймсом Арнессом. У Дорри и Робин была одна комната на двоих, а у восьмилетнего Рэнди, как и у меня, – своя спальня.
Как-то раз Робин играла на заднем дворе со своими друзьями. Я хотела, чтобы они приняли меня в свою компанию, но все были против – особенно Робин. Поэтому я отправилась к качелям, сняла одну из веревок, обернула вокруг шеи и сделала вид, будто собираюсь повеситься. Вскоре мимо меня пробежала Робин, не обратившая на меня ни малейшего внимания. Тогда я начала издавать звуки, будто задыхаюсь, – уж это-то должно было на нее подействовать! Но нет, Робин все так же беззаботно носилась со своими приятелями. Ух, я ей покажу! Я просунула голову подальше в петлю, забулькала погромче, потом сделала глубокий вздох, закричала и умерла. Робин не обратила на меня ни малейшего внимания.
Разрыдавшись, я убежала в дом и пожаловалась маме, что Робин позволила мне умереть. В ответ мама поинтересовалась: почему мне так важно, играют они со мной или нет? Смерть, пусть даже ненастоящую, нельзя использовать в каких-то корыстных интересах. Со смертью лучше не шутить. От мамы я добилась того, чего не удалось добиться от Робин, – сопереживания. Честно говоря, я бы и сейчас провернула трюк с веревкой заново, лишь бы только снова ощутить себя в крепких маминых объятиях, лишь бы услышать, как бьется ее сердце.
Мама умела сочувствовать, как никто другой. Я как наяву вижу: она сидит вечером с чашечкой кофе за столом, а напротив – я в очередной раз изливаю ей душу. За долгие годы эта сцена повторялась множество раз. И каждый раз мама говорила мне примерно одно и то же:
– Дайан, ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Я уверена, однажды ты всем покажешь. Ничего не бойся и всегда иди вперед.
И, несмотря на все неудачи и провалы, я продолжала идти вперед – потому что жаждала признания и хотела вновь и вновь приходить к маме на кухню.
Помнится, в те дни я частенько бывала совершенно озадачена. Все вокруг шло как-то не так: Робин совершенно не хотела играть в моей жизни роль, которую я для нее придумала; хозяева дома были алкоголиками – плохими людьми, куда хуже Уилли Бландин с ее сигаретами и помадой. Но самый сильный ужас вызвал у меня папа, который как-то сказал, что совсем скоро я стану женщиной. Я? Женщиной?! Он с ума сошел? Я убежала в спальню, захлопнула дверь и рухнула на кровать. Чуть позже ко мне зашла мама.
– Тебе понравится быть взрослой девочкой, дорогая, – сказала она.
Мне не хотелось обижать ее, но одна мысль об этом внушала мне ужас. Я не хотела, чтобы у меня начались месячные (что бы это ни значило), чтобы у меня росла грудь или волосы в интимных местах. Я не хотела быть женщиной. Я хотела быть собой – кем бы я ни была.
Чертово воскресенье
Пасхальное воскресенье было почти таким же волнующим праздником, как и Рождество. Но красоте этого столь важного для всего христианского мира дня уделяли мало внимания. Вместо этого нам, детям, в бесконечно длинных проповедях рассказывали о жестоком распятии Иисуса Христа – нашего Спасителя, который умер на кресте, пролил свою кровь, чтобы спасти нас… спасти МЕНЯ. Я никогда не понимала смысла этой затеи. В гимнах, которые мы пели, то и дело встречались фразы вроде “омыты кровью агнца”, “я спасен кровью Христовой” или “он пролил свою кровь за меня”. Кровь была важным символом, смысла которого я не понимала.
Пасха для меня значила одно – новое платье. Мама начинала шить платья загодя. Моим любимым было розовое длиной до колена, с рюшами на подоле и вороте. К Пасхе все мы покупали новые шляпки и туфли, чтобы вместе со всеми девушками и женщинами городка “выгулять” наряды на лужайках близ старой методистской церкви. Отличное было время.
Задел на будущее
Еще в детстве я начала подозревать, что что-то идет не так. Я была старшей из четырех детей и не могла понять, с какой стати вся красота в семье досталась младшим сестрам, Робин и Дорри. Я считала, что эту вопиющую несправедливость нужно как-то устранять. Меня бесил мой нос, и я стала прикреплять на него на ночь заколку-невидимку в надежде, что это позволит мне избавиться от горбинки. Я часами отрабатывала перед зеркалом особую улыбку, которая – я была убеждена в этом – скроет все мои недостатки. Я даже сидела и по полдня таращила глаза, надеясь, что они от этого станут больше.
Спустя пару лет мы с моей лучшей подружкой Лесли Морган курсировали по коридорам школы Санта-Аны, словно два темных пятна в мире, где существовали только красные, белые и голубые краски. Мы красились белой помадой и подводили черным глаза, надеясь подчеркнуть свою красоту отрицанием всего нормального. В начале каждого месяца мы тайком бегали в аптеку на Хонер-Плаза – проверяли, не вышел ли новый номер Vogue. Нам обеим нравилась Пенелопа Три, из-под челки которой почти не видно было ее лица. Я тоже решила носить длинную челку, чтобы прикрыть лоб. Правда, главной проблемы – моей зацикленности на привлекательности – это не решило. Мама никак не комментировала мою внешность – иногда мне казалось, что она просто решила, что с моим лицом ничего уже не поделаешь. Зато у нее было полно идей относительно моего стиля. Честно говоря, все бы только выиграли, если бы она хоть как-то ограничивала меня в выборе одежды.
Но тогда я считала, что мы – отличная команда. В пятнадцать лет я создавала наброски нарядов, а мама воплощала в жизнь мои идеи. Вернее, не столько создавала, сколько баловалась с разными выкройками, меняя местами то одну деталь, то другую. Основная идея оставалась неизменной – мама твердо считала, что нет ничего лучше платьев с запахом, про которые говорили, что, “если начнешь шить его после завтрака, к обеду выйдешь уже в новом платье”. Конечно, важную роль играла и ткань, выбор которой в универмагах вроде “Вулворт” или “Пенни” казался нам слишком бедным и банальным. Мы с мамой предпочитали комиссионный “Гудвилл”, в котором нам попадались настоящие сокровища – ткани в горошек, полоску и клетку. Мы покупали старые твидовые пиджаки, из разных кусочков которых шились отличные мини-юбки. Конечно, основная работа ложилась на мамины плечи – меня к швейной машинке совершенно не тянуло. Меня интересовал лишь конечный результат – и как я в нем буду выглядеть.
Я и не подозревала, что мама порой переживала из-за моего “образа”. В одном из своих дневников за 1962 год она писала:
Волосы у Дайан так налачены, что торчат сантиметров на 10 вверх. Юбки – на 8 сантиметров выше колен. Мы дома все над ней подшучиваем по этому поводу, но вообще-то она выглядит очень привлекательной. Конечно, для нас, ее родных, Дайан самая красивая поздно вечером, когда смывает макияж и надевает старые удобные домашние штаны. Она уже такая взрослая девушка! И очень независимая – у нее есть свои взгляды на жизнь, которые она ни за что не согласится предать. Верный способ испортить с Дайан отношения – это сказать, что она должна делать или как думать. Она все решает для себя, сама.
И благодаря маме я и впрямь была очень самостоятельной. Моим самым любимым нарядом тех времен было платье, которое мы с мамой сшили на школьный выпускной в 1963 году. Сперва мама купила мне мини-платье в “Ньюберри” (я тогда работала в этом универмаге в отделе нижнего белья), но я отвергла его из-за излишней простоты. После этого мы отправились в нашу любимую комиссионку, где нашли отличное платье с широкой юбкой в черно-белый горошек, которое немедленно и раскроили. Затем мы разорились на дорогущие белые туфли на высоком каблуке с черным носом и маленькими помпончиками. Еще одним штрихом стали черные чулки со швом – очень модные. Помнится, тогда я верила, что если мне удастся “спрятать” лицо и подчеркнуть самую привлекательную мою черту – то есть улыбку, – то я буду выглядеть куда привлекательней. Но потом произошло событие, перевернувшее всю мою жизнь. Я прохаживалась по другому моему любимому магазину – комиссионке Армии Спасения, – когда вдруг увидела решение всех своих проблем: шляпу. Старый мужской котелок. Я немедленно нацепила ее – и вуаля!
И впервые в жизни мама категорически не одобрила мой выбор.
– Шляпа хорошая, но для выпускного не подходит.
Тем не менее на выпускном мне удалось добиться нужного мне эффекта и привлечь к себе внимание. Я сияла от радости, и мне было плевать, что выгляжу я как чучело. Главное, что я не была похожа на всем знакомую, старую-добрую скучную Дайан. Ну а насчет шляпы мама оказалась права – ее я решила припасти напоследок.
2. Джек
Отца я в детстве почти не видела. Он лишь говорил мне выключать в комнатах свет, закрывать плотно дверь холодильника и есть то, что приготовила мама, – а иначе отправлюсь спать в гараж. Каждое утро папа надевал один и тот же серый пиджак и полосатый галстук и отправлялся на работу в Управление. Он сыпал банальностями: “Пей молоко, оно полезно для костей”, “Будь вежливой”, и – самая любимая его фраза – “Задавай вопросы”. Я постоянно спрашивала маму, почему он такой? И мама всегда говорила в ответ одно и то же: папа – очень занятой человек, голова у него занята другими вещами. У папы в голове вещи? И что же это за вещи? Нет, я решительно не понимала папу. Единственный человек, который мог бы раскрыть для меня тайны моего папы, жил от нас в пяти милях и навевал на всех, включая меня, благоговейный ужас.
Я говорю вовсе не о бабуле Китон, о нет. Страх в нас вселяла высокая и суровая бабушка Холл. Она частенько поговаривала о том, что не собирается “рядиться в чужие перья”, и что пусть лучше уж полюбят меня такой какая есть. Бабуля Китон считала, что папа болел рахитом из-за плохого питания в детстве. Из-за этого ноги у папы выгибались назад, как у кузнечика. В общем, она была недалека от истины.
Бабуля Китон жила неподалеку от бабушки Холл, но отношения у них были не очень, и неудивительно. Бабушка Холл была полна скептицизма, бабуля Китон – веры. Каждое воскресенье бабуля Китон пекла “ангельский” торт, делала домашнее мороженое и угощала нас лимонадом в высоких стаканах. Бабушка Холл раз в год готовила “дьявольский” шоколадный торт из готовой порошковой смеси. Бабуля Китон была богобоязненной христианкой. Бабушка Холл – убежденной католичкой. Бабуля Китон верила в рай. Бабушка Холл считала, что все это “чушь собачья”.
В двадцатые годы, когда ее муж пропал без вести, Мэри Элис Холл переехала из Небраски в Калифорнию, захватив с собой сына Джека и сестру Сэди. Мальчику в те годы непросто было расти без отца. Мэри Холл никак не объяснила сыну его отсутствие. Никто так до сих пор точно не знает, был ли папа незаконнорожденным ребенком или же, как утверждала Мэри, его отец Честер умер незадолго до рождения наследника. Как бы то ни было, Мэри – здравомыслящая и суровая католичка с ирландскими корнями – собрала вещи и попрощалась со всей своей большой семьей на полуразваленной ферме в Небраске: родителями и одиннадцатью братьями и сестрами. Она уехала и никогда об этом не жалела.
Неизвестно, откуда Мэри взяла деньги на покупку половины дома в нескольких кварталах к северу от нового 110-го шоссе. Нижний этаж у Мэри арендовали ее сестра Сэди с мужем Эдди и поздним ребенком Чарли. На втором этаже жили сама Мэри и ее арендатор – некий Джордж Олсен, который занимал спальню в конце коридора, рядом с детской. О характере отношений между Джорджем и Мэри можно только догадываться. Никто так и не осмелился спросить об этом у Мэри – она не терпела вмешательств в ее личную жизнь.
Мэри прожила по адресу Рэнджвью-авеню, 5223, до самой смерти. Она умерла в столовой – той самой, куда нас против желания затаскивали каждый год родители на день Благодарения. Помнится, однажды я ускользнула из столовой и проникла в спальню бабушки. Я осторожно открыла ящик комода и обнаружила внутри несколько пар старых носков, набитых четвертаками. Я пришла в такой восторг, что тут же поделилась открытием с Чарли. Кузен не разделил моих чувств – накануне мы поругались, споря, чей бог лучше. Чарли назвал меня идиоткой и заявил, что четвертаки не идут ни в какое сравнение с пачками стодолларовых купюр, которые он нашел под досками бабушкиного шкафа.
Бабушка была мужественной и мужеподобной женщиной. Сама она считала себя деловой женщиной, которая всего добилась в жизни сама.
– Меня интересует коммерческая сторона жизни. Я хочу заработать много денег – и сделать это как можно быстрее, – говорила она.
Мэри Элис Холл была безжалостной ростовщицей, которая без малейшего зазрения совести выдавала под огромный процент деньги соседям, оказавшимся в затруднительной ситуации. У бабушки была одна-единственная цель в жизни: накопить как можно больше денег, желательно в виде наличности. Ее циничный взгляд на жизнь нашел свое отражение и в том, что он читала: на протяжении долгих лет бабушка выписывала “Геральд Экспресс”, “издание, которое проливает свет на все тайны и открывает глаза тем, кто хочет знать все об убийствах, инопланетянах и спортивных событиях”. При этом бабушка вовсе не была спесивой или высокомерной. Она прекрасно понимала горести бедняг, сбежавших от несчастного брака, банкротства или полиции. Так почему бы ей и не почитать про истории со “дна” общества, типичные для окружающего ее города?
Представления Мэри о воспитании ограничивались одним методом: если Джек плохо себя вел, она запирала его в шкафу и уходила из комнаты. Не больше и не меньше. Когда к ним заявился ее бездельник-брат Эммет, просадивший все свои деньги в карты, Мэри подселила его в детскую к Джеку. Зачем выделять брату отдельную спальню, когда ее можно кому-нибудь сдать?
Папа называл Эммета абсолютно аморальным типом. Незадолго до начала папиной учебы в университете Эммет обманом вытянул у него сотню долларов. После этого они два года не разговаривали – хоть и продолжали жить в одной комнате. Отец ненавидел Эммета. Правда, хоть какой-то толк от их вынужденного сожительства был: повзрослев, Джек Холл не стал таким же, как его провонявший сигарами изворотливый дядя.
Папа не знал, как звали его собственного отца, и, как и все остальные, не осмеливался спросить это у матери. Мэри позаботилась о том, чтобы в ее окружении никто даже не упоминал имени Честера. Тетя Сэди, как и мама, повиновалась ее приказам. Дороти совсем не хотелось ссориться со своей свекровью. С Мэри Элис Холл вообще никто не хотел связываться, и тайна папиного отца оставалась нераскрытой, пока я не обнаружила в маминых бумагах вырезку из статьи.
ЖЕНА 9 ЛЕТ РАЗЫСКИВАЛА МУЖА И ТЕПЕРЬ ТРЕБУЕТ ОТ СТРАХОВОЙ КОМПЕНСАЦИЮ
Понедельник, 23 июня 1930 года.
Женщина уверена, что ее муж мертв – супруг испарился спустя три месяца после свадьбы.
Миссис Мэри Холл в чем-то напоминает героиню поэмы Генри Лонгфелло “Эванжелина” – быть может, не столь терпеливую и смиренную, как девушка из произведения поэта. В поисках своего супруга, Честера Н. Холла, девять лет назад сбежавшего из-под венца, миссис Холл объехала всю страну. Сама женщина считает, что ее муж мертв. “Если бы он был жив, он бы обязательно ко мне вернулся, – уверена она. – Наша любовь не знала границ”. Миссис Холл не преминула отметить это и в своем заявлении, которое она подала судье Гарри Ханту. В прошении миссис Холл попросила официально объявить о смерти Честера Холла, чтобы она могла получить выплаты по страхованию жизни в размере 1 000 долларов.
26 июля 1921 года, спустя три месяца после свадьбы, Холл пришел домой в расстроенных чувствах. Он никогда не жаловался жене на свою работу, так что она не могла понять, в чем дело. “Примерно в девять вечера, – говорится в заявлении миссис Холл, – он надел шляпу и сказал, что пойдет в кино. Больше я его не видела”.
Миссис Холл переехала в Калифорнию четыре года назад вместе со своим сыном Джеком. По ее словам, она предприняла все возможное, чтобы отыскать своего супруга.
До того, как вырасти и стать инженером, Джек Ньютон Игнатиус Холл был “малышом Джеки”. Сложно даже представить, каково ему было расти в тени своей матери – по выражению моего сына Дьюка, “крутой, как яйца”. В шестидесятые и семидесятые папа раскраивал на участки под застройку округ Орендж, но за пару десятилетий до этого он был обыкновенным мальчишкой, который прижимался носом к окну и смотрел, как его мать до полуночи играет в покер в одном из плавучих казино Каталины. Прежде чем стать специалистом по разработке различных желобков и труб и ливневых канализаций, папа прыгал с вышки в команде университета. Уже став взрослым, Джек Холл очень гордился своей работой, предполагавшей математически точное препарирование земли на аккуратные участки.
Мне кажется, что папа стал инженером-строителем, потому что эта профессия создавала иллюзию, будто человек может изменить саму Землю – огромную и непредсказуемую. Папа еще в детстве понял, что свою собственную мать ему не изменить. Мэри Холл никогда не обнимала его, не хвалила и не жалела – всякие проявления любви были не в ее духе. Может, поэтому папа и обратил свое внимание на старую-добрую матушку-Землю? Сейчас, когда я задумываюсь об этом, мне становится проще понять то, как папа относился к моей маме и нам, детям.
Он то и дело пытался войти в нашу узкую компанию, состоявшую из Дороти и детей. В конце концов, почему бы и нет? Он же был нашим отцом. Но у папы не было ни единого шанса вписаться – еще бы, он ведь не понимал ни своих детей, ни нервную, чувствительную жену. Каждый вечер, стоило только папе войти в дом, мы тут же прекращали делать то, что делали, и его встречала полная, хоть и вполне дружелюбная тишина. Стыдно признать, но мы никогда даже не думали включить папу в наши игры и занятия. Впрочем, он с этим смирился – как смирился с холодностью своей собственной матери.
Три истории
У папы было ровно три истории о его детстве – не больше и не меньше. Во-первых, история о том, как в детстве у него был такой рахит, что ему приходилось носить специальные распорки. Во-вторых, история о том, как бабушка Холл заставила его играть на кларнете в оркестре, хоть он и ненавидел кларнет. И, в-третьих, папина любимая история: о том, как в девятнадцать лет на баскетбольном матче в колледже он встретил маму и сразу понял, что она – его судьба. Эту историю папа всегда заканчивал одними и теми же словами:
– А через полгода мы с вашей мамулей поженились в Вегасе.
Вот, собственно, и все. Или, как сказала бы Мэри, конец-шмандец.
Три воспоминания
Когда мне было девять, папа научил меня разрезать гранат. Ножом он надре́зал гранат по окружности, а затем взял его в руки и разделил на две половинки. А внутри, словно драгоценные камешки (гранат – мой астрологический камень), сверкали зернышки. Я вгрызлась в гранат, и во рту у меня оказались сразу пятьдесят ярко-красных зернышек. Мне казалось, именно таким и должен быть на вкус рай.
Все наши семейные вылазки в конечном итоге приводили нас к океану. И неважно, были ли мы в кемпинге в Гуаймасе, Энсенаде или на побережье за Санта-Барбарой; каждый вечер папа усаживался на берег, поближе к своему верному другу – Тихому океану. Только вечером папа мог насладиться редкими мгновениями покоя. Став чуть постарше, я, прихватив стакан “Севен-апа” со льдом, подсаживалась к папе. Мы сидели вдвоем в тишине, которую папа рано или поздно прерывал.
– У тебя очень красивая мама, – говорил он.
Или:
– Ужасно я люблю нашу маму, понимаешь?
Или:
– Дайан, обязательно не забудь сказать маме спасибо – она приготовила нам просто отменный ужин.
Осыпая маму комплиментами, папа пытался избавиться от чувства вины за ее судьбу и вечную зависимость ото всех. Он переживал за Дороти, но ничего менять не хотел – даже не пробовал относиться к ней чуть иначе. Наверное, глядя в океан, он беззвучно снова и снова просил у мамы прощения, надеясь, что отлив унесет с собой все его печали.
Я была уверена, что умираю. Я задыхалась. У меня и так уже была астма, а тут еще этот удушающий кашель. Потом папа перевернул меня вверх ногами, и – о чудо! – я почти сразу прекратила кашлять. Маму так напугал мой приступ, что она почти два месяца не пускала меня в школу – я тогда училась в четвертом классе. Каждый день мама растирала мне спину мазью и ежечасно давала “Севен-ап” со льдом. Иногда даже разрешала смотреть телевизор. Помню, как-то мы с папой смотрели фильм о слепой старушке, чью собаку-поводыря сбил грузовик. Я тогда еще спросила папу: как бог мог допустить такое и дал собаке умереть?
– Ты, главное, не бойся, – ответил папа.
Мне его ответ показался странным – чуть раньше я подслушала разговор мамы и тети Марты, когда они обсуждали, как папа грохнулся в обморок, уколовшись о шип розы. Я никогда не считала папу трусишкой – в конце концов, он спас мне жизнь. И мне все так же казалось, что бог поступил довольно гнусно: позволил умереть старушкиному псу. А ведь ей и так уже недолго осталось жить.
– Почему старые люди должны умирать от старости? – спросила я папу. Он посадил меня на колени и сказал:
– За плечами каждого старого человека – долгая-долгая жизнь, и все они готовы к смерти. Не переживай за них, Дайан, – папа поцеловал меня, поставил на пол и велел идти готовиться ко сну.
Тем вечером родители что-то долго обсуждали за закрытыми дверями. Может, папе было настолько хорошо с мамой, что он мог поделиться с ней своими страхами – рассказать, что до обморока боится шипов на розах, или поделиться историей о чудесном псе, который погиб по нелепой случайности. Или просто поговорить о том, что старость – это страшно.
Мысли позитивно
Папиной Библией – вернее, даже двумя – были книги “Позитивное мышление” Нормана Винсента Пила и “Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей” Дейла Карнеги. Наверное, из-за них он так любил сыпать банальностями вроде “мысли позитивно”. В детстве я постоянно твердила эту фразу, надеясь, что в итоге научусь мыслить и обрету позитивный взгляд на жизнь. Когда я спрашивала папу, почему его мантра не работает, он всегда отвечал мне одно и то же: “Попробуй еще раз”.
Но что вообще значило “позитивно”? И, что более важно, что значило “мыслить”? Я не знала ответов на эти вопросы и, следуя обычному совету отца, продолжала бомбардировать всех вопросами.
В 1957 году мы переехали в бежевый, обшитый деревянными панелями дом номер 905 на Норт-Райт-стрит в Санта-Ане. Дом окружали бесконечные апельсиновые рощи. Мы, дети пятидесятых, не могли устоять перед прелестями Южной Калифорнии и верили, что, купив фургон “бьюик”, катер и щитовой бассейн, мы обретем счастье. Вскоре на месте апельсиновых рощ стали появляться целые кварталы новых домов с названиями вроде “Солнечный край”. Тот факт, что в округе Орендж, получившем свое название от апельсиновых деревьев, таких рощ становится все меньше и меньше, очень меня огорчал. Я поделилась своими чувствами с папой.
– Такова жизнь, Дайан, – отвечал он. – Тут уж ничего не поделаешь.
Не особо задумываясь, я переняла папину веру в “американскую мечту”, но по апельсиновым зарослям все же тосковала.
Переезд в Санта-Ану ознаменовал начало моего взросления. Мне предстояло вырасти в юную девушку, почти женщину. Папа то и дело говорил, какой красивой я буду и как в меня влюбится какой-нибудь хороший парень. Ну не замечательно? Я же совершенно не хотела, чтобы в меня влюблялся какой-то парень. В моей голове постепенно зрело понимание того, чего я хочу на самом деле: чтобы меня обожала сразу целая куча людей, а не какой-то один непонятный мальчик. Эта не оформившаяся толком мысль, в числе прочих, и подтолкнула меня к кино и театру. Слушая родителей, я снова и снова убеждалась, что вместо близости одного человека мне нужна любовь аудитории. Близость была опасна – как курение или алкоголь. Близость значила, что тебя будет любить лишь один человек, а не тысячи или миллионы. Мне сразу вспоминалась мама на сцене в отеле “Амбассадор” и как папа бесился, не желая делить свою любимую жену с другими.
Мое умение поддерживать диалог значительно улучшилось после того, как я выиграла дебаты в школе Уиллард-Джуниор. Эта победа положила начало традиции ночных дискуссий, посвященных как семейным проблемам, так и вопросам местной политики. Папа был республиканцем и ратовал за снижение налогов и более строгое воспитание детей. Мама была убежденным демократом и верила в пользу высоких налогов и снисходительного отношения к детским проделкам и шалостям. Я, конечно, отстаивала мамину точку зрения. Эти споры стали определяющим фактором в моей жизни. Я поняла, что чем напряженнее обстановка, тем проще мне отстаивать свою точку зрения. Быть импульсивной и следовать зову сердца было восхитительно интересно. Кроме того, наводило на размышления. Отстаивая свое мнение по вполне обычным, не жизненно важным вопросам, я училась выражать свои мысли и чувства и, что еще более важно, узнавала с новой стороны папу. Спорить с папой было сложно и чертовски интересно. И неважно, о чем мы спорили – главное, что мы делали это вдвоем. Меня совершенно не волновало, одержу я победу в споре или нет. Сама того не зная, я достигла важнейшей точки в моих отношениях с отцом: я научилась понимать, как и о чем он думает.
Три с минусом
Когда мне исполнилось четырнадцать, мама, побывав на родительском собрании класса, вручила мне книжечку, озаглавленную “Мой дневник для размышлений”. Так она намекала на тройку с минусом, которую я получила по английскому языку. Из-за плохих отметок меня перевели в класс коррекции – к двуязычным девочкам из Мексики, мальчикам из неблагополучных семей и таким же бестолковым мечтателям, витающим в облаках, как я. Я быстро сдружилась с мексиканскими девочками – думаю, на почве нашей общей безграмотности. Пышнотелые девицы с радостью взяли меня – плоскогрудую, жаждущую всеобщего внимания – под свое крыло. Все они отличались добродушным и веселым характером и с удовольствием выслушивали все мои глупости. Спустя три года посещения уроков английского для отстающих я все так же не знала, чем отличаются союз от предлога и имя собственное от имени нарицательного. В те годы не существовало каких-то специальных методик, разработанных для детей вроде меня. Я даже не понимала, чему, собственно, нас пытаются научить. Да и пытались ли нас чему-нибудь научить? Сейчас я в этом совсем не уверена. Мне кажется, на нас просто “забили”. Ну а мама никогда не проявляла особенного интереса к моим домашним заданиям – ей больше нравилось обсуждать со мной мои мечты. Например, когда я пошла на прослушивание на шоу юных талантов, именно мама предложила мне зачернить зубы для прослушивания в шоу талантов, в котором я исполняла песню “All I Want For Christmas Is My Two Front Teeth”.[2] А когда я получила роль Мелодетт, мама посоветовала мне поговорить с нашим хормейстером мистером Андерсоном и попытаться убедить его спеть со мной дуэтом “Что бы ты ни делал, я это делаю лучше” – чтобы потом он дал мне выступить соло с песней Дина Мартина про оленя Робина с красным носом. Мама поддерживала и поощряла все мои начинания, связанные с выступлениями и сценой. Наверное, на родительском собрании учителю удалось убедить ее, что ведение дневника поможет мне лучше управляться со словами.
Дорогой дневник,
Как бы я хотела, чтобы у меня был парень! Но я мальчикам не нравлюсь и никогда не буду нравиться, потому что у меня нет груди. Хотя есть один парень, но я насчет него не уверена. Его зовут Джо Гиббинс. Сегодня в школе его застукали, когда он нюхал клей. Ужас какой-то. Надеюсь, никогда больше не встречу никого, кто бы нюхал клей. Никогда-никогда.
Хорошо бы я умела петь, как Меган. Она берет уроки у Кенни Эйкина, и ей достаются все сольные партии. Все думают, что Меган классная. Надо спросить маму, не получится ли и меня записать на занятия к Кенни Эйкину. Он ставит почти все крутые шоу в нашей округе.
Дорогой дневник,
Сегодня мы с Вирджинией Оденэт и Пэт Эмтор ходили гулять в центр, и они все время говорили друг с другом, не обращая на меня внимания. А еще Пэт сказала Вирджинии, что мне нравился Ларри Блэр. Мерзкая гадина! Ну а Вирджиния, конечно, не смогла удержаться и тут же сказала, что все знают, что Ларри сохнет по Жанин Ситон. Ну и пусть, не очень-то и хотелось. А еще один предсказатель сказал, что завтра будет конец света. И за контрольную по алгебре у меня двойка.
Зато есть и хорошие новости: мама разрешила мне брать уроки вокала! Теперь буду петь вместе с Меган. Ура!
Дорогой дневник,
По-моему, ужасно несправедливо, что Кенни Эйкин никогда не доверяет мне сольные партии. Мне кажется, что всем плевать – что есть я, что меня нет. Может, мое время еще не пришло? Не знаю.
Дорогой дневник,
Сегодня я узнала, что родители Меган ей не родные, ее удочерили. Оказывается, сестра Меган сошла с ума и пыталась покончить жизнь самоубийством. Какой-то ужас. Почему она захотела умереть? Хорошо бы люди вообще не умирали. Слишком уж это страшно. Я молюсь Господу, чтобы в раю все умершие были довольны и счастливы, а те, кто хотел убить себя, как сестра Меган, об этом бы не помнили.
Дорогой дневник,
Я наконец набралась смелости и пригласила парня пойти со мной на танцевальный вечер “Дамы приглашают кавалеров”. И он согласился! Я ужасно рада. Он из классных парней, и с ним очень весело. Он постоянно называет меня дурочкой. Угадайте, кто это? Ронни Макнили! Поскорее бы рассказать об этом Махале Хойен, моей новой лучшей подруге! У нее такая большая грудь, просто супер. На танцы девочки должны сделать мальчикам рубашки, которые сочетаются с их блузками. По-моему, замечательная идея!
Дорогой дневник,
Танцы прошли просто ужасно. Я думала, что там будет весело, но на самом деле вышло отвратительно. Ронни вел себя так, будто он для меня слишком хорош. Даже танцевал не со мной, а с Пэт Эмтор. Да еще и ушел раньше всех, еще до того, как все закончилось. Ненавижу его. Мог бы хотя бы один раз со мной потанцевать. Как же все плохо. Я совсем не нравлюсь парням. Я попросту слишком некрасивая.
Дорогой дневник,
К Рождеству Кенни решил поставить спектакль “Амаль и ночные гости”. Главная роль досталась Меган. Ну еще бы, она ведь у нас звезда. Все вокруг нее так и прыгают. Джуди спрашивает, не холодно ли ей, Вирджиния одалживает ей свой свитер. А холодно-то мне! Но мне никто свой свитер не отдаст, куда уж там.
Сегодня Кенни отозвал меня в сторонку. Долго говорил о том, что в следующем году будет давать мне выступать почаще и что из меня выйдет отличная комедийная артистка. Ха-ха.
Кенни Эйкин
У Кенни Эйкина было прозвище Мистер Музыка округа Орендж. Больше всего он был похож на двухметровую куклу Хауди-Дуди[3] – только без Буффало Боба, дергающего за ниточки. В силу возраста я не очень понимала сути моих взаимоотношений с такой колоссальной личностью, как Кенни, но, как мне кажется, в глубине души всегда знала, что с его помощью я достигну своей цели. Кенни был продюсером и режиссером таких постановок, как “Кисмет”, “Оклахома!” и “В стране игрушек”. Кроме того, он заправлял собственной студией звукозаписи и драматическим центром и исполнял ведущие партии теноров в различных операх по всей стране, от Лос-Анджелеса до Сан-Бернардино. И мне, и Меган – протеже Кенни – было по тринадцать лет, но, в отличие от меня, у Меган были и внешность, и потрясающий голос. Ничего не поделаешь: в глазах Кенни Меган была совершенством. Я же… я была не такой, как надо.
Какое же счастье, что Кенни не пал жертвой моих чар! Его нежелание видеть во мне актрису разожгло во мне азарт, и я отчаянно принялась искать лазейку, благодаря которой он все же дал бы мне шанс. Как всегда, в поисках лазейки мне помогла мама. Сидя на кухне за чашкой кофе, я пожаловалась ей, что Кенни все важные партии отдает Меган. Мама молча качала головой, но я точно знаю, что спустя пару дней она пошла поговорить с мистером Эйкином – я увидела их вдвоем в его кабинете. Что еще добавить? Дороти Диэнн Китон Холл могла быть очень убедительной, особенно если дело касалось ее детей.
После визита мамы к Кенни он стал потихоньку выпускать меня на сцену и в конце даже доверил роль Тряпичной Энн в “Стране игрушек”. Видимо, я неплохо справилась, потому что после этого Кенни наконец начал воспринимать меня всерьез – и в этот момент я перестала воспринимать всерьез его. Вскоре я сказала маме, что не хочу больше ходить к мистеру Эйкину. Я уже научилась у него всему, чему могла. Я все еще коряво выражала свои мысли, но зато получила опыт выступлений и узнала, что без настойчивости на сцену просто не попасть. Я хотела, чтобы мою судьбу решала публика, а не мистер Кенни Эйкин. До встречи с ним я была уверена, что умру от горя, если не буду нравиться людям. Но я ошибалась – оказалось, что в мире полно таких вот Кенни Эйкинов, которым суждено было общаться со мной. Вне зависимости от того, нравилось им это или нет.
Аплодисменты
Моя судьба решилась в один прекрасный вечер, когда я спела “Мата Хари” в нашей школьной постановке “Солнышко Мэри” и с тех пор обсуждению не подлежала. Спектакль ставил наш учитель драматического искусства мистер Роберт Лизинг и делал это с поистине бродвейским размахом – во всяком случае, так казалось тогда мне. Я играла второстепенную роль Нэнси Твинкл, легкомысленной и игривой девушки. Я даже не подозревала, что главная песня Нэнси – “Мата Хари” – станет в моем исполнении настоящей бомбой. Я скакала по сцене, распевая слова про знаменитую шпионку, пока наконец песня не закончилась и я в грандиозном финальном па не соскользнула по веревке вниз в оркестровую яму. Тогда-то я и услышала какой-то взрыв – это были аплодисменты. Когда родители отыскали меня за сценой, их лица сияли от счастья. У папы даже были слезы на глазах. Я еще ни разу не видела его таким возбужденным, радостным и удивленным. Папа был в шоке – неужели на сцене была его неуклюжая, бестолковая дочь, которая провалила алгебру, врезалась на старом “бьюике” в его новый “бьюик” и однажды за раз использовала целую банку лака для волос? В ту чудесную минуту я была для него словно призовой скакун, Одри Хепберн и Чудо-женщина – три в одном. Я была для него Амелией Эрхарт, пересекшей Атлантику. Я была его героиней.
Позже папа не раз хвастался перед знакомыми моими карьерными успехами, но переломным моментом в его отношении к актерскому ремеслу стала именно “Мата Хари”. Я никогда не забуду, как он стоял, не в силах промолвить ни слова, и как сияли от счастья его ярко-голубые глаза. Те самые, из-за которых когда-то в него влюбилась мама. После этого путь назад мне был заказан.
Часть вторая
3. Манхэттен
Театр “Нейборхуд”
Я совершенно не помню, каким был самолет, который унес меня, девятнадцатилетнюю девушку, за три тысячи миль от родного дома. Не помню, что было на мне надето в день перелета. Не помню, как прощалась с родными. Зато помню, как добиралась на автобусе до города. Помню здание Христианской ассоциации молодых женщин на Вест-сайде. Помню, как заселилась в крошечный номер и как сидела на ступеньках и смотрела на бесконечный поток людей на улице. Я очутилась в городе своей мечты. Каждый сочельник я смотрела по телевизору репортаж с Таймс-сквер и вместе с толпой отсчитывала секунды до Нового года. Для меня Нью-Йорк был городом высоченных небоскребов и полной противоположностью затхлой Санта-Аны или даже Лос-Анджелеса. Нью-Йорк – это Таймс-сквер, и Эмпайр-стейт-билдинг, и статуя Свободы, и Крайслер-билдинг. Но мне казалось, что Нью-Йорк должен быть таким, каким его показывают по телевизору в сочельник. Мне так хотелось влиться в эту многотысячную толпу незнакомых людей, которые пришли на площадь, чтобы вместе отпраздновать наступление нового года. Мне хотелось стоять с ними плечо к плечу напротив театра “Броадхерст”, где при полном аншлаге проходили спектакли вроде “Приятель Джоуи”, “Тетушка Мейм” и “Мир Сюзи Вонг”. Нью-Йорк – это еще и фильмы вроде “Завтрак у Тиффани”, и сама Одри Хепберн с бесконечным мундштуком у безупречного рта. Нью-Йорк был моей судьбой. Я приехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в школе при театре “Нейборхуд”. Я приехала, чтобы стать актрисой. И я была к этому готова.
Примерно тогда ко мне и подошел консьерж и сказал, что на ступеньках сидеть запрещается. Вот и все, что я запомнила из того дня: город, мою комнату, ощущение, что я готова ко всему, и фразу “Сидеть на ступеньках запрещается”.
В театральной школе царил Сэнди Мейснер. Он носил пальто из верблюжьей шерсти и курил. Все вокруг считали его геем, хоть он и был женат. Разве бывают женатые геи, которые выглядят как стопроцентные гетеросексуалы? Сэнди был очарователен, груб и невероятно сексуален – первый в моей жизни мужчина, при виде которого у меня дрожали коленки. Он никогда не расставался с сигаретой с длинным столбиком пепла, который то и дело обрушивался на его верблюжье пальто. Мне это нравилось. Я вообще не могла отвести от Сэнди глаз – он был самым интересным, необычным и экзотическим мужчиной из всех, кого я знала.
На занятиях мистера Мейснера хвалить учеников было не принято. Сэнди считал, что главная задача актера – достоверно передать искренние эмоции, а его работа состоит в том, чтобы подготовиться к “эксперименту, который состоится на сцене”. Его подход предполагал “уничтожение всего интеллектуального в инструменте – актере – и возведение в абсолют его спонтанных реакций”. Научиться всему этому можно было при помощи так называемой игры повторений. Правила были таковы: партнер – например Крикет Коэн – как-нибудь комментировал меня и мой облик.
– Дайан, у тебя каштановые волосы, – к примеру, говорила она.
Я слушала и повторяла за ней:
– У меня каштановые волосы.
Затем Крикет добавляла:
– У тебя прямые и тонкие каштановые волосы.
И я отвечала что-нибудь в духе:
– Да, у меня прямые и тонкие волосы.
После этого Крикет усложняла ситуацию:
– Очень тонкие.
– Ты права, – отвечала я ей. – Очень, очень тонкие. Но зато не вьются, как у тебя.
– Ты не охренела ли, дорогая? – ситуация развивалась по нарастающей. – У меня волосы хотя бы не тонкие!
(За этой фразой читалось ясное послание типа “Отвали, дура, и возвращайся в свою занюханную Санта-Ану, где тебе самое место”.) Такая беседа продолжалась еще какое-то время – мы умудрялись выдавать самые разные наборы эмоций, реагируя на поведение друг друга. В общем, мне “игра повторений” пришлась по вкусу.
Сэнди Мейснер научил нас играть со своими чувствами, особенно неприятными и неудобными. Я, например, поняла, как использовать во благо чувство гнева, которое я всегда в себе подавляла. За считанные секунды я могла разрыдаться, взорваться, простить, влюбиться, разлюбить. Были у меня и слабые стороны, главной из которых была моя неприметность. В конце второго года Сэнди доверил мне роль Барбары Аллен в “Темной стороне луны”. Репетиции вызывали у меня дрожь в коленках. Помню, однажды я вышла на сцену, распевая “Колдун спустился с гор, чтоб человеком стать, чтоб сердце юной Барбары суметь завоевать”. Мейснер, увидев меня, заорал благим матом:
– Какого хрена ты тут околачиваешься, как будто ты чертова Дорис Дей?!
Сэнди научил нас чутко реагировать на партнеров по сцене, чувствовать их. Он хотел, чтобы мы ловили момент, улавливали самую суть происходящего. Его рецептом было “сперва наблюдать и слушать и лишь потом – играть”. Сэнди был прямолинейным человеком. Под его руководством мы вычерчивали запутанную карту человеческой натуры. Это было сложно и очень интересно. Мне нравилось взаимодействовать с партнерами по сцене, особенно когда за нами наблюдал Сэнди. У него было одно нерушимое правило: сперва реагируй, потом думай.
Если кто-то из нас не соблюдал это правило, Сэнди начинал сыпать афоризмами:
– Нет такого понятия, как “ничто”.
Или:
– В театре молчание – это отсутствие слов, но не отсутствие смысла.
Или:
– Позвольте мне, старику, сказать вам прямо: в жопу эту вашу вежливость!
Только благодаря Сэнди я научилась ценить темную сторону человеческой натуры. Я всегда видела и понимала ее, но до встречи с Сэнди мне не хватало смелости, чтобы начать разведывать эту пугающую и притягательную территорию.
Первый год
Дорогие мои,
Наш “Репетиционный клуб”,[4] в котором я живу, располагается на 53-й улице, в квартале от музея современного искусства. Вы бы только видели, какое это красивое здание! Из бежевого песчаника. Мне очень повезло, что моей соседкой оказалась Пэм – девочка из моей же театральной школы. Спасибо, что помогаете мне! Тут я чувствую себя в полной безопасности – к тому же рядом много других девушек, моих ровесниц, которые уже работают как настоящие артисты. Например, Сэнди Данкан, она танцовщица. Мы все тут звоним домой по телефону, который стоит в холле, – если удается улучить секунду, когда он не занят девочками из шоу “The Rockettes”. Наверное, у них полно денег, раз они постоянно висят на телефоне. А может, просто скучают по дому. Не знаю. Они вкалывают как проклятые и выглядят как настоящие профессионалки – наверное, из-за макияжа. Я бы ни за какие деньги в мире не согласилась танцевать в таком шоу.
Учиться мне тут непросто – занятия идут с девяти утра до пяти вечера. Мне очень нравится моя партнерша Крикет Коэн, с ней играть на сцене – одно удовольствие. Мы с ней постоянно репетируем, и у нас вроде неплохо получается. Во всяком случае, я на это надеюсь.
Вы уже, наверное, знаете, приняли Дорри в чирлидеры в школе или нет. Надеюсь, что да.
А Рэнди так ни с кем и не встречается? Интересно, почему. А как Робин поживает? Она вроде бы бросила жонглировать флагом, потому что не успевала делать домашку, да?
Ох, я только что увидела, сколько времени. А мне еще реплики учить к сцене из “В ожидании Лефти”. Не забывайте присылать мне фотографии! Очень по всем скучаю.
Целую,
ДайанПривет всем!
Мне что-то совсем не спится, такое ощущение, будто пять чашек кофе выпила. Деньги получила, спасибо огромное! Последний месяц в “Репетиционном клубе”, последний месяц с Пэм! Не очень хорошо так говорить, конечно, да и опыт совместного проживания вредным назвать нельзя, но как же я уже хочу домой! Скорее бы лето. Правда, я очень переживаю – а вдруг меня не позовут в школу на следующий год?
Я сижу на занятиях и ни черта не делаю – а все потому что мой партнер Берни не выучил свои реплики. Как же он меня бесит! Если мистер Мейснер решит, что наша с Берни сцена никуда не годится, я могу и не вернуться сюда в следующем году. Он ведь уже избавился от Лоры, хотя она была совершенно потрясающей. Может, попросить нового партнера? Или это будет выглядеть совсем уж странно? Если я накинусь на Берни, это ничего не изменит – только отношения испортим. Не говоря уж о том, что он совершенный маньяк.
Как вы поживаете? Какие дома новости? Блох у Домино не вывели? А Рэнди еще не начал бриться? Как поживают прыщи на лбу у Робин? И как там Дорри? Как всегда, бодра и весела?
Люблю всех,
ДайанВторой год
Милая мама,
Я больше не могу. Второй год – это какой-то ад. Мистер Мейснер чего только с нами не делает, чтобы мы научились передавать эмоции. Я понятия не имею, как создать достоверный образ, – я понимаю, что нужно делать во время репетиций и упражнений, но стать кем-то совершенно другим с нуля? В этом году все на курсе очень целеустремленные, все работают не покладая рук. Я очень из-за этого нервничаю. Мейснер все время говорит нам, что мы должны играть точнее – а ты знаешь, что с этим-то у меня и есть основные трудности. Скоро будем выступать с музыкальными номерами перед первокурсниками. Угадай, какой номер достался мне? Мистера Сноу из “Карусели”. Опять. Слышать уже не могу эту песню. На актерском мастерстве мы проходим театр периода Реставрации – я для этого явно недостаточно умна.
Увидимся через месяц. Жду не дождусь, когда увижу вас всех на Рождество.
Люблю и обнимаю,
ДайанМистер и миссис Холл!
Школа при театре “Нейборхуд” приглашает вас посетить спектакль “Темная сторона луны”, который пройдет 16 и 17 февраля 1967 года и продемонстрирует, каких успехов добились наши ученики.
Мам, пап, представляете? Школа ошиблась и отправила приглашение мне, а не вам. Надеюсь, вы успеете приехать и вам понравится, как я играю Барбару Аллен. Буду петь песню Джоан Баэз, очень красивую. Колдуна играет Ричард Пинтер. Надеюсь, на спектакль придут театральные агенты!
С любовью,
ДайанТеатральные агенты пришли, некоторые даже мной заинтересовались, но ролей мне никто не предложил. В конце двухлетнего обучения Сэнди Мейснер отправил меня в свободное плавание в мир прослушиваний.
– Однажды ты станешь хорошей актрисой, – сказал он.
“Волосы”
После театральной школы я проводила время в основном с такими же второкурсниками и так же, как и они, пребывала в полной панике из-за неопределенности своего будущего. Мы даже не знали, будет ли у нас крыша над головой, не говоря уж об успешной актерской карьере. Мой коллега по “Темной стороне луны” Ричард Пинтер стал моим близким другом – и Сара Диль и Нола Сафро тоже. Еще я много времени проводила с Гаем Джилеттом, у которого была группа “Роадраннерс”. Я даже иногда выступала у них в качестве солистки, исполняя песни вроде “Respect” Ареты Франклин (это было полным безумием с моей стороны и вообще заведомо провальной идеей).
К счастью, вскоре Хэл Болдридж из театральной школы помог мне устроиться в театр “Вудсток”, где я отыграла в спектаклях “Игра пижам” и “О, эта чудесная война”. На дворе стояло лето 1967 года – “лето любви”. Именно тогда я познакомилась с первой в своей жизни знаменитостью – Питером Ярроу из группы “Peter, Paul and Mary”. Пару дней, пока я была в гостях у его менеджера Альберта Гроссмана, Питер всячески меня опекал. В то время я даже не знала, что Питер – политический активист и организатор антивоенных маршей, который однажды даже прошел в одном марше с Мартином Лютером Кингом. В такой утонченной компании я быстро почувствовала себя не в своей тарелке и поспешила ретироваться. Наверное, Питер понял, что я еще не готова к большой политике, потому что больше я о нем не слышала. Тогда я впервые ощутила, как захватывающе и в то же время грустно быть так близко и одновременно так далеко от звезд.
Когда меня включили в профсоюз актеров, пришлось попрощаться с Дайан Холл – выяснилось, что такая актриса там уже зарегистрирована. Для роли в мюзикле “Пижамная игра” я решила использовать имя Дорри, отказавшись от вариантов Ди, Деде и Даниэль Холл. К счастью, я вовремя опомнилась и поняла, что заимствовать имя собственной сестры – не лучшая идея. Так что для постановки “О, что за чудесная война”, где я играла в массовке, я взяла имя Кори Холл – просто из-за созвучности имен Кори и Дорри. Тогда-то на меня и снизошло озарение: мне не нужно придумывать себе чужое имя. Можно же просто взять мамину девичью фамилию – Китон. Дайан Китон.
Дорогие все,
Вчера ходила на прослушивание в рок-мюзикл “Волосы”. Завтра финальное собеседование, очень надеюсь, что я его не провалю. Хорошо бы мне удалось получить эту роль! Еще у меня скоро будет прослушивание для какого-то нового телевизионного сериала, но даже если роль достанется мне, деньги я получу только в случае покупки сериала каким-нибудь каналом. Ну, посмотрим.
Я лихорадочно ищу себе квартиру, но это так трудно! Дешевые квартиры разлетаются, как горячие пирожки, – даже самые ужасные и в плохих районах. Сегодня ездила смотреть жилье в районе Верхнего Вест-Сайда – безуспешно. Наверное, обращусь к риэлтору. Конечно, придется оплатить его услуги, но так, наверное, будет разумнее. Я и не думала, что квартиру найти будет так сложно.
Дорри и Робин, я недавно начала слушать Тима Бакли, Мими и Ричарда Фаринью – вы кого-нибудь из этой троицы слышали? Ну и как вам?
С любовью,
ДайанВсем Холлам горячий привет!
Идет вторая неделя репетиций. Пока что картинка до конца не вырисовывается, но, наверное, так оно и должно быть. Вы там пока готовьтесь морально – мюзикл, мягко говоря, необычный. Мне достались три сольных куплета из песни “Black Boys”. Я жутко радуюсь, что меня пока что не уволили – но вроде бы Тома О’Хоргана, режиссера, мой уровень актерского мастерства не бесит. Мы все тут выглядим как хиппи. Поем тоже как хиппи – этакий портрет современной молодежи. Мне не очень нравится, честно говоря. Жалко, что у меня такая маленькая роль, хотелось бы побольше!
Люблю вас всех!
ДайанВсем привет!
Премьера прошла 29-го с огромным успехом. Значит, этим летом никакого “Вудстока” – я играю в хитовом мюзикле, да еще на Бродвее!
Сегодня после выступления Ричард Аведон будет снимать всех актеров для Vogue. Можете себе такое представить? На премьеру пришли всякие звезды, например Уоррен Битти (помните, как я втюрилась, когда увидела его в “Великолепии в траве”?) и Джули Кристи – она такая красавица! Еще в зале видели Лайзу Миннелли, Теренса Стэмпа и Кэрол Чэннинг. “Волосы” пользуются бешеным спросом. Я каждый день вижу, как люди стоят в очереди за билетами.
А в остальном все так же. Я-то точно все такая же. Интересно, я когда-нибудь поменяюсь? Пока что я все еще самая глупая девица на этом свете. Жалко, что глупость не перерастают. А еще я села на диету – сказать, что я поправилась, значит преуменьшать масштаб катастрофы. Я что-то слишком увлеклась всякими вкусностями.
Пап, ты предупредил своего друга, что в “Волосах” встречаются сцены с обнаженной натурой? Он ведь скоро приедет в Нью-Йорк, верно?
Целую,
Дайан4. Выдающийся год
Мама-папа
Пока я наблюдала за коллегами по сцене, каждый вечер срывающими с себя на сцене одежды, мама переключилась с писем на дневники. На дворе стоял 1969 год. Из девушки, которая наслаждается новизной своей любви к мужу и детям, она превратилась сначала в заботливую мать и типичную домохозяйку пятидесятых годов со всеми причитающимися к этому плюсами и минусами, а в шестидесятые – в зрелую женщину с порой непокорным нравом.
Заполняя дневники, мама училась искать ответы на мучившие ее вопросы. И как она находила на это время? Мама явно не писала на кухне, где она готовила бесконечные запеканки с тунцом и энчиладас с сыром, которыми каждый день объедалась вся семья, – она ни за что бы не положила свои дневники на столешницу, заставленную плошками с кукурузными хлопьями и пшеничными проростками. Когда же мама успевала писать? Не раньше, чем папа уходил на работу, а дети – в школу. Не раньше, чем ей удавалось выкроить из скромного бюджета крохи, необходимые на разные нужды всех членов семьи. Неужели у мамы оставалось свободное время после мытья посуды и стирки, разборки вещей, пересдачи экзамена на права и помощи Дорри с домашними заданиями? Сомневаюсь.
Вот у меня было свободное время – достаточно, чтобы написать эту книгу. И параллельно я успела поработать над авторской линией вещей для магазина “Все для ванны и спальни”, отредактировать книгу по современной архитектуре для “Риццоли Пабликейшенс” и сыграть в низкобюджетном фильме Ларри Касдана в Парк-сити в Юте.
Моя семья – я, Декстер и Дьюк – продолжает традиции Холлов и каждый вечер собирается за ужином. Но наши ужины совсем не похожи на застолья, проходившие в доме на Райт-стрит. Я, исполняющая роль мама-папы (как метко окрестил меня Дьюк), совсем не похожа на свою мать. В нашем доме во главе стола сижу я, по бокам от меня – Декстер и Дьюк. Иногда к нам присоединяются гости – Сандра Шэйдик (которую Дьюк прозвал “Санчо в кальсонах”) или Линдси Дуэйли, больше известная как “Ла-Ла”. Порой заглядывает Ронен Стромберг. Я люблю ужинать, но сама никогда не готовлю – за это у нас отвечает Дебби Дюран.
Во время ужина я, как Бог-отец (еще одно прозвище от Дьюка), начинаю перечислять хорошие и неприятные моменты прошедшего дня. В этот момент Дьюк обычно начинает корчить рожи. Я делаю вид, что ничего не замечаю, и продолжаю свои попытки увлечь семейство беседой, предлагая такие темы, как ежегодный отчет по состоянию худших пляжей в Южной Калифорнии.
– Ну, хотя бы пляж Санта-Моники на этот раз не хуже всех, – замечает Декстер.
– Верно, Декс, и то слава богу.
Во время этой вполне почтенной беседы Дьюк исподтишка дразнит Декстер – обычно прохаживаясь по поводу ее бесконечных влюбленностей в разных Максов, Мэтью, Тайлеров, Кори, Крисов Б. и Крисов Л. Декстер в ответ обзывает Дьюка “надоедливым тараканом” и закладывает его мне: оказывается, школьные брюки Дьюка забросил в душевую после тренировки в бассейне сам Дьюк, а вовсе не Сойер, как утверждалось ранее. Сандра просит Декстер “хоть на минутку оставить брата в покое”. В конце концов я кладу конец препирательствам, рявкнув что-нибудь вроде “хватит”.
Потом мы начинаем обсуждать вечеринку в честь дня рождения Декстер, и дискуссия на какое-то время приобретает благообразный характер. Декстер сообщает, что хочет видеть на праздничном столе жареные луковые кольца, куриные наггетсы, макароны, чизкейк из магазина и НИКАКИХ овощей. Со стола мы убираем все вместе. Декстер просит у меня айфон – я с неохотой отдаю ей телефон и начинаю рассуждать о трагической гибели Элизабет Эдвардс, цитируя газетный некролог о “расхождении между образом и реальностью”, но никто не обращает на меня никакого внимания. Сандра – самая шустрая из нас – быстро загружает всю посуду в машину, даже прежде, чем я успеваю донести пакет молока до холодильника.
У моей мамы свободное время появилось, только когда я уехала в Нью-Йорк, а Рэнди стал работать билетером в кинотеатре Санта-Аны. Дорри и Робин заканчивали школу, когда мама наконец села за стол и начала переносить свои мысли на бумагу. Лишь стоя на пороге нового десятилетия, мама наконец смогла найти свой голос.
Канун Нового 1968 года
Робин получила место в универмаге “Баллокс”, будет демонстрировать покупателям новинки парфюмерии и косметики. Я так за нее рада! Дорри начала ходить на занятия в гончарную мастерскую. Мы с Джеком каждый вечер на велосипедах ездим поесть мороженое в “Баскин Роббинс” в Хоунер-плазе, очень здорово. Рэнди пишет чаще обычного. Я очень им горжусь. Джек выиграл приз “ Тостмастерс” как автор лучшего выступления – Рэнди оно тоже понравилось. Дайан приезжает домой на неделю, ей удалось оторваться от репетиций для спектакля “Сыграй еще раз, Сэм”, который ставит Вуди Аллен. Она собирается в Голливуд на очередные прослушивания. Дайан теперь у нас блондинка – очень светлая, очень худая и ОЧЕНЬ красивая. Все вокруг только и говорят, какие у нас красивые дочки.
Я начала перекрашивать кухню, а Джек почти закончил облицовку камина. Общий вид у гостиной получается совсем такой, как мы и хотели: теплая, светлая и уютная комната. Даже не верится, что у нас все так хорошо вышло.
Сегодня закончила свое первое задание как фотограф: сделала двадцать снимков Джуди Вейнхарт для книги. Получила 35 долларов, чему, как ни стыдно признаться, очень рада.
Домой поехала через промышленный район. Насмотрелась на ржавые мусорные баки, бутылки на улицах, развалюхи и сорванные дорожные знаки. Тишина стояла такая, что мне казалось, я могу ее увидеть. Сегодня Джек сказал, что, даже если я с ним разведусь, он все равно будет каждый вечер приходить ко мне домой. Как мне это понравилось! Все верно – мы с ним связаны крепко-накрепко, на всю жизнь.
Спасибо тебе, неведомое нечто. И всем остальным тоже спасибо – Рэнди, Робин, Дорри, Дайан и Джеку. Спасибо людям, природе, животным, Гойе, Кернелу и нашим котам. Мы такие счастливые. Моя жизнь полна любви и красоты. Посмотрим, сможет ли 1969 год переплюнуть этот?
30 января 1969 года
Милая мамуля,
Вчера я переехала – ну и занятьице! Интересно, что бы я делала, будь у меня на самом деле какая-то мебель. Спасибо за вещички, все получила. Больше всего понравились чайник и фотографии – просто отличные. Мне их особо некуда девать, кроме как на подоконник. Ну и хорошо, буду меньше внимания обращать на ужасную плиту. Зато стереосистема работает, ура! Уже включала моих любимых Нину Симон и Моргану Кинг.
Репетиции идут нормально. Вуди Аллен довольно милый и очень смешной.
Помню, что папа хотел, чтобы я написала, как представляю себе процесс возвращения тех денег, что я ему должна. Сейчас я пока в таком состоянии, что выплатить сразу все не смогу. Хозяин сообщил мне, что за мной числится долг в 29 долларов, да и телефонные счета скоро придут. Когда запустим спектакль, я хочу начать брать уроки пения и танцев. Но ты передай папе, чтобы он не переживал – начиная со следующего месяца я буду посылать вам по 50 долларов, пока полностью не верну те 500, что он мне одолжил. А пока вот вам мой список расходов: 1. Аренда: 98,32 $. 2. Телефон: 10 $. 3. Обслуживание телефона: 5 $. 4. Уроки пения: 40 $ в месяц (наверное). 5. Уроки танцев: 30$ в месяц примерно. 6. Еда: 100 $ в месяц (примерно). Всего получается 283 доллара и 32 цента. Что-то очень много. Целую,
Дайан6 февраля 1969 года
Мы с Джеком слетали в Нью-Йорк на премьеру “Сыграй еще раз, Сэм”. Видели Джека Бенни, Эда Салливана, Уолтера Керра, Джорджа Плимтона, Анджелу Лэнсбери и других знаменитостей. После спектакля познакомились с Вуди Алленом – он оказался таким застенчивым, таким скромным! Я его совсем не так представляла. Сам спектакль очень смешной, а Дайан на сцене – настоящая красавица. У нее была такая прическа, что волосы казались еще гуще обычного. Она то и дело ест жвачку, сосет леденцы да и вообще постоянно что-то жует. Хорошо бы она поделилась секретом, как ей удается столько есть и не толстеть.
Все в Нью-Йорке были очень милы. После спектакля мы большой компанией пошли в “Сарди” – там нас усадили за стол на десятерых и подали шампанское и чизкейк. Кто-то из гостей сказал, что девушка, играющая главную роль у Вуди Аллена, вызывает у него большой интерес не только как актриса. Мы были шокированы.
10 февраля 1969 года
Мы уже дома. Я начала ходить на курсы в университете – хочу как следует поработать хотя бы над одной статьей и ПРОДАТЬ ее. Наш преподаватель говорит, что желание писать подавлять не стоит. Может, написать о чем-то, что близко не только мне, но и всем вокруг? Например, про то, почему дети так быстро растут? Не знаю. Я так рада, что повидала Дайан. Даже не знаю, как объяснить то, как она воздействует на окружающих. Разумеется, я не совсем объективна. Она – настоящая загадка. Независимая. Иногда простая, а иногда такая мудрая, что я даже пугаюсь – как я смогла дожить до таких лет, так и не обретя такую мудрость? Очень по ней скучаю.
18 февраля 1969 года
Дорогая мама,
Кажется, вы только вчера были в Нью-Йорке. Время пролетело слишком быстро. Вуди ужасно смешной, правда? Вам на самом деле понравился спектакль? Я что-то не поняла. Вуди любит, чтобы мы на сцене говорили всякие неожиданные вещи – такие, какие нашим персонажам на первый взгляд совсем не присущи. А вчера на репетиции он вдруг начал изображать Джеймса Эрла Джонса из “Большой белой надежды”. Я пыталась не смеяться, но это было невозможно.
Ты знаешь, мне кажется, у нас с ним было свидание. Мы пошли вместе в стейк-хаус “Фрэнки и Джонни”, и все вроде было нормально, пока я не провела вилкой по тарелке – слегка, ничего особенного. Вуди аж вскрикнул. Я же так и не поняла, как бы мне разрезать мясо так, чтобы его это не раздражало, поэтому вовсе перестала есть и заговорила о роли женщины в искусстве. Как будто я хоть что-то в этом понимаю. Представляешь, какая твоя дочь дура? В общем, унизительный опыт. Сомневаюсь, что мы еще когда-нибудь куда-нибудь пойдем. А сегодня он прислал мне записку – думаю, тебе понравится.
С любовью,
ДайанОт Вуди
Дорогая свекольная башка,
Любой человек – это чистый лист. Не существует качеств, присущих только мужчинам или женщинам. Конечно, биология играет свою роль, но любые важные решения влияют на представителей обоих полов. Любая женщина полностью вольна в осознании себя – то есть может быть такой, какой она захочет. Мало того, зачастую женщины выбирают, какими им быть, и понимают себя лучше, чем мужчины. Так что не заблуждайся по поводу их роли в ИСКУССТВЕ! Это совершенно неважно. Искусство не может служить оправданием дурацкого поведения. Ну и что, что до наших дней было мало женщин-артистов? Вполне возможно, в истории было полно женщин, куда более талантливых, чем Моцарт или Да Винчи. Просто они решили направить свои таланты в другие области. Заметь, что с этого предложения я начал писать карандашом, а не ручкой. А почему? Потому что в фильме Лелуша “Мужчина и женщина” он то и дело перескакивает с цветной картинки на черно-белую. Вот и я решил аналогичным способом подчеркнуть такой же символизм. Изящно получилось, да? Ну ладно-ладно, довольно глупо.
Вуди20 марта 1969 года
Дайан номинировали на “Лучшую актрису второго плана”. Церемония награждения “ Тони” пройдет в апреле. Учитель словесности Рэнди прочел перед классом две его поэмы, и одну из них, “Вне тела”, предложили разместить в ежегодном альбоме школы. Я уверена, у него все будет хорошо.
ВНЕ ТЕЛА
Голоса прошлого парят на лугу, Прямо у подножья горы. Их принял я за птичий щебет, За шум камней, сорвавшихся с утеса. Слова, обретшие вновь форму. Абзацы тянутся с ветвей, Сюжеты виснут в воздухе, Страницы неудач. Я не хотел их слушать, Я слышал лишь себя: Несчастный слабый писк Прямо у подножья гор. Я слышал – замерзаю, как та живая тварь, Тварь, наделенная лишь даром слова, В ловушке у горы.14 июня 1969 года
Воскресенье, 10 вечера. Сегодня было награждение “ Тони”. Дайан проиграла какой-то другой актрисе. Дайан показали по телевизору, но лишь мельком, мы ничего толком и не увидели.
7 июля 1969 года
Получили письмо от призывной комиссии – просят предоставить подтверждение от психотерапевта Рэнди о том, что он негоден к службе. Тон у письма довольно угрожающий. Еще звонила бабушка Холл. Она считает, что Рэнди попросту струсил.
Ну и что? Кто бы на его месте не струсил? Он как-то спросил, может, человечеству лучше учиться предотвращать войны? В общем, в доме у нас обстановка напряженная.
16 июля 1969 года
В МИНИСТЕРСТВО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США
Справка для предъявления по месту требования
Я уже более 15 лет знаком с Рэнди Холлом и знаю его не только как соседа, но и как пациента. У Рэнди никогда не наблюдалось признаков психических заболеваний в строго научном понимании этого термина, однако его состояние я оцениваю как эмоционально нестабильное, в связи с чем считаю его непригодным к военной службе. Недавняя встреча с Рэнди подтвердила мои опасения, несмотря на некоторые разработанные им приспособленческие реакции, благодаря которым он может произвести на несведущего человека впечатление личности более зрелой и развитой, чем он является на самом деле.
Как психотерапевт, в настоящий момент сотрудничающий с Министерством обороны США за рубежом, я считаю, что Рэнди Холл не пригоден к военной службе и скорее будет для ведомства обузой.
Уильям Л. Бастенфорд, доктор наукЗаместитель директора по работе с кадрами и учебным составомМыслить еще более позитивно
Словно надеясь на то, что кому-нибудь из семьи вдруг понадобится срочный совет, папа приобрел несколько экземпляров “Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей” Дейла Карнеги и разложил их по всему дому на Райт-стрит. Думаю, частично любовь отца к этой книге можно объяснить на редкость удачным оформлением содержания, разбитого на разделы, каждый из которых включал короткие рецепты успеха.
“Двенадцать способов убедить окружающих в правильности посетившей вас идеи:
1. Избегайте споров.
2. Никогда не говорите кому-нибудь, что он неправ.
3. Начинайте разговор с вопроса, на который человек обязательно ответит «да».
4. Позвольте собеседнику думать, будто автором идеи является он сам.”
Папины письма полностью отражали его любовь к Карнеги.
Дорогая Дайан,
Правило номер один. 5 января – день, когда мужчина стареет. У меня не может быть двадцатилетней дочери! Правительство должно всегда говорить правду, а вот мы можем и приврать насчет своего возраста. Так что с этого дня тебе 17 лет, а мне – 35.
С любовью,
Джек. Н. Холл, твой отецВторым по важности после опуса Карнеги шла книга Нормана Винсента Пила “Сила позитивного мышления”. Опубликованная в 1952 году, она 186 недель продержалась в списке бестселлеров New York Times и разошлась более чем пятимиллионным тиражом. Вся страна влюбилась в изящные афоризмы Пила. “Когда жизнь дает тебе лимоны, делай лимонад”, “Жизненные испытания не ломают личность – они ее формируют”, “Позитивный подход – гарантия преодоления любых проблем”. Папа верил каждому слову Пила и плевать хотел на критиков, провозгласивших его мошенником.
В сорок лет Джек Холл уволился из Управления водными ресурсами и стал президентом компании “Холл энд Форман инкорпорейтед”. Папа отдавал должное Карнеги и Пилу и постоянно повторял, что своей деловой хваткой он обязан отточенным методикам этих двоих. Скоро мама уже слышать не могла о двенадцати шагах, которые выучил папа в стремлении стать эффективным лидером. Но знаете, что тут самое странное? Что через пару лет папа добился бешеного успеха.
К 1969 году папин бизнес процветал. Мама отрастила волосы и начала носить клеши. Вечерами, не по праздникам, они стали иногда пропускать по бокальчику вина. Мама стала придерживаться еще более либеральных взглядов, папа – еще более консервативных. Они были привлекательными и, по южнокалифорнийским стандартам, почти богатыми людьми, но счастливее от этого не стали.
Проблемы начались, когда папа принялся применять свои “позитивные” правила в семье – особенно к Рэнди, у которого было нетвердое рукопожатие, который не “смотрел в будущее” и не всегда “мыслил позитивно”. Публичные выступления оставались для Рэнди настоящей мукой, хоть и говорил маме, что это не так.
ЭЖР
Никто не помнит, как папа узнал о ЭЖР – это акроним, под которым скрывается слоган “Эффективность для жизни и работы”. Благодаря ЭЖР люди должны были понять, как им извлечь больше пользы из их собственных талантов, не останавливаясь в личностном и профессиональном росте.
Из-за ЭЖР вся наша семья (за исключением меня) поехала в Сан-Диего на двухнедельную конференцию, чтобы участвовать в семинарах под предводительством специальных тренеров.
Молодежными мероприятиями там заведовал Дэниел Уайтсайд – и ни у Рэнди, ни у Робин, ни у Дорри не сохранилось о нем никаких воспоминаний. Годы спустя я наткнулась на его резюме в интернете, из которого узнала, что по первому образованию он лингвист, а кроме того, обладатель докторской степени, присужденной ему Американским колледжем персонологии.
Впервые понятие персонологии ввел в обиход в 1930 году лос-анджелесский судья Эдвард Винсент Джонс, который описывал поведенческие реакции людей, оказавшихся в зале суда. Судья Джонс, близкий друг родителей Уайтсайда, состряпал “стройную” теорию, согласно которой он мог предсказывать поведение людей, опираясь на внешность. Вот только несколько примеров:
1. Густые, непослушные волосы: бесчувственный.
2. Тонкие волосы: чрезвычайно чувствительный.
3. Широкая челюсть: властный как в действиях, так и в речи.
4. Квадратный выдвинутый подбородок: боевой характер.
5. Подбородок в форме сердца: пассивный характер.
У моего брата Рэнди – широкая челюсть. Согласно принципам персонологии, он должен быть уверенным и доминантным человеком. Робин, из-за ее узкого подбородка, – пассивной и безвольной. У Дорри – густые и непослушные волосы. И что, это делает ее бесчувственной? Полная глупость, особенно учитывая то, что Дорри всегда отличалась чуткостью.
Может, Уайтсайд вообще не обратил никакого внимания на черты лиц семейства Холл? Может, он отложил свои исследования, необходимые для получения докторской степени колледжа персонологии? А может, был в процессе создания своей собственной теории с названием вроде “Концепция три в одном”?
Основателем ЭЖР был Джеймс Ньюман – папа не знал и знать не хотел, был ли он сертифицированным психиатром или психологом. Папа просто заглотил предложенную ему наживку, сразу и с радостью. Папино решение внедрить принципы ЭЖР было в первую очередь продиктовано желанием сделать Рэнди более ответственным и взрослым – раз уж профессиональный психотерапевт этого сделать не смог.
Папа был истинным племянником своего дяди Эммета и сыном Мэри Элис – его как магнитом тянуло к разным мошенникам, жуликам и обманщикам. Таков уж он был. Он не подвергал сомнению правоту Дейла Карнеги или Нормана Пила. Папе даже в голову не могло прийти, что уважаемые авторы просто пользуются извечной любовью обывателей к простым решениям сложных проблем. Несмотря на свою доверчивость и наивность, папа добился успеха в бизнесе – но у него все-таки была профессия и должное образование. По-моему, он даже сам не подозревал, что процветание его бизнеса – результат его трудоспособности и парадоксальной, почти наивной честности. Именно из-за этого “Холл и Форман” стала одной из самых уважаемых инженерных фирм округа Орендж. Прямолинейность и бесхитростность папы удивляли всех вокруг – только не его родных.
15 августа 1969 года
Джек отправил Рэнди на мероприятие ЭЖР в Ла-Холью. Робин едет на следующей неделе вместе с Дорри. Надеюсь, Джек прав – он верит, что все мы только выиграем от этой поездки. Дайан привлечь к ЭЖР не удалось, она слишком занята своими собственными делами. Может, получится в следующий раз.
22 августа 1969 года
– Всем привет, это моя мама, ее зовут Дороти, – так представил меня Рэнди, когда мы приехали забирать его из Ла-Хольи.
Он говорит, что эта неделя была “невероятной и возвышающей” и что теперь “ему страшно спускаться с таких высот”. Посмотрим, удастся ли ему сохранить такой позитивный подход в окружении тех, кто к ЭЖР не имеет отношения. Думаю, да – главное пытаться.
1 сентября 1969 года
Робин и Дорри вернулись из Ла-Хольи, обеим там очень понравилось. Правда, в повседневной жизни следовать принципам ЭЖР непросто, слишком сложно сосредоточиться. Надеюсь, у нас все же получится и мы станем лучше и сильнее. Дети всерьез следуют концепциям ЭЖР, читают книги и практикуют глубокую релаксацию. Джек считает, что это им очень на пользу.
Пятеро против одного
Мои сестры и брат пережили испытание ЭЖР, и жизнь потекла своим чередом. Я жила в Нью-Йорке, но для папы это роли не играло. Правило номер один: поддерживать всех и вся, убеждая, что их проблемы легко разрешимы. Правило номер два: стараться, чтобы все были счастливы, делая то, что хочет он. Правило номер три: задавать вопросы, а не командовать напрямую. Правило номер четыре: говорить о его собственных ошибках, мягко переводя разговор на ошибки родных. К счастью, в конце концов он сдался. Итоговый счет и так был неплох – 5:1.
5 сентября 1969 года
Сегодня Дайан выступала в шоу Мерва Гриффина. Вела себя очень естественно – смеялась и запиналась, как и обычно. Когда она уселась между Бобом Хоупом и Мервом, те принялись расспрашивать ее о личной жизни.
– Ну же, Дайан, расскажи нам, кто он – твой избранник?
Дайан и слова не смогла из себя выдавить, нервничала и хихикала. Правда, благодаря тому, что рядом с ней сидел Боб Хоуп, все ее реплики тоже казались очень смешными. Он прямо превратил ее в комедийную актрису. Даже трудно объяснить, как это выглядело. Они с Мервом весь вечер мастерски ее обрабатывали. Я фотографировала экран, а Джек записал все на камеру.
18 сентября 1969 года
Наконец набралась смелости и позвонила директору музея “Бауэрс”, чтобы предложить им взглянуть на мои снимки. Было непросто. Теперь надо сделать хорошую подборку фотографий. Надеюсь, им понравится.
ФОРМАЛЬНОЕ ПИСЬМО РЕДАКТОРАМ ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЖУРНАЛОВ
Мистеру Джону Смиту,
редактору рубрики искусства
В журнал “ХХХ”
(Адрес)
Дорогой мистер Смит,
Я могу предоставить в распоряжение вашего журнала превосходные фотографии с сильным сюжетом.
В приложенном резюме отражены как мои профессиональные достижения в области фотоискусства, так и уровень образования.
Два приложенных снимка отражают лишь малую часть моих умений и интересов. Я готова работать на любую предложенную тему, однако должна предупредить, что все мои снимки отличаются максимальной естественностью и я не приемлю постановочных кадров.
Я с радостью предлагаю свою кандидатуру на пост внештатного фотокорреспондента журнала “ХХХ” и могу гарантировать высочайшее качество своих работ и их художественную ценность.
Если вас заинтересовало мое предложение или вы захотите ознакомиться с другими моими работами, свяжитесь со мной, и я с удовольствием предоставлю вам дополнительные снимки и обсужу условия сотрудничества.
С уважением,
Дороти ХоллК письмам мама прикладывала фотоснимок актрисы Дайан Китон.
6 ноября 1969 года
Я выиграла первый приз на ярмарке округа за огромный коллаж из фотографий Робин и Дорри. Благодаря таким событиям я еще не окончательно потеряла веру в себя. Сегодня доставили мои новые визитки. Я готова к бою.
От Дайан пришло письмо. Жалуется на программу Мерва Гриффина, в которой выступала на прошлой неделе. Бедняжка, ей не хватает уверенности в себе.
Она видела запись программы и пришла в ужас. Говорит, что не понимает, почему так себя вела, и ненавидит себя за старательность, с которой пыталась прикинуться своей в доску.
Роль в фильме “Бабочки свободны” ей не досталась – Дайан якобы слишком высокая и экстравагантная. Она считает, это просто вежливый способ сказать, что она странная.
Дайан не-Холл Китон
Мне сложно было понять размах грандиозного фотоальбома под заглавием “ДАЙАН КИТОН”, в котором мама собирала свидетельства моих карьерных успехов с 1969 по 1984 год – почти так же сложно, как и принять папину веру в целительные возможности ЭЖР.
На серебристой обложке альбома гигантскими черными буквами было выведено мое имя – сценическое, без настоящей фамилии Холл. Один только размер (50 × 75 см) поражал величием, которым слова “ДАЙАН КИТОН” совершенно не обладали.
В самом начале мама разместила корешки от двух билетов на “Сыграй еще раз, Сэм”. Рядом с ними – смешная карикатура на Вуди, желтая салфетка из ресторана “Сарди”, внизу – фотографии меня и коллег по спектаклю, скалящих зубы в ожидании хороших отзывов критиков. Затем шла четырехстраничная статья из Harper’s Bazaar, из которой становилось ясно, что моделью мне не бывать. Конечно, снимки для журнала делал модный в те времена фотограф Билл Кинг (он прославился снимками “прыгающих” моделей вроде Лорен Хаттон), однако результат получился странный – мало того, что прыгаю я там откровенно неэстетично, так еще и улыбаюсь во весь рот, сверкая золотыми коронками, которые по словам стоматолога из Санта-Аны прослужат мне всю жизнь.
После статьи шли вырезки заголовков вроде “Восходящая звезда Дайан” или “На пути к славе: Дайан Китон не остановить” с запиской маминой рукой, которая гласила “Это мне прислала Барбара из Сидар-Рапидс”. Мне это все показалось очень ненатуральным. Во-первых, кто такая Барбара из Сидар-Рапидс? А во-вторых, кому какое до этого дело?
Следующий пункт – разгромный обзор моего выступления в клубе “Айсхаус”, где я имела глупость выступить в роли певицы. “Дайан Китон – неплохая актриса, но певица из нее откровенно никакая, – говорилось в статье. – Выбор музыкальных композиций Китон не отличается разнообразием, а сама актриса не умеет общаться с публикой. Вместо этого она прибегает к странным мимическим приемам и совершает нелепые телодвижения”.
Рядом с этой статьей мама разместила вырезку из журнала “Люди округа Орендж” с безвкусным заголовком “Джек Холл был прав – его дочь стала-таки кинозвездой!”.
Друзья Джека Холла смеялись, когда он говорил, что его маленькая дочка Дайан однажды станет кинозвездой. Ну что же, больше поводов для смеха у них нет. Джек и его супруга Мюриел без устали расхваливают свою талантливую дочь.
– Это наша малышка, – говорят они всем.
Родители не ставят успех дочери себе в заслугу, утверждая, что она всего добилась своими силами. Возможно, бесстрашие и пробивной характер Дайан получила от своей матери Мюриел, которая подняла четырех детей и в сорок лет отправилась учиться в университет – и закончила его с отличием. Мюриел является автором фотографий, размещенных на обложках книги и альбома Вуди Аллена.
Мюриел?! Я вас умоляю. Мама окончательно потеряла всякий стыд – даже потеря ее собственного имени не помешала ей подклеить в альбом эту вырезку. Но зачем? Чтобы лишний раз напомнить себе, что она – только лишь жена Джека Холла и мать Дайан Китон?
Довольно неожиданно для читателя гигантский альбом заканчивается двухстраничной рекламой из Los Angeles Times с фотографиями Барбары Стрейзанд, Фарры Фосетт, Лайзы Миннелли, Пола Ньюмана, Берта Рейнолдса, Джона Траволты и меня: все мы улыбаемся под заголовком “Специальный репортаж второго канала. Жизнь на звездном небе: мечта или страшный сон?”. Думаю, лучшей статьи для завершения этой эпической работы мама найти бы и не смогла. Ее дочь, малютка, которая пела песни луне, стоя на дорожке возле дома в Хайленд-парке, стала кинозвездой.
Звездная жизнь никогда не казалась мне “страшным сном”. Она просто не оправдала моих ожиданий. Ну а мечта – ее и сформулировать-то нельзя. Это даже Дейлу Карнеги было бы не под силу.
Закрыв альбом, я заметила на полу упавший журнал Time с заголовком “Гениальный комик Вуди Аллен достиг расцвета” и газетную вырезку с фотографией моих родителей, которые держались за руки. Вырезка гласила: “Родители актрисы Дайан Китон готовы поделиться подробностями ее жизни. Миссис Холл, статная и хорошо одетая женщина, предпочитает молчать, когда речь заходит о делах, но с радостью готова поговорить о своей дочери Дайан.
– Не только на Дайан попали лучи славы, нас с Джеком они тоже коснулись. Вы не представляете, что это за восхитительные ощущения. Куда бы мы ни пошли с Дайан, нас обступает толпа”.
Обступает толпа? Да никогда такого со мной не было, никогда. С чего мама вообще это сказала? Да и говорила ли она это?
Интересно, стоила ли в конце концов овчинка выделки? Не казались ли маме впустую потраченными часы, проведенные за составлением из вырезок истории начинающей актрисы Дайан Китон (даже не Холл)? Почему мама с таким рвением пыталась доказать, что моя жизнь удалась? Сложно было, должно быть, пробираться сквозь сотни скучнейших статей с одними и теми же фотографиями и цитатами вроде “О, знакомство с Бетти Форд – это большая честь”, или “Конечно, мне понравилось танцевальное шоу Марты Грэм. Мы с Вуди с удовольствием берем уроки танцев в ее школе”. Неужели маме никогда не было за меня стыдно? Неужели она верила, что, разрезая газеты на маленькие кусочки и квадратики, она успокоит свою душу? Может, это помогало ей забыться? Абстрактный, но эффективный способ поностальгировать по старым добрым временам?
Наша история – меня и моей мамы – это клубок нашего прошлого, который не распутаешь, глядя на подборку вырезок о девушке, ставшей Энни Холл.
31 декабря 1969 года
Я всегда говорила, что не представляю себе жизнь без своей семьи. Сегодня я убедилась в этом в очередной раз. Дорри подбила всех нас сесть на велосипеды и поехать за мороженым в “Баскин Роббинс”, как мы делали в прошлом году. Было очень здорово. Все-таки правду говорят – вот такие мелочи и имеют значение.
Недавно думала о том, счастлива ли я, и пришла вот к какому выводу: я совершенно довольна жизнью, когда мои близкие счастливы – и не важно, радуются они из-за мелочей или нет. Не думаю, что хоть кто-то может любить так же сильно и всепоглощающе, как я люблю свою семью.
Джек спросил, хороший ли сегодня был день, последний в этом году, и я сказала, что день вышел отличный. Мы пытались достать билеты на “Настоящее мужество”, но без особого успеха. Так что мы всей семьей отправились пообедать в “Марсе”, а потом вернулись домой и смотрели, как Дик Кларк отсчитывает на Таймс-сквер секунды до нового года.
– 1969-й был отличным годом, да, пап? – спросила Дорри.
– Да, дорогая, – согласился Джек.
Ну а я просто надеюсь, что и 1970-й окажется не хуже.
5. Список
Джейн Фонда. Элли Шиди. Джоан Риверз. Пола Абдул. Линдси Лохан. Салли Филд. Принцесса Диана. Энн Секстон. Карен Карпентер. Анна Фрейд. Мариэль Хемингуэй. Одри Хепберн. Порша де Росси. Мередит Виейра. Виктория Бэкхем. Келли Кларксон. Фелисити Хаффман. Мэри-Кейт Олсен. Кэтрин Оксенберг. Шэрон Осборн.
Мы с Салли Филд одногодки. Мы обе – актрисы, живем и работаем в Лос-Анджелесе. На этом сходства заканчиваются – ну или я так думала. В своей жизни я встречалась с Джоан Риверз, Линдси Лохан, Фелисити Хаффман и даже Одри Хепберн. Не очень-то много у нас было общего. Мередит Виейра как-то брала у меня интервью для The View – удивительно профессиональная, собранная женщина. Как ни странно, с ней у меня есть общие черты – мы обе не любим публичность.
И как так вышло, что у Мэри-Кейт Олсен, девочки на сорок лет меня младше и на 100 миллионов долларов богаче, по сути было такое же прошлое, как и у меня? А Джейн Фонда? Сама Джейн Фонда! Когда на вечеринке, которую Кейти Холмс устроила в честь Виктории Бэкхем, меня познакомили с последней, я и не знала, кто она такая и чем живет. И тем не менее у всех женщин из этого списка есть что-то, что их объединяет. А различия? О них я предпочитала молчать – до сих пор.
И ещё
Взглянув в коричневый бумажный пакет, внутри я, к своему разочарованию, обнаружила лишь зеленое яблоко, шесть центов, четыре вишневых конфеты и один леденец на палочке. А где батончики вроде “Сникерсов” или “Трех мушкетеров”?
Нарядившись как цыгане, мы с Рэнди в Хэллоуин обходили соседей. Но с таким жалким уловом мне было неловко вопить: “Конфеты или жизнь!” В итоге я задурила Рэнди голову, выманив у него все сладости в обмен на обещание уступить ему на неделю верхнее место на нашей двухэтажной кровати.
Следующим вечером, когда родители смотрели шоу Милтона Берли, я прокралась на кухню. Только я собралась прихватить кучку шоколадного печенья “Гидрокс”, как услышала папин голос:
– Дайан, это ты?
Вволю погоревав, я пробралась к тайнику, где хранила сладости, доставшиеся мне от Рэнди после Хэллоуина, и все их съела. Об этом никто так никогда и не узнал.
Мама редко покупала печенье вроде “Гидрокса”. Наш семейный бюджет не потянул бы сливочные батончики “Хостесс”, газировку “Севен-ап”, сахарные хлопья или мое любимое масло “Челлендж”. Наши ужины не отличались особенным разнообразием: мы часто если мясные рулеты, спагетти, котлеты и запеканки – слишком много запеканок. На десерт все получали по три овсяных печенья. За исключением папы, который ел столько печенья, сколько хотел. Каждый вечер я с завистью смотрела, как он поедает печенье. В начале недели детям полагались дополнительные сладости. Например, в понедельник мама выдавала мне мятную жвачку. В среду – половину кусочка. К субботе мы получали лишь четверть квадратика. Я не прекращала выкручивать за сладости Рэнди руки, но результат того не стоил. Первый крупный успех на этом поле пришел ко мне в школе, где я подговаривала своих друзей, с которыми ходила на английский для отстающих, покупать мне мороженое и кексы.
Была у меня и еще одна страсть – к глянцевым журналам вроде McCalls, эдакого варианта Martha Stewart Living[5] пятидесятых годов. Забавы для маленьких девочек, перечисленные на последней странице журнала, меня не интересовали. Больше всего мне нравилось разглядывать цветные фотографии улыбающихся дам с рекламы консервов “Кемпбелл” или крема “Понд”. Все они были прехорошенькими и, что самое главное, никогда не менялись. Нравился мне и журнал Life, в основном из-за их историй с фотографиями. Помню, как в один прекрасный день меня сразила наповал обложка этого журнала с Одри Хепберн. Она была не просто хорошенькой. Она была прекрасна. Настоящее совершенство. Примерно в то же время я начала замечать недостатки своего одиннадцатилетнего тела. Я с трудом влезала в ванную – была для нее слишком длинной. Мне это не нравилось. Кроме того, меня беспокоило то, что реальные люди вовсе не всегда были привлекательными – даже мама. Хуже всего было то, что я начала сравнивать себя с другими. Например, сравнивая себя с Одри Хепберн, я понимала, что со мной что-то не так. Черты лица у меня были ассиметричными. Я не была красивой, в лучшем случае – посредственной. Ох. С каждым прожитым годом я все больше понимала, что моя внешность всегда будет требовать огромных усилий. Я начала изучать свое лицо в зеркале заднего вида в нашем фургоне. Правая сторона удалась лучше левой, уже неплохо. С чуть приоткрытым ртом я выгляжу беззащитной – а это тоже хорошо. Постоянно прибегая к таким ухищрениям, я умудрялась выглядеть если не красивой, то привлекательной. Вернее, симпатичной.
Примерно в то же время я обнаружила такие журналы, как Vogue и Mademoiselle, из которых узнала, что фигура важна не меньше лица. Я начала модно одеваться – носила мини-юбки с белыми сапогами, блестящие прямоугольные платья и комбинезоны. Я красила глаза черной подводкой, как Элизабет Тейлор в “Клеопатре”, приклеивала накладные ресницы и то и дело играла с волосами, надеясь, что это отвлечет внимание от моего неудачного лица. Не знаю, с чего я решила, будто смогу добиться совершенства.
Все эти попытки освоиться в мире моды и красоты ничуть не помогали справиться с моей страстью к еде. Я была тайной обжорой, живущей в ожидании момента, когда она сможет съесть все, что ей только захочется, и не только. Этот момент настал, когда я закончила театральную школу и попала в мюзикл “Волосы”. Моя жизнь круто изменилась, и я внезапно обнаружила себя сплетничающей с Мельбой Мур – например, о том, что Джанис родила ребенка, накачавшись ЛСД в гримерной Джерри Раньи и Джима Радо сразу после премьеры. “Волосы” пользовались большим успехом, и весь состав мюзикла наградили поездкой на Файр-Айленд, где всем желающим был доступен мескалин. Если во время выступления кто-нибудь из актеров снимал с себя одежду, получал пятьдесят долларов премии. Когда один из актеров мюзикла Ламонт Вашингтон погиб при пожаре, заснув с сигаретой во рту, никто не стал толкать речи о любви и упокоившейся душе. Мы отчаянно боролись за место под солнцем и были агрессивны, молоды, талантливы и неопытны. Многие из нас, и я в том числе, чувствовали себя потерянными и запутавшимися.
Вместо того чтобы пытаться завести друзей, я скрывалась в стейкхаусе “У Теда”, где за доллар и двадцать девять центов можно было есть столько, сколько захочешь. Пока коллеги по мюзиклу курили травку, я поедала ванильные рожки “Карвел”. Удача улыбнулась мне, когда исполнительница главной роли Лин Келлог временно прервала выступления ради съемок в фильме “Миссия невыполнима”. Я заняла ее место, но уже через неделю со мной связался продюсер Майкл Батлер. Он сказал, что главная роль достанется мне только при одном условии – если я похудею. При росте в 170 сантиметров я весила 64 килограмма. Я обратилась к доктору Полу, который начал делать мне уколы ускоряющих обмен веществ витаминов – по пятьдесят долларов за укол. На уколах я потеряла 5 килограммов и в итоге получила главную роль Шейлы. Воодушевившись такими хорошими новостями, я сняла крохотную студию в пешей доступности от Западной Восемьдесят второй улицы и даже обзавелась телефоном.
Туалет в конце коридора
Квартира у Дайан странная, длинная и узкая. В тесной кухне вместо занавесок – кусок брезента. Там же стоят голубая щербатая ванная и раковина, плита и шкаф. Стены оклеены кусками разных обоев. В углу громко тарахтит малюсенький холодильник – его давно пора разморозить. Что хуже всего, ей приходится делить туалет в конце коридора еще с тремя другими жильцами. Ох. Бедная девочка, ей, должно быть, так там неудобно.
Когда визит родных в Нью-Йорк подошел к концу, я попрощалась с доктором Полом, сэкономив 150 долларов в неделю, и снова набрала свои 5 килограммов. А вдруг Майкл Батлер придет на мое выступление? Вдруг он заметит, что я опять поправилась? Вдруг меня уволят? Однажды вечером, уже уничтожив в ресторане несколько стейков, я случайно подслушала реплику моей коллеги Шелли Плимтон. Она рассказывала о какой-то знакомой девушке, которая специально вызывает у себя рвоту, чтобы сохранить фигуру. Отвратительно. Ужасно. Любопытно. Сейчас я уже не помню, как я в первый раз попробовала вызвать у себя рвоту. Помню, что периодически проделывала это, пытаясь оценить эффект. Скоро я перешла к трехразовому питанию – очень необычному трехразовому питанию. Завтрак занимал у меня один час, обед – два, а ужин – три. Целых шесть часов в день я занималась только тем, что поглощала пищу.
Каждый божий день я ходила в “Гроссингерс” на поздний завтрак. Там я съедала дюжину кукурузных маффинов, обмакивая их в кофе, три порции яичницы с беконом и порцию оладий. Все это я запивала четырьмя стаканами шоколадного молока. На обед я обычно заказывала три стейка с солоноватым жирком, запеченный картофель со сметаной и зеленым луком, шоколадный молочный коктейль, горячий яблочный пирог и две порции шоколадного мороженого с орешками. Ужин начинался с большой порции жареной курицы из фастфуда “Кентакки фрайд чикен”, нескольких порций картошки фри с сырным соусом и кетчупом и пары-тройки готовых комплексных ужинов из супермаркета. На десерт: миндаль в шоколадной глазури и литровая бутылка “Севен-апа”, полкило козинаков, “М&М’s”, манговый сок, бисквитный торт и три пирога с бананово-кремовой начинкой. Я научилась вызывать рвоту так быстро, что все это не сказывалось на фигуре. Сперва я не замечала никаких отрицательных последствий – меня тошнило легко и быстро, и я полностью контролировала этот процесс.
С едой же всегда получалось одно и то же: первые два-три кусочка были самыми вкусными. Потом ощущения немного блекли, и их приходилось восстанавливать, заедая чем-нибудь другим. Если и это не помогало, я прибегала к старой доброй классике – тостам с маслом и клубничным джемом. Когда мне надоедали тосты, я переключалась на что-нибудь другое и делала так снова и снова. Чем больше я ела, тем меньше удовольствия мне это приносило. Но меня это не волновало – в конце концов, те первые кусочки того стоили.
В остальном моя жизнь тоже порядком усложнилась. Только представьте, каково было таскать бесконечные коричневые пакеты с едой по лестнице, сваливая их в комнатку на Восемьдесят второй улице. Представьте крошечный холодильник и желтые кухонные шкафчики, до отказа забитые выпечкой, консервами и прочей едой. Представьте туалет, над которым я билась в конвульсиях три раза в день, предварительно поставив рядом с собой пачку соды для чистки унитаза. Это было отвратительно. Отупляюще.
Спустя шесть месяцев ежедневного употребления двадцати тысяч калорий у меня развилась гипогликемия – упал уровень сахара в крови. У меня начались изжога, проблемы с пищеварением, нарушился менструальный цикл, упало давление. Постоянно саднило горло. Я активно с этим боролась – бегала по врачам и аптекам, скупая слабительное. Мой стоматолог, доктор Стэнли Дарроу, за раз нашел у меня двадцать шесть дырок в зубах. На передние зубы пришлось ставить коронки. Еще больше боли, еще больше забот. Но больше всего я страдала из-за психологических проблем – я сторонилась людей, избегала общения. Боялась осуждения и стыдилась себя. Я тратила все свои силы на то, чтобы не обращать внимание на происходившее со мной. Я была очень занята.
Я познакомилась с Вуди Алленом осенью 1968 года в театре “Броадхерст” во время прослушивания на роль для спектакля “Сыграй еще раз, Сэм”. Мы стали читать вместе реплики – было интересно и вовсе не страшно. В итоге я получила роль – или, как передразнивал меня потом Вуди, “создала образ Линды Кристи”.
В “Сыграй еще раз, Сэм” Вуди продемонстрировал, насколько он талантлив. По сценарию мы с Тони Робертсом, игравшим Дика Кристи, брали Вуди, исполнявшего роль Алана Феликса, под свое крыло. Его недавно бросила жена, и мы убеждали его снова начать встречаться с девушками. Наши персонажи не знали, что Алан постоянно советуется с призраком Хамфри Богарта, который посещает его после неудачных свиданий с разными красотками. В итоге Алан и Линда – оба стеснительные и неуверенные в себе люди – влюбляются друг в друга.
Во время репетиций я влюбилась в Вуди – не только по сценарию, но и по-настоящему. Да и как я могла в него не влюбиться? Он был Вуди Алленом! Еще дома мы с семьей усаживались перед телевизором, чтобы посмотреть на его выступления у Джонни Карсона. Вуди, в его очках с толстыми стеклами и элегантных нарядах, был на пике моды. Но меня подкупила его манера вести себя – то, как он жестикулировал, как покашливал и скромно смотрел себе под ноги, выдавая шуточки вроде “В канун Нового года я остался один, так что вместо дам меня окружали даймы[6] – целая ванна!” или “Для меня нет ничего важнее прекрасной женщины – ну, за исключением моей коллекции марок”.
В жизни Вуди оказался еще привлекательнее – у него была отличная фигура, и он всегда двигался с большой грацией.
Мы подружились. Я была благодарным слушателем и всегда смеялась его шуткам. Мне кажется, ему это всегда нравилось, хоть он и говорил частенько, что я шуток не понимаю. Зато я понимала Вуди, и его характер был для меня куда интереснее любых шуток. Скоро Вуди совсем ко мне привык – да и куда ему было деваться? Он всегда любил невротичных девиц.
Я постоянно пыталась убедить его, что я – нечто большее, чем просто забавная и смешная девчонка. Но многие наши беседы – даже те, что крутились вокруг меня самой, – производили на меня странное впечатление. Моя занятость частенько отодвигала на второй план влюбленность в Вуди. Например, он приглашал меня на трехчасовой спектакль “Скорбь и жалость” на пересечении Пятьдесят девятой и Третьей улицы. Но как я могла туда успеть? Мне ведь еще надо было обналичить зарплатный чек и сбегать в магазин на Восемьдесят шестой улице – ведь он закрывается в семь, а у меня дома уже кончаются карамельки “Крафт”, запеченные бобы в банках и жевательные конфеты в форме сигар. Кроме того, Пятьдесят девятая улица – это так далеко! Если мы туда пойдем, то не сможем по пути заскочить в супермаркет “Гристидис”. Ужасно, но факт остается фактом: моя булимия была для меня важнее любви к Вуди.
Если же смотреть со стороны, у нас все было прекрасно. Вуди потихоньку начинал видеть во мне не только боевую подругу. Мы постоянно поддерживали отношения, но особых обязательств друг другу не давали. Вуди уже тогда был самым дисциплинированным, организованным, целеустремленным и выносливым человеком из всех, кого я знала. Он каждый день играл на кларнете, выступал на сцене, читал Толстого и писал шутки для шоу в Лас-Вегасе или Рино – там в стилизованном под средневековый замок отеле “Каль Нева” у него на разогреве выступал Фрэнк Синатра-младший. Вуди был всегда занят, так что особых требований ко мне он не предъявлял. Со временем я перевезла некоторые свои вещи в его пентхаус, но студию на Восемьдесят второй снимать не перестала. Скоро в нее пробрались грабители, и полицейские посоветовали мне поставить решетки на окна. Я пропустила это мимо ушей. Какая мне разница, ограбят эту квартиру или нет? Она была нужна мне лишь для одного – для ежедневной рутины и трехразового посещения туалета в конце коридора.
Эксперты
Сто лет назад женщины страдали от неврозов и истерик, а не от переедания. Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что к булимии склонны женщины из специфических социальных слоев, с определенным доходом и уровнем образования, в основном с интроверсией, которая повышает вероятность возникновения фобий, развития алкоголизма, нервных расстройств и панических атак. Женщины с булимией отличаются от женщин в депрессии – они чаще страдают от лишнего веса и являются детьми родителей с лишним весом. Считается, что родители, предъявляющие детям высокие требования, создают атмосферу, благоприятную для развития пищевых неврозов. Недостаток родительского внимания – одна из главных причин, по которым возникает булимия: больные пытаются восполнить недостаток любви едой. И прочая чушь.
Меня бесит легкость, с которой так называемые эксперты обвиняют родителей (особенно матерей) в пищевых расстройствах их юных/зрелых/пожилых дочерей. Полная глупость. Моя мама всегда дарила мне океан любви и ласки. Мне лично кажется, что жизнь в состоянии активного пищевого невроза ошеломляет и отупляет. Да и вообще, причины возникновения булимии гораздо сложнее, чем недостаток любви или лишний вес у матери – ни то ни другое Дороти не было свойственно.
Мама выкладывалась на полную, только чтобы привить нам позитивный взгляд на жизнь. Она давала мне все, что я хотела, – по мере возможностей, конечно, – но, если долго держать все в себе, рано или поздно крышку обязательно сорвет. Незадолго до моего отъезда в Нью-Йорк мама стала по-особенному молчаливой. По-моему, мне было четырнадцать лет, когда я впервые услышала, как папа с мамой ссорятся за закрытыми дверями их спальни. Помню, я бросилась к Рэнди, который как раз прятал стопку журналов Playboy с пышногрудыми девицами под кровать. Я в ужасе спросила, слышит ли он, как кричат папа с мамой и о чем они кричат. О разводе. О разводе! В ответ Рэнди убежал, оставив меня слушать родительские вопли. Может, этот случай сделал меня жадной – в том смысле, что заставил желать от жизни все больше и больше? Не знаю. Стал бы мой аппетит менее неуемным, если бы мама еще тогда оценила все радости и прелести разговоров на кушетке у психоаналитика? Не знаю.
31 октября 2009 года ей бы исполнилось восемьдесят восемь лет. На прошлый Хэллоуин как раз было шесть недель с ее смерти. В этом году я прожила четыреста девять дней и ночей без мамы. Я думала, что время лечит любые раны. Вот сижу сейчас в машине у городского колледжа Санта-Моники, смотрю на соседнее кладбище и жду, пока у Декс кончатся занятия в бассейне. А у самой из головы не идет грустное лицо Дафны Меркин, с которой мы утром завтракали в “Поло лаунж”:
– Дайан, как ты думаешь, они к нам не вернутся? Неужели наши мамы никогда не вернутся?
Дафна, как бы я хотела, чтобы они вернулись! Все мамы всех детей на свете.
Съесть слона
Вуди не знал, чем я занимаюсь в уборных его пентхауса. Конечно, мой зверский аппетит не прошел мимо его внимания, и он не раз удивлялся и говорил, что я, наверное, могу съесть целого слона. Я же всегда была настороже и предпринимала всевозможные меры предосторожности, чтобы он меня не засек. Разумеется, Вуди видел, что у меня целая куча проблем психологического характера. Он знал, насколько я не уверена в себе. Наверное, непросто ему было постоянно подбадривать и хвалить меня. После того как “Сыграй еще раз, Сэм” сошел со сцены, я никак не могла найти работу. По-моему, чуть ли не все роли, на которые я прослушивалась, уходили либо Блайт Даннер, либо Джилл Клейберг, которые не были такими “заумными”. Целый год я сидела без работы и наконец докатилась до съемок в рекламе дезодоранта “Час за часом”, где я в обтягивающем трико кусаю мужа за ухо и шепчу: “Час за часом… что бы мы ни делали, он сохраняет свежесть”. В те дни я жрала, как не в себя. Меня мучили одни и те же мысли: что подумает обо мне Вуди, если узнает мой секрет? Что, если я так и не найду работу? Однажды я услышала фразу начинающей актрисы Ли-Энн Фейи о том, что “двадцать пять – это потолок”, и с тех пор она не шла у меня из головы. Мне уже было двадцать пять. Что же мне делать? Я не хотела быть просто девушкой Вуди Аллена. Что же со мной будет? Может, бросить сцену? Видя мои мучения, Вуди предложил мне сходить на прием к Фелисии Лидии Ландау – психоаналитику.
Каждый день с понедельника по пятницу я шла по Пятой авеню к пересечению Девяносто четвертой улицы и Мэдисон-авеню, поднималась на лифте на шестой этаж неприметного здания из красного кирпича, шла по узкому коридору и жала на звонок возле кабинета доктора Ландау. Она открывала дверь, я здоровалась и ложилась на кушетку. Лежа на спине, я смотрела в потолок и рассказывала историю моей жизни. У нас не было ничего общего: я – старшая дочь жизнерадостной пары из Южной Калифорнии, она – польская еврейка, чудом успевшая сбежать из страны накануне гитлеровского вторжения.
Спустя еще один год, который я провела без работы, в обнимку с унитазом и в разговорах с потолком в ее кабинете, я наконец выпалила:
– Три раза в день я засовываю палец себе в горло и вызываю у себя рвоту. Я занимаюсь этим уже много лет. У меня булимия. Ясно? И останавливаться я не собираюсь. Никогда. Зачем мне прекращать? Я не хочу. Я не собираюсь прекращать, понятно? Вот и все, конец. И что бы вы ни говорили, переубедить вы меня не сможете. Надеюсь, вы это понимаете. Понимаете, доктор Ландау, верно? Ну и отлично!
Спустя полгода я победила булимию. Однажды утром я подошла к холодильнику и не стала брать оттуда обычные полкило мороженого на завтрак. Не знаю почему. Я знаю только одно: все эти обрывочные фразы, бессмысленные жалобы и странные неоконченные монологи, которые пять дней в неделю по часу выслушивала пожилая дама с сигаретой, помогли мне. Я говорила, и это спасло меня, позволило забыть о зависимости от еды. Всего лишь разговоры, и ничего более.
Секреты
Я всегда думала о себе как о несчастной, прекрасной жертве обстоятельств. Никто и представить не мог, что на самом деле я – гигантская толстуха из цирка, из шоу уродов. Я успешно скрывала это от всех вокруг. Мой секрет порождал другие маленькие секреты и заставлял меня безостановочно изворачиваться и лгать. Я лгала себе и не могла остановиться. Я не хотела глядеть правде в лицо, не хотела видеть настоящий облик этого чудовища – булимии. Зато я отдала ему пять лет своей жизни. Скормила их ненасытному чудищу с неуемным аппетитом. Я жила в одиночной тюремной камере, которую сама же возвела из лжи, обмана и секретов.
В американской культуре шокирующие признания финансово выгодны, и, когда кто-то делает их так поздно, как я, это вызывает подозрение, но не интерес. Жаль, что я не набралась духу рассказать о своих проблемах маме до того, как она заболела Альцгеймером. Зато недавно призналась сестрам: Дорри мне посочувствовала, а Робин припомнила, что я и впрямь в то время поглощала немало бургеров, но особенного интереса это сообщение у них не вызвало. Кого интересует то, что было тридцать лет назад? Да никого. Семьдесят пятая строка в списке “Знаменитые булимики” – не особое достижение, так, маленькая сноска в файле под названием “Пищевые расстройства”. Так почему я об этом пишу? Отчасти потому, что чувствую свою вину, а отчасти – потому что о таких маленьких сносках нужно знать. Я понимаю, что мое признание не украсит мой образ, над которым я работала многие годы. Я не жду ни от кого сочувствия, симпатии или понимания. Я просто хочу скинуть с себя ношу лжи, которую таскала все эти годы.
Возможно
Я преодолела булимию, и это было почти так же странно, как и то, что я ей заболела. От моего прежнего безумного голода ничего не осталось. Скорее наоборот, я начала относиться с подозрением к процессу потребления чего бы то ни было. Я двадцать пять лет не ем мясо. Я не испытываю ни малейшего желания стоять у плиты. Я не хочу есть. Я наелась. Когда я болела, мне приходилось постоянно балансировать между импульсивной страстью к еде и контролем за своей жизнью. В каком-то смысле это заменило мне сцену. Как только я перестала вызывать рвоту, моя профессия снова стала мне интересна. Я начала ходить на занятия к Мэрилин Фрайд, которая вновь открыла для меня выразительное искусство. Мое желание работать и добиваться успеха было куда сильнее, чем в юности, когда я была слишком глупа и неопытна, чтобы воспользоваться возможностями, которые открыла передо мной театральная школа.
Сэнди Мейснер не раз говорил, что с возрастом и опытом наши актерские способности становятся только лучше. Сейчас мне столько же лет, сколько было Сэнди, когда он говорил, что полностью реализоваться может только зрелая личность. Сегодня жизнь кажется мне куда интереснее и непонятнее, и порой мне трудно поверить, что публику совсем не всегда интересуют накопленные мною знания. В общем, жизнь всегда подкидывает нам новые задачки. А актерское мастерство, как и булимия, парадоксально. Но в отличии от булимии оно не приводит к полной изоляции. Актерство – это захватывающая поездка на американских горках, на которые ты отправляешься вместе со своими коллегами по сцене. Может, мы и не всегда “искренне переживаем каждое мгновение воображаемой жизни”, как говорил Сэнди, но удовольствие от процесса получаем всегда.
Сейчас я учусь слышать с тем же нетерпением, с каким когда-то опустошала полки холодильника. Да, меня спасли разговоры, но умение слушать позволило мне стать частью сообщества. Может, добавив свое имя в список больных булимией – знаменитых или не очень, – я наберусь храбрости, перейду грань и стану наконец такой, какой всегда хотела быть? Такой, каким был Аттикус Финч в романе “Убить пересмешника”? Не знаю. В любом случае это лучше, чем то одиночество, на которое я обрекла себя тридцать лет назад.
Так давайте отдадим должное всем женщинам, обычным женщинам, в этом длинном-предлинном списке. Таким женщинам, как Кэролин Дженнингс, Стефани Армстронг, Элисон Крейгер Уолш, Кристен Меллер, Лори Генри, Марджи Ходжин, Гейл Шонбах, Шэрон Пикус и Дайан Китон Холл.
6. Карабкаться наверх и катиться вниз
Стиснув зубы
У меня была карьера. Был Вуди. Была доктор Ландау. Были мечты. Были дневники с особенно взволновавшими меня цитатами.
“Раньше я переживала, думала: каково это будет, жить, ничего не зная и не понимая? А теперь… Теперь я не переживаю”. Шестидесятилетняя жительница Кони-Айленд.
“Будьте добры, встаньте чуть поближе друг от друга”. Майкл Куртиз.
“Видишь кого-нибудь на улице, и первыми в глаза бросаются их недостатки”. Диана Арбус.
“Я хотел столького добиться. Но это невозможно. Я так и не научился любить, я лишь подражал звукам любви”. Записка самоубийцы.
“У тебя не так уж и много времени”. Уокер Эванс.
В Нью-Йорке я снова начала делать коллажи. Например, была у меня серия под названием “Стиснув зубы” – с фотографиями гнилых зубов, поверх которых я наклеивала надписи вроде “Ну надо же, сколько в зубах всего интересного”, “Пациент средних лет был доставлен в хирургическое отделение стоматологической больницы. Его заболевание представляет собой интереснейший случай волосатости языка” или “Так называемые «зубы Хатчинсона» – первый признак врожденного сифилиса”. Еще у меня был черный дневник, который я называла “похоронным”. Туда я вклеивала фотографии людей из журналов, стирала им лица, рисовала на их месте штампик “извещение о смерти” и подписывала разными именами. Ужас.
Еще у меня была стопочка маленьких записных книжек, которые я заполняла цитатами из старых книг с блошиного рынка на Двадцать шестой улице: “Я брежу”. “Боль. Боль. Боль. Боль”. “Кто я?” “Мы все умрем”. “Безжалостный замкнутый круг обжорства”. “ – Не делай этого, – настаивала она. – Не надо”.
Что самое странное, все, что я написала выше, – чистая правда.
Конечно, все мои творческие потуги мало чем отличались от вышивки крестиком или плетения корзин. Просто еще один способ убежать от неизбежной встречи с килограммовой коробкой козинаков. Не думаю, что мой способ решения психологических проблем имел что-то общее с мамиными коллажами, увлечением писательством и фотографией. Мне повезло – я была молода и имела больше возможностей для преодоления своих трудностей и нервного расстройства, диагностированного доктором Ландау. А мама была совершенно одна.
В те дни любые культурные события в моей жизни происходили благодаря моему бойфренду Вуди Аллену. Он водил меня в кино – так мы посмотрели “Персону” Ингмара Бергмана и “Скромное обаяние буржуазии” Луиса Бунюэля. Вместе мы смотрели сквозь окна на картины немецких экспрессионистов, выставленные в галерее Сержа Сабарски. Мы ходили в музей современного искусства и были на выставке Дианы Арбус, которую курировал Джон Шарковский. Я ходила на курсы рисования и шелкографии. Училась фотопечати. Благодаря доктору Ландау ознакомилась с концепцией противостояния “тогда” и “сейчас” и концепцией последовательности “сейчас”, произошедшего из-за “тогда”. Она рассказала мне о фрейдистской теории о “зависти к пенису”. Феминистки считали, что она унижает женщин, описывая их как неудавшихся мужчин. Мы с доктором Ландау принялись обсуждать зависть – и выяснили, что я полна зависти, с которой я должна разобраться, если хочу избавиться от своих недостатков.
Я скучала по маме, и доктор Ландау в какой-то мере заменила мне ее. Она не умела так хорошо слушать, как мама. Мы не сидели с ней на кухне за столом и не хохотали вдвоем над глупыми шутками. Но она изменила мою жизнь. Она не подбирала слов, а просто тихо слушала мой поток сознания, пытаясь направить его из мира фантазий в мир реальный.
Доктор Ландау понимала, что в мире помимо Дайан Холл живут и другие люди. Она хорошо знала людей и пыталась соотнести мои грандиозные ожидания от жизни с реальностью. Она считала, что реальная жизнь интереснее всяких фантазий, но я ее не слушала. Привольная жизнь ординарной особы никогда не привлекала меня. И, как ни старалась убедить меня доктор Ландау, у меня так и не вышло найти тихий приют в объятиях какого-нибудь мужчины.
В тот год я наконец съехала из студии с ванной на кухне и нашла себе новую квартиру на пересечении Семьдесят третьей и Третьей улиц. Я была за три тысячи миль от мамы – слишком далеко, чтобы чувствовать вину за то, что бросила ее одну. Я с головой погрузилась в работу, чтобы залечить раны, которые я сама же себе и нанесла, и удержаться подальше от туалета в конце коридора. Для меня на первое место вышла работа.
Моя карьера
В 1971-м я получила роль в сериале “ФБР” Ефрема Цимбалиста-младшего. И вот что я об этом помню: ни-че-го. Кроме того, что перед началом съемок продюсеры пробили меня по полицейской базе.
Кроме того, я была приглашенной звездой в популярнейшем сериале Майка Коннорса “Манникс”. Я появилась в эпизоде под названием “Цвет убийства”, где мне надо было произнести двухстраничный монолог. Я играла вооруженную пистолетом убийцу, которая с криками и воплями бегает по огромному складу, прежде чем сломаться и во всем признаться. Я была уверена, что не справлюсь с такой работой, и, разрыдавшись, попросила отдать роль кому-нибудь еще. Коннорс, по прозвищу “Тач”,[7] которым наградил его тренер Джон Вуден, когда Майк еще играл в баскетбольной команде Калифорнийского университета, попросил всех уйти с площадки. Он прошелся со мной по сценарию, и вместе мы отрепетировали сцену несколько раз подряд. Удивительный человек. Не всякий будет столь любезен, чтобы уделить время перепуганной начинающей актрисе. Майку уже восемьдесят шесть лет, а он до сих пор полон сил, бодр и влюблен в Мэри Лу, с которой они уже больше пятидесяти лет вместе.
В 1972 году вышел фильм “Сыграй еще раз, Сэм”, и я ухватила удачу за хвост – ну или так я думала в то время. К актерскому составу присоединилась Сьюзан Анспак, которая играла с самим Джеком Николсоном в “Пяти легких пьесах”. Она была загадочной и непонятной, и я никак не могла понять, в чем ее секрет, – пока однажды она не подошла ко мне и не посоветовала улыбаться поменьше. Чтобы морщины не появились.
Первый “Крестный отец” больше всего запомнился мне тем, что на его съемках я познакомилась с Диком Смитом, знаменитейшим гримером, и Ал Пачино. Это Дик придумал надеть на меня пятикилограммовый блондинистый парик, тяжелый, как мешок кирпичей. Я ненавидела этот парик почти так же сильно, как и красную помаду и костюмы с накладными плечами от Теадоры Ван Ранкл, в которые меня наряжали на съемках. Мне казалось, что моя внешность совершенно не соответствует моему персонажу – элегантной, богатой и ухоженной женщине. Я уверена, что, если бы не Ал Пачино, меня бы обязательно уволили. Дело в том, что “Парамаунт” буквально умоляли Копполу уволить Ала, пока не увидели сцену, в которой Майкл Корлеоне убивает капитана МакКласки. На фоне всех этих разборок моя бездарность прошла незамеченной. В конце концов, не так уж было и важно, заменят меня другой актрисой или нет, – я была всего лишь девицей в блондинистом парике.
С Пачино я впервые столкнулась в баре “О’Нилс” возле Линкольн-центра. За участие в спектакле “Носит ли тигр галстук” Ала тогда назвали “самой многообещающей звездой Бродвея”. Перед началом прослушиваний для “Крестного отца” нам с Алом велели познакомиться друг с другом. Я очень нервничала. Первым, что бросилось мне в глаза, был размер его носа – он у Ала был длинный, как огурец. Второе впечатление: какой он подвижный. Кажется, он тоже тогда нервничал. Не помню, обсуждали мы сценарий или нет. Помню только его отличный римский нос, расположившийся посередине интересного, неординарного лица. Помню, я еще подумала: жаль, что мы оба несвободны. Как бы то ни было, в последующие двадцать лет Ал не раз и не два заставлял мое сердце биться чаще.
В 1973 году я впервые снялась в фильме, режиссером которого выступил Вуди Аллен. Это была комедия “Спящий”, и все шло совершенно прекрасно вплоть до того дня, пока Вуди не решил, что его не устраивает одна из сцен. Он ушел в свой трейлер и вернулся спустя полчаса с абсолютно новым сценарием в руках. Его персонаж превратился в Бланш Дюбуа из “Трамвая «Желание»”, а мой – в Стэнли Ковальски, которого когда-то играл Марлон Брандо. Я общалась с Брандо ровно дважды. Первый раз – на чтениях “Крестного отца”. Второй раз – когда он прошел мимо меня на съемочной площадке и обронил: “Отличные сиськи”. Вряд ли этот опыт мог как-то помочь мне в работе над ролью. В конце концов мне пришла в голову цитата из “В порту”: “Я мог иметь занятие. Я мог иметь врагов. Я мог быть кем угодно вместо бродяги, которым я являюсь”. Я повторяла ее снова и снова, пока не выучила наизусть. В конце концов мы отсняли отличную пародию на “Трамвай «Желание»”. А у меня в голове навечно поселилась фраза “Я мог быть кем угодно вместо бродяги, которым я являюсь”.
“Крестный отец. Часть вторая”
Я в ужасе ждала, пока Фрэнсис и Ал репетировали сцену “Это был аборт”. Я твердила себе, что мне плевать на “Крестного отца” и Пачино, но это была неправда. Особенно в том, что касалось Ала. Он тогда встречался с Тьюзди Уэлд. Джилл Клейберг его больше не интересовала – как и многие прошлые увлечения. Ал стал знаменитостью, легендарным актером, звездой. Он был Майклом Корлеоне. Он был Фрэнком Серпико. К моменту репетиций мы с ним не разговаривали – не помню почему. То ли я чем-то его обидела, то ли еще что. Зато до этого мы с ним вполне дружески общались – я даже научила его водить, прямо на парковке отеля “Каль-Нево” у озера Тахо. Помнится, Ал все время путал тормоз с газом и никак не мог запомнить, как включать левый поворотник, а как – правый. Что еще хуже, он все время держал ногу на педали газа, сколько бы я ему ни твердила, что для остановки лучше все-таки нажимать на тормоз. Мы с ним тогда здорово посмеялись. Правда, понервничать тоже пришлось.
В каком-то смысле Ал всегда напоминал мне Рэнди – чувствительного настолько, что он не обращал внимания на окружающих. Странно, наверное, говорить такое про Крестного отца, но лично мне иногда казалось, будто Ала вырастила стая волков. Он был не знаком с некоторыми совершенно обычными концепциями – например, мысль о том, что можно ужинать в компании с друзьями, никогда не приходила ему в голову. Он всегда предпочитал есть дома один, стоя на кухне. Он не обращал внимания на людей за столом или на их беседы.
Как бы то ни было, мы отрепетировали сцену и все было хорошо. Когда Фрэнсис дал команду “Мотор!”, началось непредвиденное: Майкл Корлеоне вел себя не по сценарию. Например, выдал мне пощечину, которой изначально в сцене не было. Эта ничем не прикрытая жестокость – одна из причин, почему “Крестный отец” получился по-настоящему страшным фильмом: она скрывается под маской вежливости и формализма.
Недавно я ходила в кино на фильм, где снимался Ал, и снова влюбилась в него по самую макушку. И знаете, к какому выводу я в конце концов пришла? Очень хорошо, что его вырастила стая волков. Очень хорошо, что он не умел водить. Очень хорошо, что он не влюбился в меня и иногда взрывался без причины. Оно стоило того, чтобы оказаться с ним в одном кадре, лицом к лицу. Я была Кей – совершенно не похожим на себя персонажем, благодаря которому я чуть больше узнала Ала. Для меня все три “Крестных отца” – это Ал. Не больше и не меньше. Ну а Кей… Как бы ее описать получше? Женщина, которая ждет в коридоре разрешения войти в комнату к своему мужу.
ДИК СМИТ, 1974 ГОД
Сейчас раннее утро. Меня поселили в номере 404 в “Шератоне”, прямо в центре Лос-Анджелеса, напротив парка. Из номера открывается отличный вид. Тут эркерные окна, очень красиво. Внизу туда-сюда снуют люди. Вот подъехал Фрэнсис на лимузине, следом – Дин Тавуларис на “мерседесе”. А в паре кварталов отсюда в прошлую пятницу убили двадцать четыре человека.
Переживаю из-за сцены. Фрэнсис скоро придет, а я трясусь от страха. Дик Смит водит кистью перед моим носом. Надо заканчивать – он не любит, когда актеры ерзают в кресле, а уж тем более пишут. Интересно, с Марлоном Брандо он так же себя вел? Пахнет апельсином, который ест помощник Дика. Из кипящего чайника вырываются струйки пара.
ДИК СМИТ, 2011 ГОД
“Бельмонт-вилладж” – дом престарелых в Бербанке. Здесь живут дамы, которые ужинают в половине шестого вечера, дюжина ветеранов Второй мировой войны, несколько молодух шестидесяти с хвостиком лет, множество старичков за восемьдесят и артист, поэт и мой брат Джон Рэндольф Холл. На двери в однокомнатную квартиру Рэнди висит табличка: “НЕ ВХОДИТЬ. УЧУСЬ ДУМАТЬ”. И он правда учится.
Каждую субботу мы с Рэнди идем в кафе “Фостер Фриз” и берем по ванильному рожку. И каждую субботу мы встречаем Дика Смита, который сидит в кресле в холле. Дик Смит, знаменитейший гример и призер множества премий, тоже живет в “Бельмонт-вилладж”. На прошлой неделе Рэнди натянул свою шапку по уши, я тоже надела шляпу поглубже. Мы вошли в лифт вместе с Диком Смитом.
– Сними шляпу, – сказал он.
– Спасибо, Дик, но пусть уж остается на месте, – ответила я.
И тогда он протянул руку и сдернул шапку с головы Рэнди.
Дик всегда ненавидел головные уборы. Непонятно почему. Но мне непонятно и почему Гордон Уиллис, оператор “Крестных отцов”, ненавидел гримеров вроде Дика. Разумеется, и Дик тоже ненавидел Гордона. Может, мы с Рэнди напомнили Дику о Гордоне или Марлоне Брандо, знатном шутнике, и о том, как он их ненавидел? Слишком уж часто ужимки Брандо портили легендарный скульптурный грим. А может, Дику просто вспомнилась серая фетровая шляпа, которую Брандо нацепил для сцены смерти дона Вито Корлеоне.
Короче, неважно: Дик Смит все еще с нами и все так же ненавидит шляпы.
Брандо тоже никуда не делся. Девять лет назад я шла по коридору медицинского центра Калифорнийского университета, когда навстречу мне прошаркал Брандо, которого поддерживал помощник. На этот раз никаких комплиментов моей груди не досталось, Марлон меня даже не узнал.
Дик Смит, у которого недавно диагностировали болезнь Альцгеймера, видит меня каждую неделю. Но что он видит? Непонятную женщину с непонятным мужчиной, которые в шляпах идут по холлу его дома? Я знаю, что вижу я – дом, заселенный уникальными личностями, которые совсем скоро окажутся в месте, которое Дьюк называет “морем белых крестов”.
Любовь и смерть
Во время съемок фильма “Любовь и смерть” Вуди писал мне письма. Я была его “дорогим олухом”, он – моим “белым чудищем[8]”. У Вуди была спортивная, пропорциональная фигура, вот только он сам так не считал – ему его тело казалось нелепым и странным. Он постоянно бегал от доктора к доктору. Мы были странной парой – один скрытнее другого. Мы оба носили шляпы, и на улице он всегда держал меня за руку – вернее, хватался за нее. Мы избегали людей, зато любили мучить друг друга, тыкая лицом в наши неудачи. Вуди был остер на язык – так же как и я. Мы расцветали, изобретая друг для друга все более невероятные эпитеты. Он прекрасно понимал меня и всегда знал, как подколоть. Наша тесная связь и сегодня продолжает лежать в основе нашей дружбы и – с моей стороны – любви.
Привет, червячок,
Времени на репетиции меньше, чем было в Л. А., но вроде бы хватает. В любом случае “Любовь и смерть” – фильм попроще “Спящего”, тут нет такого количества всяких ужимок, падений, трюков и прочего… Надо написать нам реплики – живенькие и остроумные, но к этому мы еще дойдем… Вот так вот, дурила… Скоро увидимся.
Я закончил первый черновик для двух пьес. Ура! Еще моя книжка “Сводя счеты” стала хитом во Франции. Можешь себе представить?
Ты у меня настоящий цветочек, слишком нежный для нашего жестокого мира & Дорри тоже цветочек & твоя мама тоже цветочек & твой папа – овощ & Рэнди тоже по-своему цветочек & Робин – кошка. А я – сорняк.
Позвоню.
ВудиПривет, червячок,
В аварийном порядке избавляюсь от носков в чемодане, чтобы вместить туда пачки семян подсолнуха одной дурилы. Угадай, кого я имею в виду? Ты, дружочек, мой крест.
Все говорят, что я гений – но тебе-то виднее, да, вислокрылка ты моя? Ты уверена, что никто не перенял твою манеру называть меня “белым чудищем”? И прочими словами, совсем не похожими на слово “гений”? Меня терзают эротические сны, в которых принимаешь участие ты и огромный бюстгальтер, говорящий по-русски.
Гениальный остряк и хороший парень ВудиДорогая садовая голова и олух,
Я решил, что твоя семейка сделает меня миллионером. Из вас выйдет отличный материал для фильма, причем серьезного – не смотря на то что одна из сестер в нем ужасная дурила и кривляка. (Попробуй угадать, кого я имею в виду!) Я не стал писать тебе длинное письмо – все равно ты скоро сама приедешь в Париж. Интересно, мое семейство кажется тебе таким же странным, как мне – твое? Какими тебе видятся мои мать и отец? Трудно представить. Слепой оценивает красоту слепого. Кстати, прошлой ночью мне приснился сон про меня и маму – впервые за долгие годы. Интересно, почему? Я во сне рыдал и жевал простыню.
Шучу – на самом деле мне приснилось, как я ем у нее вареную курицу, которая на вкус была еще хуже простыни.
С любовью от великолепного мистера А., человека, чей юмор исцеляет миллионы
С горы под откос, 1975 год
Сижу перед телевизором в голубом с оборками халате и в горячих бигуди – и все это ради того, чтобы прилично выглядеть, когда я отправлюсь на работу, которая отнимает у меня ровно один день в неделю. Ну почему я такой конформист? Почему всегда ношу платок на шее? Почему всегда слежу, чтобы ни один волосок не выбивался из прически? Почему туфли у меня всегда подходят к брюкам? Почему улыбаюсь фальшивой улыбкой прохожим? Почему и зачем все это? Не знаю. Сижу, допиваю утренний кофе, делаю последнюю затяжку “Парламента”, а у самой ощущение, будто на меня бетонная плита давит. И я ведь даже не курю. Почему, зачем все это?
Прошлым вечером опять была эта неловкая, гнетущая тишина. Проклятье. Я прямо излучаю неуверенность в себе. Я – никто, и всем на меня наплевать. Люди смотрят на меня и видят женщину, которая катится с горы под откос – ей ведь уже почти 55! Мозг работает все хуже. Больше всего боюсь, что меня предаст мой мозг. Я старая и злая и ненавижу весь мир вокруг. Мне и самой это не нравится. Надо поменьше пить.
Все началось на Пасху. Мы с Джеком поехали к Мэри – помочь ей с налоговой декларацией. Разумеется, только открыв дверь, она начала поносить на чем свет стоит наше правительство. Джек несколько часов провел, разбираясь с ее бумагами, пока она изрыгала проклятья в адрес чиновников – а все из-за того, что проигнорировала несколько писем с требованием выслать декларацию за этот год. Джек не единожды предупреждал ее, что с налогами шутки плохи, но Мэри его просто не слушает.
– Пусть приезжают, пожалуйста! – расходилась все пуще она. – Я их не боюсь! Прикинусь дебилкой, вот что. И пусть делают что хотят.
– Черт побери, мам, прекрати! – разъярился Джек. – Я устал уже все это выслушивать, дай мне закончить, и мы поедем.
Я захватила с собой рагу, но Мэри и его обругала. Говорит, что мягкую говядину можно найти только в Айове. Ну а еда в Лос-Анджелесе – и вовсе отрава, там только в буфетах и можно питаться. Потом начала костерить Рэнди и его поэмы.
– Да о чем он вообще пишет? Кто вообще в здравом уме будет писать стихи о сельдерее? Там же ничего не понять! Я не знаю, о чем его стихи! Бред какой-то. – И, чтобы продлить мои мучения, она добавила: – А Робин занимается чем-то еще, помимо того, что смотрит за умирающими стариками? А Дорри нравится этот Питер, да? Он вообще какой национальности? Не из наших? И с чего это Дайан улетела в Нью-Йорк прямо перед Пасхой? Она что, уже не хочет провести праздники с семьей? По-моему, она ненавидит летать – вся в Джека. Мда, мир уже не тот, что прежде.
А я… Я все это время думала: что же с нами случилось? Мы ведь раньше на Пасху были такой дружной семьей. Я шила детям новые наряды, мы шли в церковь. Я готовила праздничный ужин. Мы все собирались вместе – и Дорри, и Рэнди, и Робин, и Дайан… Как же все поменялось. Думая о своих детях, я вспоминаю, какими маленькими крошками они когда-то были. Я никогда не смогу выразить словами то, что они для меня значили.
Когда наконец вернулись домой, позвонила Дорри и сказала, что не приедет. Я попыталась сесть за книгу, но из головы не шел ее звонок: почему она не захотела приехать ко МНЕ? Я попыталась выбросить эти мысли из головы. Начала думать, что можно было бы сделать, но потом решила, что лучше ничего не предпринимать. Я все думаю: я ведь совершенно не приспособлена к этой жизни. Значит ли это, что никто не будет особо по мне горевать? Как бы то ни было, я семье уже не нужна. Они больше не советуются со мной. Скорее наоборот: я потихоньку превращаюсь в того, за кем они вынуждены будут присматривать. Им со мной неинтересно, и все это привело к тому, что я стала страшно неуверена в себе. Я чувствую свою ничтожность, и мне не с кем поделиться своими мыслями – абсолютно не с кем. Я довела себя до ужасного состояния. Я словно в болоте. Пытаюсь поговорить с Джеком, но это бесполезно. Ему плевать, он не желает меня слушать.
В глубине души я лелею мечту бросить все, уехать и делать только то, что я хочу. Почему я не могу так поступить? Все лучше, чем ездить с Джеком на залоговые аукционы, как на прошлой неделе. Всю дорогу по радио передавали кошмарные новости об Иди Амине, убивающем оппозиционеров в Уганде. Я спросила у Джека, где кнопка настройки частоты радио, а он все показывал мне на кнопку выключения.
– Да вот же она, Дороти! ВОТ!
– Не кричи на меня!
– Я и не кричу, – ответил он, и в машине повисла тишина.
Мы молча ехали мимо торгового центра “Саут Кост”, где рядом с “Баллокс” строят модный магазин “А. Маньин”. Молча ехали через Лонг-Бич, мимо Дауни, мимо городской ратуши, сквозь Торранс. Когда мы подъезжали к “Магнолии”, я краем глаза увидела перевернувшийся грузовик, но сама так кипела от злости, что даже не обратила на него особого внимания. Я думала только о том, что больше не могу жить, следуя установленным Джеком правилам. Меня тошнит от разговоров о недвижимости, налогах, продажах, деньгах, деньгах и еще раз деньгах. Мы проехали мимо указателя на “Мотель 6”, мимо лютеранской церкви, синагоги, магазина подержанных автомобилей с парковкой, заставленной “тойотами”, “фордами”, “чеви-вегасами”, “датсанами” и прочими машинами. И все это время мы молчали. Проехали мимо автомобиля, водитель которого пытался начесать себе волосы торчком. В аэропорту сел самолет. На улице стояла ужасная жара. Аукцион начался в десять. Я хотела домой.
Я сама создала это одиночество. Я не помню, чтобы мне когда-нибудь было так плохо. Я всегда скрывала свои чувства и эмоции. Теперь даже мелочи, совершеннейшие мелочи выбивают меня из колеи. Я больше не вижу света, меня поглотила тьма. Раньше я боролась, пыталась как-то предотвратить такие приступы. Научилась отлично прикидываться. Я говорила себе: у меня нет депрессии, нет-нет-нет. Я врала, обманывала сама себя, делала все что угодно, только бы выглядеть нормальной. Когда рядом были дети, я была внимательной, любящей, заинтересованной матерью. Когда с работы приходил Джек, я начинала прикидываться: в ход шли фальшивые слова и фальшивые действия – все что угодно, чтобы нарисовать ему картинку спокойной тихой гавани.
Однажды мне кто-то сказал, что у меня в доме никто ни на кого никогда не повышает голос. Смешно, но тогда я сочла это комплиментом себе как хорошей матери.
И наконец…
Запись наверняка получится странной, потому что я не собираюсь врать. Вернее, опускать подробности и детали, как я это обычно делаю. Я сижу перед камином и чувствую, как полыхает жаром огонь, в котором догорает один из наших стульев из столовой. Меня немножко трясет, но в целом я соображаю нормально. Стул почти догорел. Ну и плевать. Прошлой ночью все фотографии в рамках оказались на полу, теперь кругом осколки стекла. На ковре валяются цветы, которые прислала Дайан. На столе – большая щербина. У меня ссадины на лице, на руках и ногах – почти черные синяки. Что с нами такое происходит, ЧЕРТ ПОБЕРИ?
Я не умею выпускать пар, как Джек. Вот почему нам с ним плохо вдвоем. Моя ярость переходит в несносную холодность, которая доводит его до ручки. Не знаю, почему я все время испытываю Джека. Это уже выходит за всякие рамки. Например, он говорит, что салат в “Коко” был вкусный. Я молчу – потому что он не добавил “но не такой вкусный, как твой”.
– Ты подстригла кусты в саду? – спрашивает он.
– С чего это ты вдруг интересуешься? – отвечаю я.
– Где хочешь поесть? – спрашивает он.
– Не знаю, – отвечаю я.
– Может, в “Диллманс”? – спрашивает он.
– Мы всегда идем туда, куда ты хочешь, – отвечаю я.
– По телевизору сегодня интересная передача, – говорит он.
– Да, я читала обзор, – отвечаю я.
– А что на ужин? – спрашивает он.
– Тебе понравится, – отвечаю я.
– Типичный твой ответ, – говорит он, и я весь вечер киплю от ярости.
Не знаю, сколько раз я себе уже твердила, что мое счастье – только в моих руках.
Джек оставил записку: “Очень надеюсь, что ты от меня уйдешь”. Я позвонила и сказала, что с удовольствием, как только он узнает, как это можно провернуть.
ДЕРЬМО. Как я зла. Меня никто не понимает, и я знаю, что лучше уже не станет. Когда я думаю о Джеке, внутри я вся словно подбираюсь. Я НЕ ХОЧУ жаловаться. Я НЕ БУДУ жаловаться. Но я ХОЧУ лучшей жизни. Это мое право и, как это ни смешно звучит, моя ответственность. Мне нужно что-то другое. Я всю жизнь провела, работая для своей семьи, и теперь мне нужны другие люди вокруг. Я не могу целый день одна слоняться по дому, я схожу с ума. После вчерашнего мне подумалось, что я бы предпочла убить себя, чем потерять разум.
От Дайан
Мам, твой мозг выдает тебе целую кучу негативной информации, за которую ты держишься изо всех сил. Хватит корить себя и всех вокруг, в том числе папу. Я понимаю, это трудно, но ты попробуй все-таки представить, как он рос – в доме без отца, где всех интересовали только деньги, а в мамаши ему вообще досталась Мэри Элис Холл. Ясное дело, что при таком детстве из папы просто не мог вырасти спокойный человек либеральных взглядов. Я прекрасно помню, как он приходил с работы и одним своим появлением разрушал волшебство, которое царило у нас в доме. Папа всегда был врагом, которого мы держали поближе, – не только для тебя, но и для всех нас.
Общество всегда одобряло таких как он – деловой бизнесмен, образованный инженер, активная личность. Ты избрала другой путь. Ты читаешь книги Вирджинии Вулф, утопившейся в реке, и Энн Секстон, закрывшейся в машине с включенным двигателем. Ты ценила красоту слова, ты была прекрасна, обворожительна и привлекательна – но тебе этого не хватало. К 1975 году твоим единственным другом стал твой дневник. Наше семейство развалилось на отдельные кусочки. Я понимаю, что ты писала свою историю, но разве обязательно было делать ее такой мрачной? Я читала и не могла понять: когда же появится свет в конце туннеля?
Если бы я сказала тебе, как люблю твой смех, ты бы стала больше гордиться собой? Если бы еще в детстве я дала тебе понять, как горжусь тем, что моя мама – бывшая “Миссис Лос-Анджелес”, это что-нибудь изменило бы? Если бы ты знала, как бежала я домой в тот день, когда Дейв Гарленд ткнул пальцем в мой поролоновый лифчик и начал надо мной смеяться, ты бы поняла, что была абсолютно и совершенно незаменимой? Если бы я напомнила, как здорово было сидеть на кухне и смотреть, как ты готовишь себе сэндвич с пшеничным крекером, чеддером и маринованным огурчиком, это что-нибудь изменило бы?
Помнишь, как по средам мы вечерами ездили по центру Санта-Аны после закрытия универмага “Баллокс”? Помнишь, как я сидела на пассажирском сиденье и высматривала для нас “сокровища”? Помнишь, как искала их в мусорных баках? Было ли тебе так же весело, как и мне? Нравилось ли тебе “стоять на стреме”, пока я затаскивала ту отличную полочку для ванной в багажник? Она ведь идеально подходила для нашей ванной, помнишь? Как и ты. Ты идеально подходила для нашей жизни. Разве могло быть что-то лучше, чем ехать с тобой домой в нашем “бьюике”? Ты превращала обычный день в совершенно волшебный. Помнишь, как ты рассказала мне о новом магазине в Ла-Мираде, где можно было купить все те же вещи, что и в “Баллоксе”, но в четыре раза дешевле? Помнишь, как я мучилась, когда меня не позвали в “Зета-Ти”, второе по крутизне девчачье сообщество в школе, а Лесли позвали? Ты сказала тогда, чтобы я набралась терпения. “Зета-Ти” подождет. Кроме того, туда входили девочки из не очень благополучных семей – ведь это там одна из самых популярных их членов недавно залетела?
Или когда ты вдруг говорила:
– Дайан, смотри! Смотри скорее, Дайан! – и показывала на обычного мальчишку на велосипеде, проезжающего мимо пиццерии.
В этом не было ничего необычного, и все же что-то в этом было. Обычный мальчишка на велосипеде, а ты умудрилась сделать так, что я не могу его забыть – а тогда он и вовсе смог отвлечь меня от неудачи с “Зета-Ти”.
Ты хоть раз похвалила себя за то, что у тебя есть необычайный дар – быть собой? Мне жаль, что тебе всю жизнь не хватало похвалы. Я понимаю, что ты ожидала другого. Ты ведь бывала такой азартной, такой заводной. Хотелось бы мне повернуть время вспять и все исправить, чтобы ты не чувствовала такое разочарование в жизни, чтобы все твои горькие воспоминания разом заменило воспоминание о наших поездках по средам.
Твои записи в дневниках – они помогли тебе или только сделали все хуже? Если бы только у нас был второй шанс, да, мам? Если бы мы только могли исправить ошибки прошлого. Куда бы это нас привело?
Теперь я совсем одна и пишу свою автобиографию, которая одновременно и твоя автобиография тоже. Не знаю, одобрила бы ты это мое решение или нет? Может, я показываю тебя вовсе не такой, какой ты была на самом деле? Мне уже никогда не узнать всей правды. Могу только надеяться, что ты бы простила меня – за то, что я выволокла мучивших тебя демонов на всеобщее обозрение. Но ты так прекрасно писала о своих мучениях. Ты бы и сама захотела, чтобы я ими поделилась, правда? Я очень на это надеюсь. Надеюсь, мне еще не поздно попытаться понять, что же ты тогда переживала.
Приоритеты, апрель 1975 года
День первый. Чувствую прилив энергии. День второй. Появилась мотивация. День третий. Стала энергичней. День четвертый. Моральный дух на подъеме. День пятый. Работаю над собой, пытаюсь стать лучше. День шестой. Убираю все лишнее. День седьмой. Моральный дух ВЫСОК как никогда. День восьмой. Я себе нравлюсь. День девятый. Я занимаюсь осмысленными вещами – я мыслю логично – я двигаюсь с грацией и легкостью. День десятый. Я люблю себя – я прекрасна как в душе, так и на лицо. День одиннадцатый. Я не чувствую удушья в присутствии Джека. День двенадцатый. Я прекрасный человек и умею держать себя в руках. День тринадцатый. Я выказываю любовь и полна самообладания. День четырнадцатый. Я – нечто большее. День пятнадцатый. Готова к восприятию чужих комментариев – понимаю, что не знаю ни их реальных намерений, ни их реальных мыслей. День шестнадцатый. Ментально готова дать отпор. День семнадцатый. Я позитивна. День восемнадцатый. Стараюсь вызывать в людях лучшее. День девятнадцатый. Посылаю Дайан, Рэнди, Робин и Дорри мысленные флюиды. День двадцатый. Джеку тоже. День двадцать первый. Ценю свои творческие порывы. День двадцать первый. Уничтожаю негативные мысли и соответственно реагирую на происходящее. День двадцать третий. Горжусь силой своего духа и тем, как я выросла. День двадцать четвертый. Верю, что духовность делает жизнь вокруг проще. День двадцать пятый. Я стройная, вешу всего 61 килограмм. День двадцать шестой. У меня кризис среднего возраста, с которым я справляюсь. День двадцать седьмой. Я чутко реагирую на нужды окружающих. День двадцать восьмой. С каждым днем становлюсь мудрее. День двадцать девятый. Я пожинаю плоды того, чем я себя окружаю. День тридцатый. Делаю окружающую жизнь богаче. День тридцать первый. Развиваю разум, чтобы и дальше стремиться к истине.
Дни недели
Воскресенье, 2-е: ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Понедельник, 3-е: ХУДЕТЬ
Вторник, 4-е: ПРОДАТЬ ДОМ НА КОЛЛИНС-АЙЛЕНД
Среда, 5-е: ПЕРЕЕХАТЬ В ХОРОШЕЕ МЕСТО
Четверг, 6-е: ЗАВЕСТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ
Пятница, 7-е: ПОДДЕРЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ СО СТАРЫМИ
Суббота, 8-е: ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
Воскресенье, 9-е: РАЗВИВАТЬСЯ КАК ЛИЧНОСТЬ
Понедельник, 10-е: ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ
Вторник, 11-е: ГОТОВИТЬ
Среда, 12-е: НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
Четверг, 13-е: О СЕБЕ
Пятница, 14-е: МЕНЬШЕ ПЕРЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА ПУСТЯКОВ
Суббота, 15-е: СМЕЯТЬСЯ
Воскресенье, 16-е: БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ
Доротизмы
Прожив всю жизнь с Джеком Холлом и его верой в “позитивное мышление”, Дороти создала свой собственный список жизнеутверждающих слоганов, призванных победить депрессию. Все эти афоризмы преследовали одну цель: сделать так, чтобы ей стало лучше. Этот год должен был стать не таким, как предыдущий. Этот год – год “дней недели” и списков “За что я благодарна”. Выписывая по порядку хлесткие фразочки, больше похожие на мольбы, – все равно что молиться великодушному и добродушному богу, который ценит повторения. Мама организованно подошла к решению своих проблем и аккуратно классифицировала поговорки, афоризмы и изречения по темам или в хронологическом порядке. Она не собиралась скатываться в хаос и собирала любые крупицы мудрости, придерживаясь только ей известной методы.
Она никому не рассказывала о своей коллекции. Думаю, в глубине души мама понимала, что ее способы “лечения” лучше под пристальным светом не изучать. Например, написав: “Делаю окружающую жизнь богаче”, – мама никак не развила эту мысль и не стала ее анализировать. Да и зачем? Она была достаточно умна и была своим самым жестким критиком. Она знала, что, задумайся она об этом, ее постигнет разочарования. Список отобранных мамой банальностей становился все длиннее и длиннее, пока не превратился в “Забытый список” – позабыв, что уже в него включено, мама могла изучать его с радостью неофита – так, будто на дворе вечно стоял первый день первой недели первого месяца 1975 года.
Нас с мамой преследовали одни и те же демоны: мы боялись провала, боялись осуждения окружающих, боялись сравнений. Мы страдали от низкой самооценки. Клише Дороти были чуть более здоровой версией моих встреч с унитазом. “Сделав свое дело”, мама чувствовала себя гораздо лучше – совсем как я после рвоты. Но чтобы прожить еще один день и день после него, нам приходилось прибегать к своим “лекарствам” снова и снова. В детстве мама видела, как ее подружка Джин Катлер сто раз пишет на доске фразу “Я не буду клеить жвачку под парту”, и намотала это на ус. Ее сотню раз повторенное “Я повышу свою самооценку” пригодилось ей гораздо позже в жизни.
Расписывая свои достижения или шаги, которые ей следует предпринять для повышения самооценки, мама сумела пережить самое темное время своей жизни. Интересно, изменилось бы что-то, будь у нее хоть какая-то публика? Мама всегда была себе лучшим другом. Оценивая себя как мать, она сумела немного сгладить ухабы на своем пути, но так и не поняла, куда же ей двигаться дальше. Дороти – хорошая девочка, хорошая мать, но не всегда хорошая жена – не знала, как ей играть свою роль. Вместо этого однажды она вызвала грузовик и на месте старого дивана появились новые уютные кушетки с льняными чехлами, а потом посадила перед окном герань. И писала бесконечные списки ободряющих фраз. Вот и все. И никому, кроме Джека, об этом не рассказывала.
Другая сторона той же монеты
Мама рано приняла важное решение выйти замуж. Я поздно приняла решение завести детей. Дороти в пятьдесят четыре года оказалась на пустой лужайке, с которой убежали все дети, совершенно одна и с перспективой провести в таком же одиночестве еще тридцать два года.
Мне шестьдесят пять, о лужайке не идет и речи, но я не одна. У меня нет свободного времени – все оно уходит на то, чтобы делать то, чего я раньше не делала, – быть матерью. Я на одиннадцать лет старше, чем Дороти, когда та выписывала в столбик способы не сойти с ума, и я ношусь повсюду, словно курица с отрубленной головой. И мне это нравится. Очень. Мне сложно представить себе жизнь без вечно ломающегося телефона Декстер или сортирных шуточек Дьюка, которыми он засыпает меня, пока я отвожу его из бассейна домой. Мы вместе подпеваем последней песенке Кэти Перри, и каждый раз, когда мимо проезжает “фольксваген”, Дьюк шлепает меня по руке – и мы радостно смеемся. Декстер и Дьюк изменили мою жизнь. Люди говорят, им повезло, что я стала их мамой. Честно говоря, не очень понимаю, что они имеют в виду. Это ведь мне повезло больше всех. Они спасли меня от меня самой. Странно, правда? Сегодня моя жизнь во многом неотличима от жизни, которую вела моя мать в середине двадцатых, тяжело трудившаяся на благо своей семьи.
В 2001 году п.д. (после Дьюка) я составила свой первый и последний список. Это была вынужденная мера, и я озаглавила его просто: “Сделать!”. В суматохе тех дней я не могла позволить себе о чем-нибудь или о ком-нибудь забыть. У меня не было времени на размышления и рассуждения. Мне надо было столько всего “сделать!”.
Сделать! Ноябрь 2010 года
1. Указатель собираются закончить ко вторнику. Вопрос в том, подойдет ли он по цвету к стене дома Ллойда Райта? Буквы на указателе чуть ли не по два метра высотой! Надо узнать, говорили ли соседям о мусорных баках. И сказал ли кто-нибудь Стефани Б., что капуста в ее огороде выглядит довольно странно на фоне нашего типично калифорнийского пейзажа. Эти темно-фиолетовые кочаны – странное зрелище. Знаю, что лучше бы об этом не заикаться, это не лучшая идея.
2. Нужно сдать главу про 1969 год, чем раньше, тем лучше.
3. Позвонить Биллу Робинсону. Соскучилась по нему, Джонни и малышу Дилану. Надо поддерживать с ними связь, а как – не знаю. Именно из-за Билла я когда-то удочерила Декстер, а теперь они с Джонни усыновили Дилана и совсем пропали. Нью-Йорк все-таки очень далеко. Надо ему позвонить.
4. Узнать, когда выйдет в печать статья в “Т”.
5. Спросить у Дорри, не согласится ли она за вознаграждение раздобыть плед в стиле навахо? Она из тех, кто знает все ходы и выходы.
6. Как я могла проворонить собрание по подготовке к девятому классу? Ужас, уже бегу! Поехать по шоссе 405 или по Малхолланд-драйв? Начало в два. Еще обсудим.
7. Стефани, признавайся – сколько километров на самолете мне придется намотать для лекционного тура “Каждая жизнь уникальна”? С кем мне порепетировать речь? Не с Джессикой Ковачевич – я ее и так уже замучила. Что-то я нервничаю. Вряд ли мне удастся запомнить речь, если я буду носиться колбасой по Беверли-Хиллз. Разумеется, как только я перешла к последней части – где я пою “Как в старые добрые времена”, – мимо проехал автобус с туристами. Кошмар, выгляжу полной идиоткой. Я вообще смогу произнести эту речь? Она вообще имеет смысл? Только честно. Есть что-то странное в том, чтобы произносить речь про саму себя. Это слишком! Напоминает мне автобиографию Кэтрин Хепберн под названием “Я”.
8. Дьюк приготовил кофе для Джимми, мойщика машин. Он, кстати, уже выписался из больницы. Рассказал удивительный факт: оказывается, единственным симптомом воспаления желчного пузыря, который ему пришлось удалить, была дикая икота. Спросил, не пожертвую ли я немного средств в фонд их команды по боулингу. Наверное, соглашусь. А Дьюк так гордился собой! Во-первых, ему удалось сварить кофе, а во-вторых, он повел себя как щедрый человек.
9. Начиная со вторника я отвожу Декстер на тренировки в бассейн к 4:45 утра – значит, могу сидеть в машине и работать над автобиографией. Ничего не успеваю. Что же делать? Ну хотя бы два часа можно поработать спокойно, ни на что не отвлекаясь. “Старбакс” открывается в 5 – кофе мне не помешает.
Что касается Дороти
Я благодарна круглой прекрасной луне, светившей вчера вечером.
Я благодарна за выходные, которые мы с Джеком провели в Охайе.
Я благодарна за хорошее расположение духа, посетившее меня без всякой причины.
Я благодарна за друзей, отвечающих на мои письма.
Я благодарна за работу в книжном магазине “Хантер”.
Я благодарна за независимость, которая пришла ко мне вместе с заработком.
Я благодарна за порядок в своих мыслях.
Я горжусь, что я – Дороти Д. Холл.
Любить Джека
№ 1. Я радуюсь, когда вижу его.
№ 2. Мы оба понимаем, как важны друг для друга.
№ 3. Прошлым вечером мы держались за руки, смотрели друг на друга и ощущали любовь.
7. Ди-Энни Холл
Звоночек, 2009
Провела в Нью-Йорке полтора месяца на съемках фильма “Доброе утро” и теперь возвращаюсь в Лос-Анджелес. Пришлось встать в три часа ночи, теперь кружится голова. Подхожу на полусогнутых ногах к своей кофеварке, дожидаюсь, пока тьма в глазах немного рассеется и думаю о первом дне съемок. Снимали сцену, где я в толстенном костюме понарошку сражаюсь с борцом сумо. И вдруг – бац! – я уже на каталке. Следующая врезка – бац! – на мне шейный корсет. И еще – бац! – мне делают МРТ. Здорово я тогда упала.
По-моему, медсестры каждые три часа заглядывали ко мне просто удостовериться, что я жива. Я же вспоминала о несчастной Наташе Ричардсон, разбившейся на горном курорте, и думала о том, какая же я везучая. А еще о Дьюке, который спросил, не потеряла ли я память. И о своих коллегах. О режиссере Роджере Мичелле, огромном, как медведь, о красавице Рейчел Макадамс, о легендарном Харрисоне Форде. В прошлом году он заработал благодаря фильмам в прокате 65 миллионов, обогнав даже Джонни Деппа, – не так уж и плохо для шестидесятипятилетнего актера. Это целая куча денег. Подумав о деньгах, я тут же начала тревожиться – совсем как папа когда-то. Переживаю из-за Эмми, нашей семилетней собаки, которая любит полакомиться на прогулке экскрементами. Переживаю из-за Рэнди и его печени, переживаю за Райли, дочку Робин, и ее малютку Дилана. Переживаю за Дьюка, который не умеет соблюдать границы, и за Декстер, которая уже совсем девушка. Переживаю за антикварный магазин Дорри. Но больше всего переживаю за себя – сколько я еще так протяну? Подумав об этом, я тут же переключаюсь на размышления о туре “Каждая жизнь уникальна”, с которым я на автобусе объехала Миннеаполис, Демойн, Бостон, Торонто, Монреаль и Денвер. Как же будут без меня все эти женщины, которые приходят на лекцию Дайан Китон, чтобы услышать, что она думает о жизни после шестидесяти? Помню, как-то мы со Стефани Хитон (не путать с Китон) заехали на самую большую в мире стоянку для грузовиков, чтобы выпить кофе, и я подумала: ну да, я не Харрисон Форд. Зато у меня жизнь интересная.
Пробираясь с чемоданом по коридору, я начинаю размышлять о том, что ждет меня в Лос-Анджелесе. Опять школа у детей. Дьюк пойдет в третий класс, Декс – в восьмой. И когда они только успели вырасти? Потом начинаю думать о реставрации дома авторства архитектора Райта, который я успела купить до рецессии, и о том, что после прорыва канализации во всем квартале непросто будет продать родительские два дома на берегу океана. Дорри против продажи, Робин – за, Рэнди – все равно.
Решаю быстро подкрасить губы и вспоминаю, как гуляла вечером босиком по Центральному парку с Дьюком и Декстер. Они катались с горок и хохотали, а я смотрела на светлячков. Интересно, в следующем году Декстер уже не будет вести себя как маленькая?
Вспоминаю, как Дьюк сидел со мной в театре и смотрел “Билли Эллиота”. Жаль, что я уже не живу в Нью-Йорке.
Вспоминаю, как мы с Декс стояли в очереди в магазине “Аберкромби и Фитч” – она витала в облаках, думая о мальчиках, любви и поцелуях.
Вспоминаю, как по утрам мы катались на великах по Бруклинскому мосту, одному из красивейших сооружений в самом прекрасном из городов страны.
Вспоминаю мост на Пятьдесят девятой улице в фильме “Манхэттен” и квартал бежевых каменных домов, по которому мы с Вуди гуляли во время съемок “Энни Холл”. Я не хочу уезжать из Нью-Йорка, я хочу остаться здесь навсегда. Хочу вернуться назад, в день, когда я так же встала в три ночи – чтобы поехать на первый день съемок безымянного пока фильма Вуди Аллена в 1976 году.
Энни Холл
Алви: Тебя подбросить?
Энни: А у тебя что, есть машина?
Алви: Да нет, я думал взять такси.
Энни: Не надо, спасибо, я на машине.
Алви: У тебя есть машина? А почему… Если у тебя есть машина, почему ты спросила, есть ли у меня машина, как будто хотела, чтобы тебя подвезли?
Энни: Нет-нет, я не это имела в виду… Вот мой “фольксваген”. (Себе под нос.) Вот ведь придурок. (Обращаясь к Алви.) Тебя подвезти?
Алви: Конечно. А куда ты едешь?
Энни: Я? В центр.
Алви: В центр… а я нет.
Энни: Ты знаешь, мне тоже в центр, в общем, не нужно.
Алви: Но ты же сказала, что едешь в центр.
Энни: Да, но я вполне могу и…
Работа в радость
Работать над “Энни Холл” было легко и приятно. В перерывах Вуди вытаскивал из кармана пачку “Кэмел”, засовывал сигарету в рот, выдувал кольца дыма и никогда не затягивался. Никто не ждал от фильма ничего особенного. Мы просто дурачились и отлично проводили время на фоне прекрасных нью-йоркских пейзажей. Разумеется, Вуди переживал из-за сценария – не слишком ли он похож на серию “Шоу Мэри Тайлер Мур”? Я велела ему расслабиться и не сходить с ума.
Если Вуди чем-то не нравилась сцена, он делал то же, что и обычно: переписывал ее от и до, пока Гордон Уиллис выстраивал кадр. Из-за постоянно меняющегося сценария частенько приходилось переснимать и уже готовые сцены. Сам Вуди не особенно церемонился со своими придумками и безжалостно вырезал все лишнее. Его решение пригласить к участию в съемках Уиллиса оказало решающее влияние на качество фильма. Вуди, как и многие веселые в жизни люди, относился к жанру комедии с долей презрения. Его отличие состояло в том, что он использовал этот подход, чтобы сделать “Энни Холл” непохожей на все остальные комедии. Заполучив Гордона, Вуди перестал бояться ночных съемок, научился делать раздельные кадры и флэшбеки – вставки из прошлого. Гордон научил его выстраивать кадр так, чтобы без крупных планов привлечь внимание зрителя. В комедии такие приемы раньше никто не использовал. “Энни Холл” получилась невесомой, легкой и изящной.
Как режиссер Вуди работал так же, как прежде: предпочитал естественные диалоги, просил актеров двигаться, как они двигаются в обычной жизни, и не придавать особого значения словам. Кроме того, он решил, что на съемках этого фильма актеры сами будут решать, как одеваться. И я с радостью повиновалась. Я придумывала наряды для Энни, разглядывая модных жительниц Нью-Йорка, – именно в толпе я впервые заметила комбинацию из штанов-хаки, жилета и галстука. Шляпу я подсмотрела у Авроры Клеман, девушки Дина Тавулариса, которая однажды пришла на площадку “Крестного отца” в шляпе-болеро, сдвинутой низко на лоб. Шляпа Авроры придала образу Энни законченный вид. Аврора всегда была очень стильной женщиной, как и многие жительницы Сохо в середине семидесятых. Именно они и были костюмерами для “Энни Холл”.
Впрочем, это не совсем так. На самом деле костюмером тут был Вуди – каждая идея, задумка, каждое решение зарождалось именно в голове Вуди Аллена.
Премьера, 27 марта 1977 года
Во время премьеры “Энни Холл” мы с Джеком держались за руки. Показ состоялся в последний вечер фестиваля “Филмекс”. На улице громыхали фейерверки и все было залито огнями. В зале оставались места только в первом ряду, но мы предпочли сидеть в проходе на ступеньках. Энни Холл. Не знаю насчет Энни – я видела в фильме Дайан. Ее поведение, ее выражение лица, ее волосы, ее манеру одеваться. На сюжет я обращала не так много внимания. Когда она запела “It Had to Be You”, а публика в фильме не обратила на нее никакого внимания, я с трудом сдержала слезы. Песня “Seems Like Old Times” меня почти доконала – я не знала, выдержу ли или разревусь прямо на месте. Дайан была такая красивая. Гордон Уиллис все-таки – прекрасный оператор. Дайан говорила, что сама выбирала для фильма одежду. Я бы это и так поняла, только взглянув на мешковатые штаны и серую майку. “Энни Холл” – это история любви, очень похожая на правду. Неуверенная в себе Энни с вечной жвачкой во рту – вылитая Дайан. Сама история мне тоже понравилась – нежная, смешная и грустная. Счастливого конца там не вышло – совсем как в реальной жизни.
Семья Холл, изображенная в фильме, заставила нас расхохотаться. Особенно хорошо вышел Дуэйн – “наш” Рэнди. Персонаж Вуди все никак не мог понять, в чем заключаются проблемы Дуэйна. Коллин Дьюхерст мне не очень понравилась. Бабушка Холл вышла карикатурной, да и Джека они изобразили тоже так себе. Правда, публике понравилось. На протяжении фильма зрители то и дело смеялись, а в конце даже хлопали. Думаю, этот фильм будет пользоваться большой популярностью.
Мы с мамой никогда не обсуждали то, как изобразил в фильме нашу семью Вуди. Да и зачем? Сама я фильма не видела и решила, что неплохо бы это исправить, только когда в 1978 году выиграла премию Нью-Йоркского общества кинокритиков. Я отправилась в кинотеатр на пересечении Пятьдесят девятой и Третьей улиц. В зале было довольно пусто, да и особенного хохота я не слышала. Как и мама, я так погрузилась в изучение самой себя на экране, что на сюжет обращала мало внимания. Я все думала – ну и что? Разумеется, мне казалось, будто я дурацко выгляжу, плохо пою и вообще кривляюсь. С другой стороны, я понимала, как мне повезло, и была благодарна судьбе. Сценки из семейной жизни Холлов не вызвали у меня особых переживаний. Во-первых, узнать в них нас было довольно сложно. Странноватый Дуэйн, персонаж Криса Уокена, был ужасно смешным, но не от мира сего. Моя семья в представлении Вуди получилась очень забавной – по сути, он описал стандартную калифорнийскую благополучную семью и хорошенько над ними подшутил. В общем, эта часть фильма не показалась мне достойной какого-то особенного внимания.
Большинство смотревших фильм считают, что “Энни Холл” – о наших с Вуди отношениях. Ну да, моя настоящая фамилия – Холл. И у нас с Вуди были романтические отношения – во всяком случае, с моей стороны. Когда-то я хотела стать певицей. Я была неуверенной в себе и запиналась. Но кому какая разница, тем более спустя тридцать пять лет? Важно только то, что у Вуди получился отличный фильм. К тому же “Энни Холл” стала первым его фильмом о любви. Все сцены держались только на любви, и основная мысль была печальной, но очень верной: любовь проходит. Вуди очень рисковал, заканчивая такой смешной фильм на печальной ноте.
Сейчас Вуди семьдесят пять лет, и за последние сорок пять лет он снял сорок пять фильмов. Он единственный режиссер, кому без проблем удается получить финансирование на каждый из своих фильмов. Причем с полной свободой действий и контролем монтажа. Не то чтобы остальные режиссеры не заслужили такой чести. Просто в сфере, которая не выносит неудач, чуток нахальный и уверенный в себе Вуди чувствует себя как рыба в воде. Он реалистично оценивает бюджет каждого своего будущего фильма. Его гениальность проявляется и в том, что он умудряется снимать в своих фильмах самых знаменитых актеров, платя при этом им минимальные гонорары. Что же их привлекает? Наверное, тот факт, что пять актеров выиграли шесть наград Академии за роли в фильмах Вуди, а еще десять – получили номинации.
В конце концов все сводится к словам – его словам. Вуди написал сценарии к каждому своему фильму – или один, или в соавторстве с кем-нибудь еще. Его писательский дар – это основа, отправная точка, причина и предлог для всех его фильмов.
Телефонный звонок
Несмотря на то что мы расстались за два года до съемок “Энни Холл”, я все еще оставалась верным боевым товарищем Вуди. Я даже не могу объяснить, почему мы с ним так хорошо ладили. Может, мы просто привыкли друг к другу. Мы продолжали ходить в Центральный парк, где усаживались на скамеечку у входа и наблюдали за проплывающими мимо представителями человечества. Мы весело проводили время и обсуждали будущие проекты, но все-таки что-то изменилось. Вуди вдруг стали превозносить как гениального комика, мне вдруг стали предлагать разные интересные роли. На съемках “Небеса подождут” я познакомилась с Уорреном Битти. В фильме “В поисках мистера Гудбара” я играла Терезу Данн и по сюжету отвергла Уоррена. Вскоре съемки закончились, и я вернулась в Нью-Йорк. На Рождество мне позвонил Уоррен – и вовсе не по поводу работы.
Он звонил мне снова и снова. В январе 1978-го мы с Уорреном начали встречаться. Я твердила себе, что это временное увлечение, которое вполне мне по силам. Он был невероятно умен и божественно, умопомрачительно красив. Не знаю, с какой стати я решила, что смогу справиться с таким романом – хотя кого я обманываю, я вообще об этом не думала. В общем, я влюбилась, и влюбилась надолго. Еще в далеком 1972 году, когда я впервые увидела его в холле отеля “Беверли Уилшир”, у меня дрогнуло сердце. Помню, я тогда подняла глаза и увидела, как навстречу мне идет моя ожившая мечта, которая внимательно рассматривает вокруг всех женщин – всех, за исключением меня. Тогда он не обратил на меня никакого внимания.
И за это умереть
Уоррен оказался непростым человеком – куда более интересным, чем я думала, глядя, как он целует Натали Вуд в “Великолепии в траве”. Я тогда училась в десятом классе и пошла на фильм в местный кинотеатр Санта-Аны. Я никогда еще не видела мужчин, похожих на Уоррена Битти. Он был невозможно прекрасен. За такого, как он, и умереть можно. А что же Натали Вуд? Она была мною, а я – ею. Когда Бад и Дини были вынуждены расстаться, мое сердце разбилось на миллион кусочков. Я даже отправила письмо Элиа Казану, режиссеру фильма, в котором спросила, почему же родители помешали настоящей любви и не мог бы он переснять фильм с другой концовкой. Разве важно, что они принадлежали к разным социальным классам? Мистер Казан мне не ответил. Забавно, но пару недель назад я видела отрывок “Великолепия в траве” по телевизору. И снова Бад и Дини любили друг друга, и снова страдали. Мой роман с Уорреном тоже был обречен – но в нашем случае помешали не внешние обстоятельства, а наши характеры. Слишком уж разные мы были. Уоррен – принц Голливуда, а я – простая девчонка, Ди-Энни О-Холли, как называл меня папа.
У Уоррена была дурная репутация. Помню, после занятий в танцевальной студии Марты Грэм мы сплетничали о его похождениях. Крикет Коэн знала девушку, у которой была знакомая, которую Уоррен подцепил в баре и с которой провел ночь в “Астории”. Какой кошмар, какой ужас, как так можно! Мы бы на такое никогда не пошли, ни за что на свете, только не мы.
Чего мы тогда не понимали, так это того, что у всех избранниц Уоррена не было ни малейшего шанса. Если он решил пролить на тебя свое божественное сияние, ты пропала. Уоррен смотрел на тебя и искренне видел в тебе самую очаровательную, самую интересную на свете женщину. Он с любовью смотрел на мое асимметричное лицо и искренне находил его красивым. Это притягивало и пугало. Я словно вела двойную жизнь. На самом деле встречалась с Уорреном, но из-за “Энни Холл” все думали, что я все еще с Вуди.
Уоррен ко всему подходил со здоровой долей скептицизма – он как никто другой чувствовал фальшь. Он всегда старался докопаться до истины и оказался единственным человеком на свете, который спросил, настоящие ли очки я носила в “Энни Холл”. Вуди поддерживал мое творческое начало записками вроде “Пришли твои новые фотографии – лучше я еще не видел! Честное слово!”. Уоррен же просто оглядывал с подозрением мои коллажи и говорил:
– Ты – кинозвезда. Ты этого хотела. Ты этого добилась. Так смирись с тем, что ты звезда. Что тебе дадут эти твои коллажи и прочие художества?
Уоррен был честным и прямолинейным и всегда говорил то, что думает – а мысли у него возникали самые разные.
Когда я сравниваю отношения, которые были у моих родителей, с моим романом с Уорреном, не возникает никаких сомнений в том, что Уоррен как возлюбленный был куда “перспективнее” Джека Холла.
Как-то я призналась ему, что боюсь летать. И вот прямо перед посадкой на рейс до Нью-Йорка Уоррен взял меня за руку, поднялся со мной на борт и держал мою ладонь в своей, пока самолет не приземлился. А потом, уже в аэропорту, поцеловал меня, развернулся и улетел обратно в Лос-Анджелес. На день Святого Валентина он заказал установку сауны для одной моей ванной комнаты и парилки – для второй. Он был щедрым и любил широкие жесты. Уоррен озвучивал совершенно дикие для меня мысли: у меня огромный потенциал, я могу стать режиссером, политиком, самой великой актрисой на свете – если только захочу. Конечно, я смеялась и говорила, что он выжил из ума, но в глубине души наслаждалась такими моментами. Я любила Уоррена, особенно за широту его души.
Дайан,
Вчера вечером за ужином я взглянул на тебя и подумал, что природа наградила тебя несправедливо большим количеством талантов. Мало того, ты еще и молода и у тебя впереди полно времени.
Ты заработала немало денег киноиндустрии. Процент, который тебе выплачивают от доходов твоих картин, не так-то и велик, так что я бы на твоем месте не стеснялся и потратил часть средств этой самой киноиндустрии на собственный фильм. Уверен, что ты с легкостью найдешь для этого спонсора.
Так что прекращай валять дурака и займись делом. У тебя это выйдет лучше, чем у многих других режиссеров. Ты умнее многих из них. А снимать тебе понравится. Если хочешь, могу на первых порах тебе помогать. Могу даже спродюсировать твой фильм – или вовсе не мешаться тебе под ногами.
Не мешкай. Поверь, это изменит к лучшему твое отношение к фильмам в целом и к актерскому ремеслу в частности.
Это пишет человек, наблюдавший за тобой на протяжении прошлого вечера, который хочет узнать тебя получше.
УорренОн жил в огромном пентхаусе, занимавшем верхний этаж отеля “Беверли Уилшир”. Стены квартиры Уоррена были заставлены шкафами. Шкафы до отказа набиты книгами и сценариями – сотнями, тысячами сценариев. В остальном пентхаус был похож на дом любого холостяка – хоть и находился в самом престижном районе Беверли-Хиллз.
Кроме того, у Уоррена был еще и дом с десятью акрами земли в начале Малхолланд-драйв, который он хотел отремонтировать и довести до совершенства. У Уоррена всегда были сложные отношения с недвижимостью. От природы любопытный, он всегда интересовался моим мнением по поводу разных стилей. Однажды, когда мы ехали к нему домой, и Уоррен показывал мне дом Джека Николсона по правую сторону и прекрасные виды на город по левую, у него в машине раздался странный треск – оказывается, звонил его встроенный в автомобиль телефон. Наверное, Уоррен чуть ли не одним из первых поставил себе такой.
Уоррен принялся обсуждать условия съемок с Чарли Бладорном, главой “Парамаунт Пикчерз”. Запах лекарств, доносившийся из бардачка, отвлек меня от того факта, что в будущем рядом с Уорреном я буду в основном ждать. Его было невозможно оторвать от телефона, вытащить из ресторана, клуба или со встречи. Джек Николсон решил эту проблему просто: если он хотел увидеться с Уорреном в два часа дня, назначал ему встречу на двенадцать. Я так делать не умела. Вместо этого я часами ждала его на террасе в “Беверли Уилшир” или в недостроенном доме, размышляя над судьбами архитекторов, чьи не понравившиеся Уоррену наброски и чертежи валялись по всему дому. Как меня вообще угораздило оказаться в доме Уоррена Битти? Может, он любил меня? А может, я была лишь одной из многих, кого он осветил своей любовью, только чтобы потом оставить в темноте?
Уоррен постоянно работал над тем или иным проектом, но ненавидел саму мысль о том, что ему нужно “идти на работу”. Он с ужасными мучениями доделывал “Небеса подождут”, фильм, который он поставил вместе с Баком Генри. Фильм взлетел на верхушки топ-парадов, фото Уоррена украсило обложку журнала Time, но его подход к работе не изменился. Он одновременно работал над сотнями проектов разной степени готовности – вместе с Баком или Роджером Тоуни, или Элейн Мэй. А еще ведь был тот сценарий Говарда Хьюза, римейк “Незабываемого романа” и еще фильм про парочку коммунистов. В общем, проблема Уоррена была в его непостоянстве. Как сказал однажды Дастин Хоффман: “Если бы Уоррен остался девственником, он стал бы лучшим режиссером на белом свете”.
Благодаря Уоррену я стала вхожа в дома таких людей, как Кэтрин Грэм, Джеки Кеннеди, Барри Диллер, Диана фон Фюрстенберг, Джек Николсон, Анжелика Хьюстон, Сью Менжерс, Диана Врилэнд, Гэй и Нэн Тализи. Я и после расставания с Уорреном какое-то время поддерживала все эти знакомства, но надолго меня не хватило – я всегда чувствовала себя недостаточно утонченной и умной для вращения в высшем свете. Оказавшись в окружении по-настоящему выдающихся людей, я мечтала перенестись домой к своим родным. Мне присущи некоторые здоровые инстинкты, но долго греться в лучах славы я не могу. Вместо того чтобы держаться за свое место под солнцем, я предпочитаю прятаться в теньке.
8. Большой сюрприз для маленькой семьи
Черное и белое
О своей номинации на “Оскар” я узнала во время фотосессии, которую проводил Ирвин Пенн для журнала Vogue. Я даже не знала, как мне на это реагировать. Мне почему-то казалось, что это должно было произойти не так. Я ждала чего-то в духе маминого выступления на конкурсе “Миссис Хайленд-парк”: открывается занавес, многотысячная публика аплодирует, на меня водружают корону, и я сияю улыбкой, глядя на новый шкаф, “кадиллак” и ключи от дома в Энчино. Вместо этого я сидела на фоне белого экрана и выслушивала стилиста, которая распространялась на тему моих узких плеч, непригодных для платьев без лямок и рукавов. Она вообще не стеснялась в выражениях. Гениальность самого мистера Пенна вкупе с его аристократичными манерами заставили меня порядком оробеть. Ну а когда гример сказала мне, что правая сторона лица у меня лучше левой, я тут же позабыла о том, что сбылись все мои детские мечты – что я кинозвезда, в которую влюблен Уоррен Битти.
Я не раз видела черно-белые фотографии Ирвина Пенна и знала, что обложка выйдет загляденье. Даже не помню, как мне удалось убедить боссов Vogue что черно-белая обложка – это хорошая идея. Кажется, я просто поставила ультиматум: сказала, что соглашусь только на черно-белый снимок. Они согласились. Не лишним будет добавить, что больше меня сниматься для обложки Vogue никогда не звали. Зато в 1980 году, перед премьерой “Красных”, я провернула такой же финт с Newsweek – попросила Ричарда Аведона сделать не только цветные, но и черно-белые снимки. Он был не против. Разумеется, когда пришли отпечатки, я убедилась, что на черно-белых фото вышла гораздо лучше. Я умоляла Newsweek поставить на обложку именно эти снимки, даже позвонила Аведону, пытаясь перетянуть его на свою сторону. Но они все равно выбрали цветные фотографии. И только тридцать лет спустя, в 2009 году, на обложке журнала More мне довелось снова увидеть свою черно-белую физиономию – на этот раз фотографом был Рувен Афанадор.
23 февраля 1978 года
По радио передали, что Дайан номинировали на “Оскар” за роль в “Энни Холл”. Как же я нервничаю! Прямо места себе не нахожу. Долго переживать такие новости в одиночку тяжело. Почти так же я себя чувствовала, когда узнала, что Робин сдала экзамены, и когда поэму Рэнди опубликовал крупный журнал, и когда я получила первый заказ как фотограф, и когда компания Джека вышла в плюс, и когда Дорри сама нашла свою первую работу. Жаль, что мне не с кем обсудить эту новость! Я позвонила сначала Джеку, а потом Дайан – ее дома не было. Она потом мне перезвонила, но поговорить мы толком не смогли – ее как раз фотографировал для Vogue Ирвин Пенн.
В это воскресенье мы вечером идем в ресторан – вместе с Дайан и Уоренном Битти! О чем я буду говорить с самим Уорреном Битти? И что мне надеть? Надо подумать. На “Оскар” номинировали не только его девушку, нашу Дайан, но и его сестру. Интересно, кого он будет поддерживать? В день церемонии нас на лимузине отвезут в мюзик-холл, где пройдет награждение. По дорожке Дайан пойдет с Дорри, но сидеть они будут отдельно от нас. Вся остальная семья будет сидеть в одном ряду, а после церемонии мы пойдем на вечеринку. Господи, как же я волнуюсь.
Шпильки с носками
Когда я рассказала бабушке, что меня номинировали на “Оскар”, она покачала головой:
– Этот Вуди Аллен слишком странно выглядит, чтобы ему все сходило с рук. Но он же еврей, что уж с ним поделаешь, да? Как там у Дороти дела? Она что-то плохо в последнее время выглядит, да и папа твой весь уже поседел – так переживает за Рэнди. Я так и не понимаю, о чем он там пишет в своих стихах, в них вообще рифмы нет. А ты еще встречаешься с этим Битти? Я бы тоже на твоем месте выбрала мужчину с деньгами. Он еще и красавец – конечно, насквозь фальшивый и кобель наверняка тот еще, да?
У меня не было своего стилиста (я даже не знала, что это за профессия такая), так что наряд для “Оскара” решила придумать себе сама. Шляпу на церемонию мне надеть бы не позволили, поэтому я решила все свои силы бросить на создание многослойного, сложного образа. В магазине Ральфа Лорена я купила жилет и две длинные льняные юбки. У Армани выбрала модные слаксы, чтобы поддеть их вниз. Там же нашла льняной пиджак, белую рубашку, черный галстук-удавку и шарф – этакая вишенка на торте. В “Саксе” купила туфли на высоком каблуке, а у Робин позаимствовала пару ее носков. Образ получился вполне в духе “Энни Холл”.
Ночью мне приснилось, будто коронки у меня на зубах вдруг стали прозрачными, и сквозь дырки полились потоки воды. Чтобы не попасть впросак на “Оскаре”, мне пришлось двадцать четыре часа стоять на голове – сливать лишнюю жидкость. В итоге я так долго этим занималась, что пропустила всю церемонию.
Большой день
Мы с Дорри выбрались из лимузина и вышли к орущей толпе. Кирк Дуглас говорил что-то в микрофон Арми Арчерда и махал рукой – но куча ошалевших кинофанатов не обращали на него никакого внимания. Их интересовал молодой красавец Джон Траволта, в первый раз идущий по красной ковровой дорожке. Вот так-то – ничто не вечно под луной.
Трехчасовая церемония показалась мне бесконечной и порядком выматывающей. Посередине мероприятия я выбралась в холл, где уже покуривал сигарету Ричард Бертон. Он поднял на меня глаза и сказал, что сомневается, будто у него есть шансы выиграть одного из этих “чертовых болванчиков”. Я кивнула. А что еще я могла сделать, стоя рядом с живой легендой? Он был прав – он так и не выиграл “Оскара”. “Болванчик” достался Ричарду Дрейфусу. Когда он услышал, что стал победителем, принялся хлопать в ладоши и радостно потрясать руками. Но почему-то встреча с Бертоном запомнилась мне куда лучше и оставила в моей душе глубокий след. Наверное, потому что горечь потери известна каждому из нас.
В тот момент я не понимала, насколько нелепо выгляжу в своем многослойном наряде на фоне красавиц в великолепных вечерних платьях. Краем глаза я заметила Джейн Фонду. О боже. Ну кого я обманываю? Что я тут забыла? Неужели кто-то может подумать, что я лучшая актриса, лучше, чем Джейн Фонда, Энн Бэнкрофт, Ширли Маклейн или Марша Мейсон?
Дорри удалость сесть рядом со мной, и она очень меня поддерживала. Но я все равно находилась в полной прострации – не знала, где я, кто я, что мне делать и что говорить.
Когда я услышала первую букву “Д” имени “Дайан”, я вскочила и поспешила на сцену – хотя вовсе не была уверена, что выиграла. Я прекрасно понимала, что мой выигрыш вовсе не значит, что я – “лучшая” актриса. Я знала, что не заслуживаю “Оскар”. Я даже не сомневалась, что получила премию только из-за того, что по сути изображала на экране саму себя. Но вот то, что “Энни Холл” получила “Оскар” еще и как лучшая картина года, меня просто поразило. Почему-то комедия всегда считалась бедной сестрой драмы, и награды, как правило, обходили комедийные фильмы стороной. По-моему, это странно. Юмор помогает нам идти по жизни, сохраняя хоть крупицы достоинства, и позволяет мириться с абсурдностью окружающего мира. Я очень горда, благодарна и рада тому, что мне довелось поучаствовать в создании одной из лучших комедий американского кино.
Первой по-настоящему красивой женщиной в моей жизни стала Одри Хепберн, фото которой я увидела на обложке журнала Life в 1953 году. Одри, невинная и прекрасная, была воплощением красоты. У меня при взгляде на нее перехватывало дыхание. Наверное, именно этот снимок – простой, безыскусный, но потрясающий до глубины души – заложил основы моей любви к черно-белым фотографиям на обложках. Я была ошарашена, когда после церемонии награждения ко мне подошла сама Одри Хепберн и сказала, что будущее за такими актрисами, как я.
– Ой, правда, я так не думаю. Ох. Честно говоря, не уверена, ведь будущее, и все такие… А вы вообще, вы мой кумир, и я… Даже не знаю, что сказать. Встреча с вами – большая для меня честь, – запинаясь, выдавила я.
Что мне оставалось делать? Передо мной стояла не Одри Хепберн с обложки Life, а пожилая женщина.
Больше в моей голове никаких воспоминаний об “Оскаре” не сохранилось. Я не помню, что было на вечеринке, не помню, кто там был и кто меня поздравлял. Память сохранила лишь Ричарда Бертона да Одри Хепберн. Одинокий Бертон и элегантная мисс Хепберн, “передавшая” мне звание “звезды”. Два кадра словно из кино: Ричард в роли потерянного, сломленного мужчины и Одри – несравненная, идеальная, прекрасная Одри.
Ей было всего шестьдесят три, когда она умерла от рака. Во время нашей встречи Одри было сорок восемь – прямо скажем, вовсе не такая пожилая женщина, какой я ее сочла. Я слушала, что она говорит, но не очень внимательно – я никак не могла взять в голову, как же она могла постареть. Шер как-то сказала очень мудрую фразу: “Внешность важна, только когда ты молода”. А я, вместо того чтобы воспользоваться возможностью пообщаться с самой Одри Хепберн, испугалась, поджала хвост и сбежала. Это еще одна из моих ошибок, о которых я буду сожалеть до конца дней.
На следующее утро после церемонии Вуди проснулся, развернул New York Times и узнал, что его фильм признан лучшей картиной года. После этого он закрыл газету и продолжил работу над своим следующим фильмом, драмой “Интерьеры”. Вуди остался верен своим принципам и по сей день: для него в искусстве не может быть “лучших” – ни режиссеров, ни актеров, ни фильмов. Искусство – это вам не баскетбол.
Газетчики взяли интервью даже у бабушки Холл. Статью сопроводили снимком, на котором она была с Вуди и со мной.
– Люди говорят, что я витаю в облаках, но это неправда. Я вам вот что скажу по поводу всего этого “Оскара”. Это большое событие для нашей маленькой семьи. Этот Вуди Аллен – неглупый малый, раз придумывает такие сюжетики.
2009 год
Сегодня, прежде чем я приступила на парковке перед бассейном к работе, я выудила из памяти одно из моих любимых воспоминаний – как мы с Вуди сидим на ступеньках музея “Метрополитен” после закрытия. Мы сидели и смотрели, как из музея вытекает толпа людей в легких шортах и сандалиях. Рядом ровными рядами возвышаются деревья, а из фонтанов бьют струи, орошая все вокруг, и нас в том числе, мелкими капельками водяной пыли.
Мы с Вуди сидим и смотрим на седых тетушек в красно-белых платьях.
Мы сидим и отделяем зерна от плевел, туристов от местных, жителей Вест-Сайда от жителей Ист-Сайда. Покупаем у уличного продавца претцель, посыпанный солью. Комментируем странных прохожих и рассуждаем, каково было бы жить в пентхаусе на Пятой авеню с видом на этот музей. Смеемся и ведем обычные свои разговоры. Держимся за руки и молча греемся на солнышке. Идеальный вечер. С Вуди легко было сделать любой вечер идеальным.
Вуди никогда не разделял мою любовь к копанию в прошлом и ностальгическим воспоминаниям. Он никогда не жалел о том, что прошло, и не пытался воссоздать идеальные вечера – все равно они были идеальными только в воспоминаниях. Он никогда не упоминал о своих “Оскарах”, не гордился ими и не бахвалился. Он вообще о них не говорил. Он не склонен к сантиментам и всегда предпочтет им резкую критику. Собственно, я не знаю другого такого человека, который умел бы так же мастерски поставить на место собеседника, как Вуди. Хорошо бы только он делал это почаще – как, например, на выступлении в Линкольн-центре пару лет назад.
Почетный ужин в Линкольн-центре
– Мне позвонили и спросили, не могу ли я сказать пару лестных слов о Дайан. Я ответил, что да, конечно смогу. Ну, начнем с того, что Китон – человек пунктуальный. Она всегда приходит вовремя. Еще она очень практичная, у нее каждый доллар на счету. Еще, э-э-э… Что бы еще про нее сказать. У нее прекрасный почерк. Она, она… Дайте-ка собраться с мыслями. Ну, она красивая и всегда была красивой. И годы ее не изменили. Конечно, она не красивая в общепринятом смысле этого слова – в том смысле, что на нее приятно смотреть. Еще она твердо придерживается своего собственного стиля – всегда носит черное, комфортные ботинки и шляпы. Этакая Бланш Дюбуа, доведенная до абсурда. Конечно, с точки зрения грамматики неверно будет назвать ее “самой уникальной”, но все-таки Дайан – самая уникальная женщина из всех, кого я только встречал. Можно назвать ее странной, но все-таки второй такой вы точно не найдете. Наверное.
Я скучаю по Вуди. Его бы наверняка перекосило, если бы он только узнал, насколько мне небезразличен. Но я достаточно умна, чтобы не поднимать эту тему в наших разговорах. Я знаю, что моя привязанность к нему вызывает у него почти что отвращение. Ну а что уж тут поделать? Я до сих пор его люблю. Все равно я до конца жизни останусь его садовой башкой, его монстром, его дурочкой, его дурилой и олухом. Не могу же я сказать “дядюшке Вудамсу”, что я его люблю? Не могу же сказать, чтобы он “берег пальцы на руках и ногах и думал о приятном”?
“Энни Холл” изменила всю мою жизнь. Когда выяснилось, что фильм пользуется успехом, о котором я втайне мечтала, но которого и представить себе не могла, я испугалась и сбежала. Мне нравились всеобщие похвалы, но я никак не могла свыкнуться с дискомфортом и чувством вины, которые принесла с собой слава. Я решила вернуться домой. Села в машину и поехала к родителям в их новый дом на Коув-стрит – прямо у пляжа. Поболтала с мамой, опробовала с ней в бою наши новые фотоаппараты. Пообщалась с Дорри. Рэнди писал стихи, Робин работала приходящей медсестрой и ухаживала за стариками. Уоррен собирался снимать новый романтический фильм про российскую революцию с Джоном Ридом и Луизой Брайант в главных ролях.
Я вернулась в Нью-Йорк. Пообщалась со старыми друзьями – Кэтрин Гроди и Кэрол Кейн. О чем я думала, когда сбегала от славы, о которой так долго мечтала? Новая жизнь меня пугала. Вместо того чтобы радоваться и ловить момент, я попыталась отречься от славы, и у меня это получилось – возможно, даже слишком хорошо.
Первый драматический фильм Вуди отлично вписался в мою программу избегания славы. “Интерьеры” – фильм, прямо скажем, не рассчитанный на коммерческий успех. Я играла совершенно не подходившую мне роль талантливой писательницы Ренаты Адлер – курила сигареты и отчаянно морщила лоб в надежде сойти за умную. Реплики, сочиненные Вуди, казались мне неудачными и не находили во мне никакого отклика. Единственным, что отвлекало меня от собственной плохой игры, было участие в фильме Джеральдин Пейдж и Морин Стэйплтон, любимой актрисы Сэнди Мейснера.
Каждое утро Джеральдин заявлялась на площадку, замотанная в какие-то лохмотья, с двумя туго набитыми пакетами в руках. Она усаживалась в гримерке, доставала из пакетов старые штаны своего мужа Рипа Торна и принималась их штопать. Я все никак не могла поверить, что одна из величайших актрис в мире – самая настоящая мешочница. Впрочем, этот образ лишь добавлял ей очарования. Когда Вуди объяснял ей, как играть ту или иную сцену, она улыбалась, вежливо кивала, а потом играла ее так, как считала нужным. Однажды, когда снималась одна из сцен с ее крупным планом, я стояла у камеры, готовясь к своему выходу, и Джеральдин без обиняков попросила меня уйти. Я отошла в сторонку и, глядя, как она играет, поняла, почему она это сделала – мое присутствие ограничивало ее свободу. Наверное, принципы Мейснера – играть с партнером, вместе проживать каждый момент – подходили не каждому. Джеральдин Пейдж была гениальной актрисой, а гениям закон не писан.
Морин Стэйплтон была гораздо понятнее и вела себя куда более предсказуемо. Она любила играть так, чтобы рядом были другие актеры. Ее круглое, типично ирландское лицо казалось всегда немного удивленным, не от мира сего. Не знаю, как ей удавалось так легко поддерживать этот образ. Однажды после съемок я решила дождаться ее в нашем общем трейлере. Морин была крупной женщиной, но она все же умудрилась втиснуться в сиденье рядом со мной и изрекла:
– Однажды, Дайан, ты тоже постареешь.
Год, который я провела в Англии на съемках “Красных”, эмоционально отбросил меня на два шага назад. Я была не готова к роли Луизы Брайант, куда менее чувственной, чем я ожидала. Эта роль стала для меня мукой. Мне не нравилась моя героиня, и я не видела ничего хорошего в ее стремлении к журналистской славе. Ее фиксация на обворожительном революционере Джоне Риде казалась мне подозрительной и пронизанной завистью. В общем, я ненавидела Луизу, и это стало для меня большой проблемой. Вместо того чтобы попробовать решить эту проблему, я предпочла дать задний ход – моя стандартная реакция на любые трудности.
В гримерке парикмахер Барри выдавал плоские шуточки и накручивал мне волосы на бигуди, а Пол наносил макияж. Иногда за обедом ко мне подсаживался Джереми Пиксер, один из сценаристов, и начинал рассказывать, как он ненавидит разных легендарных персонажей вроде Скарлетт О’Хары, “самовлюбленной сучки”. У меня сложилось впечатление, что он пытался мне на что-то намекнуть.
Все видели, что я паршиво играю под руководством Уоррена – сложно было сработаться с перфекционистом, который делал по сорок дублей за раз. Иногда мне казалось, будто все вокруг – какой-то дурной бесконечный сон. Я и до сих пор считаю, что в том фильме играла вовсе не я. Наверное, так я реагировала на присутствие на площадке Уоррена.
Только на трагической сцене воссоединения Джона Рида и Луизы Брайант на вокзале я смогла взять себя в руки и придать хоть какое-то подобие жизни своему персонажу. Уоррен где-то шестьдесят пять раз пытался отснять эту сцену, пока я наконец не перестала выпендриваться и осуждать женщину, которую мне надо было полюбить, прежде чем попытаться ее сыграть. Съемка этой сцены стала для меня неожиданным, но интересным опытом. Настойчивость Уоррена привела к тому, что на лице Луизы, когда к ней подходит Джон Рид, невооруженным глазом видна любовь. “Красные” – это поистине эпическое кино про идеалы и людей, которые в них верят. Джон Рид пожертвовал жизнью ради своих убеждений. Но для меня фильм Уоррена навсегда остался историей о несовершенной любви.
Часть третья
9. Артистизм
Фокус
На дворе стояли восьмидесятые. Я была номинирована на “Оскар” за роль в “Красных”, но проиграла Кэтрин Хепберн. Следующий мой фильм, “Как аукнется, так и откликнется”, вызвал неоднозначные отзывы. “Маленькая барабанщица” оказалась успешной, так же как и “Миссис Соффел” с Мэлом Гибсоном. Фильм “Преступления сердца” с Джессикой Лэнг и Сисси Спейсек критикам понравился, но особую кассу не собрал. Обсуждалось мое участие и в грядущем “Мысе страха” с Робертом Де Ниро, но в итоге Скорсезе взял на эту роль Джессику Лэнг. Другие проекты, такие как “Почти человек”, “Перемены в школе”, “Клепто”, “Что бы ни случилось с Гарри” и “Книга любви”, так никогда и не увидели свет.
Не то чтобы я мало снималась. Я ездила на съемки в Канаду, Лос-Анджелес, Финляндию, Испанию, Россию, Великобританию и Грецию, снималась в Напе, Израиле, Германии и Саутпорте, штат Южная Каролина. Но зачастую мне не хватало энтузиазма. Я продолжала жить в Нью-Йорке. Уоррен, выигравший “Оскара” за лучшую режиссуру, то появлялся, то исчезал из моей жизни вновь, пока наконец не ушел навсегда. Вуди встретил Миа Фэрроу, и у них начался бурный роман. Без хорошего режиссера и сценария, придуманного под меня, я была всего лишь актрисой средней руки. Я не писала книг, не запустила линию одежды в стиле Энни Холл. У меня не было менеджера, и меня это полностью устраивало.
В свободное от съемок время я занималась разными хобби, которые с большой натяжкой можно было назвать “искусством”. Мой друг Дэниэл Вулф даже как-то устроил выставку моих работ, посвященных религиозных памфлетам. В Канзасе я нашла художника Роберта Хаггинса и попросила его воплотить мои идеи на огромных холстах. Когда работа над странными “Религиозными деяниями” была закончена, я перешла к фотографии в стиле Сэнди Скогланда (знаменитого автора “Радиоактивных кошек”, картины, на которой изображены зеленые глиняные котики в серой кухне). В честь Сэнди я составила объемную картину, призванную напоминать об альпийских красотах, – подобрала камушки по размеру и прикрепила сверху очень похожих на настоящих крошечных ворон. На этом фоне я разместила девять маленьких балерин в розовых пачках и, завершив работу над диорамой, принялась ее фотографировать. Увидев снимки, я сразу поняла, что Сэнди Скогландом мне не быть. Поэтому я решила заняться портретной фотографией – снимала друзей, например Кэрол Кейн, сидящих под таким светом, что на их лица полосами падали тени. Еще писала стихи к песням, которые так никогда и не увидели свет.
Она сидит в китайском ресторане. Она ужасна и смотрит на него. Она давно уже не спит, И раз, и два, и раз-два-три. Два разных мира… Мы и два разных мира… Наши сердца…И так далее и тому подобное. Потом я начала подражать Диане Арбус и фотографировать прохожих. И, как будто бы всего остального было уж недостаточно, я еще и занялась коллажами – средний размер которых составлял полтора на два метра. В одном коллаже под названием “Без подтяжки” я прикрепила голову Бетт Дэвис… не буду говорить куда. Лучше вам этого не знать.
Уоррен, с которым я продолжала дружить, не уставал напоминать мне, что я была кинозвездой. Сосредоточься на кино, твердил он. Я его не слушала. В мир фотографии недавно с триумфом ворвалась Синди Шерман, и я решила, что концептуальные портреты – это тоже мое. Я пыталась убедить саму себя, что я в первую очередь – художник, не желая смотреть неприятной правде в лицо: я была актрисой, последней комедией которой был “Манхэттен” 1979 года.
В пути
Наконец Уоррену удалось до меня достучаться и я решила стать продюсером какого-нибудь фильма. Недавно я прочла поэму “Чья-то любимая” о выдающейся женщине-режиссере из Голливуда и ее лучшем друге, и она мне очень понравилась. На поезде я добралась до Вашингтона и там познакомилась с Ларри МакМертри, владельцем книжного магазина, который вскоре стал моим близким другом. Ларри, закинув ноги на стол, выслушал мою лихорадочную речь и сразу согласился передать мне права и заодно написать сценарий. Спустя полгода сценарий был готов – Ларри, как всегда, сдержал слово. Мой агент устроил встречу с Шерри Лэнсинг, главой “Парамаунта”, которая без особых обиняков сразу сказала мне, что проект не кажется ей достаточно перспективным с коммерческой точки зрения. На этом история сценария “Чья-то любимая” закончилась – зато началась история нашей дружбы с Ларри.
Чуть ли не каждый месяц я садилась в поезд, приезжала в Вашингтон и мы с Ларри принимались кружить по городу в его “кадиллаке”. Как правило, меня терзали очередные творческие идеи – как-то я задумала сделать серию фотографий чучел животных, и Ларри тут же повез меня к своим знакомым, у которых завалялась парочка чучел овец. Бесконечные поездки стали символом нашей с Ларри дружбы.
Однажды, когда мы с ним путешествовали по Техасу, я призналась, что мечтаю переехать в Майами-Бич, где всегда жарко и высокая влажность.
– Правда, иногда, – добавила я, – мне хочется попробовать пожить и в Атлантик-Сити или в Бахе Калифорнии. Хотя на самом-то деле, конечно, моя мечта – перебраться в Пасадену и поселиться рядом с арройо – пересохшим речным руслом. Ларри, держа в одной руке руль, а в другой – банку “Доктора Пеппера”, внимательно меня слушал. Добравшись до техасского города Пондер, из большого придорожного знака мы узнали, что тут проходили съемки “Бонни и Клайда”, фильма с Уорреном Битти – моей любовью, моим “Великолепным в траве”. Мне даже как-то не верилось, что когда-то я с ним встречалась, крутила роман, что мы вместе снимали “Красных”. Мысленно я перенеслась в 1967 год, домой, где мама снимала свою собственную версию “Бонни и Клайда”. Рэнди досталась роль Мосса, Робин была Бонни, Дорри – Бланш, а я, Дайан, играла Клайда. Роль Бонни я с возмущением отвергла. Вот еще, не буду я играть Бонни! Я хотела быть Уорреном Битти, да и кто бы меня осудил? В общем, в этом и крылся корень всех наших проблем – я хотела быть Уорреном Битти, а не любить его.
Иногда сны кажутся мне более реальными, чем факты из моей жизни. Когда мы проезжали Пондер, я опустила окно. Мы ехали сквозь облако пыли, а Ларри говорил:
– Ты не представляешь, насколько скучно в Небраске. На прошлой неделе я проезжал по платному мосту над Миссури и старушка, работающая на шлагбауме, так там ошалела от скуки, что упросила меня остановиться и поесть с ней пончиков.
– Зимой тут можно свихнуться, – сказала она. – Сижу тут целый день на заднице и плюю в потолок.
Ларри умолк, но спустя пару минут заговорил снова. Он был отличным рассказчиком. Сейчас я вспоминаю те наши поездки, рев мотора, бесконечный горизонт впереди и рассказы Ларри и понимаю, что у нас было то, чего никогда не дали бы нам съемки фильма “Чья-то любимая”: у нас была дружба и у нас была дорога.
Воспоминания
Дорогая Дайан,
Пока что умудрилась написать целых три страницы – не только грустные воспоминания, вызывающие сердечную тоску, но и разные смешные моменты из прошлого.
Многие мысли, которыми я ни с кем не делилась, крутятся вокруг моей ненависти к авторитетам – я об это даже никогда не задумывалась. В общем, писать – занятие не очень приятное, и я редко сажусь за стол, поэтому стараюсь делать это только когда чувствую, что смогу быть полностью честной.
Я не хочу писать о годах вашего детства, а то еще попаду в ностальгическую ловушку “старых добрых времен”. А мне для этого много не нужно – посмотреть старые фотографии, и – вуаля! – я страдаю от жутчайшей ностальгии всех времен и народов. Но в “Воспоминаниях” я хочу в первую очередь написать о событиях, которые сделали меня такой, какая я есть. Помню, как в детстве я была твердо уверена, что никогда не повторю ошибок своих родителей. Буду печь ванильные коржи вместо шоколадных! Буду смеяться и болтать без умолку, буду до гроба любить своего мужа пылкой и страстной любовью. Буду любящей, а не нетерпеливой матерью. Я думала, что все эти планы вполне реальны.
Сегодня у нас прекрасный денек, солнечный и теплый. Вчера Джек купил себе яхту, чему радуется как ребенок. Скоро отправимся в плавание! Думаю, будет весело.
Целую,
МамаМама так никогда и не дописала свои “Воспоминания”. Воспоминания, воспоминания, воспоминания. Потерянные, незаконченные. Воспоминания, которые болезнь отняла у нее. Как будто бог решил предсказать маме ее будущее. Но я не заметила его знаков. Я была слишком занята, чтобы оценить, как важен этот шаг – мемуары. Даже не уверена, что прочла это ее письмо – не помню. Я предпочитала думать, что мама, отделавшись наконец от детей, перешла в самую приятную для себя стадию жизни и теперь может полностью посвятить себя творчеству. Разумеется, я понятия не имела, что происходило с ней на самом деле, и не очень-то рвалась узнать. У меня были другие заботы.
Иногда в доме так тихо! Даже непонятно, как и почему в доме может быть так тихо. Я брожу по нему, словно пытаясь отыскать хоть малейший звук. Говорю с котами, с каждым по очереди или со всеми сразу. Выглядываю в окна, осматриваю двор, проверяю бассейн – свет включен или нет? Куда же делись все те и все то, от чего дом наполнялся шумом? Я не прочь побыть одна, мне нравится одиночество. А когда становится слишком одиноко, я выхожу из дома, сажусь в машину и отправляюсь на прогулку.
Видеть – значит жить
Спустя десять лет, проведенных в Нью-Йорке, я не разучилась видеть прекрасное – как, например, фотография “Женщина, вид сзади”,[9] выставленная в Метрополитен-музее. На что же смотрела эта женщина с фотографии? Меня снедало любопытство. Снимок – вернее, даже дагерротип – был сделан в девятнадцатом веке, но это никак не ощущалось. Трудно было поверить, но женщина, отвернувшаяся от камеры, ясно давала понять: видеть – гораздо интереснее, чем быть увиденным. Меня всегда вдохновляли такие снимки – которые пробуждали чувства, но ничего не объясняли. С годами это не изменилось, и я до сих пор читаю книги вроде “Сейчас – это тогда”, “Сны наяву” и “Не в розыске”,[10] – произведения творческих личностей, которые сумели протоптать тропинку в мире своего воображения.
Марвин Хейфер Манн, глава компании “Кастелли графикс”, устроил небольшую выставку фотографий, с которой я объездила всю страну. Серия снимков, на которых я запечатлевала холлы отелей, носила название “Забронировано”. В нее я включила фотографии опустевшего и полуразрушеного отеля “Амбассадор”, в котором маму когда-то наградили титулом “Миссис Лос-Анджелес”; снимки “Стардаста”, на конференции в котором папа спустил кучу денег; а также “Фонтенбло” в Майами-Бич; “Пьер” в Нью-Йорке; “Билтмор” в Палм-Спрингс.
Не стоит благодарности
Спустя несколько лет мы с Марвином решили совместными усилиями выпустить альбом с рекламными фотографиями, сделанными для продвижения старых фильмов. Нам пришлось объездить весь Лос-Анджелес в поисках постановочных кадров с актерами, изображавшими сцены из “Юга Тихого океана”, “Лэсси” и “Больше, чем жизнь”. Просматривая тысячи цветных диапозитивов, я не могла не думать о том, что произошло с изображенными на них людьми – Джоан Кроуфорд, Джеймсом Мейсоном, Аннет Фуничелло и даже Элвисом. Вялые и безжизненные, словно восковые фигуры, они были похожи на чучела с тех снимков, что я делала вместе с Ларри.
Мне казалось, что это сравнение – не так глупо, как кажется на первый взгляд. Мысль о сходстве актеров со старых снимков с чучелами заставила меня вспомнить высказывание Роя Роджерса: “Когда я помру, выпотрошите меня да сделайте чучело посимпатичнее”. Поэтому я и назвала этот альбом “натюрморт” – от французского nature morte, что значит “мертвая природа”. Моим любимым снимком из этой серии стала фотография Грегори Пека из фильма “Человек в сером фланелевом костюме”. Я даже написала о ней во введении к книге.
Сложно любить кого-то, кого ты никогда не знал. Зато мечтать о ком-то, кого ты идеализировал так долго, что уже почти полюбил, – легко и просто. Считается, что, взрослея, мы учимся отделять реальность от фантазий. Например, я прекрасно понимаю, что Грегори Пек никогда не станет мужчиной всей моей жизни. Нормальные люди, повзрослев, осознают, что в их жизни Грегори Пек будет лишним. Но если Грегори Пек хоть раз по-настоящему до вас дотронется – как дотронулся он однажды до меня, – он останется в вашей жизни навсегда. Его идеальный образ идеален во всем. Он – воплощение мечты. Он – все то, о чем вы мечтали в юности.
После публикации “Натюрмортов” я получила письмо от Грегори Пека, которому альбом не понравился. Он нашел его претенциозным и глупым. Кроме того, ему не понравилось, что его сравнили с чучелом. “Очень надеюсь, – писал он, – что эта ужасная безвкусная идея – плод не вашего воображения. Кстати, введение мне также показалось на редкость пошлым”.
Я и подумать не могла, что Грегори Пеку могут не понравиться снимки, на которых он на фоне декораций выглядит таким реальным. Я даже не пыталась об этом подумать – слишком уж была занята, гордясь собой. Еще бы, я ведь создала альбом, который ухватил самую суть таксидермии, который навечно впишет мое имя в историю искусства.
Я очень жалею об этом инциденте и надеюсь, что когда-нибудь мистер Пек сможет меня простить. Мне жаль, что я выбрала для альбома снимок, который подчеркивал его мужество и безэмоциональность – черты, которые предопределили его карьеру, совсем как моя эксцентричность предопределила мою.
Тем временем
Сегодня разговаривала в книжном магазине с женщиной, которая три дня потратила на уборку гигантского дома своей почившей тети. Тетя, старая дева, умерла в 86 лет. На протяжении всей своей жизни она собирала вещи – никогда и ничего не выбрасывала и тащила в дом все новый хлам. Говорила, что вещи вокруг делают ее счастливой. Ей было все равно, что станет с ними после ее смерти, так что племянница, прикупив пачку прочных брезентовых мусорных мешков, отволокла все на свалку. То, что я услышала эту историю, – не просто совпадение. Вся моя писанина, все эти слова, которые я вывожу на бумаге, все воодушевляющие фразочки и афоризмы, предназначенные только для меня одной, потеряют всякий смысл после моей смерти. Мне неважно, что будет с моими записками, когда меня не станет, – выбросят их на помойку или нет. Правда, хотелось бы, чтобы мои близкие все-таки прочли некоторые записи: те, где я говорю о том, что думаю о каждом из них, где признаюсь им в любви, где описываю, как много они для меня значат, эти пятеро, которым предстоит меня похоронить.
Представляя рай, 1987 год
Полтора года я занималась тем, что снимала свой документальный фильм “Рай”. Критики разнесли его в пух и прах. Самую обидную рецензию написал Винсент Кэнби из New York Times. “«Рай», новый фильм Дайан Китон, – писал он, – является аналогом тех книжек, что выбрасывают в продаже перед Рождеством по 19 долларов 95 центов, приклеивая на них стикер «После праздников цена вырастет до 50 долларов!». Если такой подход не вызывает у вас отвращения, вам понравится «Рай». Это плохой фильм, который не стоит траты ваших денег”.
В детстве мне очень не хватало такого фильма, как “Рай”. Я боялась смерти, но считала, что, раз уж этого не избежать, надо хотя бы попробовать попасть в рай. Прозрение настигло меня тридцать лет спустя, когда я попала в центр мормонов в Солт-Лейк-Сити с моей подругой Кристи Зи. Войдя в здание под куполом, мы увидели странную картину: улыбающиеся люди в белых одеждах, летающие в облаках. Эдакое второе пришествие. Даже Кристи признала, что эти художества могли вдохновить только большого любителя сюрреализма. Я никогда не отличалась большой любовью к сюрреализму, но меня эта картинка чем-то зацепила. Я позвонила моему партнеру Джо Келли, с которым мы продюсировали несколько фильмов, и описала ему свою идею.
“Метро-Голдвин-Майер” предоставили нам для изучения 16-мм пленки с кадрами, на которых разные режиссеры изображали рай, а также несколько короткометражек на религиозную тему, снятые на 8-мм пленку “Супер Эйт”. Чем больше я видела, тем интереснее мне становилось. Я даже несколько раз ездила к Уильяму Эверсону, специалисту по истории кино, который показал мне такие шедевры, как “Страсти Жанны д’Арк” Дрейера, “Красавицу и чудовище” Кокто, “Лилиоме” и трилогию о Докторе Мабузе Фрица Ланга. Мы набрали отличный материал и познакомились с людьми, которых также интересовала эта тема, – такими как Альфред Роблс, Грейс Йохансон, Дон Кинг и пастор Роберт Хаймерс, автор книги “Инопланетяне и библейские пророчества”.
Когда мы приступили к съемкам интервью, я начала задавать своим подопытным всякие неудобные вопросы – например, занимаются ли в раю сексом, есть ли там любовь, не боятся ли они сами умереть. Моими первыми жертвами стали мама, папа и бабушка Холл.
– Если загробный мир все-таки существует, – уверенно вещал папа, – и окажется, что я прожил не самую грешную жизнь, не вижу никаких препятствий тому, почему бы нам с Дороти не быть вместе и после смерти.
– Я на эту тему не люблю думать, – добавляла мама.
– Да, – соглашался папа. – Некоторые мои партнеры по бизнесу думают о смерти, а я – нет.
Бабуля Холл подвела общий итог:
– Нет никакого рая. Вы сами хоть раз видели кого-нибудь из тех, кого любили, после их смерти? Нет? То-то же. Никто после смерти еще к нам не возвращался – мол, здрасьте, вот и я, давненько не видели. Если вам кто говорит, что уже умер и попал в рай, – вы ему не верьте, это он вам врет.
После монтажа, с которым мне очень помог Пол Барнс, мы начали предпоказы. Выяснилось, что лучше всего на “Рай” реагируют представители двух групп: женщины и “духовные” личности – они же чудаки и городские сумасшедшие. Мы начали беспокоиться. Хватит ли нам такой аудитории, чтобы добиться хотя бы умеренного успеха? В самом фильме чудаков хватало: например, была женщина, которая утверждала, будто “однажды ко мне явился дух Христа. Он вошел ко мне в спальню через окно. Его грудь была сделана из неба, а плечи – из облаков. Он двигался, как морская волна, и до меня донеслись нежные звуки арфы, похожие на тихий шелест ветра. Иисус проплыл по моей спальне. Я сказала ему: «Пройди в ванную», и он поплыл в ванную. Потом сказала: «Плыви в гостиную», и он отправился в гостиную и сел на диван. Я сказала: «На кухню», но на кухню можно попасть только через столовую, так что ему пришлось повернуться ко мне лицом – тогда-то я и заметила, что на нем уже другой наряд, а на голове – капюшон. И это – истинная правда”.
Как выяснилось позже, в фильме у нас снялось больше чудаков, чем их нашлось среди публики.
Как бы критики ни поносили “Рай”, мне он все равно нравится. И работать над ним было интересно – как и над “Забронировано”, “Натюрмортами” и “Религиозными деяниями”. Наверное, если бы не мой статус кинозвезды, эти фильмы и книги никогда бы не увидели свет. Но мне кажется, что все это было не зря.
Находка
“Рай” помог мне в очередной раз столкнуться с Ал Пачино. Я встретила его в киноцентре, где проходил монтаж “Рая”. Ал как раз работал там над своим фильмом “Местный стигматик”. Ал, как всегда, был неотразим, и между нами вновь вспыхнул огонь. Правда, на этот раз все было иначе – мы оба заметно постарели. Он уже не был Крестным отцом, я не была Кей Корлеоне. Мы были просто двумя людьми, занятыми в независимом кино. Ал, взъерошенный и неухоженный, был похож на очаровательную, любимую до дрожи дворняжку. Как-то в одно воскресенье он пригласил меня в гости, потом еще раз, и еще раз. В доме у Ала все было по-прежнему. После бейсбольного матча с друзьями Ал вместе с Салли Бойер, Марком (сводным братом Ала), Адамом Страсбергом, Джоном Хэлси и Майклом Хеджесом отправлялся в свой особняк в Хадсоне. Там всегда было шумно и людно. По дому носились три собаки Ала. На огонек то и дело заглядывали начинающие актеры вроде Уильяма Конверса-Робертса или Кристин Эстабрук. Ал вместе со своим учителем Чарли Лафтоном и его супругой Пенни обсуждали неминуемую гибель театра. Ал говорил о своих планах поставить “Саломею” и “Макбета”, и такие разговоры могли тянуться часами. Больше всего в жизни Ал любит театр и бейсбол.
Он – настоящий артист. Именно Ал заставил меня задуматься о разнице между понятиями “артист” и “артистичный”. Я – артистичная, но не артист. Правда, впервые в жизни меня это не волновало – я просто хотела, чтобы Ал меня любил. Я практически уверена, что для Ала я всегда была хорошим другом, с которым можно поговорить по душам. Но, как бы я ни любила слушать, на этот раз мне хотелось куда большего. Я хотела, чтобы Ал хотел меня – так же сильно, как я его.
Посредине этого романа на экраны вышел гомерически смешной фильм “Бэби-бум” о женщине, вынужденной усыновить ребенка. Чарльз Шайер и Нэнси Мейерс выступили в роли сценаристов, режиссеров и продюсеров. Благодаря Нэнси и костюмеру Сьюзи Бейкер, ставшей моей близкой подругой, я в фильме получилась хорошенькой, элегантной и наконец-то смешной. Мне нравилась моя героиня – остроумная и бойкая авантюристка. Я наконец-то вернулась в кино! И помог мне в этом совсем не “Рай”.
Будущее уже не то, что прежде
Когда я приехала в больницу Глендейл, бабушка Холл уже сидела на краю койки и ждала, когда же ее заберут домой. Ее белоснежные волосы были заколоты тремя ржавыми шпильками, а радиоактивного цвета штаны с оранжевыми, красными и желтыми цветами оттеняла бешеного цвета блузка с абстрактными узорами.
– Ты знаешь, что новый дружок Дорри – еврей? Представляешь? А у местной медсестры Холли жених – итальянец. А санитарка тут вообще родом из Ливана. Кажется, она сестра комика Дэнни Томаса.
– Ты как себя чувствуешь?
– Проблемы в основном с головой – там, где железы. Говорят, кровь в мозг плохо поступает, сделали даже рентген. Похоже, врачи считают, что мне кранты. Да ты не переживай так, Дайан! Я прожила долгую жизнь, даже чересчур долгую. Я уже даже планы на будущее строить перестала, так мне надоело жить.
Я была близка с бабушкой – настолько, насколько она меня к себе подпускала. Она умерла в девяносто четыре года. В пятидесятые годы я ее не любила – уж слишком безрадостную картинку мира она всем рисовала. Да и подарки на Рождество она делала ужасные: например, годовой запас грушевого пюре, которое нам доставляли прямо на дом раз в месяц. По-моему, никто из нас даже груши-то не ел. И только с возрастом я начала уважать бабушку – она не была особенной интеллектуалкой, но и двуличием никогда не отличалась. Она была прямолинейной и честной, скептически относилась к миру и была ярой католичкой – странное сочетание, особенно если учесть, что она не верила ни в Иисуса, ни в загробный мир. Она не отрицала двойственности своей позиции, но отметала все претензии в сторону:
– Не верится мне что-то в этого твоего Иисуса, Дайан. Ничто и никогда в этом мире не меняется и вряд ли когда изменится.
Бабушка умерла, считая себя ярой католичкой. Я, бабуль, в общем-то с тобой согласна: лучше верить хотя бы немножко, просто на тот случай, если загробная жизнь все-таки существует.
Дороти, шестьдесят три года
Я – женщина среднего роста (173 сантиметра). Я веду записи в обтянутом кожей дневнике, на котором выбито число 1980. У меня нет неоплаченных счетов или долговых обязательств. Номер моего банковского счета: 45572 1470. У меня четыре иждивенца (ребенка), которые родились 5 января 1946 года, 21 марта 1948 года, 27 марта 1951 года и 1 апреля 1953 года. Их имена: Дайан, Рэнди, Робин и Дорри. Я замужем за Джеком Ньютоном Холлом, гражданином США. У него голубые глаза и волосы с сединой. Его рост – 183 сантиметра. Мы живем в частном доме на участке площадью в 108 квадратных метров. Участок небольшой, но нам удалось построить тут дом, который нам очень нравится. Дом и участок застрахованы от наводнения и пожара. Мы с мужем не стали страховать свои жизни. Мы оба водим. Я – серебристый “ягуар”, регистрационный номер 1FTU749, Джек – “тойоту” с регистрационным номером JNH, выбитым серебристыми буквами на черном фоне. Недавно я составила и подписала завещание. Все предыдущие завещания утратили силу.
Я родилась в Уинфилд-Сити в Канзасе, в округе Кроули, 31 октября 1921 года. В этот год начался президентский срок мистера Гардинга, а в штате Нью-Йорк запустили линию по производству масла “Страна озер”. Мой отец, Сэмюэль Рой Китон, был среднего роста и работал кровельщиком. Мать, Бола, была домохозяйкой с серыми глазами. У них было три дочери: Орфа, Марта и я.
Мне шестьдесят три года, и у меня длинные седые волосы, которые я мою шампунем “Сассун” и кондиционером “Силкаенс”. Сушу мокрые волосы ручным феном “Ревлон” и завиваю щипцами “Клейрол”. Я люблю принимать очень горячую ванну. Чищу зубы щеткой “Орофлекс”, которую смачиваю перекисью водорода. У меня крепкие зубы, и я нахожусь в твердом уме и трезвой памяти. Я стараюсь выпивать минимум 8 стаканов воды в день. Сплю в ночной рубашке под двумя белыми одеялами. Муж спит рядом. По утрам я включаю радио и сразу же надеваю один из четырех своих теплых халатов. Один из них я купила вместе с Дайан в “Мэйсис” за пятьдесят долларов. Еще один – короткий, на шести кнопках – мне подарила Дорри. Есть еще персиково-розовый халат в цветочек. Но мой любимый – поношенный фиолетовый халат из “Сакс” на Пятой авеню. Он уже стал неотъемлемой частью меня и знает все мои мысли и чувства.
На шее и лице у меня есть морщины, но их не слишком много. Я стараюсь ухаживать за собой. На ночь наношу крем, восстанавливающий эпидермис, утром – подтягивающую эмульсию, днем – крем против морщин. Производители обещают невиданный эффект уже спустя 15 дней. Я пользуюсь кремами уже 90 дней и эффекта все еще не вижу. Я крашусь, но не сильно: подвожу коричневым карандашом глаза, использую помады и румяна. Почти всегда брызгаюсь одеколоном.
У нас повсюду стоят радиоприемники, даже в моей темной комнате, где я проявляю фотографии. На подоконнике в ванной стоит голубой приемник. На тумбочках по обе стороны кровати – тоже приемники. Самый новый из них украшает белую столешницу нашей белоснежной кухни. Мы постоянно слушаем радиопередачи. Я пью лекарства от артрита – “фельден” – и каждое утро принимаю витамины. Ношу очки для чтения и храню по паре в каждой комнате.
С возрастом я изменилась. В некотором смысле до неузнаваемости. Физические перемены играют тут не последнюю роль. Я сплю куда больше, чем в юности, и плохо запоминаю сны. Я с удовольствием сижу целыми днями дома. Вечером, когда приезжает Джек, мы ужинаем, разговариваем и выпиваем. Мне не нужны другие люди. Мы редко приглашаем гостей. Я разучилась петь и говорю теперь хриплым голосом. На пианино тоже не играю и не слушаю музыку. Чаще всего сижу в кабинете и раскладываю пасьянсы. Я слишком много времени провожу в одиночестве. Иногда я выезжаю в город, но к часу дня всегда возвращаюсь домой.
Переодевшись в одежду поудобнее, я иногда гуляю по кварталу. Смотрю, как снуют туда-сюда машины – кто уезжает, куда уезжает. Любуюсь Чампом – золотистым ретривером Джима Бочампа. Его жена Марта не любит собак. По-моему, это странно.
Иногда мне кажется, что в глубине души я – художник. Сейчас я тружусь над огромным листом белого картона – пытаюсь превратить его в коллаж. Получается неплохо, но я никому об этом не рассказываю. У меня уже стоят готовыми пять других работ. Две из них покажут на выставке в колледже Санта-Аны. Я работаю, сидя на полу. В основном делаю вырезки из Times. Своими хобби я занимаюсь только после того, как закончу с работой по дому – такая уж привычка. Я застилаю постели, убираюсь в ванной, мою посуду, расправляю занавески, продумываю меню на ужин, пишу список дел на день, одеваюсь и только потом отправляюсь к себе в кабинет. Иногда мне работается хорошо, иногда – не очень. Это неважно – все равно я это делаю только ради себя самой.
У меня нет внуков, и я не уверена, что в моем возрасте это так уж плохо – не хочу, чтобы по дому носились маленькие копии моих детей. Я не готова к такой ответственности.
У меня есть друзья – коты Перкинс и Сайрус. Они требуют, чтобы я кормила их, поила и развлекала. Я часто бываю дома одна, так что нередко завожу интереснейшие дискуссии со своими котами. Например, сегодня утром я взглянула прямо в зеленые глаза Перкинс, сидевшей на раковине, и спросила, каковы ее цели в жизни. Мне правда было бы интересно узнать ответ на этот вопрос. Перкинс проводит весь день, скрываясь от шагов, голосов, других котов, людей, дождя, ветра и звуков радио. Не уверена, что она хотя бы секунду в день радуется своей жизни. Сайрус послушно спрыгивает с кухонного стола, если я напоминаю ему о правиле “На столах не сидеть”, но тут же забывает о нем снова. Зато прекрасно помнит, что, когда я открываю холодильник, надо непременно сунуть туда нос. До меня наконец дошло, что он помнит только то, что хочет помнить. Совсем как человек.
Я каждый день читаю Los Angeles Times. Каждую неделю – Newsweek. Книги – когда получится. У меня есть электрическая печатная машинка “IBM”, очень удобная вещь. Я веду дневник и каждый день делаю в нем записи. Мне нравятся книги, коты, хорошие люди, вкусна еда, бурбон и иногда джин, нравится писать слова и быть одной. Я ЛЮБЛЮ: своего мужа, наших четверых детей, своих сестер, один рабочий день в книжном, закаты, пляж перед нашим домом, свой “ягуар”, свекровь (с недавних пор) и себя (иногда). Раз в неделю я хожу к психотерапевту, который пытается помочь мне увидеть себя в более привлекательном свете. У меня есть три близких подруги, перед которыми у меня нет секретов: Гретхен, Маргарет и Джо. Иногда мы не видимся месяцами. Я не люблю говорить по телефону и никогда не приглашаю гостей – боюсь услышать отказ, как уже бывало несколько раз. Я люблю работать в темной комнате над разными проектами, но не люблю показывать их посторонним. Наверное, меня нельзя назвать цельной личностью. У меня нет каких-то особенных талантов. И в настоящий момент у меня полностью отсутствует всякая мотивация.
Ответ Дайан, шестьдесят три года
Мне шестьдесят три года, мой рост – чуть больше 170 сантиметров. Эмоции и мысли, переполнявшие Дороти в моем возрасте, находят у меня отклик. Например, переживания по поводу старения. Есть ли у меня какие-то особые таланты? Ну, я до сих пор неплохо запоминаю свои реплики. Боюсь ли я, что меня отвергнут? Позвольте, я же актриса. Цельная личность? Вряд ли. Основная разница заключается в том, что Дороти в шестьдесят три уже закончила воспитывать своих четверых детей, а я в этом возрасте занимаюсь тем же, чем она – в двадцать четыре.
Вчера узнала, что Декстер со своим новым парнем (Бен, встречаются три дня) болтает в видеочате.
– Ну мам, я не могу без видеочатов, у меня зависимость! – жизнерадостно призналась Декстер, когда я высказала свое легкое неодобрение.
Зависимость от видеочатов? Значит ли это, что она и на “Фейсбук” тоже подсела? Как же иначе ей удалось за три недели набрать триста пятьдесят друзей? Декстер меня частенько удивляет. Например, как в случае с доктором Шервудом, ее стоматологом. Недавно выяснилось, что ей нужно вырезать кусок десны, которая разрослась на месте удаленного зуба – кстати, Декс несколько месяцев назад мне об этом уже говорила, но стоматолог считал, что все обойдется. Меня поразила стойкость Декс – во время операции она даже не пикнула. Как это непохоже на меня, всегда такую невротичную.
А еще у меня есть Дьюк. Вчера я забирала его из школы. Не успел он сесть в машину, как тут же начал ныть: почему у его семилетнего друга Джаспера есть айфон, а у него, восьмилетнего, нету? Поразительно, но он даже предложил мне купить ему айфон за его собственный счет. Учитывая, что никаких денег, а уж тем более на айфон, у него нет, я поразилась его безбашенной нахальности.
– Мне нужно подумать, – наконец сказала я сыну.
– Как долго ты будешь думать?
– Какое-то время.
– Это сколько?
– Дьюк, поговорим по этому поводу позже.
– Завтра?
– Дьюк!
– Завтра?!
Я поспешно включила радио, надеясь, что хотя бы Райан Сикрест сможет отвлечь моего целеустремленного сына. Мы ехали домой, а я смотрела на пустующие витрины бывших магазинов в Вествуд-Вилладж и думала о звонке от Эвелин – матери подружки Декстер из детского садика. Эвелин позвонила спросить, не знаю ли я кого-нибудь, кому нужен юрист – ее муж лишился работы. Я как раз размышляла, не смогу ли чем-нибудь помочь Эвелин, когда Райан Сикрест превзошел все мои ожидания и поставил любимую песню Дьюка, благодаря чему я смогла помолчать еще целых три минуты.
Когда мы уже подъезжали к баскетбольной школе, Дьюк напомнил, что он уже слишком взрослый для автокресла, и что он хочет теплое шоколадное молоко, а не горячее, так что пусть положат туда лед, и нет ли у меня с собой жвачки? Выезжая с парковки, я бросила на него взгляд – какой же у меня все-таки прекрасный сын. И, только я вспомнила, что сегодня вечером в гости с ночевкой собиралась Кэрол Кейн, раздался звонок. Звонила моя старая подруга и деловой партнер Стефани Хитон:
– “Лореаль” хотят проспонсировать показ “Потому что я так хочу” на канале “Лайфтайм” в день матери, – сообщила она мне, а заодно напомнила о речи, которую мне надо было написать и запомнить для выступления на форуме “Каждая жизнь уникальна”.
Я начала беспокоиться, что ничего не успею.
Мне шестьдесят три, и у меня есть дочь, которая не хочет плыть четыреста метров на соревнованиях. Она не хочет, не может, не будет. Упрямится, скандалит, но в итоге плывет. Дьюк возмущается, почему я никогда не позволяю делать ему то, что ему хочется. И все втроем мы по утрам пьем таблетки: Декстер – от мигрени, я – витамины, наш старенький пес Ред – пять капсул от болезни Кушинга, Дьюк – свои “биотики” (так он называет витамины), толста я собаченция Эмми – таблетки, призванные восполнить недостаток веществ, заставляющий ее подъедать на улице какашки. Мы скармливаем эти таблетки Эмми уже полгода, а эффекта что-то все не видно.
Мне шестьдесят три, но я еще умею получать удовольствие от жизни: например, вычищая уши Эмми или гладя в общественном месте Дьюка по голове. Да и моя вечная борьба за один поцелуй в неделю от Декстер того стоит. Объятия и поцелуи вообще делают жизнь гораздо проще. И как здорово, что я до сих пор могу прокатить Дьюка на своей спине! А вечерами нет ничего приятнее, чем смотреть, как тщательно ухаживает за собой Декс, нанося на лицо бесконечные кремы и маски. Хорошие сейчас времена.
Мне шестьдесят три, но я не могу позволить себе переодеться в старые штаны и наблюдать за жизнью в окно, как делала мама. Я не скрываюсь дома от раздражающих меня людей, надеясь, что одиночество сделает меня счастливой. Я знаю, что одиночество – это не выход. Но я утешаюсь тем, что мы с мамой хоть в чем-то были похожи: мы чувствовали в себе потребность выражать мысли и эмоции. Дороти смогла понять, чем ей нравится заниматься, – она писала. И, когда она писала, она не переживала, что подумают о ней окружающие, не боялась, что ее отвергнут. Она была увлечена. Она собирала свидетельства бытия Дороти Диэнн Китон Холл.
Папа всегда твердил мне: думай, думай, думай. Думай наперед, Дайан. Но я научилась думать только благодаря маминым страданиям, переживаниям и ее любви. Она поддерживала меня во всех начинаниях, которые изменили мою жизнь. Маленькой девочкой мама, как и я, ждала от жизни чего-то необыкновенного – но рядом с ней не было никого, кто поддержал бы ее в ее мечтах. Тогда были тяжелые времена – годы Депрессии, а не счастливые и сытые пятидесятые. И у Дороти была Бола. А Дайан повезло гораздо больше – у нее была Дороти.
10. Это навсегда
Правый ботинок Джека Холла
Во время съемок третьего “Крестного отца” в Риме я поставила Алу ультиматум: или я ухожу, или он женится на мне (ну или хотя бы хранит верность). Мы расставались, сходились снова, разбегались снова. Бедный Ал, он ведь никогда не хотел жениться. Бедная я – я никак не переставала на этом настаивать. Сейчас мне даже сложно понять, почему я так отчаянно пыталась реализовать свои фантазии, не обращая внимания на достоинства реальности.
Вспоминая все свои неудавшиеся романы, я всегда думаю о Джеке и Дороти и о том, как они танцевали в Энсенаде. Мама никогда не поднимала вопрос моего незамужнего статуса. Наверное, боялась сболтнуть лишнего. Мы не обсуждали взаимоотношения с мужчинами, чего от них ожидать и как справляться с разочарованиями. Вряд ли мама, с ее полным противоречий взглядом на мужчин, могла посоветовать мне что-то дельное. У нее и самой было полно вопросов, на которые она так и не смогла найти ответы.
Не знаю, что она пыталась от меня скрыть. Вряд ли ее взгляды на романтическую любовь – скорее, на то, во что она превращается в потоке рутины.
Я не знаю, как она относилась к Уоррену и Алу и к моим с ними романам. Знаю, что она обожала Вуди, который искренне интересовался ее творчеством, особенно фотоснимками. Когда же я спросила у папы, что он думает по поводу отношения полов, он заявил:
– Женщины любят крепкие зады, – и на этом был таков.
В третьей части “Крестного отца” царит унылая атмосфера кризиса среднего возраста. Все герои постарели, но счастья не обрели. Фрэнсис Коппола предпочитал управлять процессом съемок из своего серебристого трейлера. Обстановка чуть оживилась, когда на площадку приехала Вайнона Райдер, игравшая дочь Кей и Майкла, вместе со своим женихом Джонни Деппом. Вайнону срочно отправили в гримерку, и я с жалостью смотрела, как гримеры надевают на ее изящную головку огромный черный парик. Мне сразу вспомнился блондинистый парик, который водрузил на меня Дик Смит, когда мне было двадцать три. Вечером Фрэнсису доложили, что Вайнона упала на съемках в обморок, и он отдал роль своей дочке Софии – и потом говорил, что писал эту роль изначально под нее.
Когда об этом узнали глава “Парамаунта” Франк Манкузо и его правая рука Сид Ганнис, они обещали “разобраться с ситуацией”.
На следующий день Франк с правой рукой улетели в Палермо, и за ужином Ганнис поделился своими переживаниями по поводу Софии с Алом. “Парамаунт” не хотели видеть в фильме дочку Копполы. Сид Гэнис решил, что поедет и поговорит с женой Фрэнсиса Элли, и попробует вразумить ее. Странно, что он выбрал для беседы Элли, а не самого Фрэнсиса. Конечно, в итоге роль моей экранной дочери сыграла София.
На обратном пути в машине Ала зазвонил телефон – звонила Робин. Она переживала за папу, который вдруг начал странно себя вести. Не мог вспомнить, как зовут Рэнди, потерял кошелек, но совершенно из-за этого не расстроился. Это было совсем на него не похоже. Когда спустя несколько дней я позвонила маме, она сказала, что биопсия выявила у папы опухоль центральной нервной системы в четвертой стадии. Опухоль была размером с грейпфрут. Мама передала трубку папе, и я спросила, как он себя чувствует.
– Мне собираются надеть на голову обруч, чтобы понять, докуда она выросла. У меня опухоль в мозгу, и она не выходит у меня из головы. Обещают устроить меня в экспериментальную программу, начать облучение. Не знаю, Ди-Энни, ничего не знаю. Только исполнилось шестьдесят восемь, как вся жизнь покатилась под откос.
Фрэнсис сделал широкий жест и первым же самолетом отправил меня в Лос-Анджелес. “Боинг” приземлился, и я поспешила в больницу Калифорнийского университета, где и обнаружила папу – такого же, как всегда, только с повязкой на бритой голове и трубкой, торчащей из вены. Словно трубка была поводком, а папа – собакой. Он подтянул штаны. По телевизору, прикрученному к стене, показывали его любимое шоу.
– Как ты себя чувствуешь? – спросила я.
– Ох, Дайан, я уже старый человек и достаточно пожил. Поверь мне, шестьдесят восемь – это не так уж мало.
Папе предложили разные варианты лечения. Можно было пройти курс лучевой терапии и поучаствовать в экспериментальной программе уважаемого врача и ученого, который назвал папу “идеальным кандидатом”. Рак развивался очень быстро и отличался агрессивностью, но в остальном папа мог похвастать крепким здоровьем. Лечащий врач считал, что попробовать стоит. Кажется, Робин говорила, что то лечение предполагало стимуляцию иммунной системы. В общем, папа согласился рискнуть. Мама отвезла его домой, чтобы он прихватил с собой кое-какие вещи, и вместе они поселились в “Ройял Паласе” в Вествуде, откуда было недалеко до больницы. Папа начал проходить лучевую терапию.
Против лечения возражал доктор Коупленд, старый папин друг и терапевт.
– Чем старше человек, тем агрессивнее рак. А у него опухоль в фронтальной доле, которая отвечает за концентрацию. Неважно, будет лечиться Джек или нет, он все равно уже не будет таким, как прежде. Начнет терять аппетит, меньше спать, хуже соображать. В конце концов впадет в кому, у него остановится сердца, он получит пневмонию и умрет. С таким раком прогноз очень, очень неблагоприятный, – говорил он.
Я приезжала в “Ройял Палас”, брала папу за руку и шла с ним в соседний ресторан “Арби” за сэндвичами с ростбифом. Помогала снять ему пиджак – было жарко. Изнутри белел подписанный черной ручкой ярлычок: “Собственность Джека Холла, при находке вернуть по адресу Корона-дель-Мар, Коув-стрит, дом 2625”. Папа всегда ревностно относился к своим вещам – халат Джека Холла, шорты Джека Холла, пижамные штаны Джека Холла.
Мы сидели на пластиковых стульях и ели. Потом возвращались в отель – постройку шестидесятых годов с неоновыми указателями. Снаружи здание казалось безобидным и даже гостеприимным, но это впечатление быстро пропадало, стоило только попасть внутрь. В залитом флюоресцентным светом холле в креслах сидели лысые мужчины и иссохшие женщины. В воздухе витало смирение, и каждый постоялец выглядел вором, тайком позаимствовавшим у жизни лишний день. Тесный номер, в котором остановились родители, был не лучше. По обе стороны от кровати стояли папины ботинки – левый ботинок Джека Холла и правый ботинок Джека Холла.
Большая машина
На следующий день мы с папой пошли гулять по огромному комплексу больницы, пока не добрались до кабинета лучевой терапии. Там царил полумрак – наверное, чтобы не так заметно было плачевное состояние посетителей.
– Ну, пора малому в отсеке за толстыми стеклами приступить к работе. Правда, если они продолжат и дальше меня облучать, скоро я стану совсем лысым, как Юл Бриннер.
Я села ждать папу в коридоре. Подняв глаза, я вдруг увидела Рокко Лампоне, одного из бандитов в “Крестном отце”. Что он тут делает? Том Роски, исполнитель роли Рокко, подошел к нам поздороваться. Начал расспрашивать меня о третьей части “Крестного отца”, пожалел, что его персонажа убили в предыдущем фильме. Когда по громкоговорителю объявили очередь Джека Холла, Том внезапно взял меня за руку. Он тоже был болен. Я пошла проводить папу в комнату с большой и страшной машиной, и Том помахал нам рукой. В следующем году он умер. Лучевая терапия не особо помогла ему – она немного продлила ему жизнь (больше, чем папе), но ненадолго.
Рентгеновскому аппарату тошнотного бежевого цвета было лет двадцать, не меньше. Он во всем был похож на бытовую технику пятидесятых – и цветом, и дизайном он напоминал безумную смесь тостера, гриля и пароварки. Медбрат нарисовал на папином лбу зеленый крест, обозначая зону для облучения. Рентгеновская машина, измученная после долгих лет борьбы с раком, казалась почти безобидной. Папу привязали к кушетке, и тень от его головы поползла к стене, оклеенной фотообоями с изображением тропического леса.
На обратном пути в отель мы с папой пошли по Ле-Конт-авеню, мимо бывшей парковки “Баллокса”. Папа не торопился. Мы держались за руки. Вдруг папа остановился, внимательно поглядел себе под ноги, наклонился, поднял из пыли пластиковое колечко и отдал его мне. Папа любил рассматривать сломанные ручки, щербатые столы и капли воды, причудливыми дорожками стекающие по стенкам кухонной раковины. Он с любопытством смотрел на мир, и с годами его интерес к мелочам только рос.
Я надела кольцо на мизинец, а папа пошел к огромному платану неподалеку – углядел там малиновку.
Вечером мы пошли ужинать в ресторан. Мама надела черное платье, а вокруг шеи на манер шарфа повязала красные папины “боксеры” в клеточку. Он был ее мужчиной, и она готова была доказывать это всем и каждому, надевая на себя его нижнее белье. Папа съел всю свинину по-китайски и выпил виски со льдом. Мы были одной счастливой семьей. Можно было подумать, что так будет всегда. Разумеется, это не так, но что живет дольше – правда или воспоминание о счастье?
Я вскрыла печенье с предсказанием: “Цени то, что имеешь, чтобы не грустить потом, когда это потеряешь”.
После двух недель облучения папа сказал, что его мозг как будто полностью умер.
– Такое интересное ощущение, – говорил он мне. – Я половину времени вообще не понимаю, где я. И в общем-то неплохо себя чувствую – если не считать моментов, когда доктора суют мне в зад пальцы.
Спустя две недели папин разум начал давать сбои. Он не жаловался, лишь выдавал иногда странные монологи.
– Сегодня проснулся посреди ночи, – рассказывал он, – потому что захотел вычесать волосы из головы, пока она не треснула. Начал искать расческу, но не нашел, поэтому решил предоставить Дороти заняться этим. Но когда она открыла холодильник, увидела внутри голубя, который искал свои солнечные очки.
Мама начала сдавать.
– Может, отвести его в Санта-Монику? – говорила она. – Просто чтобы он сидел на пляже и смотрел на волны. Мне кажется, ему это необходимо. Я так переживаю, Дайан, они же заживо его мозги зажарят. А все эти таблетки? Он их пьет безропотно, даже не возражает. Но становится все хуже. Заказывает в “Арби” молочные коктейли, а потом их не пьет. И есть он перестал. Врач переживает, но какое ему в конечном счете до нас дело? Все же понимают, что эксперимент, который они ставят на Джеке, провалился, и врача беспокоит в первую очередь программа, а не Джек.
При виде моего отца, внимательно изучающего свою зубную щетку в ванной отеля или сидящего в очереди с Рокко Лампоне и другими пациентами, у меня разрывалось сердце.
– Жизнь – это всего лишь пересадочный пункт, – говорил он порой. – Тут как в цирке, Дайан, – если уж пришел, будь добр, отсиди все представление до конца.
Спустя еще пару недель голова у папы приобрела красный оттенок и стала совсем как грудка малиновки и даже краснее, чем перья самого яркого из красных кардиналов.
13 апреля папа вышел из экспериментальной программы и на скорой был доставлен домой.
– Дело не в количестве отпущенных ему дней, а в их качестве, – сказал нам его доктор.
Мы ему не верили. Папа еще может поправиться, так ведь?
А папа тем временем выглядел все хуже и хуже. Было ясно, что в программу ему уже не вернуться.
Днем в праздник Вознесения папа разложил на обеденном столе перед каждым из шести стульев по блокноту, раздал нам по ручке и достал толстую записную книжку, перевязанную дюжиной резинок. Это был последний раз, когда мы собрались всей семьей за одним столом.
В записной книжке хранилась информация о его финансах – оценка недвижимости, акций и так далее. Папа сообщил, что после его смерти штат возьмет налог на наследство, который составит примерно 55 %. Мы закивали.
– Хочу составить завещание на ваше имя, дети, чтобы вы были готовы к тому, что произойдет, – он взял в руки желтый карандаш и поднес его к солнечным лучам, пробившимся в комнату. Любовно провел пальцем по каждой грани карандаша, который знал так много его секретов.
Не торопясь (куда ему было торопиться?), папа положил карандаш, покатал его по столу. Еще раз, и еще раз, и еще раз.
– У вас есть какие-нибудь вопросы? Рэнди? – Рэнди покачал головой. – Рэнди, у тебя точно нет вопросов?
Рэнди улыбнулся мертвой улыбкой, которая всегда появлялась на его лице во время споров с отцом, встал и ушел. Встреча прошла практически в полной тишине.
Мы обедали на террасе, а папа сидел и смотрел на океан – и даже не пил свой любимый виски. Робин говорила маме, чтобы та не пугалась, если вдруг у него начнутся судороги, и перечисляла, что надо будет сделать:
– Повернешь его на бок, чтобы он не подавился языком. Это не сложно, не переживай. Потом подставь ему под голову колено, чтобы он не разбил себе ненароком голову.
Папа выглядел еще более отстраненным, чем обычно.
– Огромное ничто, да, пап? Огромное ничто, а после него – бесконечное ничто.
Когда я в следующий раз говорила с Рэнди, то спросила, почему он так внезапно ушел из гостиной.
– Я звонил папе на прошлой неделе, – ответил он. – Я хотел, чтобы после всего, что между нами было, он знал: я его люблю. И знаешь, что он сказал?
“А что, разве между нами что-то было не так?” Понимаешь, Дайан? Он даже не мог понять, о чем я говорю.
Папа никогда не оставлял намерений сделать из Рэнди “большого человека”. Он хотел, чтобы его сын, Джон Рэндольф, стал продолжателем бизнеса. А вместо этого Рэнди сидел в своем кондо на Танджерин-стрит и писал стихи о путешествиях подземных птиц. Папа, как и бабушка Холл, не мог его понять.
– Птицы летают, а не живут под землей, – возмущался он.
Но Рэнди стоял на своем и продолжал писать поэмы о птицах, которым не суждено было летать. Папа считал, что Рэнди все в своей жизни делает через задницу. Например, когда в доме, который папа ему купил, температура достигла тридцати пяти градусов, Рэнди даже не догадался открыть окно. Он сводил папу с ума. Жалко, что папа так и не понял, что Рэнди совершенно бесполезно приказывать – он всегда делал только то, что хотел.
Снова вместе
Спустя три недели я вернулась в Палермо и поразилась царящей на съемочной площадке атмосфере. Казалось, все вокруг вот-вот взлетит на воздух. Фрэнсис все так же сидел в своем трейлере, переписывая финал фильма. Мы с Алом расстались в двенадцатый раз подряд и перестали даже здороваться.
Холодным субботним утром Фрэнсис позвал нас репетировать в тот самый зал, где когда-то Вагнер сочинил оперу “Парсифаль”. Собралась обычная компания: Энди Гарсия, Джордж Хэмилтон, Талия Шайр, София (которую вскорости поместил на обложку Vogue), Ричи Брайт, Ал и Джон Сэвэдж. Ко мне подошел Эли Уоллак:
– Ты молодец, настоящий борец.
Борец? Я?
В театре “Массимо” софиты повесили вверх тормашками, чем вывели из себя Гордона Уиллиса. Пока мы ждали, когда же Фрэнсис в сотый раз перепишет концовку, я размышляла о параллельных вселенных “Крестного отца”. В одной из них Талия убивает Эли, Ал слепнет, а Энди бросает Софию за секунду до ее убийства. Слепой Ал, обнаружив свою мертвую дочь на ступенях театра, пускает пулю в лоб. В другом варианте Ал только прикидывается мертвым, а потом оказывается жив. Еще в одном варианте Ала не убивают, а только ранят – но потом убивают уже на Пасху, по пути в церковь. Была и версия, в которой Ала убивают в театре, а София остается жива.
Никто не знал, на каком варианте остановится Фрэнсис, и будет ли этот вариант окончательным, или нас ждет очередная итерация в поисках идеального финала блестящей саги гениального режиссера?
В итоге из съемок финальной сцены последнего “Крестного отца” мне запомнилось только одно: как я плакала. Плакалось легко и просто – нужно было всего лишь подумать о папе, и слезы сами текли ручьем. Чтобы перестать плакать, я думала об Але – мы с ним опять сошлись.
Мне было плевать, получится у нас что-нибудь или нет. Я была просто счастлива, что он рядом. Я слушала, как он читает “Макбета” вечерами, и наслаждалась звуками его голоса. Он был совершенно безумен и абсолютно прекрасен. Называл меня “Ди”.
– Ди, свари мне черный кофе покрепче. Ди, иди сюда, давай поболтаем.
Однажды он рассказал мне о своем детстве – как он рос на улице, и этот разговор я запомнила на всю жизнь. Он любил осень и как тени падали на старые дома. Говорил, что для него весь мир – как та улица в Бронксе, на которой он вырос. Все прекрасное он сравнивал с теми временами, когда золотое солнце освещало своими лучами его друзей и родной дом. Я слушала.
Ал ненавидел прощаться и предпочитал исчезать “по-английски”. Иногда я просыпалась ночью и находила его на кухне, где он попивал чай с “M&M’s” или ел попкорн. Он любил простую еду и когда все просто. И мне это нравилось. Я любила его, но моя любовь не делала меня лучше. Жалко признавать, но я не была простой – меня для него всегда было слишком много.
История об истории жизни моего папы
После завершения моих съемок я вернулась домой. В тот же день папа велел маме пойти найти ружье, чтобы он мог убить всех соседей.
– У меня плохо пахнет изо рта? – спрашивал он, стоя на коленях на полу в спальне и поддевая пальцем паркетную доску.
Он страшно исхудал и еле мог удержать в руках чашку. Он больше не ходил смотреть на птиц – он вообще перестал ходить. Неблагоприятный прогноз доктора Коупленда оправдался.
В начале августа папа практически перестал говорить. Иногда я приходила к нему в больницу, садилась на краешек кровати, смотрела в окно и рассказывала ему о его же жизни. Как он однажды отвез нас в Сан-Бернардино, где открыли какое-то новое кафе под названием “Макдоналдс”, с гамбургерами за пятнадцать центов и апельсиновым соком за пять. Я спрашивала: помнит ли он огромную красную вывеску “Гамбургеры по системе самообслуживания. Продано БОЛЬШЕ 1 миллиона штук”? Помнит ли он вкус гамбургеров, помнит ли эту вывеску? Папа улыбнулся, но не кивнул.
Однажды я рассказала папе про то, как он не раз вывозил нас на Тихоокеанское шоссе – через Пятьдесят пятую авеню и Пасадену, – и оттуда мы ехали аж до Палос-Вердес. А там они с его другом, Бобом Бландином, первым делом бежали проверять ловушки для лобстеров, а потом ныряли с утеса в океан. В Палос-Вердес стояла знаменитая стеклянная церковь, возведенная Ллойдом Райтом, в которой мечтали сочетаться браком все молодые парочки – оттуда открывался отличный вид на океан. Я спросила у папы, помнит ли он, как однажды в церкви отменили все свадьбы, потому что в тот день из-за оползня в океан ушел целый дом. Помнит ли он, что мы, не обращая внимания на оползни, все равно продолжали ездить в Палос-Вердес? Помнит ли, как мы ждали его, сидя в фургончике и поедая мамины завернутые в фольгу домашние бургеры с сыром, майонезом и огурчиками? Помнит ли, как при подъезде к утесам начинал напевать: “Кто украл колокольчик, динь-динь-дон? Знаю-знаю-знаю, Дорри Белл”? Помнит ли, как нагибался, чтобы поцеловать Робин, которую называл малиновкой, и меня, его Ди-Энни О-Холли? Папа качал головой, пытаясь понять, о чем я говорю. Я задавала слишком много вопросов умирающему от рака человеку.
Еще я рассказала, как однажды подсматривала за ним в спальне, пока она раскладывал пяти-, десяти – и двадцатипятицентовые монетки по специальным колбочкам “Банка Америки”. Заполнив колбочки, он открыл ящик, заполненный такими же колбочками, и положил их сверху. Помню, как довольно он смотрел на видимые результаты своих трудов. Он, сын Мэри Элис Холл, с радостью идет к своей мечте и зарабатывает капитал.
Я говорила папе, чтобы он обязательно гордился всеми теми мечтами, до которых у него не дошли руки. Я говорила ему, что обязательно расскажу своим детям о его достижениях – хоть и понимала, что детей у меня, скорее всего, никогда не будет. Папа мне не ответил. После этого я перестала рассказывать ему истории.
От коронера[11] приехал толстый мужчина в черном костюме. Он надел силиконовые перчатки и начал осматривать папино тело. Это не заняло у него много времени. Закончив, он нацепил на большой палец папиной ноги ярлычок. Больше никаких правых и левых ботинок Джека Холла. Мы с Робин и Дорри вышли во двор. Сквозь окно было видно, как два работника похоронной службы перекладывают папу на каталку. Его накрыли темно-синей тканью и повезли на улицу – сквозь гостиную, через кухню и гараж. Я следила за этой процессией взглядом. Потом они захлопнули дверь машины, и сквозь стекло я смогла рассмотреть лишь темно-синий кусочек ткани – цвета океана на рассвете.
Останки
Спустя два месяца после папиной смерти в тиши кабинета психоаналитика Ал озвучил то, о чем я уже догадывалась: он не собирается на мне жениться. Напротив, хочет меня бросить. Так он и поступил – ушел в калифорнийский рассвет, даже не оглянувшись, и в тот же день улетел в свой родной Нью-Йорк, к Вашингтонскому мосту, водителю Люку и собаке Лаки.
Вот все, что от него осталось:
1. Восемь розовых бумажек с вензелем отеля “Шангри-Ла”, датированных 1987 годом, с надписью: “Звонил Ал”.
2. Страница, вырванная из сборника нот, с песней “Могу лишь мечтать”. Сверху – надпись: “Дорогой Ди”, снизу – “С любовью от Ала”.
3. Поздравительная открытка, подписанная: “С любовью от Ала”.
4. Письмо, датированное декабрем 1989 года: “Дорогая Ди, мне почему-то ужасно одиноко, так одиноко, как не было уже давно. Не знаю почему. Наверное, потому что кругом чужие люди, которые говорят на непонятном мне языке. Это одна из причин. А главная причина – то, что тебя нет рядом. Пишу это письмо, сидя в уличном кафе в Риме. Идет дождь. Я смотрю на красивую площадь с церковью и говорю сам с собой, сложив руки, словно в молитве. Но на самом деле у меня в руках диктофон. А со стороны выглядит так, будто я разговариваю с собственными пальцами. Если бы я только мог надиктовать письмо, не шевеля губами! В общем, пытаюсь сказать, что соскучился. Довольно очевидно, да? Скоро позвоню. С любовью, Ал”.
5. Записка на помятом клочке бумаги:
“Дайан, мы с Энди и Доном поехали в ресторан в Монделло. Позвоню, как узнаю точное название, а пока сиди тихо и не буди лихо. С любовью, твой друг Ал”.
6. Записка от 29 января 1992 года:
“Дорогая Ди, услышал, как с тобой говорила по телефону Анна Страсберг – кажется, она сказала, будто я передаю тебе привет или что-то в этом роде. Я этого, конечно, не делал. Я никогда бы не стал использовать такой способ, чтобы с тобой связаться, и мне невыносима мысль, что у тебя могло сложиться обо мне столь ложное впечатление. Если я захочу с тобой поговорить, мне не нужны будут посредники. Прошу прощения! Л., Ал Пачино”.
7. Отпечатанная на машинке записка от 19 августа 1995 года:
“Дорогая Ди, спасибо за твои добрые слова о Лаки. Как хорошо, что ты так понимаешь мою любовь к этой собаке. Спасибо! Слышал о твоей матери – надеюсь, она скоро поправится. Передай ей мои наилучшие пожелания. Все это очень тяжело, как, впрочем, и сама жизнь. Я ничем не могу тебе помочь, кроме как дать знать, что я в какой-то мере понимаю, через что ты сейчас проходишь. Еще раз спасибо за письмо, оно пришлось очень кстати. Думаю о тебе и переживаю. С любовью, Ал”.
Портрет
В конце ноября папин прах стоял на полке в книжном шкафу нашего дома в Аризоне. Дорри с мамой ждали меня из Далласа. Утром в день моего прилета Дорри проснулась от громкого стука. Открыв французскую стеклянную дверь на балкон, она увидела плачущую горлицу, лежавшую в луже крови.
Я приехала вовремя, чтобы успеть выполнить папину волю. Мы втроем поднялись на небольшой холм, с которого открывался вид на долину и горы Санта-Рита вдали. Мы вбили в землю собственноручно сделанный деревянный крест, прикрепили к нему папину фотографию, написали имя, дату жизни и смерти. Спрятали под камнями пару стодолларовых бумажек – решили, что деньги ему в путешествии по загробному миру не помешают. Рядом с папиным прахом положили мертвую горлицу – вдвоем путешествовать веселее. Мы не знали, куда они держат путь, но были уверены, что лучше преодолевать его не в одиночку.
В 1990 году я потеряла отца и Ала. В каком-то смысле смерть отца подготовила меня к расставанию с Алом. Папа пять месяцев жил с опухолью мозга, и за это время я поняла, что любовь – любая – это тяжелый, но очень благодарный труд. Я наконец поняла, что любовь – это не просто мечты о романтике. Как выяснилось, я была готова потерять Ала, но не была готова потерять отца. Его смерть изменила мою жизнь – кардинально.
Однажды, когда папа лежал и смотрел не моргая в лицо смерти, я сделала его фотографию. Он был где-то далеко – парил в небесах над Калифорнией, готовясь отправиться в свой последний полет. Некоторые говорят, что фотографии всегда лгут, но каждый раз, когда я смотрю на папины глаза, полные страдания, я понимаю, что это не так. Наверное, странно хранить снимок, на котором запечатлен не молодой или счастливый папа, а папа на пороге смерти. Но я не могу так просто сбросить со счетов то, как он ушел из жизни. Ничего не понимающий, окруженный видениями и галлюцинациями, папа ничего не боялся. Глядя на него, я надеялась, что смогу с таким же мужеством смотреть в лицо жизни, как он смотрел в лицо смерти – прямо и не моргая.
– Я знаю, что весь мир на тот свет с собой не возьмешь. Я не понимаю, где я и кто я, Дайан, но мне все же лучше. Мы так поздно понимаем, как важны мелочи! Взять, например, твою мать – я очень люблю ее, хоть и не знаю, что придет ей в голову в следующую секунду.
И это изречение принадлежало на Норману Пилу, не Дейлу Карнеги. Оно принадлежало моему папе.
11. Последствия
Два письма
Дорогой папа,
Сегодня – первый день 1991 года. Думаю, ты был бы рад увидеть нас такими, какие мы есть. Сегодня сияет солнце. Робин пошла в магазин с Райли и маленьким Джеком – он такой смешной малыш. Мы с Дорри и мамой сходили посмотреть дом на Оушен-драйв. Представляешь, за дом в 185 квадратных метров и почти без вида на океан просят два с половиной миллиона долларов! Ты бы гордился мамой – она такую мину там скорчила!
Когда мы вернулись домой, Дорри уложила Уилли, я открыла бутылку вина и мы сели обедать. Мама приготовила запеканку из тунца. Дети на десерт объелись конфет – твоих любимых шоколадных черепашек.
На улице так тепло, что мы даже съездили искупаться. Мы с Робин и Дорри отлично покачались на волнах с людьми, у которых нет своего домика на пляже, за который тебе большое спасибо. Потом к нам присоединились мама и дети, и мы начали строить замки из песка. Райли показала мне, как это надо делать. Думаю, она в конце концов займется бизнесом – вся в тебя. Маленький Джек с удовольствием разглядывал ведра в воде, в которых плавали маленькие крабики.
Думаю, ты бы знатно повеселился, глядя, как мы втроем рассматривали проходящих мимо красавчиков. Дорри все шутит, что я всегда ведусь на один и тот же типаж, но это неправда – нет у меня никакого типажа. Помню, ты говорил, что все женщины любят мужчин с крепким задом, но дело же не только в этом! Мы с Алом расстались спустя пару месяцев после твоей смерти. Грустно, но познавательно. Не знаю, научусь ли я хоть когда-нибудь “правильно” любить мужчину. Жалко, что мы с тобой были не так уж и близки. Жалко, что я не научилась любить тебя хотя бы чуточку сильнее.
Как бы то ни было, первый день 1991 года выдался очень даже неплохим. На пляже было особенно хорошо. Пять твоих женщин и один маленький мальчик по имени Джек – в твою честь.
С любовью,
ДайанДорогой Джек,
Хочу поговорить с тобой о вещах, которые поняла слишком поздно. Знаю, ты бы не хотел, чтобы я о чем-либо жалела. Но кое-какие мелочи меня все же тревожат. Если бы я знала, что время не стоит тратить на глупые ссоры и переживания. Надо быть счастливыми в компании друг друга, пока это возможно.
Мне до сих пор кажется, что ты где-то рядом. Когда кажется особенно сильно, смотрю в небо (как будто бы ты там) и ощущаю тебя близко-близко. Наверное, я стала совсем старая. Горько признавать, но и голова у меня соображает уже не так, как прежде. Меня это беспокоит. Я до сих пор храню красное сердечко, которое ты мне подарил на День Святого Валентина, – то, с шоколадками внутри. Или это было два года назад? Видишь, о чем я, Джек? Память меня подводит.
Хотела тебя кое о чем попросить. Пожалуйста, не покидай меня. Ты мне нужен. Попробуй пробиться с небес ко мне, хорошо? Прошу тебя. Мне так без тебя одиноко. Не знаю, почему я не говорила, как сильно люблю тебя, когда ты сидел за столом напротив меня? Ты пил, играла музыка, шкворчал ужин на плите. Может, ты знаешь ответы на все мои вопросы? А я знаю только то, что обнимала тебя, когда ты умирал. А кто будет обнимать меня, Джек? Кто будет держать меня в объятиях теперь, когда тебя нет?
Я люблю тебя.
Твоя ДоротиЦена красоты, март 1991 года
Иногда дождь начинается как будто из ниоткуда. Потоки мутной воды поломали желтые крокусы у меня в саду. Даже отправившись ужинать с Даной Дилэйни и Лидией Вудворд, двумя моими потрясающими одинокими подругами, я никак не могла прекратить думать о погибших цветах. Дана заказала себе бокал каберне и спросила, не встречаюсь ли я с кем-нибудь. Я сказала, что есть один мужчина в Ньюпорт-Бич, но так, ничего серьезного.
– Вы с ним спите?
– Нет, не спим.
Я спала в полном одиночестве. Мне хотелось сказать подругам, что мои легкие до сих пор заполнены пылью прошлого. Меня совершенно не интересовал какой-то гот с татуировками на шее – с куда большим удовольствием я смотрела на счастливые лица семей, поедающих мороженое в музее восковых фигур. Почему-то одиночество Лидии казалось мне куда привлекательнее бесконечных побед Даны на сердечном фронте.
После Ала я растеряла всякую уверенность в собственной сексуальной привлекательности. Честно говоря, у меня и раньше ее немного было, но не в этом дело. Я настроила себя на неудачи и провалы, я даже не сомневалась, что меня ждут именно они. Наверное, я для Ала была недостаточно красивой. Наверное, Алу, также как и Ронни Макнили в школе, не понравилось мое лицо. Все дело в нем.
Иногда очень сложно разделить красоту и привлекательность. Это все-таки очень разные вещи. Красота – изменчива, она приходит и уходит. Например, бабушка Холл была красивой всего раз в жизни – в тот год, когда она умерла. Натали Вуд в “Великолепии в траве” дошла от симпатичной до красивой в течение фильма. Анна Маньяни была уродливо красива. Все эти женщины были красивы, но красота ничего им не обещала. Она не была вечной.
Чтобы стать привлекательной, мне достаточно было сделать подтяжку, чуть подправить опущенные веки и форму носа. Пластические хирурги с радостью бы взялись за мое лицо. Но что бы это изменило? В моем возрасте с внешностью экспериментировать уже поздно. И, кроме того, привлекательность уже не играла для меня такой роли. В конце концов, что такое совершенство, как не смерть творческого порыва? А перемены – необходимая составляющая рождения новых идей. И вот новых идей мне катастрофически и не хватало.
Разница между привлекательностью и красотой заключается в том, что привлекательность (как у женщин из секты “Эйвон”, которые стучатся в двери и предлагают наборы аккуратно упакованных кремов) – это тупик. Красота, выраженная в женщинах вроде Анны Маньяни, – живая, постоянно меняющаяся субстанция. Я бы без всякого сожаления избавилась от своей привлекательности, если бы была уверена, что она вообще мне присуща. От красоты так просто не избавишься. Красота – это как жизнь, полная вопросов, на которые нет ответов. Красота – в глазах смотрящего. Значит ли это, что от зеркал нет никакой пользы? Не знаю, достанет ли мне смелости жить без ответов. Или просто перестать смотреть на свое отражение.
Жизнь продолжается
Канал HBO предложил мне роль Хедды Нуссбаум, жертвы домашнего насилия, любовник которой избил до смерти удочеренную ею девочку Лизу. Я отказалась. Хватит с меня жертв. Вместо этого занялась реставрацией дома Райта, который папа уговаривал меня не покупать.
Мы с Дорри съездили в Каньон де Шелли. Я сняла клип “Рай – это место на Земле” для Белинды Карлайл. Прослушала курс лекций для сценаристов в Южно-Калифорнийском университете, который вел Дэвид Говард. Он рассказывал о подготовке и постфинальной обработке сценариев.
– Учиться никогда не поздно, да? – сказал мне один из студентов во время перерыва.
– Да, верно, – ответила я.
Познакомилась с продюсером Джуди Полон, она доверила мне режиссуру телевизионного фильма “Дикий цветок”. Мы позвали в команду оператора Януша Камински, который снимал “Список Шиндлера” для Спилберга. Главные роли будут играть Патриция Аркетт и Риз Уизерспун – обе очень красивые и талантливые.
Рэнди переехал в Лагуну. У Ала родился ребенок. Уоррен женился на Аннетт Бенинг. Дорри купила дом. У Робин двое детей, один муж и три собаки. Я постоянно переезжаю с места на место.
На блошином рынке “Роуз-Боул” ко мне подошла Кэролин Коул, которая ведет коллекцию фотографий газеты Herald Examiner в центральной библиотеке Лос-Анджелеса, и предложила взглянуть на кое-какие снимки. В подвальном здании библиотеки я открыла папку с простым названием “А”, и моему взору предстали два миллиона фотографий: найденные собаки, пропавшие дети, подозреваемые в совершении преступлений, приговоренные преступники, трансвеститы – короче говоря, самый полный срез жизненных персонажей, истории которых интересуют читателей Herald Examiner. Нашла снимок некоей миссис Андерсон, которую застукали за выпиской фальшивого чека в кафе, – на момент съемки она была беременна своим семнадцатым ребенком. Следом шло фото ее мужа – в тюрьме, куда его посадили после похищения одной из их дочерей. Бывший солдат Альтман, ослепший на войне, был запечатлен в момент воссоединения со своей собакой-поводырем Трампом. Глэдис Арчер, освобожденная из тюрьмы, куда ее посадили за то, что она пришла на вечеринку в форме служащей ВМФ. Бабушка Холл очень любила такие газеты, полные мрачных историй и чужих неудач.
В той же папке я нашла снимок торжествующей Дороти Холл, коронованной Артом Линклеттером “Миссис Лос-Анджелес”. Но среди фотографий на букву “Б” не нашлось “Брошенной” Болы Китон, намывающей туалеты в школе. А как же ее мрачная история? История женщины, которая проснулась в одно прекрасное утро, только чтобы обнаружить, что ее муж спустя двадцать пять лет совместной жизни укатил в Юту на единственной машине да прихватил с собой любовницу, чтобы быстренько на ней жениться. Не было в папке и фотографии маленького Джека Холла, который смотрел, как его мать Мэри Элис играет в блекджек на одном из плавучих казино. Собственно, ни Холлы, ни Китоны в анналах газеты больше не упоминались.
У меня в голове постепенно складывалось понимание того, что делает историю достойной попадания в новости. Я решила написать про это книгу – историю одного человека через призму таблоидов. Я назвала ее “Местные новости”.
Когда Вуди предложил мне заменить Миа Фэрроу на съемках “Загадочного убийства в Манхэттене”, я согласилась. Пресса сходила по этому поводу с ума. Не успевала я выйти на улицу, как мне в лицо тыкали микрофоном и спрашивали, что я думаю по поводу развода Вуди и Миа. На самой съемочной площадке царила такая же атмосфера, как при съемках “Энни Холл”, – может, даже более расслабленная, если такое вообще возможно. Карло ди Пальма снимал все на ручную камеру, и порой дубли шли один за другим без пересъемки. В семь утра мы заканчивали гримироваться, а в половине третьего дня уже могли идти домой. Я не могла поверить своим глазам – съемки шли, как по маслу.
Ну а Вуди… Он никогда не обсуждал свою личную жизнь, особенно во время работы.
Сумасшедшие герои
Донна Рот и Сьюзен Арнольд искали режиссера для своего фильма “Сумасшедшие герои”, сюжет в котором был основан на воспоминаниях Франца Лидца. Фильм рассказывал о мальчике Стивене, матери которого Сельме ставят диагноз “рак яичников”. Пока Сельма борется с болезнью, папа перевозит Стивена к своим дядям, один из которых страдает от паранойи, а второй – от маниакальной привязанности ко всякому хламу. Дяди учат мальчика ценить его уникальность. Дядя Артур показывает Стивену, что красоту можно видеть во всем – даже в резиновых мячиках и веревках. Но любить Стивена учит его мать Сельма. И прежде чем она умирает, Стивен делает коробку воспоминаний, в которую прячет мамины помаду, духи, зажигалку.
Я была рада вновь поработать с документальным материалом. Франц Лидц словно пытался сказать всем, насколько вещи – личные вещи – способны хранить тепло наших эмоций. Эта мысль была мне особенно близка. На встрече с Донной и Сьюзен я поделилась с ними своим взглядом на важность вещей в истории любой семьи и рассказала, что до сих пор, как мама, веду дневник. Сьюзен и Донна оказались достаточно отважными женщинами и решили дать мне шанс.
Я впервые села в режиссерское кресло и отчаянно нуждалась в помощи. Я наняла выпускника Калифорнийского университета Грега Яйтанса, чтобы он помог мне с выстраиванием картинки. У него было отличное воображение, и он отличался большой изобретательностью. До того как приступить к съемкам, мы сняли свой собственный фильм – звучит как безумие, но тем не менее так оно и было. Грег держал в руках видеокамеру, а я играла умирающую Сельму, юного Стивена и безумного дядю Дэнни. Произнеся вслух их реплики, я смогла понять, каким должен быть этот фильм. Наш мини-фильм пригодился и при работе с оператором Фидоном Папамайклом, который выполнял все мои режиссерские прихоти. Как ни удивительно, все, кто имел отношение к этому фильму, почему-то шли у меня на поводу, позволяя мне творить в соответствии с моим “видением” фильма. Музыку к фильму, которую сочинил Том Ньюман, номинировали на “Оскар”. У Гаррета Стоувера, главного художника, было полно идей. Да и Билл Робинсон тоже оказался незаменимым членом нашей команды. Актеры же попросту разбили мне сердце – так они были прекрасны. Милейшая Энди МакДауэлл, талантливый Мори Чайкин, Майкл Ричардс, из-за участия которого “Дисней” в принципе дал зеленый свет этому фильму, Джон Туртурро и бойкий малыш Нэйтан Уотт. Я попросту влюбилась в каждого из них.
Я бы хотела вернуться в прошлое, чтобы переснять этот фильм и сделать его еще лучше – теперь у меня больше опыта и я понимаю, что сделать хорошее кино не так-то просто.
“Сумасшедших героев” отобрали для показа на Каннском фестивале, и “Дисней” решил отправить туда меня. Помню, Сьюзен уговаривала меня не нервничать – полет пройдет нормально, а во Франции я буду пить отличное красное вино. Но я все равно напилась перед полетом успокоительного. Сам фестиваль мне очень понравился. Я дала несколько интервью – Los Angeles Times, каналам Е!, и HBO, и CNN, журналам Star и Time. Джо Рот, глава “Диснея”, хотел знать, каким будет мой следующий фильм. На вечеринке жена Ричарда Корлисса похвалила меня за тонкую работу с руками актеров – мол, как изящно они передавали жестами все эмоции. Боясь головокружения от успеха, я забралась в лимузин и поспешила ретироваться. В отеле все встало на свои места. Я сняла нарядное платье, вечеринка осталась в прошлом, я вновь была одна – только на этот раз в Каннах. Этот вечер ничем не отличался от любого другого – вот только моей собаки Джози рядом не было. Ну да не страшно – даже мысль о том, как приятно гладить ее пушистое пузико, заставила меня улыбнуться. Я скучала по этому нашему ежевечернему ритуалу. И как так вышло, что Джози – помесь овчарки и дворняги, гроза почтальонов и соседских собак, – кусачая Джози была единственной, по кому я скучала, глядя в потолок красивого номера за шесть тысяч миль от дома?
ДНЕВНИК ДАЙАН, 29 МАЯ 1995 ГОДА
Из двадцати часов перелета осталось только восемь. Надпись “Пристегните ремни” включается уже пятый раз за полет – я начинаю беспокоиться. Не то чтобы я этого не ожидала – грозовые облака было видно еще в аэропорту. На регистрации женщина в соломенной шляпке жаловалась мужу, как много времени отнимает пересадка в Лас-Вегасе. А в шторм полетать не хотите ли, дамочка?
Я попыталась отвлечься, взяв в руки Time с Рейнольдсом Прайсом на обложке. Его новая книга “Обещание отдыха” преподносилась как “мощная сага об изоляции и одиночестве”. Вот обязательно им было напоминать мне о том, что я одна лечу на этом самолете? Почему рядом нет Уоррена, который подержал бы меня за руку? Я вспомнила папу и как он ненавидел летать. Интересно, он тоже особенно остро чувствовал свое одиночество в небе? Пока я ждала посадки на отложенный уже один раз рейс, читала “Мотель разбитых сердец” – статью, рассказывающую о пьяницах, бездомных и кочевых семьях, которые живут в мотелях вдоль границы Аризоны. В небе сверкали молнии. Я читала про Пола Койла, который после развода вытатуировал на спине имена всех своих шестнадцати детей. А рядом надпись: “Люблю свою семью. Женаты с 12 октября 1958 года, Пол и Джанет Койл, Иллинойс”. Наверное, решил, что так после смерти с его семьей быстрее свяжутся. А вот меня никто искать не будет, если несчастный “Боинг 747” все-таки упадет где-нибудь посреди Атлантического океана.
Я ненавижу, когда загорается знак “пристегните ремни”. Не-на-ви-жу. И ненавижу болтаться в консервной банке на высоте семидесяти тысяч километров над землей. Даже две таблетки успокоительного и стакан вина не помогли. Я прислушиваюсь к шуму мотора – звуки такие, как у машины, когда переходишь с четвертой передачи на третью. Это хороший знак или нет? Мы что, снижаемся? А выше разве лететь не спокойнее? Стюардесса пытается меня успокоить, но это бесполезно. Я в красках живописую себе катастрофу, вижу, как меня размазывает по иллюминатору. Стюардесса говорит, что нас немножко трясет, ну “как старую машину на ухабах”. Она что, серьезно? Это не ухабистая дорога, это воздух! Мы же летим в воздухе, где абсолютно не за что держаться, случись вдруг что! Полеты – неестественное состояние для человека. А еще знаете что? Мне совершенно все равно, где мы сейчас летим! Может, просто попросим капитана, чтобы он вел самолет чуть поровнее, чтобы нас не так трясло? Или, еще лучше, давайте просто приземлимся? Куда-нибудь на твердую землю, можно в Англии, или на Барбадосе. Все равно! Я так больше не могу.
Знак “Пристегните ремни” гаснет, и я тут же успокаиваюсь и принимаюсь обдумывать свои обычные “предсмертные” мысли. Надо проводить больше времени с мамой – бросить все бесконечные проекты и начать наконец жить нормально.
Все это напоминает мне день, когда я везла папу домой из больницы, после того как он “выписался” из программы. Помню, какими шаблонными фразами разговаривали врачи и медсестры (все два месяца). Но особенно мне запомнилась одна: “Важно не количество отпущенных ему дней, а их качество”. Но папа не был похож на человека, жизнь которого обладает каким-то особенно высоким качеством. Мы молча ехали по 405-му шоссе. Я не знала, что ему сказать. За два квартала до Коув-стрит, до нашего дома и Дороти, папа вдруг выпалил:
– Дайан, я хочу, чтобы ты знала. Я всегда ненавидел свою работу. Я так жалею, что не путешествовал толком, что не проводил больше времени с вами, не рисковал.
Именно это слово – “рисковал” – заставило меня теперь задуматься. А чем рисковала в своей жизни я? И еще мне вдруг вспомнился разговор с Кэтрин Гроди, которая рассказала, что Эстель Парсонс в пятьдесят лет усыновила маленького мальчика. Разве она не слишком старая, чтобы заводить детей? И вспомнилось обещание, которое я дала сама себе в шестнадцать лет, – не заниматься сексом до свадьбы. Это я, конечно, хватанула – особенно учитывая, что я так никогда и не была замужем.
А однажды я сказала маме, что принципиально не приемлю психиатрию. Принципиально! Интересно, где бы я сейчас была, если бы не психотерапия. От моих былых убеждений ничего не осталось.
Как только в окошке показался Лос-Анджелес, я поняла, что должна буду что-то поменять в своей жизни. Должна буду принять решение, которое может принести мне любовь – но не такую, как любовь к мужчине. Я понимала, что, если я решусь на усыновление, мне придется изменить образ своей жизни, взять на себя куда больше ответственности. Но я понимала также и то, что мне придется заработать право называться матерью – особенно учитывая то, что я была одинокой белой женщиной на пороге пятидесяти лет.
12. Привет
Комочек
Декстер привезли ко мне домой в плетеной корзинке с двумя ручками, и первым делом мы поехали к педиатру на осмотр. Пока я сажала ее в машину, она обеспокоенно смотрела на меня – в конце концов, она пролетела сквозь всю страну, только чтобы встретить меня – женщину, которую она будет называть мамой. Все в Декстер меня удивляло и казалось непривычным: и ее крошечные ручки и ножки, и ее большое круглое личико. Когда педиатр провозгласил, что рефлексы у Декстер в норме, я вздохнула с облегчением – первый тест пройден. Она была внимательной, шустрой и настороженной. В этот момент я поняла, что справлюсь, погладила ее по щеке и, глядя в ее глаза, улыбнулась. Я смогу. Я вымела всю пыль из своего сердца. Уоррен был прав, когда говорил, что я еще созрею для материнства. Я выросла и стала не только женщиной, но и матерью. Декстер стала любовью всей моей жизни, моей семьей. Эта внимательная, настороженная малышка из Северной Каролины родилась в четверг 14 декабря 1995 года. Спустя четыре дня после рождения она прилетела в Техас, а на следующий день – ко мне. В субботу дядя Рики – муж Робин – отвез меня и Декстер в Аризону, где мы всей семьей отпраздновали Рождество. Мы то и дело заезжали на заправки, чтобы поменять Декстер подгузники. Она с интересом смотрела на машины, проплывающие мимо нее в окне. Когда мы добрались до маминого дома, тетя Робин, тетя Дорри, бабушка Дороти, кузен Райли, кузен Джек и мой друг Джонатан Гейл собрались в гостиной, чтобы посмотреть на Декс. Все мы дружно постановили, что у нее хитрая улыбка. В свои десять дней она производила впечатление авантюрного и на все готового ребенка.
Две недели спустя мы с Декстер улетели в Нью-Йорк, где мне нужно было закончить съемки в “Клубе первых жен” – комедии о трех подружках, брошенных мужьями. Ивана Трамп отлично ухватила суть этого фильма: “Дамы, будьте сильными и независимыми. Не злитесь на своих мужей, а просто оберите их, как липку”.
У нас с Декстер появился ритуал. Каждый вечер после работы я перекладывала ее в детское кресло-качалку и смотрела, как она медленно, словно в воде, шевелит ручками и ножками. Иногда она провожала меня взглядом. Иногда я пыталась ее передразнивать, но у меня плохо выходило. Я уже слишком долго прожила на этом свете, чтобы помнить, каково это – быть ребенком. Я прижимала ее к себе и не могла поверить, какая она легкая – легче шара для боулинга. Я дотрагивалась до ее лица и осыпала поцелуями. Я кормила ее из бутылочки, и она радостно пила молоко. Удивительное чудо. Я начала ценить удобную, а не только красивую мебель. Тоже чудо.
По утрам я кормила и переодевала ее в арендованной квартире на Принс-стрит. Я вела с ней беседы – мне о стольком надо было ей рассказать! Иногда она улыбалась. Потом я приступала к самому важному занятию – выбирала ей наряд. Сначала выбирала одну из двадцати двух шляп, тринадцать из которых мне подарила Кейт Кэпшоу. Тут я остановлюсь на минутку и перечислю остальных столь же щедрых моих друзей: Вуди Аллен прислал платьице в цветочек, которое я вернула в магазин (слишком маленький размер), Мэрил Стрип – четыре коробки с платьями, шляпами, одеялами, свитерами, штанишками и маечками – она назвала все это “стартовым набором”. Бетт Мидлер подарила книжку про детское здоровье и смешную шляпку в виде морковки с горошиной наверху. Мистер Скотт Рудин подарил Декстер модное французское пальто, Стив Мартин – очень полезный мешок для памперсов, Мартин Шорт и его невеста Нэнси – цветы и воздушные шарики, которые радовали нас еще две недели. Мне очень повезло, что моя дочь заполучила отличный гардероб от самых знаменитых людей Голливуда.
Первые леди
Мы с Декстер всегда были в пути и три раза в неделю ужинали не дома. Каждый день я привозила ее с собой на съемочную площадку. Мы катались на трамвае и видели статую Свободы, занесенную снегом. Билл Робинсон, который когда-то был интерном у Теда Кеннеди, организовал нам экскурсию по Белому дому. Завзятые путешественники, мы с радостью сели на поезд и вскоре были в Вашингтоне.
Наш визит начался с Овального кабинета, который оказался желто-голубым. Мы сделали пару фотографий комнаты для прессы – там стоял на удивление древний телефонный аппарат, а на стене висело множество маленьких черно-белых телевизоров, с помощью которых отслеживали перемещение членов президентской семьи. В Восточном кабинете, где хранились до похорон тела Джона Кеннеди и Абрахама Линкольна, Декстер благополучно заснула. Затем мы перешли в Красный кабинет, который Элеонор Рузвельт переделала из гостиной для светских дам в комнату для женщин-репортеров, которых не пускали на пресс-конференции президента. Спросите, где же уловка? Пресс-конференции миссис Рузвельт касались сугубо “женских” тем.
В каждом из кабинетов было устройство под названием тостер – по которому сотрудники Белого дома узнавали о местонахождении президента, первой леди, их дочери и кошки. Как нам сказали, на момент визита в Белом доме находились Хиллари и Челси. Челси смотрела кино, а Хиллари была простужена и отдыхала. Конечно, нам сообщили, что она была бы счастлива познакомиться с нами, но к сожалению, боится нас заразить. Я бы на ее месте ценила каждую секунду, проведенную в одиночестве. Только представьте – постоянно быть на виду, знать, что тебе надо выглядеть на все сто, постоянно слышать критику в свой адрес. Чем больше я видела, тем меньше понимала, как в Белом доме вообще можно жить. Впрочем, ко всему можно привыкнуть.
Белый дом – интересное место, но вот роль Первой леди мне такой не показалась. Хоть она и выполняет свою роль “идеальной” американской жены, а также занимается благотворительностью, организацией приемов, посещением школ и прочим тому подобным под пристальным взглядом всей нации, все это не считается работой, которую необходимо оплачивать.
Мы стояли перед официальным портретом первой леди и слушали рассказ экскурсовода – оказывается, каждой из первых леди было даровано право самой выбирать художника. Интересно, а кто еще мог это сделать?
Оказывается, Элеонор Рузвельт считала себя настолько невзрачной, что попросила Дугласа Чандора сосредоточиться на ее лучшей, по ее мнению, черте – то есть на ее руках. В верхней части картины располагается обычный портрет Элеонор, а внизу представлены наброски ее рук – вот она вяжет, вот держит стакан. Другими словами, выполняет сугубо домашнюю работу. И это все та же женщина, которая в 1948 году была кандидатом на пост вице-президента при Гарри Трумэне! Но даже в середине двадцатого века Элеонор была вынуждена мириться с традиционными обязанностями первой леди. Один из недавних портретов – Барбары Буш – показался мне вполне обычным, пока я не заметила, что на столе художник изобразил еще один портрет в рамочке – на этот раз ее собаки Милли. Не детей, не внуков, а собаки. Портрет Джеки Кеннеди изображал ее немного неприступной и загадочной – очень в духе шестидесятых. Нэнси Рейган выбрала того же художника, Аарона Шиклера, – видимо, в надежде затмить Джеки. Вот только для портрета она нарядилась в ярко-красное платье. Видно, хотела быть как Джеки, но только ярче.
К чему я это все? Несколько высококвалифицированных женщин бесплатно трудились на благо нашей Родины в качестве первых леди Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, Декстер доживет до тех дней, когда всем работающим женщинам – и первым леди тоже – будут платить справедливую зарплату. Может, даже увидит портрет первого мужа на стене в Белом доме.
Снова дома
Изучив особенности жизни в Белом доме, я еще сильнее захотела обратно в Лос-Анджелес. Я переживала за маму, у которой с каждым днем все заметнее становились проблемы с памятью. Когда я была в Нью-Йорке, она прислала мне письмо, которое послужило для всех нас официальным подтверждением наших опасений: мама больна.
Дорогая Дайан,
Доктор Каммингс говорит, что у меня болезнь Альцгеймера, но я ему не поверю, пока не получу результаты анализов. Даже не знаю, как я с этим справлюсь. Если честно, я не хочу сдаваться… Но должна признать – мне все сложнее вспоминать имена и разные события. Не всегда, но иногда. Надо поменьше писать о проблемах и почаще тренировать свою память. Я пытаюсь и пытаюсь, но это не так просто, как кажется. Самое ужасное, что люди вокруг меня стали так предупредительны! Сразу видно, что боятся – а вдруг я их забыла? Иногда ловлю себя на мысли, что забываю сложные слова вроде “гены” или “хромосомы”. Как мне признаться друзьям, что у меня Альцгеймер?
С любовью,
мамаЯ узнала, что у мамы болезнь Альцгеймера, в 1993 году. Но это письмо два года спустя окончательно подтвердило диагноз – все стало еще хуже. Понимаете, мама забыла о том, что у нее болезнь, при которой все забывают. Я позвонила Робин. Она только что разговаривала с мамой: та хотела аннулировать страхование жизни и освободить дом рядом с ее собственным – она понимала, что рано или поздно ей понадобится помощь и сама по себе она уже жить не сможет. Еще мама сказала, что хочет убить себя до того, как все зайдет слишком далеко. Она говорила об этом без всяких сомнений. Когда я позвонила Дорри, та разрыдалась.
Очень вовремя мы с Бетт Мидлер и Голди Хоун закончили съемки “Клуба первых жен” финальной песней “Ты не мой владелец”, которую спели прямо на одной из улиц Нью-Йорка. Сразу после этого мы с Декстер вылетели в Калифорнию. Как выяснилось, дом Райта, который я реставрировала, не очень-то был приспособлен для жизни с ребенком. Моя спальня была под чердаком, детская, размером со шкаф, – на втором этаже рядом с гостиной. На первом этаже приютились кабинет и гараж. Я решила перебраться в Калифорнию и начала подыскивать себе дом в испанском стиле.
А пока что все выходные мы с Декстер проводили в доме на Коув-стрит. Мама обожала Декс. Она даже купила ей сундук с приданым, в который сложила пазлы, книжки с алфавитом, ведерки и лопатки. Дороти неплохо держалась. Несколько раз показывала один-единственный альбом Болы Китон – пытаясь удержать собственную память, она повторяла все воспоминания о своей матери.
Сначала мама открывала последнюю страницу, на которой сияла физиономия Дорри, которую держала на руках длинноногая Дороти. Черно-белый снимок был сделан на фоне старого бабушкиного дома. Рядом с мамой стояла Робин в новых очках, а Рэнди в костюме шерифа тыкал пистолетом мне в грудь. Мама каждый раз показывала мне заросли горошка, видные на заднем фоне. Я спрашивала, помогала ли она его сажать. Она кивала и принималась листать страницы дальше. Эти повторяющиеся просмотры фотоальбома помогли мне понять две вещи: как медленно течет жизнь в начале пути и как медленно, но верно ее в конце разрушает Альцгеймер.
Декстер было одиннадцать месяцев, когда они с мамой гуляли за руку по пляжу. Декс подпрыгивала и в полном восторге тыкала пальцем в чаек, вопя: “Птптптпт!”
Мама пришла в еще больший восторг:
– Дайан, ты слышала, она сказала “птица!” Ее первое слово.
Так что первым словом Декстер стало слово “птица” – я не стала перечить маме, только покачала головой. Декстер была абсолютно счастлива, как умеют быть счастливы лишь маленькие дети, которые уже через секунду могут разразиться горючими слезами, словно до них внезапно доходит печаль всей нашей жизни. В такие моменты Декстер казалась мне совсем взрослой и заставляла меня задуматься о девочках по всему свету – маленьких, юных, даже стареньких, как я, – которые в какой-то момент сталкиваются с горестями этого мира.
Прошло порядочно времени, прежде чем я все-таки нашла подходящий дом в испанском стиле на Роксбери-драйв в Беверли-Хиллз. Мой друг Стивен Шэдли приступил к ремонту, а я тем временем погрузилась в изучение испанской архитектуры в Лос-Анджелесе. Разнообразие, красота и богатая история классических домов Южной Калифорнии пробудили во мне желание стать членом организации, которая спасала полуразрушенные дома от сноса. Так я присоединилась к охранно-природной организации Лос-Анджелеса. Ремонт занял полтора года, и, прежде чем мы успели переехать в дом в испанском колониальном стиле, Декс успела заметно подрасти.
Первые жены
Неожиданно для всех фильм стал настоящим хитом. Мы с Бетти и Голди раздали целую кучу интервью. Никогда не забуду, как однажды мы провели пресс-конференцию: мы с Голди у нее дома в пригороде Лос-Анджелеса, а Бетти – в Нью-Йорке. Голди, как всегда полная противоречий, пила какую-то отвратительную на вид и полезную для здоровья зеленую жижу и курила сигарету.
– Как вы считаете, почему пятьдесят лет лучше, чем двадцать? – спросил интервьюер.
– В пятьдесят ты – хорошая мать, знаешь, как любить себя, умеешь справляться с проблемами, которые приносит слава, понимаешь, как любить мужчину, который рядом с тобой, позволяешь людям быть такими, какие они есть, знаешь, как помочь дочери справиться со славой ее матери, умеешь правильно мстить и понимаешь, как повысить свою самооценку. Вот почему лучше быть пятидесятилетней женщиной, чем двадцатилетней девушкой, – ответила Голди, и мы с Бетти не нашлись, что добавить.
Дайан, это твоя мама. Извини, что беспокою, но так уж вышло. Звонила Мерна, спрашивает, когда тебя снова будут показывать по телевидению. Если ты знаешь, пожалуйста, сообщи время и канал. Мерна очень хочет тебя увидеть, но, сама знаешь, она же прикована к постели. Не знаю, может, я что не так поняла, ну да неважно. Просто дай знать. Пока-пока!
Мама начала засыпать меня голосовыми сообщениями. Она никогда не любила болтать по телефону – слишком уж несерьезное это занятие. А я не совсем осознанно взяла на себя ее роль семейного архивариуса и начала сохранять все ее голосовые сообщения.
Спустя два года после постановки диагноза мама продолжала волонтерить в благотворительном магазине, вся выручка которого шла на поддержку раковых больных. Мои наряды из “Клуба первых жен” заняли в магазине почетное место в витрине.
Кроме того, мама съездила к Робин в Джорджию, построила для Дорри дом в Тубаке, сохранила всех своих друзей. В разговорах с ней мы обсуждали в основном мои заботы – например, то, что Декстер все тащила в рот. Почему она упорно тащит в рот грязную плюшевую корову, когда у нее в кроватке лежит идеально чистая соска? Впрочем, соски мне тоже не особо нравились – само слово “соска” как-то не располагает к повышению самооценки у ребенка. Мама выслушала меня и обратила мое внимание на более важную, по ее мнению, проблему: на то, что Декс ела песок. Может, смесь поменять? Например, перейти на соевое молоко.
Я начала писать Декстер письма, в которых рассказывала, как она растет, как постоянно сосет грязную корову (пусть знает о грехах молодости). Упоминала и темы, которые, как я надеюсь, будут интересны ей в будущем, несмотря на нашу большую разницу в возрасте, – таким образом я как бы извинялась за то, какая мать ей досталась, и в то же время сохраняла наследие своей мамы с ее бесконечными дневниками.
Дорогая Декстер, 1998 год
Я придумала твое имя – Декстер Диэнн Китон, – и вот почему я выбрала именно его. Во-первых, хотела, чтобы оно начиналась с буквы “Д”, как у твоей бабушки Дороти, тети Дорри и меня. Декстер – сокращение от dexterous (ловкий, рукастый, сообразительный). Среднее имя Диэнн я выбрала в честь твоей бабушки Дороти. А еще мне просто нравится, как звучит имя “Декстер” – оно весомое, и его можно сокращать: можно звать тебя Декси, Дек, Декст или даже Диди. А еще я выбрала это имя из-за Бастера Китона, комика из немого кино, и Декстера Гордона – талантливого саксофониста. Может, ты тоже будешь смешной, как Бастер. А может, полюбишь музыку. Надеюсь, тебе нравится твоя имя. А если нет – поменяй его на то, какое сама выберешь. Я изменила фамилию на Китон – девичью фамилию бабушки. Я верю, что люди сами выбирают, какими им быть.
А вот что меня правда беспокоит. К нам с тобой частенько подходят люди и говорят что-нибудь вроде: “Какая у вас хорошенькая внучка!” Декстер, мне очень жаль, что я у тебя – очень пожилая мама. Знаю, со старенькой мамой будет нелегко, но, может, в этом есть и какие-то плюсы? Я обещаю быть открытой и не принимать в штыки твои взгляды. Обещаю тебя слушать. Может, мы сможем все-таки найти общий язык? Твои тети Робин и Дорри куда моложе меня, так что если вдруг со мной что случится, они за тобой присмотрят. Мне жаль, что у тебя нет папы – но кто знает, вдруг еще все изменится? Когда я стану совсем старая и бестолковая, я не буду тебе мешать. Ты сможешь жить своей независимой жизнью, обещаю. Только давай договоримся: взамен ты пообещаешь, что вырастешь в человека, который не остается равнодушным к горю других. Я не прошу тебя бросаться на амбразуру за каждого встречного, но, пожалуйста, вставай иногда на место других людей. Это помогает понять, что они на самом деле чувствуют. У тебя много преимуществ по сравнению с другими детьми – и это та ответственность, которую тебе придется нести всю жизнь. Именно поэтому ты должна быть внимательной к тем, кому повезло не так, как тебе. Просто оставайся человечной, моя милая.
Декстер, у тебя каштановые волосы и карие глаза. Тебе сейчас всего три года. Кэрол Кейн говорит, что у тебя вовсе не каштановые волосы и карие глаза, а “ореховые глаза и волосы цвета старого золота”. Кэтрин Гроди считает, что ты еще не определилась, хочешь ли ты быть блондинкой или нет. Билл Робинсон, тот еще дальтоник, называет тебя рыжей с зелеными глазами.
Короче, они все ошибаются и хотят, чтобы ты соответствовала их представлениям об идеальной маленькой принцессе. Даже мама (твоя бабушка), обычно такая разумная, как-то заявила, что ты ее “белокурый ангелочек”. Она считает, что ты – совершенно особенная.
А я не думаю, что такое воспитание полезно для здоровой самооценки. Какая польза от бесконечной похвальбы? Кроме того, ничего страшного в каштановых волосах и карих глазах в общем-то нет. Мне нравятся твои жизнерадостные глазки, похожие на маленькие шоколадки. Стоит тебе только прищуриться и улыбнуться, и мир сразу становится краше. Коричневый – прекрасный цвет. Наша земля – коричневая. Соседский лабрадор – коричневый. Медведи – коричневые, и твои глаза – карие и самые красивые на свете. Не хочу присоединяться ко всем этим олухам, которые возводят тебя в культ. Это неправда и задает нездоровые стандарты.
О, и пока не забыла, пообещай мне еще кое-что. Пообещай, что не будешь такой, как я, не будешь постоянно пытаться угодить окружающим. Это путь в никуда.
Коричневый – так коричневый, правильно?
С любовью,
мамаПочти пять
Жизнь бежит, крутится, и три года превращаются в четыре, а те – в пять. Ты все такая же, но немножко другая – ты уже сама по себе человек. Не мое представление о тебе, не моя идея о хорошем или плохом ребенке, а ты сама. На днях ты мне сказала, как прекрасна станет жизнь, как только тебе исполнится пять. Когда тебе стукнет пять, ты сможешь кататься на американских горках, сможешь дотянуться до потолка, перерастешь свою кровать и из-за этого сможешь спать со мной каждую ночь.
А тем временем моя мама сегодня готовила попкорн – и убрала его в микроволновку на 35 минут. А до этого вошла в гостиную, держа в руке грейпфрут, и спросила, не знаем ли мы, где находится кухня. Вчера надела трусы поверх штанов. Она уже давно не готовила свою знаменитую запеканку с тунцом, но считает, что с ней все в порядке. Большую часть времени она проводит одна, и неплохо справляется. Она борется за свою независимость так же, как мечтаешь о ней ты. Когда стареешь, все переворачивается с ног на голову, Декс, особенно для таких людей, как твоя бабушка – жертвы болезни, изменяющей течение жизни. Твой дядя Рэнди говорит, что бабушкина память “уходит от нее через задний ход”.
Как бы то ни было, Декс, с приближающимся пятилетием.
Дорогая Декстер, 2000 год
Приближается миллениум, и мне хотелось обсудить с тобой одну важную тему. Мы уже говорили с тобой пару раз о том, что у тебя может появиться братик или сестра. Ты выказала умеренный энтузиазм по поводу сестры, а вот возможность появления брата тебя не обрадовала. Мне было два, когда родился Рэнди, и он был душкой. Потом появилась Робин, и я ее возненавидела – разумеется, со временем все изменилось и сейчас я ее очень люблю. Ну а Дорри всегда была моей любимой крошкой-сестрой. Я не могу представить себе жизнь без моих сестер и брата. После папиной смерти я стала ценить их еще больше. Они незаменимы, без них моя жизнь не будет такой, какая она есть.
Знаешь, чем хорошо иметь брата или сестру? С ними можно делить общие воспоминания, обсуждать разные точки зрения. Например, у тебя поднакопились претензии ко мне, твоей занудной матери. Если бы у тебя был брат или сестра, ты бы могла излить им свои переживания и горести, связанные с недостатками моих воспитательных методов. Брат или сестра всегда тебя выслушают, помогут справиться с проблемами и обидами. Правильно? Правильно!
Честно говоря, Декс, я думаю, что в том, чтобы быть единственным ребенком в семье, нет ничего хорошего. Понимаю, что глупо с моей стороны заводить младенца в пятьдесят пять лет – опять все эти бутылочки, смеси, памперсы и бессонные ночи. Но, как бы некомфортно это ни было, как бы ни были мы обе с тобой заняты всякими делами, я, наверное, все-таки решусь и сделаю это. Только представь, каково это будет, когда тебе стукнет 30, а мне – 80? Если вдруг что, ты не захочешь остаться в этот момент одна. Будешь думать: а вот был бы у меня брат или сестра… В общем, давай по-честному: у нас появится еще один ребенок. Один, Декс, всего один.
13. Серая зона
1 января 2001 года
Я стучала в серую дверь маминого свежепокрашенного в серый цвет дома с серыми воротами и ставнями, когда она выглянула из кухонного окна.
Пройдя в дом, мы с Декс добрались до кухни, состояние которой можно описать словом “разруха”. Я решила сделать бутерброды с сыром и, открыв шкафчик, обнаружила стопку немытого столового серебра – еще одно доказательство угасающего маминого разума. И я снова задала себе привычный уже вопрос: неужели мерзкие отростки, выросшие на коре ее мозга, появились там из-за извечной, съедавшей ее на протяжении всей жизни неуверенности в себе? Могут ли депрессия и низкая самооценка считаться предвестниками Альцгеймера? Как всегда, ответа на эти вопросы у меня не было.
Наверху в кабинете я нашла мамин дневник – вернее, жалкое подобие дневника. Там не было ни единого слова – только картинки и фотографии, от подробных коллажей из снимков семьи до глупых котят, играющих с мотками пряжи. На кухне все так же висела пробковая доска, на которую мама прикалывала самые разные вещи, начиная с обложки старого выпуска New Yorker с надписью “Можно ли двигаться вперед, если идешь назад?” и заканчивая некрологом Фрэнка Синатры.
Стоял вечер, и отлив унес волны далеко к горизонту. Садилось солнце, по камням прохаживалась одинокая цапля. Декс нашла в прибрежных водах морскую звезду нежно-фиалкового цвета и побежала показать ее бабушке, которая стояла на цементной волноотбойной стенке высотой метра в два с половиной. Мама, которую все еще радовали неожиданные находки, с интересом наклонилась к Декс. Декстер потянула бабушку, и та упала вниз, как мешок с песком. Декстер не могла перетянуть на себя бабушку – у нее просто не хватило бы сил. Значит, мама, с ее внимательным взглядом и шапкой белоснежных волос, просто не поняла, как это опасно. В тот день я поняла, что мама может представлять для самой себя опасность. Это падение стало первым в череде странных решений, которые вовремя должна была пресекать сиделка.
СООБЩЕНИЕ НА АВТООТВЕТЧИКЕ, 2001 ГОД
Привет, Дайан, это твоя мама. Хотела сказать, что получила… получил этот красивый… (вздох). Опять я все позабыла. В общем, то, что ты мне посылала. Не могу что-то припомнить, что же это такое было… помню, как должно звучать это слово, но… ох… Гирлянда у меня очень красивая, да… Ну вот, такие дела. Надеюсь, скоро увидимся, и еще раз спасибо. Очень красиво, да. Большое спасибо, Дайан, целую. Пока-пока.
Две мятных конфетки вместо одной
16 февраля 2001 года я прилетела в Нью-Йорк и заселилась в отель “Плаза”. Мой номер был на втором этаже. Там были высокие потолки и широкий коридор. В шесть приехали мои друзья, Кэтрин Гроди и Фредерик Татен. А в семь в дверь постучали, и в номер вошли две жизнерадостные женщины. В руках они держали корзинку, а в корзинке лежал ты. Накрытый голубым одеялком, в голубой шапочке, голубом свитере, голубых митенках и голубых носочках. Да-да, мальчик. Я сразу догадалась. Я с большой радостью забрала корзинку, а заодно и тебя, себе. У тебя были длинные-длинные пальчики, длинные худенькие ножки и ручки и черные глазки-пуговки. А еще – мужественный подбородок! Надеюсь, ты не захочешь стать кинозвездой. Вот, значит, ты какой, мой мальчик. Брат Декстер, мистер Мятная конфетка номер два. Мой сын.
ПИСЬМО ДЬЮКУ
Дорогой Дьюк,
Тебе уже пять месяцев. Это были нелегкие пять месяцев, большую часть из которых мы провели, сражаясь с твоим капризным животом. Вот как ты себя ведешь. Выпив чуть-чуть молока, ты срыгиваешь, да так, что в молоке оказываются диван, пол, твое одеяло, мой свитер, кровати, – все вокруг. Джози, наша собака, тебя обожает – ты для нее надежный источник молока.
В процессе срыгивания тебе не очень хорошо – ты капризничаешь, крутишься и очень мило морщишь мордочку. Врачи говорят, что ты вообще-то довольно крепкий мальчишка, несмотря на твой классический колит и отрыжку. Ты – непростой малыш. Постоянно шурудишь руками, пытаясь отыскать мое лицо. Не знаю, что ты там надеешься найти. Ты большой – во всем, кроме твоих размеров. Мы с тобой во многом похожи. Только ты шустрый, а я – нет. Декстер совсем не жалуется на то, сколько тебе приходится уделять внимания, а иногда даже тебя кормит. Иногда даже целует и почти не замечает твои ковровые бомбардировки молоком. Если же ее что-нибудь расстраивает, Декстер находит утешение в объятиях самых ужасных и крутых американских горок в парке аттракционов.
Ты совсем не похож на Декс. Я уже поняла, что ты всегда озвучиваешь то, чего тебе не хватает. Иногда, Дьюк, я переживаю – честно говоря, не иногда, а постоянно. Сам посуди: вчера мне позвонили из школы Декстер. Оказывается, одна из девочек сказала Декстер, что ее родили в пруду, купили в зоопарке и вообще у нее нет настоящей мамы. Что ответила Декстер, остается неизвестным. После звонка из школы я поговорила с ней и сказала то, что советуют говорить психологи в таких ситуациях: что усыновленные дети просто находят себе новую семью. Но это ведь какая-то глупость? А вот то, о чем я умолчала: все мы немножко усыновленные – в том смысле, что все мы немножко брошенные и покинутые. Что делает семью – семьей? Сложно сказать. Вот возьми меня. Я родилась в благополучной полной семье, у меня были и сестры, и брат. Но наша семья выглядела нормальной только на первый взгляд. Да и кто вообще может похвастаться тем, что он нормален? Семья – понятие очень сильно растяжимое. У тебя, Дьюк, две мамы. Одна приняла решение, что не сможет вырастить тебя с учетом сложившихся обстоятельств. Вторая (я) приняла решение заботиться о тебе и всегда будет это делать. Однажды ты, наверное, захочешь завести свою семью. Возможно, женишься и заведешь своих детей. А может, будешь считать членами своей семьи даже близких друзей. Вариантов куча, и не стоит себя ограничивать.
Быть усыновленным – значит, начать жизнь с потери. Это не так уж и плохо. Потери учат нас говорить “прощай”. Наверняка однажды кто-то скажет тебе, что тебя усыновили – как будто это делает тебя хоть немного хуже. Это ведь не так. В том, что ты начинаешь жизнь, зная то, чего не знают другие, есть много плюсов. Ты всегда будешь более открыт к любви – потому что знаешь, что она бывает самой разной. Любовь не ограничивается строгим набором правил. Я даже так скажу: чем раньше ты столкнешься со словом “усыновленный”, тем раньше выработаешь защиту, которая поможет тебе вырасти в любящего и любимого мужчину, которым ты непременно станешь.
Вырезано цензурой
Я отвезла маму домой на Коув-стрит. Океан ждал нас прямо за окном папиной спальни. Я налила нам по бокалу вина, и мы сели рассматривать фотоальбом бабушки Китон. Мама была собой очень довольна – она “прошла” тест на воспоминания. Доктор Каммингс показал ей набор рисунков со сложными узорами и пересекающимися линиями и попросил маму перерисовать их, в точности повторив узоры. Мама выполнила задание, допустив лишь пару ошибок. Во время следующего теста маме надо было посмотреть на картинку с животным и сказать, как оно называется, при этом успеть опознать как можно больше зверей за шестьдесят секунд. Мама узнала кошку, собаку, слона, льва, тигра, льва, оленя, свинью и павлина. Неплохо! Когда же Каммингс попросил маму за минуту перечислить как можно больше слов, начинающихся с буквы “Ф”, она разделалась с этим заданием без особых проблем.
Проходи тесты и дальше, мам. Я их тоже ненавижу. Меня в моей жизни окружает все больше и больше тестов – не только твоих, но и Дьюка и Декс. Как тебе такой тест? На прошлой неделе я была в туалете кинотеатра “Лэндмарк” и заткнула уши, как только услышала чью-то фразу: “ Ты видела, тут была Дайан Китон!” Ничего не смогла с собой поделать, взяла и заткнула уши, лишь бы не слышать, что обо мне говорят окружающие. Кое-что совершенно не меняется. Ну да неважно.
А вот что я на самом деле ненавижу, так это то, как меняются наши разговоры, – этот тест мы завалили обе. Я знаю, что Дьюк тебя раздражает – он шумный и надоедливый, и его всегда очень много. Я знаю, что тебе нужно мое безраздельное внимание. Просто иногда думаю: хорошо бы мы перенеслись во времени на два года назад, когда ты еще могла оценить Дьюка по достоинству. Я бы тогда рассказала тебе, почему выбрала для него такое имя.
Сперва я думала назвать его Паркером, Уэйдом или Ровером. Были еще варианты Кловис и Боинг, но Дорри решила, что называть ребенка в честь самолета – это уже чересчур. Думаю, ты бы одобрила имена вроде Кормака или Виммера. Но мне хотелось выбрать какое-нибудь имя, вдохновленное интересным городом или местом. Я обдумывала варианты Честер, Кливленд, Эдисон и Эллис, но потом передумала – слишком уж они официально звучат. Мне нравилось имя Хантер. Ройс и Шейн вызывали у меня смешанные эмоции, а Картер и Кендал почти вырвались в финалисты. Пару дней я была уверена, что назову его Уолтером – в честь давней любви к Уолтеру Маттау. Хорошо бы ты была в себе, чтобы мы могли обсудить такие имена, как Кэш, Кэмерон или Дьюи. Дьюи было слишком похоже на Декси, у которой были и свои варианты имен для брата: Трамп, Мики (в честь мышки) и Элмо. Ох, мама, как бы мы с тобой веселились, придумывая ему имя! Но зачем нагружать твой несчастный мозг, когда мы пьем с тобой вино и смотрим в окно на океан, по которому плывут лодки. А ты так гордишься, что прошла все тесты доктора Каммингса! Поздравляю, мама.
СООБЩЕНИЕ НА АВТООТВЕТЧИКЕ, 2001 ГОД
Дайан, до тебя совершенно невозможно дозвониться. Надеюсь, ты получишь сообщение. Просто хотела поздравить тебя с поступлением в Пасадену… Ой, нет-нет-нет. Все перепутала. В общем, ты выиграла какую-то награду – или тебя на нее номинировали? В общем, я помню, что у тебя произошло какое-то большое и радостное событие. Хотела тебя поздравить. Как бы то ни было, если что, я дома. Может, позвонишь как-нибудь? Пока, Дайан. Позвонишь мне?
Такое разное счастье
Я позвонила маме и сказала, что никаких наград у меня не предвидится, но я все равно очень рада ее поздравлениям. Вчера помогала ее купать. Какая у нее огромная грудь – как две дыни. Интересно, это не страшно, когда у тебя у сердца растут такие большие штуковины? Каждый раз, когда смотрю на Декстер и Дьюка, вспоминаю, как мучительно было мне взрослеть и наблюдать перемены в собственном теле. Буду ли я самой собой, если перестану узнавать собственное тело? Стареть – значит, постоянно меняться. В каком-то смысле старение продолжается всю нашу жизнь. Старение заставило меня ценить совершенно неожиданные вещи – например, возможность держать маму за руку и разглаживать на ней морщинки.
Вот у Дьюка разглаживать нечего. Его кроватка стоит посреди открытого шкафа в моей спальне. Сейчас мы снимаем дом на Эльм-драйв. Каждое утро Дьюк просыпается и видит разноцветные юбки и рубашки, а наверху – дюжину шляп. Если поворачивается направо, видит дом братьев Менендезов, убивших своих родителей, если налево – меня в спальне. Думаю, при виде меня он получает простое сообщение: мама тебя любит. Каждое утро я его целую. Каждое утро мы улыбаемся друг другу. Просто, да? Как же. Дьюк умеет за считанные секунды превращаться из умилительного ангелочка в совершеннейшего дьявола.
– Даже не смей, Дьюк Рэдли Китон, – предупреждая очередную его пакость, я грожу ему пальцем и перекладываю на кровать. – Даже не смей.
Его это очень веселит, и он начинает заливаться от хохота.
Его проделки обычно включают следующее: отказ от перемены подгузника; истерические рыдания, если его больше не берут на ручки; истерические рыдания, если Декстер стащила у него вафлю, если он ударился головой, если не получается выковырять червяков из-под каменных дорожных плиток, если злобный тролль (то есть я) сажает его в детское сиденье в машине, если бессердечное чудище (опять-таки я) не обращает на него внимание, когда это совершенно необходимо, и так далее, и тому подобное.
А в промежутках между этими выходками мы абсолютно и совершенно счастливы.
С Декстер я счастлива по-другому: когда забираю ее из бассейна или когда натираю ей спинку маслом от загара. Однажды, когда мы были в закрытом бассейне в Санта-Кларите, она вдруг сказала, что я должна принимать таблетки “Липитор”. Я тут взглянула на телевизор на стене – там показывали даму лет за пятьдесят, которая каталась на серфе, а позади нее вырастали большие буквы “ЛИПИТОР”.
– Тебе они нужны, мам, ты станешь сильнее.
– Спасибо, Декс. Можно я тебя кое о чем спрошу? Когда мне будет восемьдесят, ты позволишь мне натирать тебя маслом от загара, и целовать тебя в щечки, и обнимать? Даже если у тебя будет красавец муж и парочка детишек? Позволишь ведь?
Повисла долгая пауза, в конце которой Декс наконец спросила:
– Мам, извини, а если ты умрешь, мне все твои деньги достанутся?
Я смотрела, как она ныряет вместе с дюжиной других ребятишек в купальниках и шапочках, похожих на стаю веселых сардинок. Они резвились в воде, на которую сквозь стеклянную крышу падали лучи утреннего солнца. Декстер плыла по пятой дорожке, и на ней прыгали солнечные зайчики. А уже через секунду она присоединилась к другим девчонкам. Все они были чьими-то любимыми дочерьми, плывущими по дорожкам своей судьбы, но я видела только одну из них – мою дочь. Мою Декстер.
СООБЩЕНИЕ НА АВТООТВЕТЧИКЕ, 2002 ГОД
Дайан, это мама. Я сейчас просматривала счета на своей чековой книжке и поняла, что опять напутала с предыдущим чеком. Я так больше не могу, это совершенно невыносимо. Я выписала чек то ли на двести миллионов, то ли на двести тысяч! Можешь узнать, что мне делать дальше, и перезвонить? Не знаю, почему я не могу удержать все это в голове. В любом случае, перезвони мне, как только сможешь. Я так больше не могу. Чувствую, что скоро выброшу эту чековую книжку к чертям собачьим. Ладно, Дайан, пока.
Я буду скучать по тебе
Недавно обнаружила пропахший мочой конверт с давно забытым счетом, направленным на имя Джека Холла, и пластиковый стакан, заполненный кошачьими экскрементами. Теперь такие абсурдные находки меня не удивляют. Куда делась Ирма, последняя из маминых помощниц? Энн Майер, или, как мы называем ее, “вторая дочка” мамы, сообщила, что Дороти не пускала Ирму в дом. Розовый ковер весь провонял. Не хочу, чтобы полуголый Дьюк играл на ковре, который весь покрыт кошачьими какашками. Я решила выманить маму из дома – сходить с ней к ее обожаемому Рэнди. Когда мы вернулись, дом сиял.
Мама проковыляла на кухню, то и дело приваливаясь к стенам.
– Где я? – вздохнув, она села на диван. – Я не понимаю, где я. Это ведь не мой дом. Или мой? Я помню, что я здесь когда-то была, но я же тут не живу, верно? И кот этот – тоже чужой, хоть и похож на моего. Неужели мы тут живем? Ничего не понимаю. Если ты сейчас уйдешь, я буду по тебе скучать, потому что тебя не будет рядом. Погоди-ка, кажется, я поняла. Мы в гостиной, да? Все равно как-то странно. Вот что я тебе скажу: я буду по тебе скучать. Хорошо бы мы с тобой жили вместе. Я боюсь оставаться одна, мне нужен хоть кто-нибудь рядом. А знаешь, почему я боюсь? Потому что не очень-то понимаю, кто я. Но я останусь тут, да? А что потом? Не очень представляю, как мне дальше жить. Но я буду стараться. Правда, чтобы все встало на свои места, понадобится немало времени. Верно?
И вот еще что: скажи, пожалуйста, а где мои дети? Где Дорри, Робин и Рэнди?
Два подарка и поцелуй, 2003 год
Я обедала вместе с Нэнси Мейерс. После съемок дебютного фильма “Ловушка для родителей” с Линдси Лохан в главной роли Нэнси стала одной из самых известных женщин-режиссеров в индустрии. Вторым ее фильмом стал “Чего хотят женщины” – блокбастер с бюджетом в 374 миллиона долларов и Мелом Гибсоном в главной роли.
Я же зарабатывала больше денег, покупая и продавая недвижимость, чем снимаясь в кино. У меня подряд вышло несколько провальных лент – “Долина Теннесси”, “Другая сестра”, “Отбой” (тут я выступила и в роли режиссера) и “Город и пригород”. Все они провалились в прокате и не понравились критикам. Меня можно было списывать со счетов и как актрису, и как режиссера.
За обедом Нэнси начала рассказывать о своей новой идее – недавно она начала обдумывать историю о разведенной сценаристке Эрике Барри, которая влюбляется в Гарри Сэнборна, владельца звукозаписывающей компании и знаменитого ловеласа.
Пока Нэнси говорила о сценарии, я решала, что же мне делать со своей жизнью. Может, профессионально заняться недвижимостью? Но тогда мне понадобится инвестор – я не хочу ремонтировать дома, в которых мы с Декс и Дьюком живем, только чтобы через год выставлять их на продажу.
Когда Нэнси наконец недвусмысленно дала мне понять, что видит в роли Эрики Барри меня, а в роли Гарри – Джека Николсона, я очнулась от своих мыслей:
– Погоди-ка, ты сказала Джека Николсона? Извини, но это невозможно! Джек никогда не согласится играть моего возлюбленного в романтической комедии. Ты отличный сценарист и режиссер, и я страшно польщена, что ты решила предложить роль Эрики мне, но Джек-то на роль Гарри ни за что не согласится! А значит, и финансирование ты под этот фильм не найдешь. В общем, не хочу тебя обнадеживать – мне кажется, что этот фильм никогда не увидит свет.
Я ушла, будучи полностью уверенной в собственной правоте. Я даже немножко разозлилась на Нэнси – ну зачем она мне вообще рассказала об этом фильме? Я не хотела предаваться пустым мечтам, но удержаться было сложно.
А спустя полтора года мы с Джеком приступили к съемкам фильма “Любовь по правилам и без”.
В последний вечер съемок, когда я выходила из парижского отеля “Плаза Атени”, меня окружила толпа репортеров – они-то надеялись увидеть Кэмерон Диаз, которая тоже остановилась в отеле, или Джека Николсона. Но им пришлось удовлетвориться Дайан Китон – или, как это было заявлено в моем приглашении на показ осенней коллекции “Валентино”, Дайан Лейн.
Фильм снимался долго, почти полгода. После финального дубля Джек обнял меня на прощание и сказал что-то насчет того, что он хочет со мной чем-то поделиться. Мы попрощались и разошлись каждый своей дорогой. А спустя два года мне пришел чек с огромной для меня суммой с множеством нолей – процент от продаж “Любви по правилам и без”. Но у меня в договоре о начислении мне процента от продаж ничего не говорилось! Наверное, произошла какая-то ошибка. Я позвонила своему агенту, и тот сказал мне, что деньги прислал Джек Николсон. Джек? Тогда-то я и поняла, что он имел в виду, когда говорил про необходимость “поделиться”. Он поделился со мной частью своих прибылей от продажи копий фильма.
Джек – непредсказуемый и неоднозначный человек. Помню, однажды мы снимали сцену в пляжном доме Эрики. В сценарии она описывалась так: “Эрика и Гарри, промокшие под дождем насквозь, вбегают в дом и торопливо закрывают окна и двери. В небе сверкает молния, и в доме пропадает электричество. Чиркает спичка – они зажигают свечу, за которой следует еще одна, и еще одна. Эрика оборачивается и видит, что на нее смотрит Гарри. Прежде чем оба из них успевают опомниться, они оказываются друг у друга в объятиях и целуются”.
Для меня, Дайан, поцелуй был символом того, что Эрика нашла то, что давным-давно потеряла. “ Извини, – говорит Эрика”. “За что? – спрашивает Гарри”. “За то, что поцеловала тебя”. “Нет, милая, это я тебя поцеловал”.
Потом по сценарию Эрика целует Гарри.
Я вдруг понимаю, что совершенно забыла следующую свою реплику.
– Черт, забыла, что я должна сейчас говорить?
– Этот поцелуй за мной, – подсказывают мне.
То есть я, Эрика Барри, беру на себя инициативу и целую Гарри. Вроде бы понятно. Как только мы попробовали снять сцену еще раз, я опять забыла свою реплику.
– Извините, не понимаю, что это со мной. Как там она говорит?
– Дайан, ты должна сказать “Этот поцелуй за мной”! – прокричала мне из режиссерского кресла Нэнси.
– Да-да, точно. Конечно. Извини, Нэнси. Давайте попробуем еще раз.
И так это продолжалось на протяжении следующих десяти минут. Я не понимала, что со мной происходит. Единственное, что твердо сидело у меня в голове – мысль, что я должна не забыть поцеловать Джека. То, что я, как персонаж чужой истории, имею право целовать Джека Николсона, совершенно вскружило мне голову. Я забыла, что мы снимаем фильм. История, придуманная Нэнси, становилась и моей историей – историей о том, как я целовала Джека Николсона. Что самое прекрасное: Джек был вынужден целовать меня с таким же удовольствием, с каким я целовала его. Не знаю, что он сам думал по поводу этой сцены. Знаю только, что одно его присутствие заставляло меня чувствовать порхание пресловутых бабочек в животе. Сценарий тут был ни при чем – это все Джек, и его необъяснимое очарование.
Вот что дала мне “Любовь по правилам и без”: ниспосланную свыше Нэнси, поцелуй Джека и процент от продаж. Этот фильм навсегда останется моим самым любимым – не только потому, что я совершенно не ожидала сняться в таком кино в свои пятьдесят семь лет, но и потому, что благодаря “Любви” я оказалась в компании двух необыкновенных, чудесных людей и получила два подарка и поцелуй.
Не совсем обычное сообщение, 2005 год
Перед увольнением новая медсестра оставила мне сообщение.
“У вашей матери начались галлюцинации. После приема лоразепама она начала кричать и трястись. Если ей что-нибудь было нужно, она кричала. Потом схватилась за поручень и отказывалась выпускать его из рук: кричала «Нет» и уверяла, что стена постоянно движется. Она то и дело видит разных людей у себя в комнате. Видимо, лекарства ей не помогают”.
Это объясняло странное мамино поведение во время нашего вчерашнего к ней визита. Она хотела продать дом – и плевать, что на соседнем холме развеян прах ее мужа. Сосну, которую они с ним вместе посадили у дома, она собиралась спилить.
– Мам, присядь, давай все обсудим. И тебе надо поесть, – пыталась вразумить ее я.
Но мама то и дело вскакивала – то чтобы взять что-то, что она забыла, то еще зачем.
– Как называется эта штука для готовки? Забыла. И кто этот мальчик? Не кричи, мальчик, – говорила она, и Дьюк заливался слезами.
Я попыталась утешить сына обещанием свозить его на пляж Биг-Корона.
– Мам, – зашептала Декстер, – спроси у бабушки, можно мне колы?
Услышав шепот, мама резко обернулась:
– Что это она тебе там шепчет? Что вы от меня скрываете?
– Она просто хочет кока-колы, – попыталась объяснить я.
– Пусть тогда спросит меня! Вы, юная леди, в моем доме, так что будьте добры обращаться ко мне напрямую.
– Мам, она знает, что мы у тебя в гостях, просто немного стесняется.
– Ну, если она не хочет со мной говорить, пусть больше ко мне не приходит. Все равно я ей не нравлюсь, верно, девочка? Ну-ка, скажи, права я или нет?
Декстер замерла, а Дьюк принялся тянуть меня за рукав:
– Мам, давай уйдем.
И мы ушли.
Больно было смотреть, как мама пытается справиться с постоянным нервным напряжением, источника которого она не понимала. Мама резко перешла от начальной стадии болезни к ее середине, а может, и к концу. Не знаю, может, это произошло из-за того, что она так яростно сопротивлялась болезни в самом ее начале? Мы с детьми сходили на пляж и заглянули попрощаться с мамой, но к этому моменту она уже забыла, что мы приходили к ней в гости. Она сидела в гостиной и смотрела в пустоту. Когда я поцеловала ее, она спросила, кто я.
Пухлые щечки, 2006 год
А кто ты, Дьюк? Я знаю ответ на этот вопросы. Ты – начало. По утрам я тебя целую, а ты гладишь меня по щеке и говоришь:
– Вот, щечка, ты же этого хочешь?
– А как же поцелуй? – спрашиваю я.
– Нет, никаких поцелуев, – качает головой Дьюк. – Получай то, что тебе полагается, не больше и не меньше.
– Как вы разговариваете со своей матерью, маленький мистер? Давай лучше вставай наконец и пойдем завтракать.
Ты, смеясь, бежишь на кухню и, открыв морозилку, хватаешь оттуда два эскимо в виде Спанч Боба:
– Можешь изображать из себя строгую мамашу в фильмах, а так я знаю, что ты не такая!
– Дьюк Рэдли, положи мороженое обратно. Завтрак – для полезной пищи, а не для сладостей и прочей дряни. Давай приготовлю тебе овсянку.
– Мам, знаешь, что мне не нравится в твоем имени? Оно звучит как смерть.[12] А мы после смерти сможем думать? – спрашивает Дьюк.
– Очень на это надеюсь, Дьюк, – отвечаю я. – Слезь, пожалуйста, со стола.
Тут на кухню с угрюмым видом выползает Декстер, которая всегда была “совой”. Ты говоришь, что будешь овсянку, только если я положу туда коричные хлопья и добавлю две ложки сахара. Я соглашаюсь, включаю телевизор, наливаю молоко в тарелку и ставлю в микроволновку.
Ты нажимаешь кнопку “очистить”, потом “2”, потом “1”, потом “старт”, потом “стоп”, а потом повторяешь весь процесс еще раз.
– Ровно двадцать одна секунда, да, мам?
– Двадцать одна, а не сорок две.
Наконец ты садишься за стол, съедаешь две ложки и начинаешь жаловаться на то, какой толстый у тебя живот.
– Ма-а-а-ам.
– Что, Дьюк?
– А почему вся толстота уходит в щеки?
Открывается кухонная дверь, и к нам присоединяется Линдси Дуэйли – уже с утра с измученным видом.
– Хорошо бы Линдси могла отдохнуть от Линдси, – шепчешь ты.
Декстер высовывает из-под стола ногу, ты запинаешься об нее и спотыкаешься.
– Декстер, я все видела, – говорю я. – Объявляю тайм-аут.
Декстер заявляет, что Дьюк – идиот, и выбегает из кухни.
– Мам, – продолжаешь ты, – а Декстер только меня иногда пугает, или и тебя тоже?
– Все, Дьюк, хватит, – не выдерживаю я.
– Мам, ну почему ты так все усложняешь? Приди уже в себя!
– Дьюк! За что мне такое проклятье? Все, объявляю тайм-аут и для тебя тоже.
– Мам, а я вот не буду говорить “проклятье”, если ты не будешь так говорить. И не буду говорить “придурочный кретин”, если ты не будешь. И не буду слово, которое начинается с “дерь”, если ты не будешь. По-моему, справедливо, а? Как ты считаешь?
– Дьюк, я не собираюсь повторять это еще раз. ИДИ НАВЕРХ.
Ты наконец уходишь, но перед этим прихватываешь целую пригоршню пластиковых солдатиков и прочих супергероев.
– Извини, конечно, мам, но ты мне не поможешь отнести все это наверх?
– ДЬЮК!
– Все-все, мам, извини. Извини. Когда ты умрешь, я буду очень грустить. Зато смогу гладить тебя по щечкам, сколько захочу.
Фрэнк Манкузо-младший и гора Рашмор
Когда точно Сьюзи Дионисио, мамина новая сиделка, начала кормить ее с ложечки три раза в день? Теперь завтрак отнимает у них по полтора часа. Обед и ужин – по два. Сюзи – терпеливая женщина, она понимает, что маме непросто вспомнить, как нужно глотать. Лекарства она добавляет маме в чай и, передав ей чашку, переключает новый телевизор с плоским экраном на “Улицу Сезам”. Пересадив шестидесятикилограммовое тело Дороти Диэнн в специальный подъемник, Сьюзи смотрит, как ее пациентка поднимается, словно Феникс из пепла. Подъемник переносит Дороти, похожую на огромного младенца с длинным седым хвостиком волос, до инвалидного кресла и усаживает ее, отчего ее голова безвольно стукается о грудь. Как мама будет смотреть “Улицу Сезам”, когда все, что она видит, – это плитки пола, из-за расцветки которого они с папой когда-то так воевали?
Я радовалась, проводя время с детьми, и грустила, видя, как угасает мама. А в перерывах пыталась вспомнить, как же называется гора Рашмор. А пару недель до этого забыла, как зовут Фрэнка Манкузо-младшего. С одной стороны, это мелочь. Разве важно, что я не помню имени голливудского продюсера? У меня столько забот, что и неудивительно, что имя человека, с которым я и не общаюсь толком, вдруг вылетело у мня из головы.
В какой момент фраза “Куда же я дела свои ключи” становится диагнозом? Ждет ли меня такая же судьба, как у мамы? Сотрет ли мою память та же болезнь, что и у нее? Может, она уже сидит во мне? Я перестала говорить людям, что у моей мамы болезнь Альцгеймера – чтобы обычные беседы не превращались в какое-то подобие теста. Теста, который я могу и не пройти.
Может ли неуверенность в себе, постоянное сомнение в своих силах привести к депрессии? Может. А может ли депрессия привести к болезни Альцгеймера? Я постоянно задаюсь этим вопросом, но ответа на него не знаю. Я хватаюсь за соломинку, я пытаюсь учиться жить, окруженная одними и теми же вопросами. Я не знаю, влияет ли характер на вероятность развития болезни. Даже если и влияет, изменилось бы что-нибудь, знай об этом мама? Ежедневный прием витамина Е, настоек гинкго, “арисепта” и двух бокалов вина ничуть не помогли ей. Так же как и знание других языков, образование и талант не уберегли Ральфа Эмерсона, Айрис Мердок, Э. Б. Уайта и Сомерсета Моэма от этой коварной болезни.
Говорение – процесс, происходящий в настоящем времени. Писательский труд – в мыслях. Все эти люди были писателями, переносившими на бумаги свои мысли. Чтобы вдохнуть в мысль жизнь, ее нужно озвучить. Я не думаю, что говорение может исцелить болезнь Альцгеймера. Но зато оно помогает бороться с депрессией и неврозами, которыми страдала моя мама. Я сама всегда испытывала большие трудности с тем, чтобы облекать мысли в слова. О моем косноязычии ходят легенды. Но я отличаюсь от мамы тем, что все же даю выход своим эмоциям. Я запоминаю слова других людей и повторяю их про себя, пока они не станут почти что моими. Писательство абстрактно. Конечно, я наверняка ошибаюсь. Но как иначе принять тот факт, что болезнью Альцгеймера заболела моя мама – которая любила писать, училась на одни пятерки и получила высшее образование после сорока лет? Должна же этому быть хоть какая-то причина.
Как же ужасно, что мама прожила столько лет под пятой Альцгеймера. И как ужасно, что эти годы подошли к концу. И что она получила взамен? Пустой взгляд, незнакомые лица вокруг. Пусть уж лучше бы она была взвинченной, агрессивной, нервной. Все лучше этой апатии и вечного молчания.
Нет никакого смысла в том, чтобы задаваться вопросами и искать причины тому, что случилось. Все это совершенно бессмысленно. Я просто хочу, чтобы мама – прежняя мама – вернулась.
Сегодня мы с Дьюком стояли в очереди в кафе, когда зазвонил мой телефон. Звонила Стефани, моя главная помощница. Помню ли я, что у меня будет прямая линия с Майклом Гендлером? Я уже открыла было рот, чтобы сказать “да”, как вдруг Дьюк уронил на пол свой ванильно-ананасовый смузи, а у меня в голове одновременно выскочили два имени: Фрэнк Манкузо-младший и гора Рашмор. Я их вспомнила. Как только я перестала переживать о том, что забыла о них, они тут же ко мне вернулись.
14. Тогда и снова
Семья
Я ехала в машине и обсуждала со Стефани бесконечный список неотложных дел.
– Представляешь, у нас в четыре утра опять заорала сигнализация. Уже третий раз за две недели. Хорошо хоть дети не проснулись. В общем, можешь завтра вызвать ремонтника, чтобы он взглянул, что там случилось? О, а еще мне надо перенести ужин с Сарой Полсон, и перезвонить Джону Фиерсону. У тебя есть его номер? Черт, можешь подождать минутку, мне тут кто-то еще звонит. Проклятье, мне с тобой столько всего еще нужно обсудить. Я тебе сейчас же перезвоню.
Звонила Энн Майер. Мама заболела бронхитом.
– Ее повезли в больницу, но доктор Берман считает, что ее завтра уже выпишут.
Я тут же развернулась и поехала к больнице. О своем списке неотложных дел я, конечно же, тут же забыла.
Мама лежала на койке с капельницей. На ее рот и нос надели специальную маску, при помощи которой машина откачивала мокроту. Рентген показал, что недавно она перенесла удар, о котором мы не знали. Признаков пневмонии не было, но мама совершенно не могла глотать. Врачи не могли ничего для нее сделать. Они обязаны были ее выписать, а это значило, что нам придется перевести ее в хоспис. В хосписе ей хотя бы могли давать морфий.
Я вернулась домой, упаковала чемодан и поехала в мамин дом на Коув-стрит. Там опять все поменялось. Вокруг было полно хлама – не такого, который можно подобрать, а настоящего мусора. Пустые пузырьки из-под лекарств, разбитые тарелки, коробки из-под салфеток. Записи сиделок. Уродливые шарики с пожеланиями поправляться и чудовищные букеты. Мамин любимый дом пал жертвой ее болезни. Если бы мама была в себе, она ни за что не позволила бы сиделке Сьюзи накрыть простыней окно с видом на сад или оставить пылиться диски с моими фильмами. Но окончательно добила меня следующая картина: мама, прижимающая к груди маленького плюшевого зайчика.
– Посмотри, какой хорошенький! – сказала мама. – Если потянуть за веревочку, он споет песенку.
Робин с Райли прилетели из Атланты. Пришел и Рэнди, живущий неподалеку. Он держал в руках банку пива и улыбался своей подруге Клаудии. Пришли Энн Майер, Сьюзи и Ирма. Краем глаза я увидела сестру из хосписа Шарлотту, которая пыталась положить маме под язык таблетку морфия. Маме каждые два часа полагалось по таблетке морфия и ативана. Сьюзи попробовала разжать мамину челюсть:
– Откройте-ка ротик, мамуся. Мы так любим нашу мамочку, так ведь, мисс Дорри?
Дорри кивнула.
Позвонила Стефани – надо было до конца пройтись по списку дел. У мамы не было доступа к интернету (и слава богу).
Я ушла в ее кабинет, заваленный подборками фотографий Рэнди, Робин, Дорри и меня. Мама сделала эти снимки, когда мы занимались серфингом в Сан-Онофре. Я сказала Стефани, что на какое-то время беру отпуск.
Папе понравились бы “Гугл”, “Твиттер” и “Фейсбук”. Я знаю, что он пришел бы в восторг от возможности узнать все и сразу, от всеобщего доступа к любой информации. Впрочем, появление всех этих технологий не дало ответ на извечный вопрос: что делать? Как найти тот кусочек информации, который принесет счастье, довольство и покой? Дороти знала, что информацию нужно тщательно отфильтровывать, но так и не смогла найти тот недостающий кусочек. Она всегда чувствовала себя неполноценной, будто потеряла какую-то очень важную часть себя и так и не смогла ее найти. Мама была отличным коллажистом, и это проявлялось даже в ее записях. Она понимала скоротечную натуру мыслей – в одно ухо влетело, из другого вылетело. По сути мама была настоящим модернистом, которому не хватало мастерства, чтобы придать своим мыслям целостную оболочку. Мама плохо умела общаться со внешним миром и не понимала, как передать импульсы своего разума наружу. Она поглощала информацию, а взамен выдавала описание грустных итогов своей жизни.
Одно мама знала точно: все в жизни сводится к семье. Рано или поздно понимаешь, что вся твоя жизнь пройдет вот с этими людьми. До меня это уже дошло. У меня есть семья – даже две. Или три, если вдуматься. Есть мои сестры и брат. Есть мои дети. И есть люди, которые всегда со мной. Которые стали мне больше, чем просто друзьями. Люди, двери которых всегда для меня открыты. Вот к чему все свелось у меня. К людям, которые всегда открывают тебе дверь – даже когда не хотят.
Шарик
Наша импровизированная команда сиделок провела с мамой уже четыре дня. Иногда мы спали на диване внизу или в кладовой, где мама хранила старые документы и записи. Иногда спали в родительской комнате. Иногда на ночь оставалась Сьюзи, иногда – Энн и Ирма. Приходили медсестры из хосписа, приносили с собой в сумочках морфий. Вчера в гости приехали дети. Мы с Робин смотрели, как они играют на пляже, когда вдруг услышали крик Энн. Робин схватила меня за руку. Мы поспешили домой и прошли мимо Дона Каллендера, наследника империи Мари Каллендер, королевы пирогов и плюшек. Дон, прикованный к инвалидному креслу, сделал неопределенный жест рукой в нашу сторону – вроде бы поздоровался. Пробегая мимо, я подумала о миллионах замороженных пирогов в миллионах американских домов. Деньги не уберегли Дона от проблем со здоровьем. Он попытался заговорить, но я ничего не поняла. Робин потянула меня за руку:
– Дайан, пошли! Скорее!
В доме вокруг маминой кровати уже собрались Дорри, Сьюзи, Ирма, Энн и Райли. У мамы начались проблемы с дыханием. Медсестра Шарлотта засекала каждый ее вздох. Мама вдыхала, задерживала дыхание на тридцать пять секунд, выдыхала, потом делала еще вдох на тридцать секунд, затем еще один – на пятьдесят. Я – астматик и понимала, как тяжело дышится при таком малом количестве кислорода. Вдох, тридцать секунд, выдох. Вдох, сорок секунд. Выдох. Вдох, тридцать восемь секунд. Мы гадали, есть ли тут какая-то зависимость. Мы ждали. Когда мама сделала вдох и мы досчитали до шестидесяти пяти, Дорри заплакала. Робин прижалась лицом к маминой щеке. В комнату вбежал Дьюк с полотенцем на плечах.
– Мамочка, не плачь! Ну не плачь, пожалуйста!
Я обняла и поцеловала своего семилетнего сына. Неужели это конец? Дьюк отвязал шарик с надписью “Поправляйся” и поднес его к маминому лицу:
– Поправляйся, бабушка! Видишь, что тут написано? Поправляйся.
И мама, словно услышав его, не умерла.
А просьба Дьюка заставила меня вспомнить другие смерти в нашей семье.
Смерти
Сперва Майк
Майк Карр, мой двоюродный брат, умер в 1962 году, когда ему было четырнадцать лет. Мы всей семьей поехали на его похороны. Отпевали Майка в церкви современной постройки в пригороде Гарден-Гроув в Калифорнии. Мы сели неподалеку от тети Марты. Она не плакала, но была совершенно на себя не похожа. Она была просто не в состоянии переварить то, что произошло. Тетя Марта никогда уже не была такой, как прежде. Что-то в ней сломалось навсегда. Речь священника изобиловала цитатами из Библии. Никто не упоминал тот факт, что Майк случайно застрелился из ружья после того, как наелся кислоты в Сиэтле.
Затем Эдди
Следующим умер Эдди – муж тети Сэди. Бабушка Холл ненавидела Эдди и спустя тридцать лет после свадьбы убедила-таки Сэди вышвырнуть его из дома. Бабушка вообще считала, что “мужики не имеют никакого значения”. Эдди и Джордж были слабаками – иначе бы не липли так к сильным женщинам. На момент смерти Эдди, который умер в своем летнем домике у озера, у них с Сэди сложились вполне нормальные отношения. Эдди завещал жене и сыну, моему кузену Чарли, все свои картины, которые он раскрашивал по номерам.
Затем Джордж
Джордж, бабушкин квартирант, запомнился тем, что всегда дарил нам, детям, отличные открытки. На них были изображены разные деревья, на которых росли монетки общей стоимостью в доллар. Мы называли их “открытки из денежных деревьев”.
Джордж был художником и маляром. Он входил в профсоюз художников, который каждое Рождество устраивал грандиозный праздник, с гигантской елкой и кучей подарков для детей. На празднике ведущий с большим серебристым микрофоном с длинным шнуром спрашивал детей, кто хочет подняться на сцену и спеть песенку. Я очень хотела оказаться на сцене и спеть, но ужасно трусила. Помню, какое-то время я мечтала, чтобы папа тоже стал членом этого профсоюза. И чтобы он умел танцевать и говорить смешными голосами, как Джордж, или показывать карточные трюки.
Бабушка никак не комментировала состояние здоровья Джорджа, когда тот вдруг страшно похудел. А когда однажды он упал и умер, она не проронила ни слезинки.
– Он мне за всю жизнь ни цента не дал, – сказала она и больше о Джордже не вспоминала.
Услышав это, я вспомнила о всех открытках, которые мне подарил Джордж. Жалко, что я потратила все центы, которые он в них вклеил. Могла бы сейчас отдать их бабушке, чтобы она так не злилась на Джорджа. Он ведь умер, нехорошо злиться. Я уверена, что Джордж с радостью отдал бы бабушке все, что мог, если бы она этого захотела. В конце концов, он всегда очень старался вовремя платить за аренду. Я не понимала бабушку. Почему ей не грустно? Странно как-то и нехорошо. Бабушка была холодной и безразличной, совсем как ее дом на Рэйндж-Вью-авеню.
Затем Сэди
– Девяносто три – это немало. Но какая разница? Сэди-то уже умерла, – говорила бабушка Холл. – А больше-то ничего у меня и не осталось. Я тебе вот что скажу. Переживать из-за смерти очень глупо, хотя многие из-за этого прямо все трясутся. А мне кажется, Дайан, что не надо тут мудрить – а то перемудришь так, что из ушей дым пойдет. Я все думаю о кардиостимуляторе Сэди. Хреново он работал, вот что. У Сэди кнопочка была такая, которой он управлялся, и она все время с ней возилась. Крутила ее, вертела. Потом вдруг начала вести себя не так, как обычно, и продолжалось это около недели. А я и внимания не обратила. Потом однажды пошла в магазин, возвращаюсь – а она мертвая лежит. В розовом платье. Наверное, надела его, чувствуя, что пришло ее время. Нехорошо так говорить, но Сэди из чересчур предсказуемой смерти попыталась сделать какой-то прям детектив.
И Доктор Ландау тоже
Доктору Ландау диагностировали болезнь Альцгеймера. Она сказала, что уходит на пенсию, но со мной все равно видеться будет – у себя дома, в квартире на пересечении Девяносто шестой и Мэдисон-авеню. В нашу последнюю встречу она начала мне рассказывать, как они с ее мужем Марвином бежали из Польши перед вторжением гитлеровских войск, и вдруг перешла на незнакомый мне язык. Она говорила что-то, говорила, а я кивала и делала вид, будто все понимаю. Но доктора Ландау, даже больную Альцгеймером, не так-то просто было обвести вокруг пальца. Она посмотрела на меня, как будто вдруг поняла, что я притворяюсь. Я и впрямь притворялась, но что мне оставалось делать, если я ни слова из ее рассказа не понимала? Я попыталась ее как-то утешить, но бесполезно. Наконец доктор Ландау так разнервничалась, что начала показывать на меня пальцем и кричать в полный голос. Появилась медсестра и поспешно увела ее. Доктор Ландау, как и Мэри Холл, не оглянулась. Мы не попрощались, и больше я ее никогда не видела.
А когда-то она пыталась убедить меня, что в мире не существует такого понятия, как “справедливость”. Я возражала. В жизни у всего должны быть свои причины, она не может быть просто абсурдной смесью противоречий. Я смотрела, как медсестра уводит доктора Ландау из гостиной с оранжево-черной мебелью, которую доктор коллекционировала всю жизнь, и не понимала, как такое может быть. Как женщина, которая всю свою жизнь помогала другим справиться с хаосом в голове, вдруг стала жертвой болезни Альцгеймера? А спустя двадцать лет на этот же путь ступила моя мама. Фелиция Лидия Ландау была права – в жизни нет справедливости.
Один телефонный звонок, два сообщения. 8 сентября 2008 года
На седьмой день нашего пребывания на Коув-стрит я поехала за едой, пока Сьюзи спрыскивала маме волосы сухим шампунем. Знаки становились все яснее. Давление у мамы упало, пульс – тоже. Кожа приобрела восковый оттенок. Кровоток ухудшился, началось обезвоживание. Каждый час в одно и то же время, будто в этом был какой-то смысл, у Дороти начинало бурчать в животе.
Когда я вернулась, увидела сообщение от детей:
– Мам, привет, это Декстер. Мы сегодня отлично повеселились на пляже – я поймала трехметровую волну! Представляешь? Все были в полном восторге, никто прямо поверить не мог, что я могу так круто кататься. Да и маленькие волны отличные были, я на пузе на доске качалась. Я на серфе чувствую себя как рыба в воде. Да я и вообще во всем – прямо рыба! Надеюсь, завтра тоже будут большие волны. Ой, с тобой Дьюк хочет поговорить.
– Мам, возвращайся! Ты где? Хочу с тобой сегодня поспать. Может, все вместе будем спать? Я чур в середине. Мам, я вот что хотел сказать. Я ем овсянку. И вот еще что, мам: ты когда вернешься, мы с тобой будем играть. И еще, мам, я тебе хотел сказать, что Декстер – злюка. Ну, пока!
Мы ели тако в столовой. Вид у всех был тот еще. Робин поехала отвезти Райли в аэропорт. Дорри отправилась за продуктами, у сиделок начался перерыв. Я осталась наедине с мамой – в последний раз. Я смотрела на ее лицо – не на ледяные коленки или пожелтевшие ноги, но на ее лицо. Природа так непоследовательна. Какая горькая ирония в том, что мамина красота мешала людям разглядеть в ней тонкую, хрупкую душу. Я наклонилась поближе. Интересно, что мама видела перед тем, как закрыла глаза? Раздражали ли ее наши лица, мельтешащие туда-сюда фигуры людей, которых она когда-то знала и любила? Что ты слышишь, мама, в своем безмолвном мире? Как где-то моют посуду? Как волны бьются о берег? Значат ли для тебя хоть что-то голоса, шепчущие “мамочка”, “мама”, “дорогая Дороти” и “миссис Холл”?
Мы остались с тобой вдвоем, и я очень надеюсь, что ты узнаешь наши голоса. А может, и нет. Может, наши голоса для тебя – лишь непонятный шум. А вдруг звуки – это последнее, что остается перед смертью? Тогда я надеюсь, что шум наших голосов тебя успокоит. Колыбельная наших голосов, призванная унять твою боль. Ты слышишь, как мы воркуем над тобой? Мы, голоса по другую сторону твоей белой простыни, поем тебе песнь любви.
Я не думаю, что ты когда-нибудь еще откроешь глаза, мама. Ты до сих пор крепко сжимаешь челюсть – после того дня, как ты укусила Сьюзи за палец, никто не пытается тебе ее разжать.
“Последний рубеж Дороти”, как говорит Дорри. Плохо, что тебе приходится так сильно стискивать зубы. Ты пытаешься ухватиться хоть за что-нибудь, хоть как-то удержаться и не упасть. Я бы вела себя точно так же. Мне очень жаль, что перед тобой осталась лишь одна дверь.
Все кажется таким нелогичным, странным, нереальным и неправильным. Помнишь, как бабушка Холл все время повторяла: “Здоровье – самое ценное богатство”. Я только теперь поняла, что это значит. У Дьюка и Декстер целая куча лечащих врачей. Доктор Шервуд занимается зубами Декстер, а Кристи Кидд – ее кожей. У Дьюка есть доктор Питер Вальдстейн, его педиатр, и доктор Рэнди Шнитман, его отоларинголог.
Ну а у меня список врачей еще длиннее. Стоматолог Джеймс Роббинс, который недавно сделал мне прикусной шаблон, потому что я скриплю зубами и стесываю их во сне. Его жена, Рози, стоматолог-гигиенист. Доктор Кит Агр – мой терапевт, доктор Сильверманн – офтальмолог. Доктор Лео Ранджелл, которому недавно стукнуло девяносто шесть, – мой незаменимый психоаналитик. И, конечно, доктор Билчик, без которого я бы никогда не справилась с рецидивами рака кожи.
Помнишь, как в двадцать один год мне диагностировали плоскоклеточный рак? А потом, еще через десять лет, обнаружили сразу несколько базалиом? Уоррен все время пилил меня, чтобы я не сидела на солнце. И почему я его не слушала? В этом году, спустя сорок лет, плоскоклеточный рак вернулся, на этот раз атаковав левую сторону моего лица. Я поехала в медицинский центр, надела шапочку для душа и легла на операционный стол. Анестезиолог сделал мне укол, и передо мной стали мелькать видения. Я увидела тебя, лежащую на каталке. Ты была мертва. Потом увидела папу, а затем – длинный шприц, которым усыпляли нашего пса Реда. Надо было чаще баловать его вкусняшками при жизни. Еще я видела моего друга Роберта Шапизона, который сидел под картиной Энди Уорхола у себя дома и говорил об эмоциональных последствиях неоперабельного рака легких. Почему я не проводила с ним больше времени? Потом я увидела Ларри Салтэна с обложкой его книги “Улика” в руках. А потом вокруг стало темно, но я могу поклясться, что я слышала, как молит Ларри: дайте мне еще три недели пожить, хотя бы еще три недели. Три недели – это ведь так немного, да?
Когда я очнулась, мое лицо пересекал десятисантиметровый шрам. Видишь, мам, жизнь тоже начала отщипывать от меня по кусочку. Странное дело – жизнь. Ее и слишком много, и слишком мало. Стакан вечно наполовину полон и наполовину пуст.
За день до
Сьюзи позвала меня с первого этажа – искала щипчики для ногтей. Я пошла за ними в мамин кабинет. Забавно, как иногда от нас ускользает что-то очевидное. Рядом с привычным призывом “ДУМАЙ” на стене была приколота цитата, на которую раньше я не обращала внимание: “Воспоминания – это моменты жизни, которые отказываются быть обычными”. Я надеюсь, что в памяти мамы сохранилось хотя бы несколько таких моментов.
Тогда же я наткнулась на запись, которую мама сделала спустя какое-то время после папиной смерти.
Сегодня утром усыпили нашего кота Сайруса. Он не страдал. А я страдаю от потери моего прекрасного абиссинца, настоящего кота, который понимал, что он кот, и до самой смерти оставался котом. Я уже по нему скучаю.
Когда я принимала горячую ванну, пытаясь унять боль от потери Сайруса, мне в голову почему-то пришла цитата из Книги Екклезиаста. После ванной я нашла старую Библию моей мамы и нашла эту цитату:
“Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время искать и время терять”.
Меня утешили эти слова. Смерть – это таинство, а иногда – невыносимая ноша. Как же трудно понять всю глубину и сложность человека. Зачем мы умеем любить, если после смерти любимых нас пожирает тоска? До самой смерти мне не узнать ответа на этот вопрос, пока я не присоединюсь к тем, кто уже ушел: Джеку, маме, Мэри, Сэди и коту Сайрусу. Ну а следующей в этом списке, должно быть, стану я.
Долгий путь
Спустя одиннадцать дней бесконечных молитв, которые Сьюзи возносила Господу, я почувствовала, что скоро сойду с ума. Я дошла до того, что как-то положила палец маме в рот, надеясь, что она меня укусит. Но мама сдалась – при желании я могла ощупать весь ее рот. Она провалила свой последний тест. А может, наоборот, сдала его на “отлично” и теперь готова была присоединиться к Джеку.
Мы с Дорри сорвали с окна простыню и подкатили маму поближе. Хватит уже этой вечной тьмы. В конце концов, от чего мы пытались защитить маму? Не от солнца же. Мама лежала в полутора метрах от папиного любимого окна, а мы с Дорри стояли и смотрели на нее, похожую на изваяние. Вот чем стала наша мама – прекрасной статуей, застывшей в вечности. Наши действия уже не имели для нее никакого значения. Мне подумалось, что, поддерживая мамину жизнь в таком состоянии, мы попросту мучаем ее. Это была для нее настоящая пытка.
Мы мыли и причесывали ее. Держали за руку, каждый час переворачивая с боку на бок. Протирали рот влажной губкой. Медсестры кололи ей морфий. Доктор Берман утешал нас примерно теми же словами, что и папин врач. Важно качество, а не количество. Качество. Насколько я видела, к маминой жизни это слово не относилось. Она не могла глотать, не могла говорить, не могла видеть. Единственной частью тела, еще подчинявшейся ей, оставалась левая рука, которой она могла лишь цепляться за поручень кровати. А теперь, лежа перед окном в лучах теплого солнца, она перестала делать и это.
18 сентября 2008 года
Сюзи пошла наверх, а я сидела на краю кровати и следила за маминым дыханием. Она дышала ровно – шестнадцать вдохов в минуту. Она застала меня врасплох. Лишь когда мамины руки стали белеть, я поняла, что она умерла. Умерла, не издав ни звука.
Мы одели маму в коричневые шерстяные штаны, белую рубашку и черный свитер с вышивкой в виде зеленого кактуса. Ее волосы заплели в косу, идеально ровную, как и ее благородный нос. Мы нарядили маму так, словно она просто собралась в ресторан на ужин. Посиневшие губы накрасили помадой.
Дорри, Робин и я сидели перед папиным любимым окном и пили красное вино. Мы ждали приезда сотрудников похоронной компании, которые провезли маму на каталке через гостиную, совсем как везли когда-то папу.
На следующее утро я отправилась домой и сообщила Дьюку и Декстер, что у бабушки стало плохо работать сердце и она перестала дышать.
– Она перестала страдать, – сказала я.
– Перестала страдать? – переспросила Декс.
– Да, милая.
– Она не должна была умереть, – возмутился Дьюк.
И я объяснила ему еще раз, что сердце у бабушки стало очень плохо работать. И рассказала обо всех непонятных чудесах, происходивших с бабушкой: как однажды пальцы у нее стали фиолетового цвета, и скоро она вся по цвету напоминала спелую сливу. И как в ночь перед смертью губы у бабушки приобрели синий оттенок – совсем как океан на рассвете. Я призналась, что не знаю точного момента смерти бабушки, потому что тогда меня отвлек какой-то странный звук, как будто кто-то хлопал крыльями. Я посмотрела в окно и увидела целую стаю чаек на причале. Наверное, они прилетели попрощаться с доброй старушкой, которая подкармливала их хлебом. А потом я обернулась и увидела, что пальцы, руки, ноги и все остальное у бабушки опять стало нормального цвета. Тогда-то я и поняла, что рядом со мной происходит чудо. Ее красивые карие глаза, которые она не открывала вот уже семь дней, внезапно распахнулись. Я спросила детей: может, бабушка увидела что-то такое, чего никогда еще не видела? Они согласились – наверняка перед ней открылся какой-то необыкновенный вид.
Я не стала говорить им, что мамину смерть было так же сложно объяснить, как и ее жизнь. Я не стала говорить им, что Смерть стояла на пороге маминого дома на протяжении двенадцати дней. И я не стала говорить им, что мама ушла вслед за Смертью, не издав ни единого звука.
Прощания
Я всю жизнь открываю и закрываю разнообразные двери. Но вот дверь с надписью “Отпусти и забудь” остается наглухо для меня закрытой. Описывая мамину историю, я не собиралась преодолевать собственное чувство потери или что-то в этом роде. Но то, как попрощались со мной родители – папа, в своем пятимесячном спринте к смерти, стремительно и неожиданно, мама – долго и вдумчиво, – произвело на меня странный эффект.
Мои запоздалые приветствия – маленькой девочке и, несколько лет спустя, мальчику – открыли для меня иные концовки. Я тоже все время с чем-то прощаюсь: с привычкой Декстер приходить ко мне в кровать в три ночи, с ежевечерней манией читать “Стелла-луну”. А однажды Декстер поймала голыми руками аж семь бабочек. Прощайте, бабочки. А однажды в последний раз сказала “Спокойной ночи, Дорри и Рэй [собака Дорри], и Моджо [еще одна собака Дорри], и Шата [самая уродливая собака Дорри]. Спокойной ночи, Стивен Шэдли, придумавший нам дом, и дядя Билл, и спокойной ночи бабушке, и Линдси, и дяде Джонни Гейлу, и Тате, и Сандре – особенно Сандре!”
В день, когда я привезла из Нью-Йорка маленького Дьюка Рэдли, Декстер попрощалась с собой – единственным ребенком в семье.
И был день, когда годовалый Дьюк сказал свое первое слово – “луна”. И когда мы с Декстер тайком пробрались в бывший дом Джимми Стюарта во время его ремонта, и когда лежали во дворе с Дьюком и смотрели на звезды. Я так хочу вернуть все эти дни обратно.
– Мы будем лежать на травке и смотреть на звезды вечно. Да, мам?
– Конечно, Дьюк. Вечно.
Я не помню, когда Декстер перестала говорить “мнишь” вместо “помнишь”. “Мнишь, как Джози вырвало в машине”, “Мнишь, как мы нашли птичье гнездо?” Никаких больше для меня “мнишь”, Декси. А потом настал день, когда она перестала нырять в бассейн, чтобы разглядеть на дне слонов и крокодилов. Прощайте, слоны, прощайте, крокодилы.
Однажды Дьюк прекратил смотреть “Паровозика Томаса” и “Киппера” и прекратил играть со мной в кукольный домик. Потом мы перестали петь “Гору Джиллис” в машине – в тот последний раз я выкрутила громкость на максимум и мы принялись орать “Я поехал на гору Джиллис в летний теплый день”. Прощай, гора Джиллис. Прощай.
Можно было бы подумать, что такое количество маленьких “прощай” подготовят меня к большим прощаниям, но это не так.
Все опять свелось к одной старой мысли, мама. Хорошо бы я могла с тобой поговорить. Хорошо бы я могла услышать тебя оттуда, из твоего мира. Твой последний урок, которому я противилась так долго, наконец-то начал до меня доходить. Мне кажется, я стала понимать, о чем ты говоришь мне из прошлого. Ты ведь именно там, в прошлом. Ты говоришь, чтобы я отпустила руки с руля велосипеда и попробовала проехать так. Ты говоришь, чтобы я не затыкала уши, чтобы я слушала. Чтобы я не закрывала глаза, а смотрела. Чтобы не молчала, а говорила.
– Дорогая Дайан, – хочешь сказать ты мне, – моя первая дочь. Сделай глубокий вдох, будь смелой и ОТПУСТИ. Убери руки с руля. Лети!
И я пытаюсь это сделать, но каждая клеточка в моем теле противится этому. Но я обещаю, что сделаю все, что смогу, только бы Дьюк и Декстер не оказались на таком же поводке – поводке моей к ним любви. Я дам им свободу, как бы мне ни хотелось, чтобы они всегда оставались рядом со мной. И я обещаю отпустить тебя. Мне так жаль, что я, вместо того чтобы набраться смелости и рассказать о своих чувствах, отводила глаза в сторону и убегала прочь. Понимаешь, мам, все у меня сводится к тебе. И так было всегда.
Что с ними стало?
Вчера Ник Рид разложил на столе в игровой комнате мамин дневник за 1968 год и сфотографировал его. Вместо обложки у дневника – коллаж из снимков Рэнди, Робин, Дорри и меня. Мы тогда нарядились гангстерами.
Внизу слева нашлепка: “Пока что все идет неплохо”. Справа – “Будь свободен”. Посередине – надпись: “Что с ними стало?”.
И вот что. Робин уже шестьдесят. Она замужем за Рики Бевингтоном – вот уже двадцать семь лет подряд, представляешь? Они все еще живут на своей ферме в Шарпсберге в Джорджии. Их сын, Джек, учится в университете, а у Райли – ей двадцать один – недавно родился сын Дилан. Робин пошла в тебя в том, что касается кошек и собак – она приютила уже тридцать зверюг.
Дорри каждое утро просыпается и видит у себя из окна горы Сан-Гейбриель. Совсем как ты, когда была маленькой. Дорри очень любит свой дом в Сильвер-Лейк, который стоит на самой верхушке холма. Она – генеральный директор “Монтерей-гараж-дизайнс”, а также самый крупный арт-дилер американского Запада. Она специализируется на антикварной мебели и любит ездить в Аризону со своими собаками – Циско и Майло. Ты бы ею гордилась, мам.
Рэнди так и не избавился от ржавой “тойоты”, которую ему подарил отец. Она уже пятнадцать лет стоит перед его домом. Как это похоже на Рэнди! В его новой квартире в Бельмонт-Вилладж все завалено коллажами, книгами, журналами, красками, клеем и прочими бумажками. Он все так же хранит свои поэмы в духовке. На днях мне удалось наконец до него дозвониться, и знаешь, что он мне сказал? Что еще никогда в жизни не был так счастлив. Вот так-то, мам.
У меня тоже все в порядке. Сейчас Рождество, и мы везем твой прах в Аризону. Мы с Дорри и Робин развеем тебя там же, где папу. Прошлой осенью я нашла отличную жестяную банку на архитектурной барахолке в Миннеаполисе. Мы написали на ней твое имя. “Дороти Диэнн Китон Холл, любимая мама дочек Дорри, Дайан и Робин и сына Рэнди”. Ты будешь смотреть на горы, а рядом с тобой примостятся папа и его спутница-горлица.
В машине со мной едут Дьюк – извечный хохотун и шутник – и красавица Декстер. Я каждый день гляжу на них, пытаясь увидеть, не изменились ли они. Смотрю на их ровные носики, сияющие улыбки, густые волосы. Изучаю широко расставленные глаза Декстер и умопомрачительную ямочку на подбородке у Дьюка. Неужели им обязательно расти? И почему я такая везучая? Как всего два решения могли полностью поменять мою жизнь? Вместо одиночества и изоляции у меня теперь есть семья, новые друзья и огромное количество всяких дел и занятий. Как так вышло, что я превратилась в типичную мамашу-наседку, которая в семь утра отвозит Дьюка в бассейн, а в пять вечера стоит под окнами и смотрит, как Декстер проплывает свою стометровку? Жаль, что тебя нет рядом с нами. Жаль, что ты не видишь, как Дьюк и Декстер бросаются в ледяную гладь воды. Жаль, что тебя не было с нами на Гавайях. Тебе бы понравилось. Ты бы заказывала ананасовое мороженое и сидела под водопадами. Смотрела, как дети катаются на горках в аквапарке, и слушала их смех. Прокатилась бы с нами на лодке со скоростью сто километров в час.
И вот еще что, мам. Почему все так неожиданно осталось в прошлом? В этом есть свои плюсы – думаю, ты понимаешь. Пока я писала эти мемуары – твои слова, переплетенные с моими, – мне иногда казалось, что нет никакого “тогда”, а есть только “снова”. Ты слышишь меня, мама? Понимаешь, о чем я говорю? Я снова с тобой. Снова. Не “тогда”, а снова.
В память о тех, кто покинул этот мир
Доктор Лео Рэнджелл, Роберт Шапазиан, Майкл Бэлог, Ларри Салтэн, Мори Чайкин, Марта Карр, Майк Карр, Ред, Алан Бушбаум, Махала Хойен, Нэнси Шорт, Дэвид Макклауд, Джордж, Эдди, Рой Китон, Фрэнк Циммерман, доктор Фелиция Ландау, Сэнди Мейснер, Сэди, Домино, Джози, Уайти, Уолтер Маттау, Одри Хепберн, Ричард Бертон, Гейл Сторм, Билл Хитон, Инез Роббинс, Морин Стейплтон, Грейс Йохансен, Гарри Коэн, Дженет Франк, Джилл Клейбер, Фредди Филдс, Марлон Брандо, Винсент Кэнби, Роуз Коэн, Джордж Барбер, Грегори Пек, Орфа и Уэсли Тейсен, Джек Шон, Джеральдин Пейдж, Честер Холл, Уильям Эверсон, миссис Кларк, Керри Бастендорф, Билл Бастендорф, Ричард Брукс, Мэри Элис Холл, Том О’Хорган, Бола Китон, Лемюэль У. Китон-младший, Анна Китон, Джек Н. Холл, Дороти Диэнн Китон Холл.
Благодарности
Спасибо Рэнди, Робин и Дорри, каждый из которых помнит маму по-своему и каждый из которых любил ее по-особенному. Спасибо моим дорогим друзьям и маминым друзьям: Кэрол Кейн, Кэтрин Гроди Патинкин и Стивену Шэдли. Моим чудесным стенографам, которые смогли расшифровать мои записки: Джин Хитон, Арлин Смаклер и Сондре Шаффер. Спасибо Джилл Стайн, которая познакомила меня с Биллом Клеггом, который в свою очередь познакомил меня с Дэвидом Эберсхоффом. Спасибо Джо Келли, Биллу Робинсону и Кэролин Баркер, которые поддерживали меня на протяжении долгих лет. Спасибо доктору Лео Рэнджеллу, который терпел меня, невзирая на то, что я постоянно твердила ему об одном и том же. Спасибо Сюзи Бейкер, Дэниэлу Вулфу, Ларри Макмертри, Энн Карслон, Марвину Хейферману, Ричарду Пинтеру, Джонатану Гейлу, Саре Полсон, Нэнси Мейерс, Мэри Сью Швейцер и Джошу Швейцеру, Элис Энн Уилсон, доктору Киту Агру, Дебби Дюран и Ронену Стромбергу. Спасибо моим верным четвероногим друзьям Джози, Ред, Свити и Эмми. И нашей крысе Дикси. Спасибо Вуди Аллену, Уоррену Битти, Алу Пачино и Биллу Бастендорфу за их прекрасные письма. Спасибо Майклу Гендлеру и Брайану Фортману за то, что добились невозможного. Спасибо дизайнеру Эмили Бласс за ее блестящую работу, а Нику Риду – за прекрасные фотографии маминых дневников. Спасибо Эрику Эзре, который восстановил файлы, удаленные мною по ошибке. Спасибо всем сотрудникам издательства “Рэндом Хаус” за публикацию этой книги, в особенности Джине Сентрелло, Сьюзан Камиль, Салли Марвин и Клер Свонсон. Спасибо Энн Мэйер, Сьюзанне Дионисио и Ирме Флорес, которые заботились о маме. Спасибо маминым врачам: доктору Джеффри Каммингсу и доктору Клаудии Кавас. Если вы хотите пожертвовать средства в пользу медицинского центра по изучению болезни Альцгеймера имени Мэри С. Истон, пожалуйста, посетите сайт .
Фотографии
Дайан в детстве. Фото Дороти Холл.
Джек Холл, отец Дайан.
Дороти Холл и маленькая Дайан.
Рэнди Холл, младший брат Дайан. Фото Дороти Холл.
Младшие сёстры Дайан – Робин и и Дорри Холл. Фото Дороти Холл.
Дайан и Вуди Аллен. 1970-е гг. Фото Дороти Холл.
Фото Фредерик Орингер.
Photo © SMP/Globe Photos, Inc.
Дайан Китон на вручении премии “Оскар”. 1976 г. Фото Гари Льюиса/ Camera Press/ Retna Ltd, США.
Дайан и Дороти Холл. Фото Джек Холл.
Фото Дороти Холл.
Уоррен Битти на съёмках фильма “Небеса подождут”. 1979 г. Photo © Paramount Pictures.
Аль Пачино на съёмках фильма “Крёстный отец: часть третья”. 1990 г. Photo © Paramount Pictures.
Дьюк и Декстер Китон, дети Дайан. Фото Джулии Дин.
Дайан, Дьюк и Декстер. Фото Рувена Афанадора.
Фото Мишеля Комте.
Примечания
1
Tom Robbins, Even Cowgirls Get the Blue. Boston: Houghton Miffin, 1976.
(обратно)2
“Все, что мне нужно на Рождество, – два передних зуба” (англ.), рождественская песня, написанная Доналдом Гарднером.
(обратно)3
Хауди-Дуди (Howdy Doody, от англ. “How do you do?” – “Привет, как дела?”), персонаж детского телешоу, деревянная кукла-марионетка с нелепыми оттопыренными ушами.
(обратно)4
“Репетиционный клуб” – пансионат для студенток театральных школ, работающий в Нью-Йорке с 1913 года.
(обратно)5
Популярный в США журнал.
(обратно)6
Дайм (от англ. dime) – монета достоинством в 10 центов. Сленговое значение слова dime – привлекательная девушка.
(обратно)7
От англ. touch – прикосновение.
(обратно)8
Скорее всего аллюзия на фильм “Любовь и смерть”, в котором одним из персонажей является Смерть в белых одеждах.
(обратно)9
Woman Seen from the Back, 1862 год, фотограф Onesipe Aguado de las Marismas.
(обратно)10
Now is then: Snapshots from the Maresca Collection. New York: Princeton Architectural Press, 2008; The Waking Dream: Photography’s First Century. New York: Abrams, 1995; Least Wanted: A Century of American Mugshots. New York and Göttingen: Stendl/Kasher, 2006.
(обратно)11
В США, Англии должностное лицо, в обязанности которого входит выяснение причины скоропостижной смерти.
(обратно)12
В английском языке глагол «умирать» (to die, произносится как «дай») созвучен имени Дайан (Diane).
(обратно)



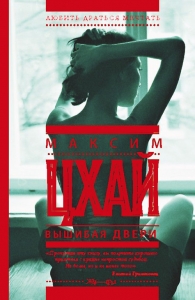
![Рассказы чекиста Лаврова [Главы из повести]](https://www.4italka.su/images/articles/460849/primary-medium.jpg)

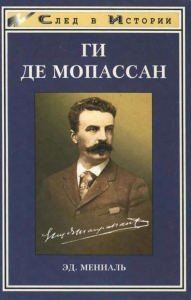


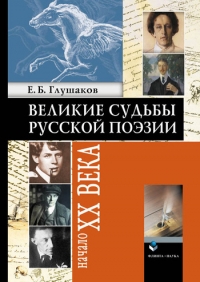
Комментарии к книге «Кое-что ещё…», Дайан Китон
Всего 0 комментариев