Сьюзен Батлер Сталин и Рузвельт: великое партнерство
Посвящается 405 000 американцев и 27 000 000 русских,
погибших во время Второй мировой войны
© Мовчан А.Б., перевод на русский язык, 2016
© Издание, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2017
* * *
Глава 1 Через Атлантику во время войны
Утром 11 ноября 1943 года, в четверг, в двадцать пятую годовщину перемирия, положившего конец Первой мировой войне, президент Рузвельт в открытом кабриолете покинул Белый дом и промчался через столицу, со звездно-полосатым флагом США и президентским флагом, развевавшимися на капоте автомобиля. Он ехал отдать дань памяти могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. В городе была праздничная атмосфера: флаги украшали витрины, банки в этот день не работали. Как только президентский автомобиль появился на кладбище и проследовал к могиле Неизвестного солдата, прогремел салют: из современных противотанковых пушек был произведен двадцать один выстрел, который был слышен по всей долине Потомака.
В одиннадцать часов (точное время подписания перемирия) Рузвельт стоял с непокрытой головой между генералом Эдвином «Па» Уотсоном, своим старшим военным советником, и вице-адмиралом Уилсоном Брауном, военно-морским советником, напротив могилы Неизвестного солдата. День был промозглый и сырой, листва с деревьев почти вся облетела, дул холодный ветер. На президенте была темно-синяя плащ-накидка, которую он часто носил в коротких выездах из Белого дома. С одной стороны их группу замыкал армейский горнист, с другой – солдат с большим венком из желтых и красновато-коричневых хризантем. Военный оркестр исполнил гимн «Усеянное звездами знамя», после чего по традиции наступила минута молчания. Затем адмирал Браун взял венок и от лица президента возложил его на могилу Неизвестного солдата. Четыре раза прозвучала приглушенная дробь барабанов, и горнист протрубил отбой.
После завершения короткой церемонии под звуки повторного салюта из двадцати одного пушечного выстрела, прогремевшие по всей долине, президентский автомобиль покинул кладбище.
В Палате представителей этот день отметили выступлениями в память о данном юбилее, причем большинство выступавших выразили мнение, что необходимо изыскать возможности сделать предстоящий мир более прочным, чем предыдущий. Что же касается Сената, то у него не было сессии.
Шел десятый год нахождения Рузвельта на посту президента США, страна почти два года была участницей Второй мировой войны. Когда стемнело и начался дождь, президент вновь выехал из Белого дома, но, в отличие от утренней поездки, он сделал это на сей раз без лишнего шума. Он направлялся на военно-морскую базу Куантико (штат Виргиния), где его ждала ослепительно-белая 50-метровая президентская яхта «Потомак», которая представляла собой катер береговой охраны с надстроенной верхней палубой и каютой. Она должна была проделать первую часть общего пути длиной в 17 442 мили, пути через нашпигованные подводными лодками воды, пути длиной более чем полмира – в Тегеран (Иран). Там ему предстояло впервые встретиться с Иосифом Сталиным, высшим руководителем Советского Союза, отступником. Это будет знаменательным событием для них обоих и для всего мира.
Рузвельта сопровождали его ближайший советник Гарри Гопкинс, который курировал программу ленд-лиза по предоставлению Советскому Союзу масштабной помощи, начальник его личного штаба адмирал Уильям Лихи, его личный врач вице-адмирал доктор Росс Макинтайр, адмирал Браун, генерал Уотсон и его физиотерапевт капитан-лейтенант Джордж Фокс. Президентский автомобиль появился на темном, казавшемся пустынным причале, где вдали от назойливых глаз его ожидал «Потомак». На борту президентской яхты все было в полной готовности.
Ровно через шесть минут после того, как президент и его окружение ступили на борт яхты, она двинулась вниз по реке Потомак, направляясь к порту Черри-Пойнт (штат Виргиния) в Чесапикском заливе в шестидесяти трех милях от военно-морской базы Куантико, где стала на ночь на якорь.
На следующее утро чуть позже 9 часов «Потомак» подошел к линкору «Айова», стоявшему на якоре в бухте на глубокой воде. Он остановился борт о борт, и при легком, прохладном утреннем ветерке Рузвельта поместили в своего рода люльку, которую выбрали с кормовой части верхней прогулочной палубы «Потомака» на главную палубу «Айовы» прямо напротив башни номер три. Когда остальное окружение президента также было пересажено на борт линкора, «Потомак» растаял вдали. Яхте было приказано в течение следующей недели крейсировать вне пределов видимости и подальше от всем известного родного причала, чтобы создать впечатление (в случае, если кто-либо из журналистов заметит отсутствие президента), что тот совершал очередной частный круиз на борту так называемого «плавучего Белого дома» (такое название яхта получила с учетом того, сколько времени президент проводил на ней).
Рузвельт всегда любил море. Мальчишкой он проводил лето на острове Кампобелло в Канаде и тогда научился ходить на паруснике своего отца «Полумесяц», 14-метровой одномачтовой яхте, пользуясь для этого каждым выпадавшим случаем и с легкостью управляя им. После того как он в тридцать девять лет заболел полиомиелитом и у него отнялись ноги, он приобрел катер, приспособленный для жилья, который держал в водах Флориды и на котором жил иногда по несколько месяцев.
Теперь он с нетерпением ждал плавания на «Айове», самом новом, самом крупном и самом быстроходном линкоре ВМС. Этот боевой корабль был специально оборудован для пребывания на нем Рузвельта[1]: был установлен лифт, для свободного перемещения его инвалидного кресла над комингсами[2] и другими препятствиями на палубе были надстроены пандусы. Как и во всех других местах, где жил Франклин Д. Рузвельт, ванна была оборудована металлическими поручнями, за которые он мог бы ухватиться, поднимаясь, унитаз был одной высоты с его инвалидным креслом, а зеркало располагалось достаточно низко, чтобы он мог бриться сидя. В каюте Рузвельта находилось также его любимое кресло с откидной спинкой, обитое кожей.
Спустя полчаса после того, как он ступил на борт, огромный корабль был уже в пути. В готовности приветствовать Рузвельта находилось все высшее руководство Вооруженных сил США: начальник штаба армии США генерал Джордж К. Маршалл, командующий военно-воздушными силами армии США генерал ВВС Г. Х. Арнольд (по прозвищу Счастливчик), начальник снабжения армии генерал Брейон Б. Сомервелл, главнокомандующий военно-морскими силами США адмирал Эрнест Дж. Кинг и начальник личного штаба президента адмирал Уильям Лихи, а также еще четыре генерала, три адмирала и около пятидесяти штабных офицеров более низкого ранга. Рузвельт отказался от воинских почестей при появлении на борту, и с учетом военного времени не был поднят его флаг. На борту линкора находились восемь сотрудников спецслужб, постоянно обеспечивавших охрану президента.
Так началось путешествие Рузвельта для встречи с Иосифом Сталиным, для встречи, которую он пытался организовать в течение двух лет и ради которой он приложил громадные усилия и преодолел огромные расстояния.
Они вместе с Черчиллем в прошлом январе в качестве места встречи выбрали Касабланку, поскольку полагали, что это окажется подходящим для Сталина вариантом и тот согласится встретиться там с ними.
– Мы пытаемся добиться от Сталина согласия на встречу, – признался Рузвельт Майку Рейли[3], руководителю секретной службы Белого дома, ставя того в известность о своей предстоящей поездке, и твердо добавил:
– Но я не собираюсь ехать на встречу с ним дальше Касабланки.
Однако перед лицом возражений Сталина на все сделанные ему предложения по месту встречи решимость президента угасла, и теперь он направлялся за тысячи километров дальше Касабланки.
Встреча в Тегеране была запланирована для реализации любимой идеи Рузвельта: создания международной организации, более эффективного варианта Лиги Наций, в которую вошли бы все страны. Он верил, что такая организация явилась бы действительно лучшим и единственным способом поддержания мира во всем мире. Она представляла бы собой своего рода дискуссионную площадку, где любая страна могла бы огласить свои жалобы и где всем странам была бы предоставлена возможность разговаривать друг с другом. В определенных обстоятельствах у ней были бы полномочия предпринимать практические действия. По замыслу Рузвельта, четыре великие державы (Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобритания и Китай) в рамках этой организации могли бы выступать в качестве четырех международных полицейских. После победы в этой войне четыре сверхдержавы, обладая более широкими полномочиями, чем другие страны, обеспечивали бы порядок в международном масштабе.
Позиция Сталина имела для осуществления президентского плана решающее значение. Война непредсказуемо изменила все страны. После войны должны были остаться только две сверхдержавы: Америка и Россия. И Рузвельт вполне отдавал себе отчет в том, что без членства и поддержки Советского Союза не будет идти и речи о создании какой-либо международной организации. Формирование этой структуры, Организации Объединенных Наций, как называл Рузвельт планируемую к созданию организацию, ознаменовало бы появление первого поистине мирового правительства.
Рузвельт ожидал в ходе своей первой встречи с советским руководителем услышать от того решительные возражения и был вполне готов справиться с этой задачей. Он предполагал произвести на Сталина впечатление своим интеллектом, твердостью своего характера и, прежде всего, масштабом своей власти. Он был намерен таким образом обеспечить самому параноидальному правителю в мире спокойствие и чувство безопасности. Он должен был устроить все так, чтобы его идеи о послевоенном обустройстве мира не вызвали отторжения у Сталина, поскольку России предстояло принять участие в этом процессе.
Франклин Д. Рузвельт прочитал о Сталине все, что только мог: тот был грузином, чуть более двух лет старше его, родился на юге России в обедневшей семье, где отец спился, а мать, понимая, что сын умен, убедила священника взять того на обучение в церковную школу. Став подпольщиком, он изменил фамилию Джугашвили на Сталин и попал в поле зрения Ленина, преемником которого и оказался. Он был, как и Франклин Д. Рузвельт, инвалидом: два пальца на левой ноге у него срослись, в результате чего у него была походка вразвалку, а левая рука у него была повреждена в результате того, что его сбил конный экипаж, когда он был еще ребенком.
Характеристики Сталина, которые получил Франклин Д. Рузвельт, были противоречивы. Он выспрашивал о нем у тех своих знакомых, которые встречались с советским руководителем. Одна из них, Анна-Луиза Стронг, основатель «Московских новостей», англоязычной еженедельной газеты для американцев, вспоминала, что Франклин Д. Рузвельт чрезвычайно, с какой-то одержимостью интересовался личностью Сталина. (В отличие от многих других она находила Сталина «самым простым в общении человеком, которого когда-либо встречала»[4].) Франклин Д. Рузвельт знал о полном насилия жизненном пути Сталина, о его безжалостности, о том, что тот бросал в тюрьму или убивал любого, кто оказывался на его пути. В 1930 году он сравнил Сталина с Муссолини. Хорошо известно, что в 1940 году, выступая перед группой студентов, собравшихся в Белом доме, он заявил, что диктатура Сталина была «абсолютной, как и любая другая диктатура в мире»[5], и что тот был виновен в «массовых убийствах тысяч ни в чем не повинных людей». Он не питал никаких иллюзий относительно характера советского правителя и не вынашивал никаких идей о вмешательстве во внутренние дела Советского Союза. Сталин был необходим Рузвельту, и, как предполагал Рузвельт, он также (возможно даже, в еще большей степени) был необходим Сталину. Как сказал Рузвельт на борту «Айовы» своему личному врачу, вице-адмиралу Россу Макинтайру, «я рассчитываю на его реализм. Ему, должно быть, уже надоело сидеть на штыках»[6].
В Египте он организовал своего рода прелюдию к предстоящей встрече: четырехдневные переговоры в Каире с Уинстоном Черчиллем, Чан Кайши и, как он надеялся, Вячеславом Молотовым, советским наркомом иностранных дел, вторым по влиянию человеком в Советском Союзе, а также с соответствующими представителями военных штабов. После этого они с Черчиллем и Молотовым должны были совершить короткий перелет в Иран, чтобы встретиться там со Сталиным. Каирская конференция предполагалась в качестве места, где четыре страны совместно приступили бы к выработке стратегических планов. «Начали свою работу», как представил это Рузвельт Сталину[7]. Эта конференция должна была подчеркнуть идею Рузвельта о том, что Китай признается в качестве четвертой великой державы, хоть он еще и не проявил себя в полной мере: в стране был самый разгар гражданской войны, одновременно ей приходилось отражать японское вторжение. Тем не менее, когда Сталин узнал, что китайский руководитель планирует прибыть в Каир, он отменил поездку туда Молотова, а также российского военного представителя, поскольку опасался, что если Япония узнает, что Молотов встречался с генералиссимусом Чан Кайши, она может блокировать порт Владивостока, имевший важное значение для обеспечения военных мероприятий Советского Союза, или же, еще хуже, развернуть Квантунскую армию на маньчжурской границе. К тому времени, когда Рузвельт узнал об отмене советской стороной своего участия в каирской конференции, он был уже в открытом море.
Хотя для Рузвельта это и явилось ударом, но не трагедией, поскольку каирская встреча была важна в основном с пропагандистской точки зрения. Рузвельт из всех президентов наиболее серьезно относился к информационной составляющей своей деятельности. Отсутствие русского представителя не должно было лишить Рузвельта возможности извлечь выгоду из позитивного для него общественного резонанса в результате его публичного принятия политической фигуры Чан Кайши в таком экзотическом месте.
Его преследовали воспоминания о Лиге Наций, идея о которой провалилась с таким треском. Президент Вильсон мечтал о ней и стремился воплотить свою мечту, но у него не было ни пропагандистских навыков, ни политической смекалки, необходимых для достижения этой цели. Рузвельт присутствовал на Парижской мирной конференции в качестве помощника морского министра при свертывании военно-морского присутствия США во Франции в рамках Версальского мирного договора. Он был свидетелем того, как Вильсон был вынужден согласиться с реваншистскими условиями договора, на которых настаивали его союзники: это было их ценой за присоединение к Лиге Наций. Он убыл в США вместе с Вильсоном на борту линкора «Джордж Вашингтон». На обеде в кабинете Вильсона он слышал, как президент торжественно произнес:
– Соединенные Штаты должны начать энергично действовать – или же их бездействие разобьет сердце всему миру[8].
Рузвельт лично был убежден в исключительной важности Лиги Наций, но он знал о том, что Вильсону предстояло проинформировать Сенат США о последствиях членства в этой организации и о том, что ключевые сенаторы-республиканцы, отстраненные Вильсоном от процесса мирных переговоров в Париже и чье мнение он в действительности не брал в расчет, ждали своего часа, чтобы отомстить ему.
Вильсон был подвергнут резкой критике в Сенате и вынес ожесточенные дискуссии по этому вопросу на национальный уровень, разъезжая с выступлениями по стране. Рузвельт был свидетелем того, как тщетно Вильсон боролся за свою идею, теряя здоровье.
Рузвельт унаследовал мечту о мировом правительстве. Он вместе с Госдепартаментом наметил предварительную схему всемирной организации к 1939 году – как раз тогда, когда Гитлер начал завоевывать Европу. Рузвельт сделает все возможное, чтобы добиться поставленной цели. Он твердо уяснил (на очевидном для себя примере поражения Вильсона), что президенту страны недостаточно иметь похвальные цели или объявить их всему миру, пусть даже тот с энтузиазмом внимает тебе. Как-никак и «Четырнадцать пунктов» Вильсона взбудоражили всю планету. Однако необходимо было также добиться поддержки своих союзников и Сената США, и это следовало сделать до окончания войны.
Рузвельт держал портрет Вильсона у себя над камином в кабинете, которым он пользовался со своими спичрайтерами для работы над выступлениями. Как вспоминал Роберт Э. Шервуд, один из спичрайтеров Франклина Д. Рузвельта, его биограф и друг, тот имел обыкновение поглядывать на этот портрет, работая над очередным выступлением: «Он всегда подсознательно помнил о трагедии Вильсона. Рузвельт никогда не мог забыть о его ошибках»[9].
Рузвельт заранее определял основные группы, которые ему предстояло привлечь на свою сторону, затем добивался в каждой группе единого мнения о том, какие она получает практические преимущества, следуя за ним. И прежде, чем эта группа была готова выработать тот или иной политический курс, Рузвельт был уже во главе нее.
Он принял близко к сердцу совет, данный ему Э. Лоуренсом Лоуэллом, президентом Гарвардского университета, который преподавал ему государственное управление на первом курсе колледжа. Это случилось на ежегодном ужине Гарвардского клуба в Нью-Йорке, организованном в январе 1933 года в честь Рузвельта, когда тот в качестве избранного президента собрал вместе членов своего кабинета министров и высокопоставленных сотрудников администрации. Лоуэлл, который был основным докладчиком, обратился непосредственно к Рузвельту и сказал, что самым важным принципом для главы исполнительной власти является то, что он всегда должен брать в свои руки и удерживать инициативу в отношениях с Конгрессом, своим кабинетом и в целом с общественностью. Лоуэлл заявил, что если Рузвельт будет всегда придерживаться этого принципа, то он преуспеет. По воспоминаниям гарвардского однокурсника Рузвельта, Луи Уила, который работал вместе с ним в газете «Кримсон», Рузвельт выслушал замечания Лоуэлла «с повышенным вниманием… а по их завершении погрузился в глубокую задумчивость»[10].
За два дня до отъезда в Тегеран Рузвельт председательствовал на пышной церемонии в Восточном зале Белого дома, в ходе которой он и представители сорока четырех стран, сидя за длинным столом, подписали соглашение о создании Администрации помощи и восстановления Объединенных наций (ЮНРРА). Он специально приурочил объявление о создании первой из структур Организации Объединенных Наций ко Дню перемирия, чтобы обеспечить максимальное воздействие данного события на мировую общественность. ЮНРРА, финансируемая за счет взносов в размере 1 процента национального дохода каждой страны, была призвана оказать содействие в обеспечении одеждой, питанием и крышей над головой людей, проживавших в пострадавших от войны центрах сосредоточения населения. Генеральный директор этой структуры, Герберт Леман, губернатор штата Нью-Йорк, согласно статье, опубликованной в этот день в издании «Нью-Йорк таймс», был избран четырьмя странами: Соединенными Штатами, Великобританией, Советским Союзом и Китаем. Русские поддержали создание ЮНРРА – благотворительной организации под международным контролем, с международным персоналом и международным управлением[11]. Это была их идея – таким способом поставить на ноги пострадавшие от войны страны. После того как Сталин узнал, что, согласно замыслу Рузвельта, этим четырем странам предстояло управлять послевоенным миром, он поддержал идею о том, чтобы они сформировали исполком ЮНРРА.
Упоминание четырех стран имело для Рузвельта исключительно важное значение. Он хотел ознакомить мир с этой концепцией, поскольку предполагал, что именно основные страны Организации Объединенных Наций, той организации, которой он дал жизнь 1 января 1942 года, должны стать «четырьмя полицейскими». В этот день, первый день нового года, всего спустя три недели после Перл-Харбора, Рузвельт собрал в своем рабочем кабинете Уинстона Черчилля, который в то время гостил в Белом доме и представлял Великобританию, посла Советского Союза Литвинова и министра иностранных дел Китая Сун Цзывэня для подписания Декларации Объединенных Наций. За Соединенные Штаты он подписал документ сам. Этот первый документ Организации Объединенных Наций явился отправной точкой в великом плане Рузвельта. Он обязал каждую страну «защищать жизнь, свободу, независимость и религиозную свободу», заявлял, «что в настоящее время они участвуют в общей борьбе против диких и зверских сил, стремящихся покорить мир» и что «каждое правительство обязуется… не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами». Остальные двадцать две страны, поставившие свою подпись в алфавитном порядке, присоединились к ним на следующий день.
Название организации пришло Рузвельту в голову той ночью, когда Черчилль гостил в Белом доме. Они с Черчиллем рассмотрели и отказались от различных вариантов. Они бились над этим до позднего вечера и, наконец, остановились на фразе о странах, объединенных в борьбе с агрессией. Затем Рузвельт пошел спать, держа в уме слово «объединенные», с ним он и уснул. Рано утром следующего дня он проснулся с решением: «Объединенные Нации».
Рузвельт так спешил сверить это название со своим гостем, что, не дожидаясь завтрака, вызвал помощника, чтобы тот довез его до двери в комнату Черчилля. Премьер-министр ночевал на том же этаже, недалеко по коридору, в Розовой комнате. Рузвельт постучал. Черчилль пригласил его войти, но предупредил, что принимает ванну. Через несколько секунд премьер-министр неожиданно вышел из ванной в гостиную, стены которой были украшены сценами в духе викторианской Англии, «совершенно голый»[12]. По выражению Рузвельта, он выглядел как «розовый херувим».
По воспоминаниям Рузвельта, он воскликнул:
– Уинстон, я нашел: «Объединенные Нации»![13]
– Хорошо! – ответил Черчилль.
* * *
В Каире Рузвельт планировал встретиться с генералиссимусом Чан Кайши, главой китайского националистического правительства, чтобы обсудить вопросы участия Китая в войне против Японии. Дела в Китае шли настолько плохо, что Рузвельт опасался, как бы китайцы не вышли из войны. «Несмотря на то что сообщают газеты, войска Чан Кайши совершенно не способны воевать», – признавался он своему сыну Эллиоту[14]. Он хотел подбодрить генералиссимуса и укрепить его дух. Однако не менее важно было также то, чтобы их встреча получила большой общественный резонанс. Это было необходимо для того, чтобы представить Китай в качестве четвертой великой державы в Объединенных Нациях – «четвертым полицейским». Интуиция и предчувствие подсказывали Рузвельту, что для того, чтобы Организация Объединенных Наций в полной мере олицетворяла весь мир, Азия также должна быть представлена в ней на равных правах. Он осознавал, что ни Черчилль, ни Сталин не понимали этого в отличие от него. Они согласились с присутствием Китая только по его настоянию.
Тем не менее президент, вероятно, не направился бы в Каир, если бы не перспектива встретиться в Тегеране со Сталиным. Чан Кайши можно было бы пригласить в Вашингтон. Мадам Чан уже гостила в Белом доме прошлой весной. Черчилль также неоднократно навещал его в Соединенных Штатах. Однако Рузвельт принял решение организовать встречу с Черчиллем и Чан Кайши в Каире после того, как госсекретарь Корделл Хэлл несколько недель назад телеграфировал ему из Москвы после встречи со Сталиным, сообщив, что маршал становится более сговорчивым, что встреча с ним на Ближнем Востоке вполне вероятна и что, самое главное, Сталин просил передать Рузвельту: «Сразу же после окончания войны в Европе… он [Советский Союз] начнет войну против Японии»[15]. Каир был хорошим местом, чтобы подготовить почву для поездки в Тегеран.
Во время войны всем встречам на высшем уровне присваивались кодовые имена. Кодовым именем для встречи в Тегеране стало – «Эврика». По мнению Рузвельта, это была весьма удачная находка, поскольку именно это, как утверждалось, торжествующе воскликнул Архимед, когда он выскочил из ванны, открыв основной закон природы об объеме вещества. Эта встреча также являлась триумфом для Рузвельта: он пытался организовать ее вот уже более года. Он вел переписку со Сталиным, архивируя его послания (к этому моменту они обменялись уже более чем ста письмами, касавшимися в основном американских и британских военных планов, хода поставок стрелково-пушечного вооружения, продуктов питания, самолетов, танков, топлива, а также сырья для советских заводов, в последнее время – условий капитуляции Италии), в ходе которой предлагал, где и когда они могли бы встретиться. Сталин постоянно отвечал ему отказом, всегда на том основании, что в качестве Верховного Главнокомандующего вооруженными силами СССР и главы Государственного Комитета Обороны, а также руководителя Генерального штаба он должен быть в постоянном контакте со своим Генеральным штабом, готовым принять необходимые решения каждый день, каждую минуту. Поэтому он не мог покинуть страну.
Это было именно так, особенно в начале войны, когда Россия оказалась в смертельной опасности. Сталин ежедневно проводил совещания с маршалом Александром Василевским, начальником Генерального штаба Советской армии, и с генералом Георгием Жуковым, заместителем Верховного Главнокомандующего, храбрым и талантливым руководителем, который организовывал оборону Москвы и Ленинграда. Сталин вначале не отличался военным талантом, но он научился слушать своих генералов и перерабатывать огромное количество информации, чтобы как следует продумывать планы ведения боевых действий. Жуков в последующем напишет о Сталине, что, являясь «выдающимся организатором», тот «раскрыл способности как Верховного Главнокомандующего, начиная со Сталинградской битвы … овладел основными принципами организации фронтовых операций… и руководил ими со знанием дела, хорошо разбирался в больших стратегических вопросах»[16].
Однако теперь, к концу 1943 года, крайней необходимости в такой практике уже не было. Ленинград все еще находился в блокаде, но Красная армия уже вернула себе две трети территории, захваченной немцами. В феврале она одержала блистательную победу под Сталинградом после окружения девяноста двух тысяч плохо одетых, голодных германских солдат, представлявших собой последние остатки армии, наносившей удар. В июле она восстановила контроль над Курском, юго-западнее Москвы. В этой грандиозной битве принимали участие два миллиона человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов. После Курской битвы германская армия уже не проводила наступательных операций. К осени 1943 года русские стали называть завершавшийся год переломным[17].
Наиболее явным признаком этой перемены было то, что в сентябре Сталин, наконец, решил, что теперь он может выехать за пределы страны, возложив необходимую ответственность на своих генералов, и лично встретиться с Рузвельтом. Тем не менее он принял план Рузвельта относительно этой встречи только за день до того, как Рузвельт покинул Вашингтон. За последний год руководители двух стран обсудили различные варианты по возможному месту встречи. Рузвельт предложил несколько дат и мест, где они могли бы собраться вместе. В этом списке фигурировала Исландия, юг Алжира, Хартум, Берингов пролив, Фэрбенкс на Аляске, Каир и Басра. (Предложив Берингов пролив, президент в высшей степени проявил широту души, написав: «Я думаю, мы могли бы встретиться либо на Вашей, либо на моей стороне Берингова пролива»[18].)
Сталин отверг все эти предложения. В одном из редких ответных писем, собственноручно написанных им, которое Франклин Д. Рузвельт получил 8 августа, Сталин вначале нелюбезно предложил в качестве места встречи Архангельск (на крайнем севере России на берегу Белого моря) или Астрахань (на юге России), а затем продолжил: «Если Вас лично это не устраивает, то Вы могли бы направить в один из названных пунктов вполне ответственное доверенное лицо… Я уже г-ну Дэвису говорил в свое время, что не имею возражений против присутствия г-на Черчилля на этом совещании»[19]. Наконец, в сентябре Сталин написал, что он может выехать на встречу, но «момент встречи должен быть уточнен дополнительно, считаясь с обстановкой на советско-германском фронте[20]», и предложил Тегеран в качестве места встречи. Рузвельт ответил, что участие во встрече в Тегеране было бы для него весьма затруднительным, ссылаясь на свои обязанности, закрепленные в конституции: «Я не могу допустить задержек, которые могут возникнуть при полетах в обоих направлениях через горы в ложбину, где расположен Тегеран. Поэтому с большим сожалением я должен сообщить Вам, что не смогу отправиться в Тегеран. Члены моего кабинета и руководители законодательных органов полностью согласны с этим»[21]. Именно тогда Рузвельт предложил Басру и Багдад в Ираке или Анкару в Турции, завершив свое послание следующей фразой: «Выручите меня в этом критическом положении».
Свой ответ Сталин дал только через две недели. Он сообщил Рузвельту, что единственным подходящим местом встречи считает Тегеран. «Для меня, как Главнокомандующего, исключена возможность направиться дальше Тегерана».
Рузвельт неохотно согласился и решил-таки предпринять дальний перелет в Тегеран. Через три дня, 8 ноября, он написал Сталину, что готов встретиться с ним там.
Рузвельт всегда очень высоко ценил роль средств массовой информации и понимал, насколько важна эта встреча для формирования общественного мнения, поэтому не упустил возможности упомянуть этот аспект, стремясь сыграть на представлении Сталина о собственной значимости: «Весь мир ожидает этой встречи нас троих»[22].
Со свойственным ему кипучим оптимизмом Франклин Д. Рузвельт стал энергично готовиться к этой поездке. Если у него и были какие-то сомнения в том, что Сталин и в самом деле приедет на эту встречу, то он держал их при себе. Сталин выбрал страну, расположенную далеко от американских берегов, но она находилась под контролем американцев, и такой выбор был далеко не случайным, как могло показаться на первый взгляд. Через Иран проходило огромное количество грузов по ленд-лизу. Объем поставок был так велик, что американский генерал был назначен начальником штаба иранской армии, высокопоставленный американский полицейский был советником в иранской жандармерии, еще один американец был назначен главным советником по финансовым вопросам в правительстве Ирана. Кроме того, двумя лагерями на окраине Тегерана была расположена тридцатитысячная группировка американских войск из контингента командования в зоне Персидского залива.
Рузвельт любил путешествовать и на машине, и на поезде, но особенно на корабле. Несмотря на все заботы, сама перспектива отправиться куда-либо по морю на современном военном корабле поднимала ему настроение.
Гарри Гопкинс был единственным гражданским советником в его окружении на борту линкора. Рузвельт настороженно относился к профессиональным дипломатам из Госдепартамента, многие из которых были республиканцами консервативного толка. Отдел Госдепартамента по Восточной Европе, отличавшийся своими резко выраженными антисоветскими настроениями, был расформирован, однако подавляющее большинство профессиональных дипломатов выступали против признания президентом США Советского Союза в 1933 году. Несмотря на значительные кадровые перестановки в Госдепартаменте, противостояние этого ведомства президенту страны и его политической линии было по-прежнему весьма сильным. Исправить положение дел не помогло и направление Гопкинса непосредственно в европейские представительства США, где он должен был проконтролировать работу дипломатической службы. Гопкинс обнаружил, что во многих американских посольствах и дипломатических миссиях на стенах все еще висят портреты бывшего президента Гувера вместо Франклина Д. Рузвельта. (Джордж Кеннан, в то время молодой сотрудник дипломатической службы, который позднее стал известен как автор «политики сдерживания» времен «холодной войны», весьма типичным образом отреагировал на признание Рузвельтом Советского Союза в 1933 году: «Мы не должны иметь с ними каких-либо отношений… Никогда, ни в то время, ни позднее, я не считал Советский Союз подходящим реальным или потенциальным союзником, или партнером для нашей страны»[23].) Рузвельт как-то сказал председателю Совета управляющих Федеральной резервной системой США Марринеру Экклсу: «Чтобы понять, как трудно добиться, чтобы профессиональные дипломаты как-либо изменили свое мышление, политику или действия, нужно в этом убедиться только на собственном опыте, пытаясь внести эти изменения в их мышление, политику и действия»[24]. И другие передовые личности тоже считали, что сотрудники дипломатической службы были сверх меры консервативны. «Общаться с кем-либо при посредничестве представителей Государственного департамента – это все равно, что заниматься любовью через одеяло», – пошутил как-то британский экономист Джон Мейнард Кейнс[25].
Не принесло желаемых результатов и обвинение, которое выдвинул против сотрудников Госдепартамента министр финансов Генри Моргентау[26]. Он заявил, что те умышленно «затягивают самым вопиющим образом решение всяческих вопросов»[27] для попустительства истреблению евреев, которое вел Гитлер.
Кроме всего прочего, Франклин Д. Рузвельт был сторонником личного ведения дипломатических дел. Он был высокого мнения о собственном даре убеждения и считал себя лучшим дипломатом Америки. Он знал, к какому результату стремился: ему было необходимо установить прочные связи с Россией. Он надеялся начать предварительные переговоры со Сталиным по вопросу о возможности создания мирового правительства в то время, пока они все еще были союзниками, для того чтобы достичь консенсуса по данному вопросу: «прийти по большинству позиций к общему соглашению по целям»[28]. Он был убежден, что это был первый шаг, который необходимо было сделать для создания мирового правительства. Он считал, что такое правительство сможет положить конец мировым войнам и что только мировой лидер (он лично) может справиться с задачей проведения таких переговоров.
Отсутствие на борту корабля персонала Госдепартамента являлось подтверждением тому, какое уникальное положение занимал Гопкинс в «ближнем кругу» президента. У пятидесятитрехлетнего Гопкинса было много привлекательных качеств: он был обаятелен, умен, обладал хорошей интуицией и высокой трудоспособностью и являлся бездонным кладезем новостей и сплетен. Некоторые называли его помощником президента. Его карьера было во многом построена на его бесспорной способности оценивать настроения и потребности Рузвельта. Если президент находился в подавленном настроении, Гопкинс собирал вокруг него компанию; если президенту требовалось развлечься, он чувствовал это; если президент хотел общения (а это случалось достаточно часто, поскольку он ненавидел одиночество), Гопкинс всегда оказывался рядом. Если возникала какая-либо важная проблема, которой необходимо было заняться, Рузвельт поручал Гопкинсу найти необходимое решение.
Гопкинс, родившийся в штате Айова, по окончании Гриннелл-колледжа избрал карьеру в социальной сфере. Он был превосходным управленцем. Рузвельт, находясь в 1929 году на должности губернатора штата Нью-Йорк, создал первую программу оказания помощи в масштабах всего штата с целью облегчить положение миллионов безработных в период Великой депрессии. Гопкинс настолько успешно реализовал эту программу, что Рузвельт пригласил его в Вашингтон для содействия в формировании и внедрении новой программы помощи безработным. Когда началась война, Рузвельт назначил Гопкинса главой Совета по распределению вооружения, который занимался распределением всех поставок вооружения союзникам Соединенных Штатов и непосредственно Вооруженным силам США. Он также отвечал за направление больших объемов американской помощи Советскому Союзу.
Одевался Гопкинс ужасно. «Его одежда была поразительно неопрятной и выглядела так, будто он имел обыкновение в ней спать, а шляпа – будто он обычно на ней сидел», – подметил начальник личного штаба Уинстона Черчилля, генерал сэр Гастингс Исмей[29]. Газета «Нью-Йоркер» сравнивала его с «ожившим жгутиком из крученой пшеничной соломки»[30]. У него были серьезные проблемы с пищеварением, из-за чего он отличался заметной худобой. Он не мог похвастать крепким здоровьем. В 1937 году ему была сделана операция, и, несмотря на то что это значительно улучшило его состояние, у Гопкинса по-прежнему случались приступы боли в желудке, из-за чего он то и дело попадал в больницу.
10 мая 1940 года, в день, когда немецкая армия вторглась в Голландию и Бельгию, а Черчилль стал премьер-министром, Рузвельт пригласил его на торжественный обед в Белом доме. Гопкинс проделал очень большую работу в ходе подготовки к этому визиту, вникая в ситуацию и вырабатывая меры, которые необходимо было предпринять, и ввиду позднего часа Рузвельт пригласил Гопкинса остаться заночевать в Белом доме. Гопкинс, одолжив пижаму, устроился на ночь в одной из многочисленных спален, и с тех пор так больше и не возвращался к себе домой. Ему выделили апартаменты Линкольна, где Авраам Линкольн когда-то подписал манифест об освобождении рабов. Эти апартаменты, расположенные на втором, «семейном», этаже Белого дома, находились через две комнаты от апартаментов самого президента и состояли из большой, с высокими потолками, спальни с камином и с видом на Южную лужайку и памятник Вашингтону, небольшой гостиной и просторной ванной комнаты. Рабочим столом Гопкинсу служил карточный столик. В июле 1942 года, когда Гопкинс женился на Луизе Мэйси, бывшем редакторе парижского отделения издания «Харперс базар», церемония бракосочетания состоялась в кабинете Рузвельта, перед камином, специально убранным по такому случаю цветами. И Луиза Гопкинс поселилась в апартаментах Линкольна. Элеонора Рузвельт была сначала не уверена в том, что Луизе нужно переезжать сюда, но Рузвельт был непреклонен, убеждая ее, что «это совершенно необходимо для того, чтобы Гарри по-прежнему оставался в доме»[31]. Никто и никогда не был так близок к Рузвельту, как Гопкинс. Тем не менее Рузвельт сохранял между ним и собой определенную дистанцию. Гопкинс называл его «господин Президент», а не «Франклин», как обращались к нему Элеонора и премьер-министр Черчилль, или «Фрэнк», как называл его Феликс Франкфуртер, член Верховного суда[32].
Андрей Громыко, посол СССР в Соединенных Штатах в годы войны, вспоминал, что Рузвельт, «как правило, советовал мне… поговорить с Гарри Гопкинсом по тому или иному непростому вопросу. Возможно, он не сможет сразу ответить на любой вопрос, но сделает все, что будет в его силах, а впоследствии даст мне точный отчет»[33]. Многие называли Гопкинса «глазами и ушами Рузвельта», Громыко же отмечал, что он был также и его ногами.
Гопкинс занял место Корделла Хэлла. Это был всеми уважаемый высокий, седой человек родом из штата Теннесси, внушительный и исполненный достоинства. Хэлл по-прежнему оставался важным связующим звеном между Рузвельтом и консервативными сенаторами-демократами южных штатов, чьи голоса ему были нужны для принятия законодательных актов для реализации программы «Нового курса». В правительстве США он занимал уникальное положение, поскольку обладал большим влиянием в Конгрессе, что, по наблюдению президента, делало его «единственным членом кабинета, благодаря которому у меня появляется серьезное влияние среди политиков правого крыла, которым я сам не располагаю»[34].
– Помните, как Вильсон проиграл борьбу за Лигу Наций? – спросил президент однажды у своего министра труда, Фрэнсис Перкинс, первой женщины, которая вошла в кабинет министров. – И упустил для США возможность принять участие в наиболее важных из когда-либо задуманных международных начинаниях. Он проиграл, потому что ему не удалось заставить Конгресс принять в этом участие[35].
В 1930 году Хэлл был избран в Сенат после длительной работы в Палате представителей, но отказался от своего места в Сенате, когда Рузвельт предложил ему пост госсекретаря. Президент рассчитывал, что Хэлл будет держать в узде своих коллег-сенаторов из южных штатов. Рузвельт никогда не забывал, что Сенат проголосовал против членства в Лиге Наций. Хэлл должен был сделать так, чтобы Сенат не проголосовал против Организации Объединенных Наций.
На людях Рузвельт ублажал Хэлла, но в частном порядке игнорировал, что безумно раздражало последнего, однако он, тем не менее, сохранял лояльность президенту. Рузвельт не только самостоятельно принимал решения по внешней политике: порой Хэлл даже не знал, каков будет его следующий шаг. Пользующийся большим уважением высокопоставленный дипломат Лой Хендерсон говорил, что Рузвельт «сам составлял правила, по которым играл. Вследствие этого господин Хэлл просто не мог во многих случаях принимать решения»[36]. Некоторые полагали, что подобное отношение было вызвано личной предвзятостью Рузвельта к немного занудному и имевшему замашки судьи Хэллу (даже его жена всегда так и обращалась к нему – «судья»). Высказывалось предположение, что Рузвельт, которому легко было наскучить с его быстротой реакции и развитой интуицией, потому и держал Хэлла на расстоянии из-за его медлительности и скованной манеры общения, и это, безусловно, отчасти было фактором, который мог сыграть свою роль. Кроме того, Хэлл говорил с некоторым пришепетыванием, что, как говорили осведомленные об этом люди, очень резало Рузвельту слух и раздражало его. После вступления Соединенных Штатов в войну Рузвельт возвел целую «китайскую стену» между внешней и военной политикой и не вел при Хэлле никаких разговоров по военным вопросам. Как ни ранило Хэлла такое отстранение от дел, он с этим свыкся, как и со многим другим. «Я узнавал не от президента, а из других источников, какие события происходили на конференциях в Касабланке, Каире и Тегеране», – не раз признавал он[37].
Война увеличила роль Рузвельта. После Перл-Харбора он сам себя назначил главой военного, а также гражданского планирования, быстро освоившись в своей новой роли и звании главнокомандующего. Ему очень нравилось это звание, он был «в своей стихии»[38], как сказал об этом его старый друг Луи Уил. И Хэлл не мог этого не заметить.
– Пожалуйста, постарайтесь называть меня «главнокомандующий», а не «президент», – велел Рузвельт Хэллу, который как раз собирался провозгласить за него тост во время обеда, устроенного кабинетом министров по случаю годовщины вступления в войну[39].
Всегда преданный, Хэлл присутствовал на Московской конференции министров иностранных дел трех держав в октябре 1943 года. Это событие стало кульминацией его профессиональной карьеры дипломата. В ходе мероприятия он заложил основы для Тегеранской конференции, к которой Рузвельт уже вовсю готовился. В Москве министры иностранных дел договорились о необходимости создания всемирной организации для поддержки международного мира и безопасности.
На Московской конференции в ходе единственной встречи со Сталиным Хэлл и сопровождавшая его делегация добились блестящего результата. Наиболее многообещающим успехом было то, что Хэлл смог одержать верх над советской делегацией, вынудив ее согласиться с тем, что, как сказал Сталин Рузвельту, он даже не был намерен включать в повестку дня: с участием Китая. За несколько недель до конференции Сталин писал Рузвельту: «Если я Вас правильно понял, то на Московской конференции будут обсуждаться вопросы, касающиеся только трех наших государств, и, таким образом, можно считать согласованным, что вопрос о декларации четырех держав не включается в повестку совещания»[40]. Рузвельт просто проигнорировал это заявление. Вместо этого он написал Сталину об итальянских событиях, проблемах с французской стороной и предложил ряд мест, где могла бы состояться их встреча.
Хэлл решительно отстаивал позицию Рузвельта. Ему удалось не только вынести вопрос о Китае на обсуждение участниками конференции, но и обеспечить подписание китайским послом в Москве Фу Бинчаном совместной декларации четырех держав, Декларации по вопросу о всеобщей безопасности, вместе с Молотовым, Энтони Иденом, министром иностранных дел Великобритании, и Хэллом. Молотов, по-видимому, следуя указаниям, которые он получил от Сталина, пытался изменить такой поворот событий. Он неохотно согласился с тем, что не будет возражать, если китайская сторона подпишет документ позже, продолжая при этом настаивать на идее подписания этой декларации тремя державами. Хэлл проявил неожиданное упрямство, заявив Молотову, что если советская сторона не согласится с участием Китая в подписании данного документа, то он, госсекретарь, упакует чемоданы и вернется в Вашингтон. Молотов после этого направил записку Сталину, и встреча была возобновлена. Чтобы дождаться решения вопроса, не голосуя по нему, госсекретарь взял слово и в определенном смысле «занимался обструкцией», всячески затягивая встречу, пока не был получен ответ от Сталина. Молотов открыл ответную записку, широко улыбнулся и заявил: «Советское правительство приветствует включение Китая в число четырех держав, которые подпишут декларацию»[41]. Переводчик делегации Великобритании Э. Г. Бирс, наблюдавший всю эту сцену, отметил, что по мере продолжения конференции складывалось впечатление, что Сталин все время незримо находится за сценой.
Декларация предусматривала единство действий против общего противника, единые условия его капитуляции и создание международной организации по поддержанию мира, «основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств». Это был первый случай, когда Сталин уступил пожеланиям Рузвельта.
Вслед за этим последовала еще одна победа. Сенат принял резолюцию Коннели, которая предусматривала послевоенное международное сотрудничество и создание всеобщей международной организации. Этот законопроект, означавший, что Сенат дает «зеленый свет» Организации Объединенных Наций, существенно прибавил душевного спокойствия Франклину Д. Рузвельту. Президент был настолько доволен принятием этой резолюции, а также итогами Московской конференции, что лично прибыл в Вашингтонский Национальный аэропорт, чтобы приветствовать Хэлла, когда тот сошел с борта большого военно-транспортного самолета, доставившего его домой. Это было большой и неожиданной честью. «Мы дадим Вам ключи от города», – процитировал журналист «Нью-Йорк таймс», освещавший это событие, слова президента, обращенные Хэллу.
На время поездки в Тегеран место Корделла Хэлла занял Гарри Гопкинс. Рузвельт знал, что он мог рассчитывать на преданность Хэлла и что тот в отличие от Гарри Гопкинса физически не был готов к очередной длительной поездке в такие сжатые сроки.
Элеонора Рузвельт, заядлая путешественница, также хотела отправиться в Тегеран и умоляла президента взять ее с собой, однако Рузвельт отказался. Никаких женщин, категорически распорядился он. Их дочь, Анна Беттигер, которая присутствовала при этом разговоре, сообщала своему мужу Джону: «Ст. [старик] выбранил ее и обидел»[42]. Энн тоже попросилась поехать вместе с ним. У него для нее уже был готов ответ: на борту корабля запрещено присутствие женщин. Анна была разгневана, особенно с учетом того, что двое из ее братьев, Эллиот, армейский полковник, и Франклин-младший, лейтенант ВМС, были приглашены в эту поездку. («Ст. совершенно подло обращается с женщинами в своей семье», – писала Анна мужу, который также должен был присоединиться к окружению президента в Каире.)
Итак, отправившись в поездку на встречу с Иосифом Сталиным, чтобы согласовать стратегию войны трех держав и наметить план для послевоенного устройства мира, Рузвельт взял с собой своих генералов, адмиралов, личных поваров, стюардов, свою обслугу и своего блестящего друга Гарри.
Кроме Гопкинса, в Тегеран должен был прибыть еще один гражданский советник Рузвельта по вопросам внешней политики, Гарриман, с которым Рузвельт был близок. Рузвельт направлял Гарримана в Лондон согласовывать с Черчиллем первый этап программы ленд-лиза, а затем в октябре 1941 года – в Москву, определить совместно со Сталиным и Молотовым необходимые потребности советской стороны. Гарриман, который месяц назад был назначен послом в России и успел принять участие в Московской конференции, ожидал Рузвельта в Каире. Как описывало его издание «Нью-Йоркер», энергичный, постоянно странствующий, аристократичный, обаятельный, даже на фоне остальных дипломатов, Гарриман был стройным, ростом под метр девяносто, темноволосым, с глубоко посаженными карими глазами и резко выраженными чертами лица[43]. Он не владел никакими иностранными языками. «У меня превосходный французский, – сказал как-то Гарриман, – за исключением глаголов». Редко кто-либо когда-нибудь слышал от него более удачную шутку. Он был чрезвычайно богат, являлся партнером в финансовой организации «Браун Бразерс энд Гарриман» и председателем правления железной дороги «Юнион Пасифик». Он был хорошим спортсменом, в молодости был игроком в поло с восьмиголевым гандикапом, считаясь по рейтингу четвертым в стране.
Как и президент, он вначале окончил привилегированную школу в Гротоне, но затем выбрал Йельский университет, где стал членом легендарного тайного студенческого общества «Череп и кости». Его семья владела поместьем «Арден хаус» на западном берегу реке Гудзон, вверх по течению от поместья Рузвельта «Спрингвуд». Он принадлежал к Демократической партии, что было необычно для представителя его класса и бизнесмена такого уровня. Поскольку Рузвельт поднял налоги, создал программу «Социальное обеспечение» и установил минимальную заработную плату (все эти шаги были направлены на удовлетворение потребностей рабочего класса), а в последующем создал Комиссию по ценным бумагам и биржам для регулирования фондового рынка, подавляющее большинство состоятельных консервативных американцев презирали его, называя «предателем своего класса». Когда до приятелей Гарримана с Уолл-стрит дошли новости, что тот пошел работать на Рузвельта, они были в ужасе. «Настроения неприязни к Рузвельту достаточно сильны. Когда я шел по Уолл-стрит, те, кого я знал всю свою жизнь, переходили на другую сторону, чтобы им не пришлось пожимать мне руку», – вспоминал Гарриман.
Для Гарримана, которому, как и Рузвельту, не хватало терпения заниматься деталями и который питал неприязнь к официальным каналам, было чрезвычайно удобно действовать в обход бюрократических структур Государственного департамента и его номинального руководителя, Хэлла. Он принимал за норму то, что по указанию президента он докладывал непосредственно ему. Он был на год моложе Гопкинса, и они являлись большими друзьями. Гопкинс сделал своей жене предложение в номере «люкс» Гарримана в отеле «Мэйфлауэр» в Вашингтоне, когда они с Луизой собирались на ужин с Гарриманом и его женой Мэри. По выходным в доме Гарримана в Сэндс-Пойнте на Лонг-Айленде, когда предоставлялась такая возможность, двое мужчин с увлечением играли в крокет, в котором Гарриман одерживал верх. Гарриман ожидал президента в Каире.
Во время поездки президента были приняты чрезвычайные меры предосторожности. Девять эсминцев и один авианосец по очереди сопровождали линкор «Айова», который имел на вооружении 157 орудий, две катапультные установки и три самолета-разведчика. Шесть эсминцев постоянно создавали противолодочные заслоны. Другие корабли, в том числе эскортный авианосец «Сенти», входили в состав оперативного соединения, которое находилось в двадцати пяти милях к северу. Постоянное наблюдение осуществляли также истребители, которые совершали полеты в зоне линкора. Линкор «Айова» в среднем делал двадцать три узла, находясь в готовности «три», что означало, что треть его экипажа постоянно была на вахте на боевых постах. Выйдя в море, «Айова» могла получать сообщения, но не могла их отправлять. Донесения в Вашингтон передавались с линкора через эсминцы, которые отходили на некоторое расстояние, прежде чем организовать радиосвязь с внешним миром. Сообщения были сведены к абсолютному минимуму, поскольку безопасность Рузвельта зависела от сохранения в тайне его местонахождения. Одно из сообщений, полученных «Айовой», касалось желания Черчилля перенести конференцию из Каира на Мальту. Поскольку не было никаких оснований для такого переноса, сотрудники службы безопасности расценили данное пожелание как «одну из причуд премьера». Такое же мнение было и у Рузвельта. Ознакомившись с сообщением, он немедленно ответил: «В моих планах относительно Каира нет никаких изменений. Повторяю, в моих планах относительно Каира нет никаких изменений».
Единственный серьезный инцидент (и он чуть не привел к гибели президента) произошел на второй день плавания, когда противолодочный эсминец «Уильям Д. Портер», находившийся с правого борта линкора и имитировавший для главнокомандующего применение бортового вооружения, по необъяснимым причинам неожиданно для всех произвел пуск торпеды прямо в направлении «Айовы». Согласно записям самого Рузвельта об этом инциденте, «эсминец из конвоя производил учебные пуски торпед, используя “Айову” в качестве цели. Вопреки правилам заряд был оставлен в торпедной трубе. Выпущенная торпеда, к счастью, не попала в цель. Адмирал Кинг, конечно, был сильно расстроен, и я боюсь, что он примет достаточно жесткие дисциплинарные меры. Вспомогательная артиллерия нашего корабля вела огонь, чтобы увести торпеду с курса. Наконец, мы увидели, как она взорвалась в миле или двух позади корабля»[44].
Очевидец этого инцидента, молодой помощник штурмана Джон Дрисколл, также оставил о нем запись. Как он вспоминал, на фоне аметистового моря, при теплой погоде, «в то время, как президент сидел на прогулочной палубе у левого борта, в темно-бордовой рубашке-поло, серых фланелевых брюках, белой рыбацкой шляпе и солнцезащитных очках, а адмирал Кинг, Маршалл, Лихи и другие находились на мостике, наблюдая за демонстрационными стрельбами по воздушным шарам, с «Уильяма Д. Портера» просигналили: «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». Я услышал приказ капитана в боевую рубку: «Право на борт!» – и мы начали поворачивать, сильно раскачиваясь. В нашем направлении, не более 5 узлов от нас, тянулся бурун «рыбы»[45]. Я посмотрел вниз на прогулочную палубу подо мной, где сидел президент. Пока корабль продолжал поворачивать на правый борт, торпеда, казалось, отклонилась, словно нацелившись ударить нас слева по корме. Я снова взглянул на президента, Гопкинса и Приттимена [Артур Приттимен, камердинер президента]. Гопкинс наклонился далеко за бортовой леер, следя за курсом торпеды у нашей кормы. Приттимен катил по корме инвалидную коляску президента [ «Отвези меня на правый борт!» – воскликнул Рузвельт[46]], также наблюдая за кормой корабля. Правой рукой он схватил леер со своей стороны, его голова была высоко поднята, на лице была решимость, любопытство и бесстрашие. Это была весьма впечатляющая картина, и я смог прийти в себя, только услышав, как торпеда взорвалась, и почувствовав сотрясение слева по корме. Раздался сигнал боевой тревоги, и я поспешил на боевой пост в штурманскую рубку, задаваясь вопросом, попала ли торпеда в корабль… На капитанский мостик доложили, что корабль не получил повреждения слева по корме и что торпеда взорвалась в кильватерном следе, возникшем после нашего поворота, очевидно, сдетонировав в результате огня, который вели батареи с левой кормы»[47].
Согласно документам ВМС, торпеда двигалась со скоростью 46 узлов. Максимальная скорость «Айовы» была 33,5 узла. По словам моряков, командир корабля капитан 1-го ранга Джон Л. Мак-Кри «едва не перевернул “Айову”, стремясь уйти от торпеды».
Отменив приказ адмирала Кинга, Рузвельт велел, чтобы виновные в случившемся моряки не понесли наказания. Но это решение было продиктовано исключительно прагматизмом. Масштабы данного инцидента были таковы, что, как опасался Рузвельт, если бы капитану эсминца стало известно, что на борту линкора находились адмирал Кинг, генерал Маршалл и вся верхушка военного командования США, да еще и президент, он мог бы «броситься на морское дно, чтобы не нести ответственности за ужасные последствия, которых удалось избежать».
Большинство дней, проведенных на море, были тихими. Температура, как правило, была около двадцати двух градусов, что позволяло президенту находиться на палубе и дышать свежим воздухом, что он любил делать. «Все идет хорошо, и до сих пор поездка очень комфортная. Погода приятная и достаточно теплая, чтобы сидеть только в свитере поверх старой пары брюк и рыбацкой рубашки», – писал он Элеоноре[48]. По вечерам после ужина в каюте президента, как правило, показывали фильмы.
«Это станет очередной одиссеей, и гораздо более дальней на земле и на море, чем у стойкого храбреца, чье имя я использовал в Гротоне, когда боролся за школьные призы», – писал Рузвельт в своем дневнике, который он начал вести во время поездки[49].
В течение нескольких дней Объединенный комитет начальников штабов ВС США провел ряд совещаний по стратегическим вопросам, а также ряд встреч с президентом. На заседании, состоявшемся в каюте президента 19 ноября, когда генерал Маршалл задал вопрос относительно послевоенной Германии, Рузвельт ответил:
– Безусловно, будет гонка за Берлин… Но Берлин должны взять Соединенные Штаты[50].
Рузвельт нарисовал на карте из журнала «Нэшнл Географик» американскую зону, которую он хотел иметь (северо-западная часть Германии) и которая граничила бы на востоке в Берлине с российской зоной.
В Объединенном комитете начальников штабов ВС США ожидали возникновения проблем с Черчиллем. Американское командование хотело быть уверенным в том, что Рузвельт не примет аргументов Черчилля относительно отсрочки операции «Оверлорд» (кодовое название операции по высадке войск союзников на побережье Франции), особенно сейчас, когда он направлялся на встречу со Сталиным, которому он обещал открыть «второй фронт» (как называли его русские) уже более года. Ранее Рузвельт уступил тактике проволочек Черчилля относительно начала операции, и теперь все проявляли обеспокоенность, от Гопкинса до Маршалла и Лихи, что это может повториться. Военный министр Генри Л. Стимсон, который был на пятнадцать лет старше Франклина Д. Рузвельта и которого президент уважал как патриотичного республиканца с широкими взглядами, пригласил Гопкинса на обед в своем кабинете в Пентагоне накануне отъезда того в Тегеран. Очевидной целью встречи было обсуждение того, как они могли бы укрепить решимость президента. «Прежде всего, мы обсудили вопрос об операции “Оверлорд”, которая, с чем мы оба согласились, была в настоящее время самой важной проблемой для всего мира и стала для нас обоих предметом беспокойства в связи с весьма сомнительной позицией премьер-министра Великобритании. Моя цель заключалась в том, чтобы подбодрить Гарри и поделиться с ним своими идеями о том, каким образом ему бы следовало по мере возможности удерживать президента в нужном русле… У меня нет сомнений в том, что англичане выступают за операцию, однако их премьер-министр упирается», – написал Стимсон в своем дневнике[51].
Тактика проволочек Черчилля приняла форму требования, чтобы войска продолжали усилия по захвату островов Додеканес в Средиземном море и организации отвлекающих ударов в Италии. Осознавая, что с британскими коллегами могут возникнуть разногласия по вопросу единого командования всеми операциями в зоне Европы, Лихи, Маршалл и Кинг приняли решение о том, что их стратегия будет заключаться в требовании немедленного назначения общего командующего, американца, который имел бы полномочия отвергнуть какую-либо операцию еще до этапа ее планирования. Результатом их совещаний на борту корабля явилось единогласное решение о том, что «это командование должно быть возложено на одного командующего и он должен осуществлять руководство командующими силами союзников в зоне Средиземного моря, на северо-западе Европы, а также стратегическими военно-воздушными силами»[52].
Когда линкор «Айова» был еще в море, в радиорубке приняли сообщение о том, что немцы стали применять на входе в Гибралтарский пролив свои новые планирующие торпеды. Эти торпеды, которые после пуска направлялись на цель путем магнитного воздействия, вызвали панику среди кораблей союзников, действовавших в узком проливе. Линкору «Айова» предстояло проходить через пролив, чтобы достичь пункта назначения, порта Оран на средиземноморском побережье Алжира. Линкор получил указание быть готовым изменить курс на Дакар, Сенегал. Через час после этого указания стало известно о существенной концентрации немецких подводных лодок в районе Дакара, с учетом чего было решено придерживаться первоначального плана и направляться в Оран. Адмирал Кент Хьюитт, командующий соединением военно-морских сил США в зоне Северо-Западной Африки, получил приказ сосредоточить авиацию, подводные лодки и «все, что возможно», для того чтобы очистить пролив и обеспечить свободу передвижения по нему. И он сделал это. Американский самолет обнаружил и потопил одну немецкую подводную лодку, других в этом районе не оказалось. Соблюдая меры маскировки, «Айова» прошла ночью через пролив. Испанские власти на Гибралтаре внесли завершающий вклад в нагнетание напряженности в ситуацию, выхватив контур линкора лучами прожекторов, когда корабль прошел в Средиземное море.
После восьмидневного плавания «Айова» в ясное субботнее утро стала на военно-морской рейд вблизи Орана. Два сына Рузвельта, Эллиот и Франклин-младший, уже ожидали его. Они видели, как его посадили в моторный вельбот «Айовы». Высадившись через несколько минут на берег, Рузвельт тепло поздоровался с ними, приветствовав их сияющей улыбкой на выдубленном морем лице. Затем отец и сыновья сразу же направились вместе с генералом Эйзенхауэром, командующим операцией «Факел» (операция по высадке союзных войск в Северной Африке на территории Марокко и Алжира), который ожидал их в своей машине, в ближайший аэропорт, где они сели в президентский самолет, четырехмоторный «Дуглас» «С-54». Им предстояло вначале приземлиться для дозаправки в Тунисе, чтобы затем совершить длительный перелет в Каир. После проведения там необходимых совещаний Франклин Д. Рузвельт вылетит в Тегеран, чтобы встретиться с трудноуловимым премьером Сталиным.
Глава 2 На пути к Тегерану
За доставку президента и его сопровождающих отвечал майор ВВС Отис Брайан. Военный самолет, который он пилотировал, летел вдоль 650-мильной береговой линии Северной Африки в направлении на Тунис. Его сопровождала группа истребителей. На аэродроме их ожидал сын Гопкинса, сержант Роберт Гопкинс, фотограф войск связи.
Планировалось, что Рузвельт останется переночевать на гостевой вилле генерала Эйзенхауэра, которая была расположена в непосредственной близости от руин Карфагена на берегу Тунисского залива. До того как стать резиденцией Эйзенхауэра, эта вилла принадлежала фельдмаршалу Эрвину Роммелю, но в начале 1943 года его армия была разбита Восьмой армией генерала Бернарда Монтгомери. Утром Рузвельт должен был вылететь в Каир, но вылет был перенесен на поздний вечер следующих суток. Официально было объявлено, что этот перенос был связан с тем, что ночью лететь было безопаснее, поскольку немцы все еще удерживали остров Крит. Но Рузвельт и в самом деле не торопился с отъездом в Каир и не спешил увидеться с Черчиллем, поскольку, оставаясь в Тунисе, он мог воспользоваться возможностью поближе узнать генерала Эйзенхауэра. Президент уже сообщил всем, что высадкой войск в Европе будет командовать генерал Маршалл. Но пока Рузвельт еще не принял на этот счет окончательного решения и использовал день до отъезда в Каир для того, чтобы вместе с Эйзенхауэром объехать места сражений. Их автомобиль вел привлекательный молодой водитель генерала Кей Саммерсби, который был водителем «Скорой помощи» во время немецких налетов на Лондон. Он был приписан к британскому Механизированному транспортному корпусу и в 1942 году был назначен личным водителем Эйзенхауэра. По пути Рузвельт заметил небольшую рощу, в которой они решили остановиться и устроить небольшой привал. Они сидели и разговаривали втроем. Конечно же, они были не одни: на некотором расстоянии от их машины кольцом встали три грузовика и восемь мотоциклов военной полиции. Кроме того, их охраняли сотрудники службы безопасности. Пока они втроем сидели в центре этого кольца охраны, отдыхали и поглощали сэндвичи с курицей, Рузвельт, как вспоминал Саммерсби, рассказывал им всякие истории, отвечал на вопросы и сам расспрашивал: он устроил генералу проверку[53].
Тем же вечером, в 22:40, в сопровождении генералов, адмиралов, сотрудников службы безопасности, Гопкинса, Лихи, Макинтайра, а также личного камердинера Рузвельта Артура Приттимена президент поднялся на борт «Дугласа» «C-54» и направился в Каир, до которого было 1851 миля пути. На борту военного самолета ему соорудили спальное место: на два сиденья, с которых сняли спинки, положили резиновый матрас и все это отгородили зеленым занавесом, чтобы президент мог поспать.
Когда они приближались к египетской береговой линии, начался ясный, красивый рассвет. Рузвельт попросил Брайана отклониться от маршрута к югу и велел Рейли разбудить его на рассвете, чтобы, как станет достаточно светло, он смог увидеть, как течет Нил по направлению к Каиру, а также посмотреть на самые южные пирамиды и на Сфинкса. Рейли разбудил его в 7 утра. По мере того как перед ними разворачивался захватывающий вид реки и исторических памятников, майор Брайан сделал несколько кругов, чтобы Рузвельт мог как следует насладиться этой величественной панорамой. Рузвельт сказал, поглядев на пирамиды: «Человеческое желание оставить в памяти след – колоссально»[54].
Рузвельта, похоже, не беспокоило, что из-за его склонности к экскурсиям самолет более чем на два часа отстал от графика, а две группы истребителей «Р-39», которые должны были встретить его на подлете и сопровождать его самолет до посадки, так и не нашли его. Но Рузвельт был не слишком озабочен возможной физической опасностью.
Говорили, единственное, чего он боялся, так это огня. Ему пришлось не раз столкнуться с этой опасностью. В детстве, года в три, он гостил у деда Делано в Ньюберге, штат Нью-Йорк, в доме «Альгонак», который был расположен вниз по течению Гудзона от Гайд-парка. Младшая сестра его матери, Лаура, завивала волосы слишком близко от масляной лампы. Она вдруг выбежала на крыльцо и бросилась на лужайку, ее одежда была объята пламенем. Родные увидели это и попытались ей помочь, но ее уже нельзя было спасти. В возрасте семнадцати лет Рузвельт помогал смотрителю фермы в Спрингвуде разбирать часть пола в гостиной и заливать водой загоревшиеся балки подвала. Той же зимой в Гротоне он был в пожарной бригаде, которая пытались спасти лошадей на конюшне. Животных там было много, и Рузвельт вспоминал это «ужасное зрелище… бедные лошади… лежали под обломками, шкура на них полностью сгорела»[55]. Когда он учился в Гарварде, там сгорели два верхних этажа Тринити-Холла. Когда он был редактором газеты «Кримсон», он боролся за то, чтобы в здании общежития были установлены пожарные лестницы. В 1915 году, когда была восстановлена ферма в Спрингвуде, он добивался, чтобы стены были сделаны огнестойкими. В президентской резиденции «Шангри-Ла» (штат Мэриленд) в его домике рядом с дверью спальни был сделан люк, ведущий прямо наружу. Он был закреплен на шарнирах и откидывался наружу, образуя пандус, по которому президента можно было выкатить на инвалидной коляске или же он мог сам выбраться наружу.
* * *
Рузвельт был страстным путешественником, ему всегда было любопытно лично взглянуть на те места, о которых он так много знал, будучи хорошо подкован в географии. Интерес к ней пробудился, а затем постоянно укреплялся благодаря коллекционированию марок, которыми Рузвельт увлекался с десяти лет. Теперь в его коллекции насчитывалось уже более миллиона марок, хранившихся в 150 одинаковых кляссерах. Всякий раз, когда у него появлялась такая возможность, Рузвельт продолжал работать над своей коллекцией. Куда бы он ни ехал, среди его вещей обязательно было несколько кляссеров, которые неизменно оказывались самой тяжелой частью багажа. До этого, в январе 1943 года, совершая перелет из Батерста (Канада) в Касабланку, Рузвельт велел сделать крюк, чтобы он мог посмотреть на Дакар, морской порт на западной оконечности Африки. Этот порт глубоко выдавался в воды Атлантического океана и обеспечивал контроль за морскими путями как Северной, так и Южной Атлантики. Он имел первостепенную важность для осуществления задач союзников, вот почему они любой ценой стремились захватить этот порт в ходе операции «Факел».
В Каире Рузвельта разместили на вилле, расположенной на самом берегу канала неподалеку от подножия Великой пирамиды Хеопса и Сфинкса. Вилла принадлежала Александру Кирку, послу США в Египте. Вилла Черчилля находилась на полмили дальше. Каир был наводнен шпионами стран гитлеровской коалиции, в городе постоянно вспыхивали беспорядки. Было крайне необходимо соблюдать повышенные меры безопасности. По приказу Рейли обе резиденции были обнесены колючей проволокой и находились под круглосуточной охраной надежных подразделений. Проводникам экскурсий и их верблюдам доступ в район пирамид был закрыт, а слуг на обеих виллах заменили на американский и британский обслуживающий персонал.
В Каире Рузвельта с нетерпением ожидали Уинстон Черчилль и впервые встречавшийся с президентом США Чан Кайши с супругой. Все трое готовились к переговорам с Рузвельтом и его основными советниками: генералом Маршаллом, адмиралом Кингом, генералом Арнольдом, адмиралом Лихи и, конечно же, с Гопкинсом. Для них эти переговоры имели первостепенное значение, но теперь Рузвельт, узнав, что Молотова там не будет, не проявлял к ним такого же интереса.
Каирская конференция была запланирована в силу различных причин. Во-первых, требовалось привлечь внимание международной общественности к важной роли Китая в военных действиях, во-вторых, дать возможность Черчиллю и британским военным посовещаться с Рузвельтом и высокопоставленными американскими военными, а также дать Молотову представление о том, что будет происходить в Тегеране. Однако была и еще одна причина: несомненно, эта конференция являлась оправданием на случай, если бы Сталин не приехал на встречу в Тегеране, поскольку Каирская конференция сама по себе была достаточным поводом для того, чтобы президент совершил это длительное плавание через океан. Как написал впоследствии Роберт Шервуд, при отсутствии представителей советской стороны на конференции в Каире «влияние встреч, организованных в ее рамках, на ход войны и истории было незначительным, не считая объявления свободы и независимости Кореи»[56].
Черчилль был доволен, что Молотов не приедет на конференцию в Каир. Британский премьер-министр полагал, что до встречи с русскими начальники объединенных штабов США и Великобритании должны выработать совместную тактику и стратегию. Таким образом, он предполагал, что за четыре дня переговоров в Каире между военными представителями двух государств будет проведено «множество встреч», в частности, с учетом того факта, что начальники объединенных штабов не проводили совместных совещаний уже более трех месяцев. Черчилль хотел, по сути дела, возвести стену, по одну сторону которой были бы он сам и президент Рузвельт, а по другую – Сталин. Но Рузвельту это было как раз совершенно не нужно. За несколько дней до встречи он вежливо уведомил премьер-министра, что собирается максимально ограничить дискуссии по вопросам стратегии, потому что «будет непростительно, если Д. Дж. [Рузвельт и Черчилль иногда между собой называли Сталина «Дядюшка Джо»] решит, что мы задумали вести против него военные действия»[57]. Рузвельт тщательно и последовательно ограничивал связи с Черчиллем, не позволяя им стать дружескими и сохраняя на уровне партнерских. Премьер-министр всячески этому противился, равно как и министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден.
По мнению Рузвельта, Великобритания была таким же союзником, как и две другие державы, Китай и Россия, а он был руководителем этих союзников. В связи с этим Рузвельт не допустил, чтобы работа Каирской конференции открылась двусторонним англо-американским заседанием. Сделал он это очень просто: пригласил на конференцию Чан Кайши. Он также распорядился, чтобы Маршалл, Лихи и Кинг провели встречу с Чан Кайши, не приглашая на нее британских представителей и организовав ее до начала встречи с ними. Энтони Иден позже с большим раздражением описывал эту ситуацию военному кабинету министров Великобритании: «Было крайне печально, с нашей точки зрения, что конференция в Каире была открыта обсуждением войны с Японией в связи с присутствием Чан Кайши»[58].
Рузвельт проводил с Чан Кайши долгие встречи. (Великобритания все еще имела экстерриториальные права в Шанхае, Кантоне и Гонконге, и Чан Кайши хотел, чтобы британские военные корабли по окончании войны покинули китайские порты; Рузвельт обещал ему, что «так и будет»[59].) Позже Черчилль жаловался, что обсуждение китайского вопроса, «продолжительное, непростое и малозначительное … вышло в Каире на первый план вместо последнего»[60]. Рузвельт вел себя столь уклончиво, что члены делегации США на переговорах давали комментарии, которые заставили британцев поверить, как вспоминал начальник личного штаба Черчилля лорд Исмей, что китайцы приехали раньше назначенного срока, хоть это было совсем не так. «Американские начальники штабов совершенно не огорчены преждевременным прибытием китайской делегации, казалось, они несомненно рады, что у них появилась компания»[61], – отметил Исмей.
* * *
Ни для кого из американского командования не являлось секретом, что Черчилль не поддерживал операцию «Оверлорд», которая предполагала высадку войск во Франции. Все также хорошо знали, что Рузвельт ориентировался почти исключительно на рекомендации Маршалла, а основным принципом плана войны Маршалла в Европе была организация операции «Оверлорд». Рузвельт еще в апреле 1939 года выбрал в качестве своего основного советника Маршалла, поскольку тот был умен, демонстрировал, как и сам Рузвельт, независимость в суждениях и еще со времен Первой мировой войны имел обыкновение открыто высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. Не консультируясь с кем-либо, даже с Гарри Вудрингом, который в то время занимал пост военного министра, Рузвельт решил повысить Маршалла в должности и назначить его начальником штаба армии, хотя на тот момент на военной службе находились четыре генерала выше того по званию.
По воскресеньям и в вечернее время Рузвельт любил встречаться с посетителями в Овальном кабинете на втором этаже Белого дома. Он достаточно часто пользовался этим кабинетом, который был весьма удобен для него, поскольку его спальня находилась рядом. Кабинет был красив и отличался неформальной обстановкой: на некоторых столах были навалены книги, на других были расставлены модели известных парусников. Кроме стола, там были также расставлены удобные кресла и большой кожаный диван, на котором Рузвельт сидел, принимая компанию. Перед диваном лежал ковер из тигровой шкуры. Стены были украшены гравюрами и картинами с изображением знаменитых парусников девятнадцатого и начала двадцатого веков, и это была лишь небольшая часть коллекции Рузвельта, которая включала в себя более тысячи двухсот гравюр и картин на морскую тему. Это был кабинет того, кто любит море. За столом находилась связка свернутых в рулон карт, устроенных таким образом, чтобы Рузвельт мог достать их. Присутствовали также две женщины, которые сопровождали его по жизни: на противоположных стенах друг на друга смотрели портреты его жены и матери.
В одно из воскресений апреля 1939 года Рузвельт вызвал в свой кабинет Маршалла, чтобы сообщить тому о его назначении на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов. Маршалл, являвшийся довольно жестким человеком, как говорится, «служакой», ответил, что он «хотел бы иметь право говорить то, что думает, и это часто может оказаться неприятным»[62].
– Это вас устроит? – поинтересовался он.
– Вполне, – ответил Рузвельт.
С точки зрения Рузвельта, Маршалл являлся идеальным кандидатом на эту должность: у него была репутация независимого, неутомимого, деятельного и знающего человека. Его мнение редко подвергалось сомнению, поскольку все признавали, что он всегда был прав. О его назначении было объявлено 1 сентября 1939 года, в день нападения Германии на Польшу.
Маршалл был уверен, что для победы над Гитлером необходимо сформировать группировку войск союзников в Англии, переправить ее через Ла-Манш, вторгнуться во Францию и организовать наступление на Берлин. По его мнению, это был кратчайший путь, способный привести к наименьшему количеству жертв. Военный министр Генри Стимсон был с этим согласен. Рузвельт полностью поддержал этот план, получивший кодовое название «Оверлорд», который находился на этапе планирования в течение двух лет. Сталина уверили в том, что он будет осуществлен в 1942 или 1943 году.
Черчилль же, напротив, как говорится, в лучшем случае был равнодушен к идее организации операции по высадке десанта на другом побережье Ла-Манша. Он желал вести наступление через Балканы. Кроме того, по утверждению врача Черчилля, который являлся его доверенным лицом, премьер-министра Великобритании преследовали воспоминания о битве на Сомме в период Первой мировой войны, в ходе которой погибло так много британских солдат.
Когда, наконец, начальники штабов провели в Каире совещание без президента и премьер-министра, предметом их переговоров была почти исключительно война в Азии. Генерал Исмей пожаловался на то, что «не было времени достичь соглашения относительно четкой позиции, которой следовало придерживаться с русскими по вопросу об открытии “второго фронта” в Европе»[63]. Это было планом Рузвельта. Окружение президента научилось этой тактике у своего босса. Он всегда прибегал к ней, когда хотел пресечь дебаты так, чтобы это не бросалось в глаза, и достичь договоренности при наличии разногласий. Он просто упреждал разговор на какую-либо тему либо предлагал новую тему для беседы. Он мог на совещании или встрече тянуть время, болтать о разных вещах, рассказывать различные истории – с тем чтобы решение принималось в последние минуты. Затем, из-за отсутствия времени, решение, которого он добивался, даже если оно было непопулярным или неожиданным, уже не могло быть оспорено.
Черчилль пытался скрыть от Гопкинса отсутствие у себя энтузиазма относительно плана высадки морского десанта после форсирования Ла-Манша, но он не был в этом достаточно искусен.
– Уинстон сказал, что он на все сто процентов за «Оверлорд». Но крайне важно вначале захватить Рим, а затем мы обязаны отвоевать и Родос, – с насмешкой отметил Гопкинс за два дня до того, как они должны были прибыть в Тегеран[64].
Гопкинс, вероятно, не был бы удивлен, узнав, что британский план, согласно генерал-майору сэру Джону Кеннеди, помощнику начальника Имперского генерального штаба Великобритании, заключался в следующем: «Продолжить наступление в Италии для увеличения масштабов помощи партизанам на Балканах, спровоцировать хаос, чтобы содействовать отрыву балканских стран от Германии и вступлению в войну Турции, и обеспечить отсрочку операции «Оверлорд»[65]. (Кеннеди в последующем напишет: «Я думаю, можно было не сомневаться, что будь у нас такая возможность, высадки войск во Франции в 1944 году не было бы».)
Черчилль постоянно и настойчиво выступал против операции «Оверлорд» и по другой причине: он не доверял Сталину. Как он объяснил Гарриману в начале года, «неослабевающее давление Сталина, добивавшегося открытия “второго фронта” в 1943 году, связано с его планами относительно Балкан. Разве существует более удобный способ удержать западных союзников от развертывания войск на Балканах, чем вынудить их увязнуть в длительных и кровопролитных сражениях в Западной Европе?»
До сих пор его усилия по переносу сроков операции «Оверлорд» были достаточно эффективными. Его упорное стремление выработать и согласовать противоречивые военные планы на самом деле являлось тактическим ходом, попыткой развязать военные действия, в которых были бы задействованы союзные войска и необходимые десантные корабли (строго говоря, где угодно), чтобы эти силы и средства уже не могли принять участия в десантной операции на Ла-Манше.
Рузвельт, уже привыкший к спорам с Черчиллем, покинул Каир в хорошем настроении. Тем не менее он был настороже, и это явствовало из той записки, которую он направил своему секретарю Грейс Талли на следующий день после Дня благодарения: «Конференция проходит довольно хорошо, моя роль заключается в миротворчестве. Я видел пирамиды и стал близким другом Сфинкса. Конгрессу следовало бы с ним познакомиться»[66].
Все это являлось подготовкой к Тегерану.
Президент не знал, где он будет жить в Тегеране и как долго он там останется: и то и другое зависело от Сталина. Стремясь проявить максимум гостеприимства, с тем, чтобы у Сталина не появилось мотивов уклониться от встречи, он переступал границы осторожности. Утром 22 ноября, в понедельник, прибыв в Каир, Рузвельт направил Сталину сообщение о том, что он мог бы прибыть в Тегеран 29 ноября и готов «остановиться на срок от двух до четырех дней, в зависимости от того, на какой срок Вы сможете оторваться от исполнения Ваших неотложных обязанностей»[67]. Затем он обратился к Сталину с просьбой дать знать, «какой день Вы хотите установить для встречи» и отметил, что советская и британская дипломатические миссии в Тегеране были расположены близко друг от друга, «в то время как моя миссия находится от них на некотором расстоянии», что означало, что они «подвергались бы ненужному риску», отправляясь на заседания и возвращаясь с них. В конце своего послания Рузвельт задал, казалось бы, случайный, но острый вопрос, зондируя возможность быть приглашенным в российское посольство в качестве гостя Сталина. «Где, по Вашему мнению, мы должны жить?» – спросил он.
Это была очаровательно дерзкая стратегия: продемонстрировать свою веру в Сталина, изъявив готовность предоставить себя в его распоряжение в надежде как можно быстрее завоевать его доверие. Он мог бы, конечно, остановиться в британском посольстве, если бы это определялось лишь соображениями безопасности. Черчилль уже обратился к нему с соответствующей просьбой и был бы крайне рад, если бы Рузвельт согласился. Но поскольку Франклин Д. Рузвельт намеревался предстать перед Сталиным как исключительный и достойный доверия руководитель, а Америку представить в качестве основной движущей силы в мире, он хотел быть уверенным в том, что он воспринимается как полностью самостоятельная личность, – и поэтому отказался. Он не хотел, чтобы премьер-министр Великобритании, бывший министр по делам колоний самой большой колониальной империи в мире, повис бременем у него на шее. Вот почему Рузвельт начал «дистанцироваться» в Каире от англичан, уведомив их тем самым о том, что он желает иметь свободу действий в Тегеране. Такое поведение доставило Черчиллю немалую душевную боль.
* * *
Команда президента прибыла в аэропорт «Каир-Западный», дождалась, пока не рассеялся последний туман, и в семь утра с минутами взлетела. Майор Брайан на этот раз преодолел, направляясь на восток, к Тегерану, тысячу триста миль. Он пролетел над Суэцким каналом и сделал, снизившись, два круга над Иерусалимом, чтобы Рузвельт мог увидеть достопримечательности. Они миновали Вифлеем, Иерихон, реку Иордан, Мертвое море, пролетели над пустыней, которой была Палестина, и, продолжая путь на восток, снизились, оказавшись над реками Тигр и Евфрат. Затем Брайан повернул на северо-восток, покружил над Багдадом и направился к Ирану. Находясь в воздушном пространстве Ирана, они видели товарные составы с американскими поездными бригадами, которые доставляли по Трансиранской железной дороге грузы по программе ленд-лиза, а также американские и британские конвои, также перевозившие американские грузы по автомагистрали Абадан – Тегеран в рамках ленд-лиза. Их путь начинался в Басре в зоне Персидского залива и завершался в Тегеране. Через Иран в Россию ежемесячно перевозилось более ста тысяч тонн грузов.
Тегеран, столица Ирана, расположен в южных предгорьях горного массива Эльбурс, который тянется параллельно Каспийскому морю и имеет высоту почти шесть тысяч метров.
В январе, когда они собирались попасть на конференцию в Касабланке, перелетев через Атласские горы, Росс Макинтайр хотел, чтобы Рузвельт, который страдал от хронического синусита, надел кислородную маску. Опасаясь, что президент откажет ему в этой просьбе, Макинтайр прибег к хитрости: он заручился поддержкой адмирала МакКри, попросив того надеть кислородную маску, после чего надел ее и сам. Он объяснил: «Если я предложу ему это, он наверняка откажется. Но если он увидит, что мы надели маски, он, возможно, последует нашему примеру»[68]. Хитрость удалась: Рузвельт надел свою кислородную маску, «и мы преодолели горы».
Теперь, когда они приблизились к Тегерану и увидели горы, окружавшие город, Макинтайр был готов вновь воспользоваться кислородной маской, но идеальная видимость позволила Брайану остаться на высоте одной тысячи восьмисот метров и успешно провести свой самолет через извилистые горные перевалы.
Самолет приземлился на военном аэродроме Гейле-Морге, находившемся в советской военной зоне в восьми километрах к югу от города, в субботу, 27 ноября 1943 года, в три часа дня. Выйдя из самолета, президентская команда увидела, что поле было «усеяно» множеством самолетов американского производства, недавно прибывших по ленд-лизу, на фюзеляже каждого из них красовалась огромная, блестящая красная звезда.
Американская миссия была полностью готова к приему и размещению Франклина Д. Рузвельта и его команды. Американских дипломатов, в том числе посланника США в Иране Луиса Г. Дрейфуса, держали в неведении относительно предстоящей конференции до самого последнего момента. Дрейфус, вернувшись из поездки, обнаружил, что военнослужащие устанавливают в посольском комплексе новую телефонную систему, а на лужайке миссии – армейские палатки. Затем ему сообщили, что прибывает президент, который остановится в миссии, и что ему, посланнику, необходимо выехать.
Когда самолет с Рузвельтом на борту приземлился, аэродром Гейле-Морге был окружен иранскими подразделениями. В интересах безопасности генерал-майор Д. Х. Конноли, командующий группировкой войск в зоне Персидского залива, в одиночестве стоял на бетоне взлетно-посадочной полосы, чтобы приветствовать самолет президента и сопроводить президента и его команду в автомобиль для поездки в американское посольство.
Рузвельт проделал длинный и полный опасностей путь в Тегеран, чтобы познакомиться со Сталиным, и, чтобы его план реализовался, было необходимо дистанцироваться от Черчилля и поддерживать то исключительно положительное впечатление, которое сложилось о нем у русских. С самого начала своего пребывания в должности Рузвельт как президент, выработавший и проводящий «Новый курс», заслужил одобрение газеты «Правда» и Сталина. Рузвельт проигнорировал повсеместные антикоммунистические настроения в США и добился признания Соединенными Штатами Советского Союза в том же году, когда он вступил в должность. Сталин ждал четырнадцать лет, пока это произойдет. Теперь Рузвельт был намерен ясно и детально продемонстрировать Сталину, что Соединенные Штаты проводят свой собственный политический курс и что он действует в своих собственных интересах. Он инстинктивно понимал, что для этого были крайне важные детали. Учитывая параноидальный, подозрительный характер той личности, с которой Рузвельт имел дело, в ретроспективе его решение преодолеть такие расстояния, чтобы с самого начала выстраивать отношения на правильной основе, представляется совершенно продуманным и мудрым.
Рузвельт направил Сталину телеграмму с вопросом о том, где ему следует остановиться (по существу, напрашиваясь на приглашение), всего за пять дней до своего планировавшегося прибытия. Эта телеграмма была направлена из Штабной комнаты Белого дома 22 ноября в 14:55. Посольство США доставило телеграмму в Кремль (как было зафиксировано) 24 ноября (конкретное время получения не было проставлено). Затем она была переведена и доставлена Сталину. Таким образом, с момента ее отправления прошло два дня. К этому времени Сталин был уже в пути, направляясь на поезде в Тегеран, а поездка на поезде всегда сопровождалась серьезными проблемами с обеспечением связи.
В то же время Андрей Вышинский, первый заместитель наркома иностранных дел, позвонил президенту и, возможно, после некоторых намеков предложил ему остановиться в российском посольстве в Тегеране. Вышинский, человек небольшого роста с блестящими черными глазами, в роговых очках, с редеющими рыжеватыми волосами и усиками, вел печально известные показательные Московские процессы 1936–1938 годов и был известен как «подобострастно льстивый» с высшим начальством. В документах Государственного департамента и в президентских записях отсутствуют какие-либо пометки относительно реакции на его предложение в период пребывания Рузвельта в Каире, но было очевидно, что это приглашение не было одобрено Сталиным и не являлось официальным.
Тем не менее на следующий день, 24 ноября, Рейли побывал в посольстве СССР, а также в британском и американском посольствах, чтобы проверить вопросы, касавшиеся обеспечения безопасности и соответствия другим требованиям. Советское и британское посольства не только располагались в центре Тегерана, но и примыкали друг к другу лужайками через улицу. Таким образом, с учетом возможности убрать забор, который тянулся вдоль улицы, оба этих посольства могли быть объединены. Американское посольство, находившееся в полутора километрах, был оценено Рейли как «адекватное». Он заявил, что поездки к другим посольствам не представляли никаких проблем с точки зрения безопасности, хотя позднее упомянул расстояние, которое пришлось бы преодолевать, в качестве основной причины, почему Рузвельт остановился в комплексе советского посольства. (Уличное движение в Тегеране было действительно ужасным. Улицы были запружены людьми, автомобилями и дрожками, что чрезвычайно замедляло его.)
– Мы не давали никаких обязательств относительно места пребывания президента, – заявил Рейли. – Он может остановиться и в посольстве США, и в посольстве Великобритании, и в посольстве Советского Союза, если будет сделано приглашение[69].
Британское посольство было бы, очевидно, наименее комфортным из перечисленных трех, судя по описанию лорда Исмея этого здания как «ветхого дома, построенного Департаментом общественных работ Индии»[70].
Генерал-майор Патрик Херли, бывший военный министр США, который имел представительный вид и являлся мастером разговорного жанра (Рузвельт назначил его посланником в Новой Зеландии), был в Тегеране в качестве личного представителя Рузвельта. Утром 26 ноября, в пятницу, он телеграфировал президенту, что советский поверенный в делах Михаил Максимов обратился с официальным приглашением: «Российское Правительство приглашает Вас на время пребывания в стране стать гостем в его посольстве»[71]. Однако, поскольку это приглашение все еще не было официально санкционировано Сталиным, оно было отклонено.
После осмотра комплекса советского посольства Херли выяснил, что конференц-зал и жилые помещения, предполагаемые к возможному размещению в них Рузвельта, находились в главном здании посольского комплекса, который включал также несколько меньших по размеру строений. Главное здание было большим, красивым, квадратной формы, из светло-коричневого камня, его лицевая сторона была украшена широким портиком с белыми дорическими колоннами. Оно располагалось в центре большого парка с озером, фонтанами, цветниками и сетью пешеходных дорожек. Херли признал его идеальным местом для пребывания Рузвельта, которое только можно было отыскать в Тегеране. У него имелось дополнительное преимущество: во всем городе только в этом здании имелось паровое отопление. Все остальные постройки обогревались портативными масляными обогревателями. Это было важным фактором, потому что, хотя дни стояли теплыми, по ночам прилично холодало. Из здания открывался приятный вид: окна выходили на кедры, ивы и пруды среди садов, окружавших посольство. Помещения, предназначенные для президента, включали просторную спальню, гостиную рядом с конференц-залом, который должен был стать основным местом для встреч, большую столовую, кухню (в которой вполне могли справиться со своими обязанностями вестовые-филиппинцы, готовившие для президента блюда в резиденции «Шангри-Ла», расположенной в парковом комплексе гор Катоктин в штате Мэриленд, где президент бывал на отдыхе в годы войны), а также несколько меньших по размеру спален.
В действительности у русских возникли достаточно серьезные проблемы с размещением и обустройством Рузвельта. Всему советскому персоналу, который работал в посольстве и проживал в жилом комплексе на его территории, было приказано к исходу 17 ноября вместе с вещами переехать в город. Опасаясь, что ширины обычных дверных проемов может оказаться недостаточно для инвалидной коляски Рузвельта, русские провели соответствующий ремонт всех дверных проемов, которыми Рузвельт мог воспользоваться. Херли убедился также в том, что значительные изменения претерпела и ванная комната. Прежняя ванна, туалет и умывальники были демонтированы, а новая сантехника находилась в готовности к установке. Если бы Рузвельт заранее знал о тех работах, которые были организованы, о тех скрупулезных приготовлениях, которые были начаты в первый день ноября и в полном объеме развернуты к середине месяца, то он бы беспокоился гораздо меньше.
Херли сообщил: «С точки зрения Вашего удобства и комфорта, с точки зрения обеспечения связи в конференц-зале и безопасности эти помещения гораздо более предпочтительны, чем в Вашей собственной дипломатической миссии». Он предоставил советской стороне список мебели, которая могла потребоваться Рузвельту. Тем не менее, даже несмотря на то что русские, как он сообщил президенту, «по-прежнему сердечно просят Вас принять их приглашение», он дал знать советской стороне, что Рузвельт планировал остановиться в дипломатической миссии США. Помещения еще не были готовы. И от Сталина пока еще не было ни слова.
* * *
Рузвельт и его команда сразу же направились в посольство США, где их уже ждали посланник Дрейфус и Херли. Во второй половине дня адмирал Браун и Дрейфус прибыли в советское посольство, где их встретил временный поверенный в делах СССР Максимов, который сообщил, что у него самого нет никакой информации от маршала. С учетом того что все советские представители были практически парализованы отсутствием исходных данных со стороны Сталина, Браун и Дрейфус были вынуждены отступить, сообщив, что Рузвельт остановится в своем посольстве. Когда же Рузвельта проинформировали, что Сталин, наконец, прибыл, президент взял инициативу в свои руки. По-видимому, уверенный, что Сталин вовсе не предполагает обидеть своим молчанием в ответ на высказанное им пожелание остановиться в советском посольстве, Рузвельт продолжил свои усилия и через Гарримана пригласил маршала на ужин. Тот отказался, объяснив это тем, что у него был «напряженный» день и что будет лучше придерживаться первоначального плана и встретиться завтра.
Цитируя Джона Мейнарда Кейнса, у Рузвельта был дар интуитивного решения, и он его проявлял.
* * *
У Сталина действительно была трудная поездка. Если бы он не был заинтересован в форме послевоенного устройства мира и в месте России в нем (а он намеревался выработать эти принципы совместно с Рузвельтом), он бы не подверг себя этому испытанию: он ненавидел путешествовать.
Когда он был молодым революционером, ему приходилось бывать в Стокгольме, Лондоне и Берлине на партийных съездах, но последний раз он совершил заграничную поездку в 1913 году, присоединившись к Ленину в Вене. Фронт он посетил только один раз, хотя и намекал Рузвельту и Черчиллю, что бывал там неоднократно. Сталин редко выезжал дальше своей дачи в Кунцево, находившейся на удалении около девяти километров от Кремля. В качестве исключения он иногда бывал в своей резиденции в Сочи, замечательном туристическом месте на побережье Черного моря в предгорье Кавказских гор с их покрытыми снегом вершинами. У Сталина был там дом для зимнего отпуска, поскольку это место было известно своими серными ваннами. Он был ипохондриком, а кроме того, на различных этапах своей жизни болел псориазом, тонзиллитом, нефритом, плевритом, астмой. Еще со времен сибирской ссылки он страдал также от ревматизма. Именно с учетом всех этих болезней он так много времени проводил в Сочи: он был уверен, что Черное море и сочинский климат оказывали на него укрепляющее действие. (Вполне возможно, что одна из причин, по которой он настаивал на встрече в Тегеране, заключалась в его желании отдохнуть от занесенной снегом Москвы.)
Сталин покинул Москву вечером 22 ноября в специальном поезде, замаскированном под вполне обычный товарный состав. Чтобы обеспечить необходимое впечатление, длинные «салон-вагоны», в которых ехали сопровождавшие его лица, чередовались товарными вагонами с песком и гравием. В зеленом бронированном пуленепробиваемом вагоне Сталина, который, предположительно, весил девяносто тонн, была спальня/рабочий кабинет, отделанный красным деревом, с кроватью, письменным столом, стулом и зеркалом, ванная комната с туалетом, три двухместные спальни, конференц-зал и кухня с электрической плитой.
Из советников он решил взять с собой на конференцию лишь двух человек, что резко контрастировало со значительным количеством лиц, сопровождавших Рузвельта и Черчилля.
Первым из них был Вячеслав Молотов, второй по иерархии человек в Советском Союзе, с которым Сталин мог обсуждать вопросы стратегии и политики. Молотов являлся его ближайшим советником. Сталин обычно совещался с ним в Кремле по несколько часов каждый день. Он был единственным, к кому Сталин обращался фамильярно на «ты». При рождении его звали Вячеславом Михайловичем Скрябиным, однако в соответствии с распространенной в то время среди революционеров практикой он изменил фамилию на «Молотов». Его называли «молотом Сталина».
Когда началась революция, Молотов учился в Санкт-Петербурге. В стране начались беспорядки, и он стал революционером-бомбистом. Он арестовывался «охранкой», тайной полицией царя, почти столько же раз, сколько и Сталин.
Молотов являлся заместителем председателя Государственного Комитета Обороны и народным комиссаром иностранных дел. Сталин полагался на него так же, как Рузвельт полагался на Гопкинса. Молотов, однако, в отличие от Гопкинса, не имел полномочий говорить что-либо от имени своего шефа. Рузвельт уважал Гопкинса и полагался на его суждения, в то время как Сталин, не колеблясь, мог заявить об ошибочности мнения Молотова.
– Я всегда согласен с маршалом Сталиным, – быстро сказал Молотов Эрику Джонстону, главе Торговой палаты США, после того, как Сталин в присутствии Джонстона заявил, что высказывание Молотова неверно и что журналисты могут посещать фронт[72].
– Господин Молотов всегда согласен со мной, – сказал Сталин с легкой усмешкой.
Как отметил сэр Стаффорд Криппс, посол Великобритании в СССР в 1941 году, Молотов даже не рисковал высказать мнение по тому или иному вопросу, если он не обсудил это заранее со Сталиным: «У нас, как всегда, состоялся весьма неинформационный разговор, поскольку М [олотов] не брал на себя каких-либо обязательств без необходимых консультаций, и даже не решался выразить какое-либо мнение… На самом деле не имеет смысла встречаться с ним, пока кое-кто заранее не проинформирует его, в каком направлении ему следует двигаться»[73].
Молотов и Сталин встретились в 1912 году в Санкт-Петербурге во время подготовки первых изданий большевистской газеты «Правда». Сталин был ее первым главным редактором. Молотов, которому было только двадцать два года, был поражен этой встречей. «Он просто изумляет. У него внутренняя красота революционера, он большевик до мозга костей, он умен и очень хитер как конспиратор», – сказал он одному своему другу. Он всегда испытывал перед Сталиным благоговейный трепет.
Кабинет Молотова в Кремле был рядом с кабинетом Сталина, трехкомнатная квартира Молотова в Кремле также располагалась рядом с апартаментами Сталина. Молотов был коренастым человеком с темно-каштановыми волосами и карими глазами. У него было квадратное лицо с усами, он носил круглое пенсне без оправы. Он всегда был одет в аккуратный темный костюм и белую рубашку с темным галстуком. Как и Сталин, Молотов был невысокого роста. Он редко улыбался. Он был трудоголик и получил известность самого прилежного члена Политбюро. Джордж Кеннан писал, что Молотов был воплощением живой машины. Черчилль считал, что Молотов подобен Макиавелли, потому что «жил и преуспевал в обществе, где процветали всевозможные интриги, которым сопутствовала постоянная угроза физической ликвидации… Он более, чем кто-либо другой, подходил на роль исполнителя и орудия политики непредсказуемой государственной машины»[74]. По всеобщему мнению, он был человеком сдержанным и трудолюбивым. Молотов говорил глухим, монотонным голосом, слегка заикаясь, причем это заикание становилось более заметным, когда его слушал Сталин. Владимир Павлов, переводчик Сталина, к услугам которого вождь чаще всего прибегал, сам предпочитал работать не со Сталиным, а с Молотовым: «С ним было легче работать… Сталин ценил людей, которые сразу понимали, какие вопросы обсуждаются, но которые одновременно были бы скромны и не пытались этим знанием кичиться»[75]. Но более важно, по мнению Павлова, было то, что Молотов не только с видимым наслаждением устраивал разносы своим соратникам, но никогда не пытался защитить человека, против которого НКВД выдвигало какие-либо обвинения. Наоборот, он всегда сразу соглашался с арестом этого человека. Тем не менее на похоронах Сталина Молотов плакал – единственный из всех, кто нес гроб с телом вождя. Коммунизм был его религией, как и религией Сталина. Молотов возглавлял проведение коллективизации на селе и ликвидации класса кулаков, хозяев своих земельных наделов, которым было предложено вступать в колхозы и передавать в их распоряжение (за небольшое вознаграждение) свою собственность. В знак протеста многие предпочитали сжечь всю свою продукцию. («Кулаки – самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов», – писал Ленин[76].) Молотов осуществлял и обосновывал уничтожение кулаков и других несогласных с коллективизацией российских и украинских крестьян, которых коммунистическая доктрина причисляла к классу капиталистов, подлежащему ликвидации во благо общества. После высылки множества крестьян их заменили партийные работники, совершенно не разбиравшиеся в методах ведения сельского хозяйства, что привело к еще более стремительному падению урожайности, стало не хватать даже посевного материала для сельскохозяйственных культур. В результате этого эксперимента в области социальной инженерии многие миллионы россиян и украинцев умерли от голода. Даже Сталина это потрясло. «Создание колхозов проходило в страшной борьбе… Десять миллионов… Это было что-то ужасное и продолжалось четыре года. Все четыре года руководил этим Молотов. Для того чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами», – таково знаменитое объяснение Сталина Черчиллю[77]. После коллективизации, в конце концов, сельское хозяйство стало более продуктивной и стабильной отраслью по сравнению с тем, каким оно было при традиционном способе ведения частных хозяйств, но плата за это была огромной.
Лишь в одном Молотов был уязвим, а его поведение нетипично – у него была стройная, следящая за модой жена, к тому же еврейка. Полина Жемчужина, которая до войны была хлебосольной хозяйкой, курировала советский трест, занимавшийся производством и распространением косметики и туалетных принадлежностей. Ее задача состояла в том, чтобы научить русских женщин носить макияж. «Мой муж работает над их душами, а я – над их лицами», – как-то сказала она. (Незадолго до смерти Сталина Полина была арестована и брошена в тюрьму вместе с другими евреями, которых он подозревал в сионизме. Положение Молотова при этом не изменилось.)
Вторым советником Сталина на конференции был маршал Климент Ефремович Ворошилов, светловолосый, голубоглазый, добродушный и чванливый бывший кавалерист, который носил элегантные усы. Герой гражданской войны и [заместитель. – Прим. пер.] председателя Совета Народных Комиссаров, он с давних пор был в хороших отношениях со Сталиным. Еще в 1906 году в Стокгольме они снимали одну комнату на двоих. Однако Ворошилов был скорее другом, чем советником. «Молодец, но не боец», – так Сталин говорил о нем[78]. Его преданность вождю не подлежала сомнению, и Сталин чувствовал себя с ним комфортно; это был один из немногих оставшихся первоначальных членов Политбюро, из узкого круга из восьми членов и пяти заместителей, которые правили Россией. Однако прежнего уважения к Ворошилову больше уже не испытывали. Ворошилов был наркомом обороны, когда в 1939 году Советский Союз вторгся в Финляндию. В этой кампании финны проявили себя так блестяще, а Красная армия действовала настолько неэффективно, что Ворошилов был смещен со своей должности. После вторжения Гитлера Сталин назначил его главнокомандующим Северо-Западным фронтом, ответственным за оборону Ленинграда. Но и с этой задачей он тоже не справился. В какой-то момент, полагая, что надежда удержать город была ничтожна, он был готов сдать его, уверенный в неизбежности поражения.
Сталин назначил вместо него Георгия Жукова, который сразу предпринял необходимые героические меры. Жуков, блестящий генерал, приказал снять орудия с российских военных кораблей в Балтийском море и передислоцировал их для защиты города. Голодающих жителей Ленинграда он воодушевил, сплотил на оборону города, мобилизовав имеющиеся ресурсы, и в конечном счете спас Ленинград. В январе 1944 года после того, как блокада Ленинграда была снята, Сталин издал приказ, согласно которому «товарищ Ворошилов направлялся на организацию оборонной работы в тылу»[79]. В том же 1944 году, но позже, его исключили из состава Государственного Комитета Обороны.
Свою спасительную роль в судьбе Ворошилова, вероятно, сыграл его отличный голос. Под конец вечера, когда Сталин бывал уже навеселе, он любил расслабиться и спеть с Ворошиловым и Молотовым, который не только обладал хорошим голосом, но и играл на скрипке и на пианино. В течение многих лет они устраивали такие совместные посиделки, которые длились зачастую до самого утра. Молотов был очень важен для Сталина, так же, как Гопкинс для Рузвельта, а Ворошилов был преданным придворным шутом.
Вместе с ними в поезде также ехал Лаврентий Берия, глава НКВД. Он не собирался принимать участие в работе конференции, а нес ответственность за личную безопасность Сталина. Берия был личностью сомнительной. Он был внешне непривлекательным. По одному из описаний, он был «несколько пухловатым, с бледной, почти до зеленоватого оттенка, кожей и с мягкими влажными руками»[80]. Дочь Аверелла Гарримана, Кэтлин, писала, что он был «низеньким и жирным и носил очки с толстыми линзами, которые придавали ему зловещий вид»[81]. Дочь Сталина Светлана Аллилуева ненавидела его, как и ее мать. Пока Надежда Аллилуева была жива, Берию у них в доме не принимали.
Кроме того, тем же поездом следовали генерал Александр Голованов, летчик, который должен был пилотировать самолет Сталина из Баку в Тегеран, генерал Сергей Матвеевич Штеменко, позже начальник Оперативного управления Генерального штаба, в обязанности которого входило держать Сталина в курсе всех новостей с фронта, а также врач Сталина, профессор Виноградов.
Черчилль и Рузвельт привезли с собой в Тегеран лучшие умы из военного и гражданского руководства своих стран. Если не считать Молотова, свои лучшие умы Сталин оставил в России. Он объяснил это во время конференции, сказав, что не ожидал, что будут обсуждаться военные вопросы, и, следовательно, не привез с собой своих военных экспертов, но «тем не менее, маршал Ворошилов постарается сделать все, что сможет». Однако, как было отмечено, за исключением пленарных заседаний, которые представляли собой длительные по времени официальные мероприятия, Ворошилов часто отсутствовал. До последнего дня конференции он почти нигде не появлялся.
На протяжении всего пути над поездом Сталина барражировали истребители. Всего через три часа после отправления, проехав лишь около шестидесяти километров, поезд сделал остановку на станции Голутвин недалеко от Рязани. При осмотре состава были обнаружены трое неизвестных, ехавших на тендере[82] поезда. Их задержали, установили их личности. Оказалось, что это обычные уголовники, которые рассчитывали незаметно в темноте проехать на поезде, совершенно не зная, что на этом поезде едет сам Сталин.
Поезд проследовал дальше на юг, но ехал очень медленно, потому что в дороге то и дело возникали проблемы. Железнодорожные пути и все оборудование находилось в ужасном состоянии. Подшипники постоянно плавились, буксы горели, приходилось также внимательно следить за состоянием полотна дороги и то и дело заниматься ремонтом поврежденных рельсов, поскольку ехать нужно было через разрушенную, разоренную войной местность. Поездной бригаде с большим трудом удавалось выполнять график движения. Когда поезд остановился на станции Грязь недалеко от Липецка, в ночном небе вдруг появились немецкие бомбардировщики. Советские летчики-истребители находились возле своих самолетов и могли немедленно по тревоге подняться в небо, а зенитные расчеты стояли возле своих орудий, готовые в любой момент открыть стрельбу, но бомбардировщики исчезли вдали.
Поддерживать связь с поездом тоже было сложно. Повреждены были не только рельсы, но и телеграфные провода. Они обрывались, когда после внезапного потепления растаявший было снег вдруг замерзал на них ледяной коркой, поэтому закрытые линии связи («кремлевка») после Рязани работали с большими перебоями. Когда поезд, продолжая двигаться на юг, подъехал к Сталинграду, к тому времени лежавшему в руинах после жесточайших боев за город, в ходе которых погибли 500 000 русских и 200 000 немцев, поезд потерял всякую связь с Главным командованием. Берия был так разгневан, что хотел немедленно наказать «виновных». Утром двадцать шестого ноября поезд прибыл на станцию Килязи на берегу Каспийского моря, в восьмидесяти километрах от Баку. Сталин со своим сопровождением сразу же поехал в аэропорт. Там его уже ожидали четыре американских самолета «C-47», готовые доставить их в Тегеран, расположенный в 540 километрах. Сталин направился было к предназначенному для него самолету, рядом с которым стоял его пилот, генерал Голованов, но вдруг, не останавливаясь, пошел в другом направлении, к самолету Берии. Пилот Берии был полковником, а «генералы не часто управляют самолетами, нам лучше лететь с полковником, – объяснил Сталин Голованову, – не обижайтесь»[83].
Это было проявлением классической сталинской паранойи: безопаснее лететь с тем пилотом, который постоянно летает. Кроме того, безопаснее изменить свои планы в последний момент, чтобы спутать карты любым заговорщикам.
Лететь из Баку до Тегерана было около часа, маршрут проходил то над побережьем Каспийского моря, то над коричневыми просторами Азербайджана, затем над разбросанными по округе маленькими глинобитными домиками Тебриза. Но Сталин, в отличие от Рузвельта, путешествию на самолете не был рад. Он едва взглянул в иллюминатор на проносящийся внизу пейзаж. Однако, несомненно, он внимательно проследил за тремя группами истребителей, одной слева, одной справа и одной над своим самолетом, поскольку полет проходил в неблагоприятных условиях: была сильная болтанка, и Сталину было не по себе. Когда самолет попадал в очередную воздушную яму, «он вцеплялся в подлокотники с выражением крайнего ужаса на лице»[84].
В полдень Сталин прибыл на аэродром Гейле-Морге. Перед выходом из самолета он немного поговорил с пилотами. В благодарность он послал каждому из них форму нового образца с погонами, по которым можно было определить звание. Такую форму по его приказу с начала года уже носили высокопоставленные военные в Красной армии. Сталин хотел, чтобы его летчики были щеголеватыми и хорошо одетыми.
После приземления он увидел также стоящие рядами самолеты «P-39», которые Америка по ленд-лизу поставляла Советскому Союзу. У всех на бортах ярко выделялись красные звезды. Точно не было известно, какой именно автомобиль был предназначен для маршала, но из десяти машин, ожидавших в аэропорту советскую делегацию и выделенных для обслуживания их визита в Тегеран, три были американского производства: специально бронированные для этих целей «Паккард», «Линкольн» и «Кадиллак».
Использование американской техники оказалось неизбежным.
Глава 3 Тегеран
Раскинувшись от подножия горного массива Эльбурс на севере до начала пустыни Деште-Кевир на юге, Тегеран был самым крупным городом на Ближнем и Среднем Востоке. Горный хребет с покрытой снегом вершиной Демавенд в его центре, самой высокой горой в Иране, занимал основную часть панорамы. Сверху город выглядел как вполне современный западный мегаполис с широкими асфальтированными проспектами, обрамленными зелеными посадками. Просматривались также мечети и минареты, а также одноэтажные белые и коричневые домики, многие из них – с обнесенными стеной зелеными садами. В городе имелись относительно современные больницы, университеты, музеи, телефонная связь. Однако Тегеран был городом контрастов. Проезжая часть улиц была заасфальтирована, но, поскольку тротуары оставили, какими были, в воздухе стояла пыль. Водоснабжение было примитивным. Вода приходила с гор и бежала по открытым стокам вдоль главных улиц. Поскольку эти потоки были единственным источником городского водоснабжения, жители столицы были вынуждены использовать эту воду и для стирки, и для приготовления пищи, а также пить ее. Как результат – свирепствовал брюшной тиф.
По этой причине британское, советское и американское посольства направляли в горы автоцистерны, чтобы набрать воду из горных источников. Среди многочисленных мер предосторожности, принятых русскими на время проведения конференции, было изменение порядка обеспечения посольства водой: автоцистерны, направлявшиеся в горы, набирали воду каждый день из разных источников.
Гарриман и Молотов согласовывали график работы конференции до семи часов вечера субботы, 27 ноября. Необходимо особо отметить, что в ходе этой первой встречи были безоговорочно учтены пожелания Рузвельта относительно необходимости четкого согласования вопросов, касавшихся временных рамок дискуссий и планируемых к обсуждению тем. Гарриман представил Молотову следующий план, предложенный Рузвельтом для первого дня работы конференции: звонок Сталина Рузвельту в 15:00, начало первого пленарного заседания в 16:00, обед Сталина, Молотова, Черчилля, Идена, британского посла в СССР Арчибальда Кларка Керра, Гопкинса, Гарримана и трех переводчиков вместе с Рузвельтом в 19:30.
Затем Гарриман передал Молотову концепцию Рузвельта в отношении конференции, чтобы Сталин был в курсе дела. Рузвельт, сообщил Гарриман, «прибыл вместе с Черчиллем без намерений навязать какие-либо идеи, но готов представить маршалу различные стратегические планы… Основным вопросом станет обсуждение необходимости организации оперативных действий в зоне Средиземного моря до или же после операции «Оверлорд»[85]. Намек Рузвельта был понятен: принятие решения о высадке морского десанта союзников во Франции теперь зависело от Сталина, поскольку ему было необходимо сломить сопротивление Черчилля. После этого Гарриман и Молотов расстались.
Уже после полуночи Молотов позвонил Гарриману и Кларку Керру с просьбой незамедлительно приехать в советское посольство. Когда они прибыли, Молотов сообщил им, что, согласно только что полученной информации от советских источников, в Тегеране находятся немецкие агенты, которые знают о присутствии в городе Рузвельта, на него возможно покушение, и в сложившихся обстоятельствах самым безопасным местом для него является посольский комплекс Советского Союза. Передвижение по городу для проведения встреч теперь сопряжено с опасностью. Молотов заявил, что Рузвельту следует переехать.
Его утверждение было правдоподобным. Несколько лет назад, когда в Иране правил шах Реза, который испытывал симпатии к фашизму и являлся большим поклонником Гитлера, в Тегеране было несколько сотен немецких агентов, в результате чего многие опасались, что Германия может получить полный контроль над страной. Чтобы предотвратить это, Советский Союз и Великобритания организовали совместное военное вторжение в Иран, заставили шаха отречься от власти и посадили на трон его двадцатиоднолетнего сына Мохаммеда Резу Пехлеви. Наряду с этим в течение двух лет из страны были депортированы все вызывавшие подозрение немцы.
Молотов проявил твердость, настаивая на необходимости переезда Рузвельта в советское посольство, и продолжал утверждать о возможном существовании у немецкой стороны плана по организации покушения на него, обосновывая этим свое приглашение. Вполне возможно, что Сталин по прибытии в посольство, наконец, взял ситуацию в свои руки и приказал Молотову пригласить Рузвельта переехать, даже если помещения для него пока еще и не были готовы. Возможно также, что для того, чтобы придать этой версии дополнительный вес, генерал Артыков, занимавший в НКВД должность, аналогичную должности Майка Рейли, позже заявил последнему, что несколько недель назад в пригородах Тегерана высадились тридцать восемь немецких парашютистов и что шестеро пока еще не были нейтрализованы.
После того как Молотов заявил о необходимости переезда Рузвельта, хотя бы и с некоторым опозданием, чем это следовало бы сделать, он показал Гарриману и Кларку Керру планируемые для президента помещения, которые находились в основном здании посольского комплекса рядом с конференц-залом, где предполагалось проводить пленарные заседания. Проведенная экскурсия, по крайней мере, дала частичный ответ на вопрос, почему Молотов только сейчас обратился с приглашением к президенту остановиться в посольстве: помещения еще не были готовы. Хотя было уже далеко за полночь, рабочие завершали в ванной комнате установку ванны. Действительно, проволочка в вопросе приглашения Рузвельта остановиться в советском посольстве была вызвана задержкой в оборудовании необходимых комнат. Но это имело мало отношения к тому, была ли опасность его жизни реальной или воображаемой. Появление опасности для всех заинтересованных сторон расставило все на свои места. Рузвельт теперь был свободен в принятии решения. Даже его самые суровые критики (крайне правое крыло в США, представители которого полагали, что он симпатизирует коммунистам) не могли выдвинуть против него каких-либо обвинений в связи с выбором места пребывания.
На следующее утро, судя по всему, крайне довольный данной перспективой Франклин Д. Рузвельт объявил, что в 14:30 он переедет и что готовить для него будут вестовые-филиппинцы ВМС США, которые готовили для него в резиденции «Шангри-Ла» и которых он привез с собой. Поскольку все продукты были уже доставлены для американских военнослужащих и на местном рынке ничего не закупалось, обеспечение президентской команды продовольствием не являлось проблемой.
Не полагаясь на волю случая, Рейли с учетом информации НКВД и необходимости обеспечить безопасность президента принял меры по организации переезда президента в советское посольство, который предполагалось осуществить на лимузине. Днем Рейли сформировал кортеж, в голове и в хвосте которого должны были двигаться вооруженные джипы, разместил личную охрану президента с автоматами на подножках президентского автомобиля и выстроил на улицах вдоль маршрута движения кортежа американских военнослужащих, стоявших плечом к плечу. Когда кортеж медленно, величественно проезжал по улицам, иранцы приветствовали его. Но в автомобиле под видом Рузвельта на самом деле сидел агент Секретной службы США. После того как кортеж отправился в путь, Рейли быстро усадил Рузвельта, Лихи и Гопкинса в неприметный автомобиль. Этот автомобиль, впереди которого ехал джип, на повышенной скорости направился по второстепенным улочкам в советское посольство, оказавшись там еще до кортежа.
– Шеф, как всегда, был в восторге от организации фиктивной поездки официальной кавалькады, – вспоминал Рейли[86]. Начальник президентского штаба Лихи и, конечно же, Гопкинс переехали в советское посольство вместе с президентом.
Сталин остановился в одном из менее крупных зданий в советском посольском комплексе, который напоминал парк. Молотов и Ворошилов остановились еще в одном.
При переезде в советское посольство Рузвельт хорошо осознавал, что его комнаты будут прослушиваться русскими, что будет подслушано каждое его слово и каждое слово, сказанное ему. Администрация США и сам Рузвельт уже в течение многих лет предполагали, что в Советском Союзе прослушивается каждое здание, представлявшее государственную значимость, каждая гостиница и каждое посольство. В 1934 году, направляя в Советский Союз в качестве первого американского посла Уильяма Буллита, Рузвельт дал ему следующий совет:
– Вы, конечно, предупредите весь персонал как посольства, так и консульства в России, что за ними будут постоянно шпионить[87].
В 1936 году на чердаке особняка «Спасо-хаус», резиденции посла США в Москве, был обнаружен мужчина, подвешивавший микрофон над тем местом, которое располагалось примерно над рабочим столом посла Джозефа Э. Дэвиса. В фильме «Миссия в Москву», который Дэвис привез в Москву весной 1943 года и который был показан Сталину и членам Политбюро, была сцена, в которой высмеивалось повсеместное подслушивание дипломатов советскими властями. Рузвельт должен был предполагать, что все, что будет произноситься им и его сотрудниками, будет докладываться Сталину, и ему в связи с этим следовало продумывать все свои разговоры, хотя подслушивающая аппаратура и не была видна. Действительно, микрофоны были настолько совершенны и настолько малы, что руководитель НКВД Лаврентий Берия хвастался, что их было «невозможно» обнаружить. Президент, имея хорошие актерские навыки, вероятно, решил воспользоваться ими.
По утверждению Берии, который каждое утро в восемь часов докладывал Сталину о том, что было подслушано в комнатах президента, Сталин весьма серьезно относился к изучению записанных разговоров. Сталин «даже выспрашивал о деталях разговоров, в частности об интонации: “Он сказал это убежденно или без энтузиазма? А как отреагировал Рузвельт? Сказал ли он это решительно?.. Как вы думаете, знают ли они, что мы их подслушиваем?”» Рузвельт всегда давал Сталину высокую оценку. «Сталин как-то заметил, видимо, озадаченный: “Они знают, что мы можем их подслушать, и все же они говорят откровенно!.. Это странно. Они высказывают все, со всеми подробностями. В результате прослушки я установил, что Рузвельт испытывал к Сталину большое уважение и симпатию. Адмирал Лихи несколько раз пытался убедить его быть тверже с советским руководителем. И каждый раз он получал от Рузвельта следующий ответ: “Это не имеет значения. Не думаете же вы, что вы можете разбираться в этом лучше меня? Я провожу такую политику, потому что, как я полагаю, это более выгодно. Мы не собираемся таскать каштаны из огня для англичан“».
Ничто так убедительно не подтверждает маниакальные черты характера Сталина и его дотошность, как ежедневный анализ им вроде бы частных высказываний и настроений Рузвельта. Наряду с этим ничто так наглядно не подтверждает способность Рузвельта правильно оценивать людей и его актерский талант, как его стремление стать гостем в советском посольстве и его поведение во время пребывания там. Сталин узнал только то, что хотел Рузвельт. Последний был бы несказанно рад, если бы узнал о неведении Сталина, что Рузвельт был в курсе дела о скрытом прослушивании его разговоров.
Проживание Рузвельта в советском посольстве вызвало паранойю у англичан. «Очевидно, ему [Сталину] удобно держать президента постоянно в поле зрения, чтобы тот не мог замышлять что-либо совместно с британским премьер-министром», – отмечал личный врач Черчилля, лорд Моран[88], высказывая общее мнение английской делегации на конференции, умалявшее интеллект Рузвельта.
Вселяя в окружающих страх, место обслуживающего персонала в помещениях президента заняли вооруженные пистолетами сотрудники НКВД. Достаточно было взглянуть на тех, кто застилал постели и убирал комнаты, как все сразу же становилось ясно. Рейли вспоминал: «Куда бы вы ни пошли, вы везде могли натолкнуться на черт знает кого в белом халате прислуги, деловито протирающего безукоризненно чистые стекла или сметающего пыль с мебели, на которой не было ни пылинки. Когда они взмахивали руками, чтобы протереть стекла или смахнуть пыль, на их бедре можно было отчетливо различить холодный контур самозарядного пистолета “люгер“»[89].
Капитан 2-го ранга Уильям Ригдон, помощник военно-морского советника, который после убытия президентской команды остался, чтобы завершить необходимые дела, был поражен, увидев, что некоторые лица из обслуги, сбросив свои белые халаты, оказались на самом деле советскими офицерами, в форме и со знаками различия, в званиях до генерала включительно. Здоровенные советские солдаты были буквально везде. Двести солдат, вооруженных автоматами, окружили территорию посольства. Другие, «все действительно очень крупные, каждый не ниже метра девяносто»[90], находились в районе посольского здания, в котором поселился Рузвельт. Казалось, за каждым деревом в парке также скрывается советский охранник. Улица между советским и британским посольствами превратилась в контролируемый переезд, поскольку между посольскими территориями установили высокие стены. Сам парк на территории советского посольства был окружен каменной стеной. Каждое утро Лаврентий Берия в шинели с поднятым воротником и фетровой шляпе, надвинутой на глаза, объезжал посольский парк в «бьюике» с тонированными стеклами.
Президент, вероятно, никогда не чувствовал себя в большей безопасности. Обсуждая впоследствии обстоятельства своего переезда в советское посольство, Рузвельт всегда опускал тот момент, что это именно он попросил у Сталина совета, где ему следует остановиться. Он рассказал Фрэнсис Перкинс только половину правды, сообщив, что ни при каких обстоятельствах он бы не поверил в существование какого-либо заговора. Наряду с этим, как он сказал ей, для него было ясно, что Сталин желал, чтобы он остановился в советском посольстве, но (продолжал он расписывать свою историю) данный шаг причинил Сталину беспокойство, поскольку для того, чтобы реализовать этот план, тот был вынужден переехать в небольшой коттедж на территории посольства.
Пока несколько лет спустя не была опубликована полная переписка между Рузвельтом и Сталиным, никто, за исключением лишь Гопкинса, не знал о том, что еще на предварительном этапе Рузвельт обратился к Сталину с вопросом, где ему следует остановиться. Черчилль был бы ошеломлен, если бы узнал об этом. Но Сталин знал об этом, знал также и Молотов, и как раз в этом-то и было все дело. Рузвельт хотел, чтобы Сталин увидел и оценил, какой путь он, Рузвельт, прошел, чтобы заложить основу для их встречи. Это был «не такой уж и большой шаг, который требовалось сделать, чтобы угодить им… Если бы мы могли добиться их расположения таким образом, возможно, это было бы самым незначительным из того, что мы могли бы сделать… Было важно продемонстрировать мое доверие к ним, мою полную уверенность в них. И это, несомненно, польстило им», – скажет он позже Перкинс[91].
Рузвельт пошел на этот шаг, желая, чтобы Сталин согласился с политической программой, выносимой на обсуждение, в полном объеме. У Рузвельта имелись также определенные военные соображения: он должен был определить четкий срок для начала операции «Оверлорд» (вторжение союзников в Европу, или «второй фронт», как называли эту операцию русские). И хотя в октябре Сталин уже сказал Хэллу в Москве, что Советский Союз присоединится к США в войне против Японии, Рузвельт хотел услышать это от Сталина. Следовало согласовать советские военные планы с операцией «Оверлорд».
Однако для Рузвельта был в высшей степени важен, прежде всего, эндшпиль, определение послевоенного устройства мира, и для этого ему было необходимо полное сотрудничество со Сталиным. Он всегда помнил о Версальском мирном договоре 1919 года, об ужасе и бессмысленности послевоенной мирной конференции, на которой он был заключен. Он чувствовал, что сможет выработать схему послевоенного мира лишь на конференции победителей, которая состоится в то время, когда будущие победители еще сражаются плечом к плечу, все еще нуждаются друг в друге.
Сколько раз Рузвельт предлагал Сталину встретиться? Бесчисленное количество. К весне 1943 года, когда перспективы встречи еще не прорисовывались, Рузвельт серьезно обеспокоился: баланс сил в ходе войны стал очевидно смещаться в пользу союзников, а ни одной встречи так и не было запланировано. Он решил прибегнуть к новой тактике. Он предложил провести встречу без Черчилля, потому что, как он сказал премьер-министру Канады Макензи Кингу, с которым он поддерживал дружеские отношения еще со времен учебы в Гарварде и который посетил Белый дом, «у меня есть ощущение, что Сталин не хочет видеть нас обоих вместе, по крайней мере на начальном этапе, и что он хотел бы поговорить со мной наедине»[92]. Рузвельт предполагал организовать такую встречу на Аляске, возможно в городе Ном, в августе. У него сложился следующий план: он встретится с Макензи Кингом в Оттаве, затем они оба поедут на север по Аляскинской трассе (Франклин Д. Рузвельт дал указание о ее строительстве в 1942 году, инженерные части сухопутных войск, вопреки всему, завершили ее прокладку спустя восемь месяцев, и Рузвельт страстно желал увидеть ее), а затем он один продолжит путь на Аляску, чтобы встретиться со Сталиным.
Кинг, который знал Черчилля, по крайней мере так же хорошо, как и Рузвельта, сказал Франклину, что он не предвидел никаких возражений со стороны премьер-министра, поскольку Черчилль был в России «и уже видел там Сталина». Однако Кинг оказался неправ (Черчилль энергично возражал), и Рузвельт позже, в июне, будет опровергать перед Черчиллем тот факт, что он писал Сталину с просьбой о личной встрече. Рузвельт утверждал, что это была идея Сталина: «Я не предлагал Д. Дж. [Дядюшке Джо. – Прим. пер.] встретиться наедине, однако он сказал Дэвису, что он считает само собой разумеющимся (а), что мы встретимся тет-а-тет и (б) что он согласен с тем, что нам не следует брать с собой своих помощников на предполагаемую предварительную встречу»[93].
Чтобы подчеркнуть для Сталина важность встречи только их двоих, президент поручил Джозефу Дэвису доставить его послание лично. Дэвис, близкий друг президента, который установил хорошие отношения со Сталиным в то время, когда он был послом США в Советском Союзе (с 1936 по 1938 год), прибыл в Москву в конце мая 1943 года.
В своем письме Рузвельт продемонстрировал прекрасное знание географии:
«Уважаемый г-н Сталин,
направляю Вам это личное письмо с моим старым другом… Оно касается лишь одного вопроса, о котором, по-моему, нам легче переговорить через нашего общего друга… Я хочу избежать трудностей, которые связаны с конференциями с большим количеством участников… Об Африке почти не может быть речи летом, и при этом Хартум является британской территорией. Исландия мне не нравится, так как это связано как для Вас, так и для меня с довольно трудными перелетами, кроме того, было бы трудно в этом случае, говоря совершенно откровенно, не пригласить одновременно премьер-министра Черчилля. Поэтому я предлагаю, чтобы мы встретились либо на Вашей, либо на моей стороне Берингова пролива»[94].
Рузвельт надеялся преодолеть гнев и разочарование Сталина в связи с отсутствием конкретных планов относительно «второго фронта», который, как уверял Молотов, должны были открыть этим летом.
Когда Дэвис приехал в Москву в 1943 году, Сталин организовал ему специальный прием. Их встреча состоялась 20 мая и длилась два с половиной часа, а через три дня Сталин устроил Дэвису торжественный ужин в Кремле. На ужине было Политбюро практически в полном составе, в заключение был показан фильм «Миссия в Москву». Фильм производства «Уорнер Бразерс» был снят по одноименной книге Дэвиса и являлся, по существу, голливудским пропагандистским фильмом, призванным вызвать сочувствие к русским, находившимся в сложных обстоятельствах. Он ставил перед собой задачу показать «факты так, как я [посол Дэвис] видел их». Звездный состав исполнителей был представлен Уолтером Хьюстоном, «самым любимым» актером Рузвельта, в роли Дэвиса, Энн Хардинг в роли его жены, Марджори Мерриуэзер (в замужестве Дэвис), и Оскаром Хомолкой в роли Максима Литвинова. В фильме были также изображены Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и британский министр иностранных дел Энтони Иден. Фильм являлся гимном мужеству советского народа, твердости его характера и героической борьбе советских людей и Советской армии против немецкой агрессии. В фильме было показано, что у советских рабочих, которые выполняли свои производственные планы и материально вознаграждались за это, было много общего с американскими рабочими. Колхозы, согласно фильму, производили горы продовольствия. Были показаны драматические фотографии взорванных в результате актов саботажа заводов – в качестве оправдания Московских процессов 1936–1938 годов. Далее следовала инсценировка показательного суда, на котором высокопоставленные советские ответственные лица признавались в том, что выполняли приказы предателя Льва Троцкого, который, опираясь на правительство Германии, стремился свергнуть советскую власть. Даже если бы этот фильм снимался по прямому указанию Кремля, он не смог бы так активно прославить советский строй.
Когда показ фильма был завершен и включили свет, после аплодисментов все повернулись, чтобы посмотреть на реакцию Сталина. Как вспоминал один британский дипломат, тот выглядел довольно ошеломленным и, в конце концов, предложил: «Давайте выпьем!»[95] Приятно пораженный восторженным и упрощенным изображением советской действительности, Сталин дал указание о демонстрации этого фильма на всей территории Советского Союза. (Фильм ему настолько понравился, что в последние годы он стал одной из картин, которые он больше всего любил смотреть.)
Дэвис считал, что Сталин принял решение встретиться с Рузвельтом. «Что касается конкретной задачи, которой я занимался, то считаю, что результат совершенно успешен», – уверял он Рузвельта. Сталин телеграфировал Рузвельту, что, по его мнению, они могли бы встретиться в июле или августе, отметив, что он заранее, за две недели, уведомит президента о точной дате: «Я согласен с Вами, что такая встреча необходима и что ее не следует откладывать»[96]. Но он также предупредил, что «летние месяцы будут исключительно ответственными для советских войск». Необычно то, что это сообщение завершалось фразой Сталина: «С искренним уважением».
Затем, 11 июня 1943 года, Сталин писал Рузвельту, чтобы сообщить тому о своем разочаровании, охватившем его, когда он узнал, что на только что завершившейся Третьей Вашингтонской конференции «Вами вместе с г. Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года… Это Ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза».
Рузвельт не стал непосредственно отвечать на высказанные претензии. Вместо этого он написал, что американская сторона наращивает поставки алюминия, крайне необходимого Советскому Союзу, и что, «помимо нового протокольного соглашения, я дал указания, чтобы Вам было отправлено в течение оставшегося периода 1943 года дополнительно шестьсот истребителей… самых маневренных, что у нас есть… Я также дал указания направить дополнительно семьдесят восемь бомбардировщиков «B-25»[97]».
24 июня Сталин направил президенту еще одно жесткое послание в связи с переносом вторжения союзников, аналогичное письмо (практически дубликат того, что было отправлено Рузвельту) получил и Черчилль:
«Вы пишете мне, что Вы полностью понимаете мое разочарование. Должен Вам заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании Советского Правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям.
Нельзя забывать, что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий, в сравнении с которыми жертвы англо-американских войск составляют небольшую величину»[98].
Два дня спустя, однако, находясь, судя по всему, под влиянием хвалебного письма Рузвельта в связи со второй годовщиной вторжения Гитлера в Советский Союз (потребовалось два дня, чтобы это письмо попало к Сталину), в котором президент упомянул о «вероломном акте», «исторических подвигах вооруженных сил Советского Союза», «почти невероятных жертвах, которые столь героически несет русский народ» и «подходе к ответственным задачам установления мира, которые победа поставит перед всей планетой»[99], Сталин направил президенту выдержанное в дружеском тоне послание, которое отразило его состояние на тот момент. Характерно, что вразрез со своей практикой он взял на себя труд вычеркнуть из первоначального текста формулировку «вражеский» по отношению к германской стороне и заменить ее на слово «захватчик»[100]:
«Благодарю Вас за высокую оценку решимости и храбрости советского народа и его вооруженных сил в их борьбе против гитлеровских захватчиков.
В результате двухлетней борьбы Советского Союза против гитлеровской Германии и ее вассалов и серьезных ударов, нанесенных союзниками итало-германским армиям в Северной Африке, созданы условия для окончательного разгрома нашего общего врага»[101].
В июле Рузвельт нетерпеливо напомнил Сталину, что он все еще ждет точной даты встречи. Однако это совпало с германским контрнаступлением, к которому готовился Сталин. Гитлер собрал огромное количество танков и артиллерии для подготовки операции под Курском, юго-западнее Москвы, в расчете на решающую победу германской армии, которая должна была поразить мир. В этом сражении принимало участие четыре тысячи самолетов, шесть тысяч танков и более двух миллионов солдат. Красная армия отразила наступление германской армии, затем постепенно вынудила ее отступить и нанесла ей поражение. К пятому дню сражение было завершено, Красная армия полностью контролировала ситуацию. Это было решающим моментом: завершение наступательных операций гитлеровской Германии на территории Советского Союза. Почти сразу же после этого Красная армия перегруппировалась и устремилась вперед, быстро отвоевав Орел и Белгород, а затем начала крупными силами продвигаться к Днепру и далее.
8 августа Сталин, наконец, ответил на письмо Рузвельта. Он пояснил, что не мог предпринять длительную поездку: «Бои в полном разгаре… Советские армии отбили июльское наступление, взяли Орел и Белгород и осуществляют дальнейший нажим на врага… Я… не смогу, к сожалению, в течение лета и осени выполнить своего обещания, данного Вам через г-на Дэвиса»[102]. Однако, продолжал он, Рузвельт мог бы сам приехать к нему: «В настоящей военной обстановке ее [встречу. – Прим. пер.] можно было бы устроить либо в Астрахани или в Архангельске».
Предложение Рузвельта встретиться вдвоем Сталин, очевидно, воспринял как уловку: «Я не имею возражений против присутствия г-на Черчилля на этом совещании при условии, что Вы не будете возражать против этого». Хотя Рузвельт и не мог знать этого, но Сталин с большим вниманием отнесся к этому своему письму: это был тот редкий случай, когда он собственноручно написал его текст.
Рузвельт воспринял это как намек на то, что Сталин хотел сделать приятное Черчиллю, и его следующие две телеграммы с просьбой о встрече были подписаны также и Черчиллем. В очередной телеграмме от 4 сентября Черчилль был упомянут в качестве третьего участника планируемой конференции. «Я лично мог бы выехать для встречи в столь отдаленный пункт, как Северная Африка». Наконец, 8 сентября Сталин согласился с тем, что теперь у него есть время встретиться, но он отклонил Северную Африку в качестве места встречи: он мог выехать не дальше Ирана.
Рузвельт не хотел ехать туда по уважительной причине. Как он написал Сталину 14 октября, поездка в Тегеран являлась проблематичной, поскольку Конституция США предусматривала, что «в отношении новых законов и резолюций я должен принимать решения после их получения, и они должны быть возвращены Конгрессу в подлиннике до истечения срока в десять дней… Всегда возможны задержки при перелете через горы сначала по пути на восток, а затем по пути на запад».
Сталин ответил: «К сожалению, я не могу принять в качестве подходящего какое-либо из предлагаемых Вами взамен Тегерана мест для встречи»[103].
В конце октября Рузвельт был крайне расстроен в связи с настойчивым стремлением Сталина определить Тегеран в качестве места возможной встречи. В длинном, эмоциональном письме он перечислил все препятствия, с которыми ему пришлось столкнуться при организации встречи: «Я был бы рад для встречи с Вами проехать в десять раз большее расстояние, но я должен выполнять обязанности, налагаемые на меня конституционной формой правления, существующей более ста пятидесяти лет… Будущие поколения сочли бы трагедией тот факт, что несколько сот миль помешали Вам, г-ну Черчиллю и мне встретиться… Я снова заявляю, что я охотно бы отправился в Тегеран, если бы мне не мешали ограничивающие меня обстоятельства, которые я не могу контролировать… Пожалуйста, выручите меня в этом критическом положении»[104].
Его письмо по времени было приурочено к конференции министров иностранных дел трех великих держав в Москве, чтобы Хэлл мог лично доставить его Сталину. Состояние напряжения в связи с неведением и стремлением соблюсти приличия сказалось на президенте. 19 октября он слег с гриппом, в течение нескольких дней у него была температура под 40 градусов.
25 октября Хэлл в сопровождении Гарримана встретился в Кремле со Сталиным. Кабинет Сталина находился в великолепном дворце в золотых и белых тонах, построенном при царе Николае I и имевшем вид на Москву-реку. Они прошли по длинным коридорам с зелеными коврами в просторный и просто меблированный кабинет Сталина на втором этаже с видом на реку. На окнах были тяжелые шторы, в стенах – русские печи, это было необходимо с учетом морозных русских зим, поскольку Сталин был весьма чувствителен к холоду. На полу лежал толстый красный ковер. Со стен смотрели портреты Ленина, Маркса и Энгельса. В одном из углов в витрине находилась белая посмертная маска Ленина.
Когда Хэлл и Гарриман сели за большой стол для совещаний напротив Сталина на жесткие, неудобные стулья, Хэлл подчеркнул всю важность встречи с Франклином Д. Рузвельтом, которая пока еще так и не была спланирована. Сталин ответил, что он не понимает, почему двухдневная задержка в доставке официальных документов может оказаться так жизненно важна, что способна помешать приезду Рузвельта в Тегеран, в то время как неверный шаг в военных операциях может стоить жизни десяткам тысяч людей. Хэлл попытался объяснить это. Хотя он и подозревал Сталина в неискренности, его, по крайней мере, успокоило замечание Сталина о том, что тот не против встречи «в принципе», а также его дальнейшие пояснения, что отсрочка им встречи вызвана тем, что он не мог упустить имевшуюся возможность нанести немцам решающее поражение, «возможность, которая может выпасть только раз в пятьдесят лет».
Прошло еще три дня. Не получив от Сталина никакой информации, 28 октября Рузвельт телеграфировал Хэллу, что тот должен предложить Сталину вылететь «не дальше Басры хотя бы на один день»[105], а остальное время с Черчиллем и президентом мог бы провести Молотов. Хэлл телеграфировал в ответ, что такая организация встречи была бы «сомнительна». Еще один день прошел в этом отношении впустую. Несколько оправившись от гриппа и будучи в состоянии провести пресс-конференцию, Рузвельт оказался под давлением журналистов, стремившихся прояснить ситуацию относительно Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. Один из журналистов спросил его:
– Уверены ли вы теперь в готовности России к сотрудничеству с нами в деле поддержания мира?
Рузвельт ответил:
– Я бы не ставил вопрос таким образом. Лично я всегда был уверен в этом. И конференция подтверждает мое мнение. Моя убежденность в этом окрепла.
Вопрос: «Конференция подтвердила ваше мнение? Ваша убежденность действительно окрепла?»
Рузвельт: «Да, несомненно»[106].
В тот же день Рузвельт позвонил своему хорошему другу Дейзи Сакли, у которой был дом в городе Райнбек (штат Нью-Йорк), и выразил ей свое отчаяние.
– Все дела в полном беспорядке. Все вверх дном, – пожаловался он[107].
«Я не могу задавать ему вопросы по телефону», – написала она позже. Затем она добавила: «Он намерен отправиться в Длительное Путешествие и рассчитывает довести дело до конца, но оно все никак не может проясниться».
Сакли была на десять лет моложе президента. Она являлась одной (самой младшей) из шести кузин и кузенов Рузвельта и его ближайшим компаньоном в годы войны. Ее роль в жизни Рузвельта малоизвестна, потому что только после того, как она умерла в 1991 году, в чемодане под ее кроватью обнаружили ее дневник объемом в несколько тысяч страниц, ее письма к президенту и тридцать восемь рукописных писем ей от него. Ее дневник под названием «Ближайший компаньон» был опубликован в 1995 году под редакцией Джеффри Уорда. Она впервые положила глаз на Рузвельта на балу в канун Нового года, когда она была впечатлительной восемнадцатилетней девушкой, а ему было двадцать восемь. Как сообщила она своей подружке, она никогда не забывала, «как он, высокий, смеющийся, неустанно кружил по танцплощадке одну партнершу за другой». Он был любовью всей ее жизни. Она жила в «Уайлдерштейне», в большом, но обветшавшем пятиэтажном семейном особняке с башенками в стиле королевы Анны. Он находился по течению реки Гудзон выше поместья «Спрингвуд» в Гайд-парке, которое было отстроено отцом Франклина Д. Рузвельта и затем перестроено самим Рузвельтом и которое Рузвельт считал своим настоящим домом. Она была умной, начитанной, вдумчивой. На этом этапе жизни президента она была, вероятно, его лучшим другом. Она проводила с ним больше свободного времени, чем кто-либо другой. Кроме того, она использовала свои глубокие знания жизни Франклина Д. Рузвельта, чтобы организовать большую коллекцию фотографий в его новой президентской библиотеке, первой президентской библиотеке в стране, которую он создал в своем поместье в Гайд-парке и которую подарил стране.
Сакли была стройной, имела чопорный вид, всегда была одета немного старомодно. Была ли у них когда-либо связь, неизвестно, хотя однажды что-то случилось, когда они были в Верхнем Коттедже, исключительно личном коттедже президента для отдыха, который был спроектирован им и построен в его поместье в Гайд-парке. Как бы там ни было, этого было достаточно для Дейзи, чтобы связать ее и Рузвельта и делить с ним все беды и радости.
Она смогла быть самой безобидной из тех женщин, которыми президент окружил себя, и была безропотно принята Элеонорой, которая сказала своему другу и биографу Джозефу П. Лэшу, что Франклин с самого начала стрелял глазами, когда они еще проводили свой медовый месяц: «Для отдыха и удовлетворения его бесконечного желания иметь аудиторию, которая каждую секунду восхищалась бы им, всегда была Марта [имеется в виду норвежская принцесса Марта, супруга будущего короля Улафа V. – Прим. ред.]»[108]. Дейзи подарила Рузвельту черного скотч-терьера по кличке Фала, который стал известен после того, как президент, отвечая на обвинения республиканцев в том, что он впустую потратил деньги налогоплательщиков на перевозку Фалы (которые, как он доказал, оказались ложью), сделал блестящий ответный выпад, подчеркнув, что если порочить его, президента, было низко, то уж поливать грязью собаку было вообще за гранью допустимого: «Как истинный шотландец, он впал в настоящую ярость. С тех пор мой пес сам не свой»[109]. Должно быть, он сам был отчасти влюблен в Дейзи, поскольку он всегда держал ее письма к нему при себе, замаскировав их среди кляссеров для своей коллекции марок, которые путешествовали с ним, куда бы он ни направлялся.
Рузвельт прибыл в Гайд-парк 29 октября, все еще продолжая болеть гриппом, что нашло отражение в дневниковой записи Дейзи: «Он готовится к Длительному Путешествию в надежде, что ему не придется отправляться в Тегеран, который кишит болезнями и до которого можно добраться, лишь перелетев через горы высотой более четырех с половиной километров. Он опасается и того и другого – как для себя, так и для всей своей команды»[110]. Хуже всего было то, что он до сих пор не знал, действительно ли состоится эта встреча. 1 ноября он писал Макензи Кингу: «Я все еще надеюсь, что мы сможем увидеть “Дядюшку Джо“. Однако, по-видимому, мои конституционные проблемы мало что значат для него, хотя я пытался десятки раз объяснить ему, что в то время, как у моего Конгресса проходит сессия, я должен иметь возможность получать законопроекты, принимать по ним решения и возвращать в Конгресс оригиналы документов в течение десяти дней»[111].
От Сталина пришла очередная телеграмма: «Для меня… исключена возможность направиться дальше Тегерана. Мои коллеги в Правительстве считают… вообще невозможным мой выезд за пределы СССР в данное время… Меня мог бы вполне заменить на этой встрече… г-н В. М. Молотов»[112].
В тот же день Рузвельт узнал также и некоторые хорошие новости: Сенат подавляющим большинством голосов (85 – за, 5 – против) утвердил дорогую его сердцу резолюцию Коннели, предусматривавшую создание Организации Объединенных Наций: «Сенат признает существующую необходимость создания в возможно кратчайшие сроки всеобщей международной организации, основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств и открытой для членства любых государств, больших и малых, для поддержания международного мира и безопасности». Он преодолел первое препятствие – то, с которым Вильсону не удалось справиться: он получил поддержку законодательной власти. Теперь Сенат будет оказывать ему содействие в реализации планов по послевоенному обустройству мира.
На следующе утро Рузвельт завтракал вместе с Самнером Уэллсом, до последнего времени занимавшим пост заместителя Госсекретаря, второй по иерархии должности в Госдепартаменте. До войны он возглавлял в этом ведомстве группу планирования, которая занималась вопросами международной миротворческой организации. Как вспоминал Уэллс, был теплый пасмурный ноябрьский день. Рузвельт сидел в постели среди груды бумаг, в темно-синей накидке на плечах, и курил сигарету через длинный мундштук из слоновой кости. Несмотря на сырой из-за тумана воздух, окна были полуоткрыты. Они проговорили в течение двух часов, обсудив общий характер организации, которую предстояло представить Сталину, когда, наконец, состоится встреча с ним Рузвельта.
– Мы не обеспечим никакой сильной международной организации, если не сможем выработать принципы, на основе которых Советский Союз и Соединенные Штаты смогут обеспечить многолетнее сотрудничество по ее созданию и функционированию, – сказал ему Рузвельт[113].
«Это являлось для него ключевым вопросом», – напишет Уэллс впоследствии. Тем же утром президент отправился в резиденцию «Шангри-Ла», взяв с собой для отвлечения внимания судью Верховного суда Уильяма О. Дугласа и его жену, Нельсона Рокфеллера вместе с женой – и Дейзи.
На следующий день, когда Дейзи, согласно записям в ее дневнике, вышла на закрытую веранду коттеджа, Рузвельт приветствовал ее и поделился с ней своими последними мыслями о Сталине. По его словам, поскольку Сталин руководил советскими войсками, он «не мог быть далеко от Москвы, он должен был иметь возможность вернуться в считаные часы… Рузвельт предположил, что Сталин, возможно, страдает от комплекса неполноценности… Это связано с его «стратегией» относительно внешнего мира: Россия в настоящее время настолько велика и настолько сильна, что может навязывать свою волю, и к ней должны относиться, по крайней мере, как к равной. Эта идея засела в нем, скажем так, десять лет назад, и Сталин, должно быть, сам воспринимает ее весьма серьезно»[114].
Рузвельт прекрасно понимал, что послевоенные планы надо было строить до окончания боевых действий. Подспудно он опасался, что война может завершиться раньше, чем ожидается. «Вполне возможно, что Германия может рухнуть в любой момент», – сказал он Макензи Кингу[115] в декабре прошлого года, когда Жуков начал сжимать кольцо вокруг Сталинграда, и объяснил, что у него есть много сведений от германских источников «как о нехватке продовольствия, так и о недовольстве среди народа». Он должен был добиться согласия на проведение встречи.
Наблюдательная Дейзи заметила, что его руки дрожали больше, чем обычно. Он объяснил это тем, что выпил слишком много кофе. Однако дать какое-либо объяснение тому, что его лодыжки опухли, он не смог. По словам Дейзи, было даже похоже, что «его мало беспокоил отек лодыжек, что случалось, когда он уставал. Фокс [капитан-лейтенант Джордж Фокс, физиотерапевт президента] растирает их перед обедом и ставит на них перед сном электрический вибромассажер»[116].
Рузвельт изложил свою проблему, связанную с исполнением конституционных обязанностей во время длительного путешествия, генеральному прокурору Фрэнсису Биддлу, выпускнику, как и он сам, Гротона и Гарварда, и тот решил ее, написав служебную записку. В ней отмечалось, что, где бы президент ни находился, он должен в течение десяти дней (за исключением воскресений) вернуть законопроект в Конгресс, начиная с того момента, когда тот был ему представлен. Поскольку проблема была решена, он решился на поездку. В понедельник Франклин Д. Рузвельт телеграфировал в посольство США в Москве Гарриману, чтобы тот передал Сталину его послание. Сталин, однако, был недоступен, и послание получил Молотов, который сообщил, что у премьер-министра был легкий грипп и что он не мог принять американского представителя. У Гарримана был перевод послания, который он вручил Молотову, – на тот случай, как он объяснил, если возникнут какие-либо вопросы, на которые он мог бы ответить.
«Я выработал метод, при помощи которого, в случае если я получу сообщение о том, что закон, требующий моего вето, прошел через Конгресс и направлен мне, я вылечу в Тунис, чтобы получить его там, а затем вернусь на конференцию, – писал Рузвельт. – Поэтому я думаю, что сопровождающие лица должны начать свою работу 22 ноября в Каире, и я надеюсь, что г-н Молотов и Ваш военный представитель, который, я надеюсь, может говорить по-английски, прибудут в Каир к этому времени»[117].
Молотов попытался выяснить у Гарримана, какие вопросы будут обсуждаться на предварительных переговорах в Каире, поскольку он должен был участвовать в них в качестве советского представителя. Гарриман признался, что не располагал информацией об этом. После этого Молотов ледяным тоном поинтересовался, было ли принято президентом к сведению пояснение, данное маршалом Сталиным в своей телеграмме от 5 ноября о том, что коллеги маршала «считают вообще невозможным его выезд за пределы СССР». Гарриман ответил, что проинформирует об этом президента. Наряду с этим он подчеркнул, что президент «придает этой встрече исключительное значение»[118].
* * *
Обмен посланиями с Рузвельтом и Черчиллем очень много значил для Сталина. Мир больше не держал его и его страну на расстоянии вытянутой руки. Понимая, что Рузвельт и Черчилль обращаются с ним как с равным, он теперь сосредоточился на обеспечении Советскому Союзу после войны статуса великой державы. Еще до Тегерана он предпринял ряд шагов принципиального характера. В то же самое воскресенье, когда президент находился в резиденции «Шангри-Ла» вместе с Дейзи, мучаясь вопросом, ехать или не ехать в Тегеран, Сталин выступал с ежегодной речью в честь Великой Октябрьской социалистической революции. Он впервые признал заслуги союзников и отдал им должное: «Конечно, нынешние действия союзных армий на юге Европы не могут еще рассматриваться как второй фронт. Но это все же нечто вроде второго фронта… Понятно, что открытие настоящего второго фронта в Европе, которое не за горами, значительно ускорит победу над гитлеровской Германией и еще более укрепит боевое содружество союзных государств»[119]. Только неделю назад, на Московской конференции, он признал, что «угроза открытия второго фронта на севере Франции летом 1943 года сковала на западе порядка двадцати пяти немецких дивизий».
Сталину, великому ученику истории, особенно нравилось думать о себе как о правителе, предшественником которого был Иван Грозный, который превратил Россию в великую страну. Когда в 1940 году министр иностранных дел Литвы поздно вечером шел вместе с ним по коридорам Кремля, Сталин сказал ему: «Здесь ходил Иван Грозный»[120]. Теперь, в 1943 году, он приказал талантливому советскому кинорежиссеру Сергею Эйзенштейну снять фильм «Иван Грозный». Фильм, сценаристом и режиссером которого стал Эйзенштейн, явился буффонадой, где Иван Грозный изображался жестоким, но мудрым государственником, который объединил страну. В этой картине Россия была представлена варварской, замечательной, сильной страной. Как отметил Александр Верт, корреспондент Би-би-си и лондонского издания «Санди таймс» во время войны, Иван Грозный в таком виде, в каком он был изображен, являлся «очевидным предшественником» Сталина. У Алексея Толстого, автора романа о другом легендарном царе, Петре Великом, был аналогичный опыт. Сталин редактировал его работу, стремясь добиться того, чтобы Петр напоминал его: «“Отец народов“ пересмотрел историю России. Петр Великий стал без моего ведома “пролетарским царем“ и прототипом нашего Иосифа!»[121]
Сталин много думал о роспуске Коминтерна, организации, которая отвечала за разжигание революции в других странах: он считал, что она уже изжила себя. Еще в апреле 1941 года он сделал официальное заявление для печати о том, что коммунистические партии в других странах вместо членства в Коминтерне должны быть преобразованы в национальные партии: «Членство Коммунистических партий в Коминтерне облегчает буржуазии возможность преследовать их»[122]. «Барбаросса» (кодовое название операции по вторжению германских войск в Россию) приостановила реализацию этой идеи. Теперь же у Сталина было время и необходимая политическая платформа. Молотов сообщил Георгию Димитрову, главе Коминтерна, что организация перестанет существовать. 21 мая, на заседании Политбюро в кабинете Сталина в золотистом дворце, Молотов зачитал следующую резолюцию:
«Мы переоценили свои силы, когда создавали Коммунистический интернационал [Коминтерн. – Прим. пер.] и думали, что сможем руководить движением во всех странах. Это была наша ошибка. Дальнейшее существование КИ – это будет дискредитация идей Интернационала, чего мы не хотим… Есть и другой мотив для роспуска КИ… Это то, что компартии, входящие в КИ, ложно обвиняются, что они являются якобы агентами иностранного государства… С роспуском КИ выбивается из рук врагов этот козырь»[123].
Этот роспуск был совершен не просто для вида, однако при этом он не был и всеобъемлющим. Молотов сообщил Димитрову, что различные мероприятия и функции Коминтерна будут распределены среди других структур. Рузвельт, проявляя цинизм, расценивал данный шаг как внушающий надежду, как жест дружбы, как шаг в правильном направлении. На самом же деле эта организация не прекратила своей деятельности, просто у нее теперь не стало централизованного руководства: ее структуры были объединены со структурами НКВД.
Роспуск Коминтерна со всей очевидностью продемонстрировал прежнюю двуличность Советов. Советское правительство всегда утверждало, что Коминтерн действовал независимо от него, когда фактически им руководил Сталин. В течение многих лет в его письмах к Молотову содержались рекомендации о том, что Коминтерну следовало делать, а от чего воздерживаться. Утверждение о независимости Коминтерна (как оказалось, фиктивной) теперь было полностью опровергнуто. Когда Джозеф Дэвис появился в Москве, чтобы согласовать встречу Сталина с Рузвельтом, процесс роспуска организации был в самом разгаре. Сталин увидел в этом шанс произвести фурор в средствах массовой информации: обнародовать данный факт в то время, как Дэвис находился в Москве. «Мы должны поспешить с публичным заявлением», – призывал Сталин Димитрова[124]. Димитров принялся за работу, и о роспуске Коминтерна было объявлено накануне торжественного ужина, организованного Сталиным в честь Дэвиса, и демонстрации фильма «Миссия в Москву». Дэвис был крайне взволнован этим событием. Во время ужина он отметил, что, «когда он был послом в Москве, он часто говорил Литвинову, что Коминтерн – палка, которой все били Советский Союз, – являлся реальным источником всех бед»[125].
Сталин извлек из этого шага максимум выгоды. Гарольд Кинг, корреспондент информационного агентства «Рейтер» в Москве, поинтересовался у него, что означал роспуск организации. 28 мая Сталин ответил: «Он разоблачает ложь гитлеровцев о том, что “Москва” якобы намерена вмешиваться в жизнь других государств и “большевизировать” их. Этой лжи отныне положен конец»[126].
В соответствии с новой концепцией Сталина (поощряемой Рузвельтом), предполагавшей, что Россия завершит войну в качестве мировой державы, а не потрепанным в боях пролетарским изгоем, чем она являлась до войны, советский руководитель осознал, что России необходим профессиональный, элитный офицерский корпус, к которому относились бы так же, как и в других странах. Он заявил английскому переводчику Э. Г. Бирсу: «У нас в Советской армии хорошие генералы. Им только не хватает воспитания, и у них плохие манеры. Нашим людям предстоит еще долгий путь»[127]. В августе 1943 года было создано девять суворовских военных училищ, названных так в честь Александра Суворова, великого русского генерала XVIII века, который не проиграл ни одного сражения. Эти училища были сформированы по образцу дореволюционного кадетского корпуса с тем, чтобы создать офицерскую касту, существовавшую до революции. Юноши должны были получить военное и среднее образование, которое включало в себе житейские навыки, знание иностранных языков и социальные навыки, такие, как хорошие манеры и бальные танцы. Они покидали стены училища хорошо подготовленными к жизни, искушенными в житейских делах и образованными. Они выглядели весьма привлекательно: их форма была создана по образцу формы военнослужащих Красной армии, с погонами и другими знаками отличия. В общем, следующее поколение советских военных не должно было уступать представителям военных структур Великобритании, Франции и США, в Советском Союзе оно пользовалось большим уважением.
Сама форма у офицеров в 1943 году, когда Красная армия начала наносить германской стороне поражения, существенно изменилась. В ходе Сталинградской битвы, в самый ее разгар, когда советские войска стали одерживать верх, на офицерской форме появились золотистые эмблемы и погоны (заимствованные из Великобритании). Раньше этого не было (погоны были сорваны с плеч офицеров царской армии в 1917 году), однако после Сталинграда к офицерам стало принято относиться как к кадровому составу. «Достойная форма во время отступления выглядела бы нелепо»[128], – отмечал Верт, но когда закаленные в боях солдаты Красной армии выдержали германский натиск и заставили вермахт отступить под Сталинградом, офицерство как общественный класс восстановило уважение к себе, которого ему не хватало в России, поскольку социальный гнев во время революции сравнял все классовые различия. Отличившиеся офицеры были отмечены и награждены новыми орденами, названными в честь великих русских полководцев (живших еще до коммунистического режима): орденами Александра Суворова, Михаила Кутузова, победившего Наполеона, Федора Ушакова, служившего при Екатерине Великой, князя Александра Невского, героя XIII века, который освободил Русь от тевтонцев. Был введен кодекс поведения для офицеров выше определенного ранга, чтобы определить их отличие от рядового состава: они не могли пользоваться общественным транспортом, заниматься такими недостойными их делами, как, например, доставка различных бумаг и документов. Если генерал посещал в Москве театр, то ему следовало сидеть в одном из первых пятнадцати рядов от оркестра. Если же эти места были распроданы, то он не мог присутствовать на театральном мероприятии. Рядовой состав должен был сидеть на балконе.
Произошли и другие, еще более глубокие изменения в жизни офицеров, хотя впоследствии они будут отменены: был упразднен институт политических комиссаров, чья работа заключалась в том, чтобы контролировать офицеров и шпионить за ними, а также обеспечивать их соответствие политической идеологии советского режима. Их деятельность подрывала престиж офицерства. После отмены этого института офицеры впервые получили всю полноту ответственности за принимаемые ими военные решения.
Были также предприняты шаги и по улучшению имиджа дипломатического корпуса. У дипломатов неожиданно появилась новая форма: серо-голубого цвета костюмы с позолоченными пуговицами, фуражка, жилет, черные шелковые носки, белая рубашка со стоячим воротником, жемчужные запонки, белые лайковые перчатки и небольшой кинжал на ремне.
Однако наиболее существенные шаги, получившие одобрение со стороны Франклина Д. Рузвельта, Сталин предпринял в религиозной сфере. За два месяца до Тегеранской конференции Сталин официально отказался от своей антирелигиозной политики. Ему было известно, что негативное отношение Советского Союза к религии являлось постоянной проблемой для Рузвельта. Президент знал, что это предоставляло широкие возможности врагам Советского Союза в США (и особенно католической церкви) для критики в адрес советского строя, но это оскорбляло и его лично. Только наиболее близкие к Рузвельту люди были осведомлены о его глубокой религиозности. Рексфорд Тагуэлл, близкий друг Рузвельта и член «Мозгового треста» (группы академиков) Колумбийского университета, который разработал первые рекомендации для политического курса Рузвельта на посту президента, вспоминал, что, когда Рузвельт задумывал что-то организовать, создать или учредить, он просил всех своих коллег присоединиться к нему в его молитве, когда он испрашивал божественного благословения на то, что они собирались сделать. Спичрайтер Роберт Шервуд считал, что «его религиозная вера была самой мощной и самой загадочной силой, жившей в нем»[129].
Рузвельт пользовался любой возможностью подчеркнуть необходимость религиозной свободы в Советском Союзе. На следующий день после вторжения Гитлера в СССР в июне 1941 года он уведомил Сталина, что американская помощь и религиозная свобода идут рука об руку: «Свобода поклоняться Богу, как диктует совесть, – это великое и фундаментальное право всех народов… Для Соединенных Штатов любые принципы и доктрины коммунистической диктатуры столь же нетерпимы и чужды, как принципы и доктрины нацистской диктатуры. Никакое навязанное господство не может получить и не получит никакой поддержки, никакого влияния в образе жизни или же в системе правления со стороны американского народа»[130].
Осенью 1941 года, когда германская армия подошла к Москве и Аверелл Гарриман вместе с лордом Бивербруком, газетным магнатом и министром снабжения Великобритании, собирался вылететь в Москву, чтобы согласовать программу возможных американо-английских поставок в Советский Союз, Рузвельт воспользовался этим случаем, чтобы вновь выступить в защиту свободы вероисповедания в Советском Союзе. Сталин находился в безвыходной ситуации, и Рузвельт знал, что более благоприятного момента ему может не представиться. «Я считаю, что это реальная возможность для России – в результате возникшего конфликта признать у себя свободу религии»[131], – писал Рузвельт в начале сентября. Он предпринял три шага. Во-первых, он пригласил в Белый дом Константина Уманского, советского посла в Вашингтоне, чтобы сообщить ему, что будет чрезвычайно трудно утвердить в Конгрессе оказание помощи России, которая ей, как он знал, крайне необходима, из-за достаточно сильной враждебности Конгресса к СССР. Затем он предложил: «Если в ближайшие несколько дней, не дожидаясь прибытия Гарримана в Москву, советское руководство санкционирует освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся свободы религии в стране, это могло бы иметь весьма положительный просветительный эффект до поступления на рассмотрение Конгресса законопроекта о ленд-лизе»[132]. Уманский согласился оказать помощь в этом вопросе. 30 сентября Рузвельт провел пресс-конференцию, в ходе которой он поручил журналистам ознакомиться со статьей 124 советской Конституции, в которой говорилось о гарантиях свободы совести и свободы вероисповедания, и опубликовать эту информацию. (После того как в прессе эта информация была должным образом обнародована, заклятый враг Рузвельта, Гамильтон Фиш, конгрессмен-республиканец от округа Рузвельта, Гайд-парка, с сарказмом предложил президенту пригласить Сталина в Белый дом, «чтобы он смог совершить обряд крещения в бассейне Белого дома», после чего они оба [Рузвельт и Сталин] могли бы поступить в воскресную школу Белого дома»[133].)
Затем Рузвельт поручил Гарриману, уже готовому к отъезду в Москву, поднять вопрос о свободе вероисповедания в ходе общения со Сталиным. Как вспоминал Гарриман, «президент хотел, чтобы я убедил Сталина в том, насколько важно ослабить ограничения в отношении религии. Рузвельт проявлял обеспокоенность в связи с возможным противодействием со стороны различных религиозных групп… Кроме того, он искренне хотел использовать наше сотрудничество во время войны, чтобы повлиять на враждебное отношение советского режима к религии»[134]. Гарриман поднял этот вопрос в разговоре со Сталиным таким образом, чтобы ему стало понятно: политическая ситуация и негативное общественное мнение США относительно России изменятся к лучшему, если «Советы проявят готовность обеспечить свободу вероисповедания не только на словах, но и на деле»[135]. Как рассказывал Гарриман, когда он объяснил это, Сталин «кивнул головой, что означало, как я понял, его готовность что-то сделать».
Гарриман поднял эту тему также в разговоре с Молотовым, который дал знать, что он не верит в искренность Рузвельта. «Молотов откровенно сообщил мне о том большом уважении, которое он и другие испытывают к президенту… В какой-то момент… он поинтересовался у меня, действительно ли президент, такой умный, интеллигентный человек, так религиозен, как кажется, или же это делается в политических целях», – вспоминал Гарриман. Реакция российской стороны была вполне объяснима. Уманский, возможно, сообщил в Москву, что Рузвельт никогда не ходил на воскресные службы в Национальный собор – епископальную церковь, которую президенты и сливки общества из числа прихожан епископальной церкви в Вашингтоне традиционно посещали во время службы (хотя иногда он посещал церковь Сент-Джонс на Лафайет-сквер). Очевидно, Уманский не знал, что Рузвельт избегал Национального собора, потому что он терпеть не мог председательствующего в Вашингтоне епископа Джеймса Фримена. По приглашению епископа Фримена Рузвельт посетил Национальный кафедральный собор в 1934 году для участия в специальной службе в рамках празднования первой годовщины своей инаугурации. После службы епископ, который шел рядом с Рузвельтом, когда тот на своей коляске направлялся к автомобилю, предложил президенту, чтобы тот распорядился быть захороненным в склепе собора, как это сделали президент Вильсон и адмирал Дьюи. Затем Фримен предложил Рузвельту, чтобы тот надиктовал меморандум, «выражая свое желание быть похороненным здесь». Рузвельт, придя в ярость, ничего не ответил. Вырвавшись из лап епископа и устроившись в безопасности в своем автомобиле, Рузвельт, тем не менее, пробормотал: «Старый похититель трупов, старый могильщик»[136]. Когда чуть позже ему напомнили о предложении епископа, Рузвельт продиктовал меморандум (своим наследникам), указав, что желает быть похороненным в Гайд-парке. Больше он никогда не посещал служб в Национальном соборе.
Гарриман сумел добиться минимума. Соломон Абрамович Лозовский, заместитель наркома иностранных дел, выждал сутки с момента отъезда Гарримана из Москвы, созвал пресс-конференцию и зачитал следующее заявление: «Общественность Советского Союза с большим интересом узнала о заявлении президента Рузвельта на пресс-конференции относительно свободы вероисповедания в СССР… За всеми гражданами признается свобода вероисповедания и свобода антирелигиозной пропаганды»[137]. Наряду с этим он отметил, что советское государство «не вмешивается в вопросы религии», религия является «личным делом». Лозовский завершил свое заявление предупреждением в адрес руководителей Русской православной церкви, многие из которых все еще сидели в тюрьме: «Свобода любой религии предполагает, что религия, церковь или какая-либо община не будут использоваться для свержения существующей и признанной в стране власти»[138]. Единственной газетой в России, которая осветила это событие, были «Московские новости», англоязычное издание, которое читали только американцы. Газеты «Правда» и «Известия» проигнорировали комментарии Лозовского. Рузвельт не был доволен, поскольку он ожидал большего. Как вспоминал Гарриман, «он дал мне понять, что этого не было достаточно, и отчитал… Он подверг критике мою неспособность добиться большего».
Через несколько недель, ознакомившись с последним проектом «Декларации Организации Объединенных Наций», подготовленным Госдепартаментом, который и должны были подписать 1 января 1942 года все страны, находившиеся в состоянии войны, Рузвельт попросил Хэлла внести в документ положение о свободе вероисповедания: «Я считаю, что Литвинов будет вынужден с этим согласиться»[139]. Когда советский посол Литвинов, только что заменивший Уманского, возразил против включения в текст фразы, касавшейся религии, Рузвельт обыграл это выражение, изменив «свободу вероисповедания» на «религиозную свободу». Эта правка, по существу, незначительная и непринципиальная, позволила Литвинову, не искажая истины, сообщить в Москву, что смог заставить Рузвельта изменить документ и тем самым удовлетворить Сталина.
В ноябре 1942 года в антирелигиозной позиции советского правительства обозначились первые перемены: митрополит Киевский [и Галицкий. – Прим. пер.] Николай, один из трех митрополитов, которые руководили Русской православной церковью, стал членом Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков[140]. Теперь, за два месяца до Тегеранской конференции, Рузвельт добился важных результатов и укрепил свои позиции. Сталин, который принимал участие в закрытии и/или уничтожении многих церквей, ликвидации 637 (из 1026) монастырей в России, начал рассматривать религию не через узкую призму доктрины коммунизма, а с позиции Рузвельта. Безусловно, это стало возможно в том числе благодаря тому, что церковь больше не являлась очагом сопротивления его режиму. Она объединилась с правительством в борьбе против германских захватчиков. Правительство и церковь теперь были оба защитниками матушки-России.
4 сентября 1943 года, во второй половине дня, Сталин вызвал к себе на «ближнюю дачу» в Кунцево Г. Г. Карпова, председателя Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР, Георгия Маленкова, члена ГКО (Государственного Комитета Обороны), и Лаврентия Берию. После обсуждения дружественной роли церкви в войне с Германией и возможного усиления этой роли в будущем Сталин объявил, что он решил немедленно восстановить патриаршество, систему церковного управления во главе с патриархом, которая была ликвидирована в 1925 году, и открыть на территории Советского Союза церкви и семинарии. Позже в тот же вечер митрополиты Сергий, Николай и Алексий были вызваны в Кремль, и Сталин сообщил им о принятых судьбоносных решениях. Сталин беседовал с ними до трех часов утра, несомненно, стремясь удостовериться в том, что они больше не вынашивают планов по подрыву советской власти. Беседа была весьма плодотворной и проходила, вероятно, в дружественной атмосфере. Сталин проявил уважение к представителям духовенства, хотя он и не верил в бога (вероятно, потому, что получил начальное образование у священнослужителей).
На следующий день в газете «Правда» была опубликована информация о том, что митрополит Сергий, известный священнослужитель, который еще при дворе царя Николая выступал против Распутина, провел двадцать пять лет в большевистских тюрьмах и высказывал мнение о том, что церковь должна помириться с советской властью, был освобожден, и ему будет разрешено созвать Архиерейский собор для избрания нового Патриарха[141]. Кроме того, сообщалось, что будет разрешено открывать и восстанавливать различные религиозные институты и что церковь сможет вновь издавать свое печатное издание. «Правда» выразила одобрение данному решению Сталина, совершенно явно дав понять, что это именно Сталин явился инициатором нового курса: «Глава правительства товарищ И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со стороны правительства не будет к этому препятствий». В течение короткого времени церковь стала частью системы, обеспечивающей право Сталина на власть.
Сталин, у которого был хороший баритон и который любил петь, принял также решение о том, что советский национальный гимн будет отличаться от международных стандартов: это было необходимо для улучшения имиджа Советского Союза. Когда Сталин был еще мальчиком, он пел в хоре в церковной школе в Гори. Когда он вырос, он продолжил петь в семинарии, иногда даже как солист хора. До тех пор, пока его не исключили из семинарии за революционную деятельность, он зарабатывал лишь тем, что был солистом хора. Как это ни странно звучит, но всю свою жизнь Сталин частенько коротал ночи (как правило, с Молотовым и Ворошиловым), распевая гимны, псалмы, православные литургические песнопения и народные песни, известные каждому русскому с детства. Возможно, с учетом этого Сталин решил, что он будет компетентен в вопросе создания нового национального гимна. Он постановил объявить конкурс, назначил самого себя судьей, которому предстояло выслушать всех конкурсантов, и определил, что состязание состоится в зале Бетховена в Москве 1 ноября 1943 года. В день проведения конкурса он в окружении Молотова, Берии и Ворошилова в девять утра прибыл в концертный зал (это был один из редких случаев, когда Сталин, известный как «сова», принял участие в утренних мероприятиях). В течение четырех часов они выслушали сорок исполнений, после чего Сталин решил, что требуется изменить текст гимна. После длительных обсуждений были выбраны тексты, одобренные Сталиным, однако он стал настаивать на внесении в них дальнейших бесконечных правок.
– Можете оставить сами стихи, – сказал он в какой-то момент авторам текстов, – но переписать припев. «Страну Советов», если это не сложно, надо изменить на «страну социализма».
Затем он высказал пожелание добавить в текст выражение «Родина». Затем он утвердил упоминание своего имени: «И Ленин великий нам путь озарил, нас вырастил Сталин – на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Возможно, это с самого начала являлось его целью. К работе над аранжировкой музыки, чтобы она соответствовала новому тексту, были привлечены знаменитые композиторы Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев, покорные советские граждане. Сталину очень понравился конечный результат, он даже заявил, что новый гимн «прокатывается по небесам, как бескрайняя волна»[142].
Проявляя желание изменить имидж своего правительства в мире, Сталин продолжил шаги в этом направлении. 7 ноября 1943 года, в воскресенье, в Москве праздновали двадцать шестую годовщину революции. Вечером празднование продолжилось в виде грандиозного мероприятия, которое организовали Полина и Вячеслав Молотовы. Приветствуя гостей, они стояли под огромной хрустальной люстрой в величественном готическом особняке царских времен в Спиридоньевском переулке. На этот вечер пришли Гарриман с британским послом сэром Арчибальдом Кларком Керром, а также другие представители дипломатического сообщества. Присутствовали также различные генералы, адмиралы, представители творческой интеллигенции, в том числе известные писатели, музыканты (включая Шостаковича, который был во фраке). Шведский стол, необычайно щедрый, растянулся на двенадцать комнат. Многие из тостов были на английском языке, и их было так много, что Гарриман и Кларк Керр, вынужденные пить при каждом таком тосте, посчитали, что Молотов решил их споить. Один из важных членов Политбюро, Лазарь Каганович, который выпил лишнего, начал громко вести речь о том, как неэффективна была помощь со стороны американцев и англичан, и предположил, что сейчас для них настало время выполнить свои обязательства: «К настоящему времени нам поступило всего лишь два процента – два процента – от того, что нам необходимо… Каким образом вы участвуете в этой войне? Только одну рабочую смену. Красная армия свою смену отрабатывает, а англичане и американцы работают с неполной занятостью… Вам нужен мощный толчок»[143]. На него поспешили надеть пальто и меховую шапку и так быстро выпроводили его, что Гарриман даже не заметил.
Глава 4 Первое впечатление
Рузвельт славился своей чрезмерной словоохотливостью. Практически у каждого, кто хорошо его знал, был свой анекдот о склонности президента поговорить. И Рузвельт знал об этом. Он даже сам рассказывал, что как-то, сказав своим домашним, что хотел бы провести короткое заседание кабинета, услышал в ответ: «Что ж, ты знаешь, как это можно устроить: тебе стоит лишь перестать разговаривать»[144]. Многим важным людям трудно было вставить словечко в разговоре с ним. Хэлл признавал, что, приглашая президента приехать на рабочую встречу за ланчем, «получал возможность немного перекусить первым, а потом уже сам мог поговорить, пока тот ел»[145].
Заседания правительства, по словам одного из членов кабинета, были «сольными выступлениями президента вперемешку с несколькими вопросами и очень редкими и короткими дебатами»[146]. Заместитель госсекретаря Уильям Филлипс, проведя несколько месяцев в Индии, направился в Вашингтон, чтобы представить президенту информацию о том, что там происходит: «Мне нужно было многое ему рассказать, но он был в разговорчивом настроении, и ему тоже хотелось о многом поговорить со мной – не меньше, чем нужно было поговорить с ним и мне»[147]. В конце концов, Филлипс просто написал Рузвельту служебную записку. Военный министр Генри Стимсон научился быть терпеливым, но непреклонным. Вот как описал он в своем дневнике типичное совещание с президентом: «Я должен отметить, что мне была щедро предоставлена возможность говорить в течение сорока процентов времени, а он говорил оставшиеся шестьдесят процентов, но это было нормально, и я привык к этому. У меня был список из пяти пунктов, которые я хотел с ним обсудить, и он был весьма любезен, позволяя мне прерывать воспоминания, которым он предавался, так что я смог к концу нашего совещания получить от него ответы на все пять». Джон Гюнтер, внимательный наблюдатель, журналист и биограф Рузвельта, полагал, что Рузвельт говорил так много, потому что был лишен возможности ходить: «Разговор был для него и гольфом, и теннисом, и бадминтоном»[148].
* * *
В воскресенье, 28 ноября, едва только президент прибыл в российское посольство, как в четверть четвертого пополудни Сталин нанес ему визит.
Президент оказался, наконец, лицом к лицу с самой неуловимой целью, которую ему когда-либо доводилось преследовать. Согласится ли Сталин на то, что собирался предложить ему Рузвельт? Будет ли придерживаться условий соглашения и после того, как минует острота ситуации? Три года назад Гитлер хотел договориться о встрече со Сталиным, по крайней мере такое пожелание он высказал Молотову. И вот менее чем через год после этого германские войска вторглись в Россию. И в уме подозрительного Сталина во время этой первой встречи непременно должна была промелькнуть мысль, что Рузвельт, хоть и преодолел все это огромное расстояние и организовал эту конференцию, но, возможно, он также пытается притупить бдительность советского правительства.
Впервые после Ленина Сталину встретился человек более влиятельный, чем он сам. Рузвельт был президент, избранный на третий срок (беспрецедентный случай!), руководивший страной, имевшей на тот момент самую эффективную промышленность в мире, которая являлась теперь главным подспорьем для Советского Союза. Этот человек, этот калека, который не выглядел и не вел себя как калека, одежда на котором сидела так хорошо, что, сидя на диване, он казался не только физически нормальным, но элегантным, приехал за тысячи миль, чтобы встретиться с ним. А располагался он теперь, практически по его же собственной инициативе, в сталинском представительстве. Что, естественно, Сталин должен был подумать? Этот президент был человеком крепкой закалки.
Наступил прекрасный воскресный день, золотой и синий, мягкий и солнечный. В этот день лидеры двух стран наконец встретились в гостиной Рузвельта. Несмотря на отчаянное стремление Черчилля тоже участвовать в этой встрече, его туда не пригласили. Рузвельт, только что приехавший в посольство, прилег отдохнуть с дороги у себя в спальне, когда ему доложили, что к нему уже идет Сталин. Тем не менее Рузвельт успел перебраться на диван в гостиной и дожидаться появления Сталина там. Когда Сталин вошел в комнату, как вспоминал Майк Рейли, «он с самой располагающей улыбкой на лице направился к Боссу, очень медленно, вроде как неторопливо пересек комнату, подошел к Рузвельту и, все так же улыбаясь, нагнулся к нему, чтобы впервые пожать ему руку. Во время этого рукопожатия Босс тоже улыбнулся и сказал: «Приятно увидеться с Вами, маршал», – и маршал, в свою очередь, очень весело рассмеялся»[149].
Сталин сел. Тогда, вспоминает Рузвельт, «я поймал его на том, что он с любопытством поглядывал на мои ноги и лодыжки»[150].
Рузвельт был одет в темно-синий деловой костюм, белую рубашку и традиционный галстук спокойных тонов, в кармане жилета виднелся платок. По обыкновению, его взгляд был открытым и ясным, а приветливая улыбка, как правило, была такой яркой, что ею можно было осветить всю комнату. Сейчас эта улыбка предназначалась Сталину.
Рузвельт славился своим обаянием и располагающей манерой общения: «Он мог заставить случайного посетителя поверить, что в тот день для него не было ничего важнее, чем эта их встреча, что именно ее он с нетерпением ждал весь день. Почти у всех в своей администрации он вызывал чувство глубокой преданности. Молодые и горячие идеалисты, старые и усталые политики, профессора, даже бизнесмены, которые сотрудничали с ним, были готовы работать в любое время дня или ночи, чтобы выполнить его волю»[151]. Как признавал Гарольд Икес, «мне никогда не доводилось встречать другого человека, которого все любили бы так же, как его»[152]. У него была особая манера запрокидывать голову, которая, казалось, придавала ему отважный вид. Людей это привлекало.
В отличие от того, каким его запомнил Гопкинс летом 1941 года, когда на Сталине были довольно мешковатые брюки, совсем не было орденов и медалей на простом, хоть и хорошего покроя, сером кителе, теперь Сталин был одет в красивый советский военный мундир нового образца. Китель был в соответствии со званием маршала горчичного цвета с красными погонами и белыми звездами на плечах, на брюках с широкими красными лампасами были прекрасно отглаженные, безукоризненно ровные стрелки. У ворота висела большая маршальская звезда. Вместо изношенных сапог, в которых видел его Гопкинс тогда, теперь на ногах Сталина были элегантные, блестящие, мягкие кавказские сапоги.
Сталин выглядел не так, как можно было ожидать. Он был ниже ростом. Он был очень невысоким, чуть выше метра шестидесяти, хотя многие, в том числе и Рузвельт, отмечали, что он казался выше, наверное потому, что был таким коренастым и крепким. У Гопкинса, который встречался со Сталиным в июле 1941 года, когда тот испытывал огромное беспокойство, поскольку германская армия находилась на подступах к Москве, также сложилось отчетливое впечатление, что Сталин выше ростом, чем на самом деле, «около метра семидесяти. Крепкого телосложения, как будто расположенный у самой земли… мечта любого тренера по регби – идеальный участник борьбы за мяч. У него были огромные сильные руки, такие же сильные, как и его ум»[153].
У Сталина были густые усы, темные волосы, густые брови, низкий лоб и медового цвета глаза, которые многие называли восточными глазами. Сталин говорил по-русски безукоризненно правильно, но с грузинским акцентом. Этот акцент так же отличается от стандартного русского произношения, как шотландский акцент в английском языке. Кроме того, примечательно, что говорил он очень тихим голосом и в сдержанном тоне. Порой голос этот становился таким тихим, что казалось, будто он разговаривает сам с собой.
При личной встрече с ним всех также поражало, что выглядит он совсем не таким «великим человеком», как на официальных изображениях, которые, должно быть, перед публикациями основательно ретушировались. Его лицо было рябым от оспы, которой он переболел в детстве, на зубах были сколы и желтый табачный налет. Кроме того, когда он набивал трубку табаком (он попеременно курил то сигареты, то трубку), то можно было заметить, что движения его левой руки были немного неуклюжи в результате полученной в детстве травмы.
Еще одной неожиданностью была его манера общения. Хотя, по сути, он был жестоким, деспотичным, суровым и холодным, но с новыми собеседниками он общался по-отечески, терпеливо, и казался менее опасным, чем они ожидали. Генерал Джон Дин, координатор США по ленд-лизу и военным вопросам, направленный в Москву в 1943 году в качестве главы военной миссии, которому довелось в процессе работы на деле узнать, каким упрямым и жестким был Сталин, тем не менее писал, что, впервые встретившись с ним, «был больше всего поражен доброжелательностью выражения его изрытого глубокими морщинами землистого лица»[154]. Лорд Бивербрук, который в октябре 1941 года вместе с Гарриманом был направлен в Москву для организации первоначальных поставок в СССР в рамках оказываемой помощи, считал, что Сталин – «добрый человек, который практически никогда не выказывает нетерпения». Один из доверенных соратников Сталина писал, что трудно было представить себе, что такой человек может вас обмануть, настолько естественными, без малейшего признака позерства были его реакции. Даже Корделл Хэлл находился под благоприятным впечатлением после встречи со Сталиным. Он писал: «Любой американец, имея такой же склад личности и такое же отношение к делу, как у Сталина, вполне может достичь высоких государственных должностей и у нас в стране»[155]. Клинтон Олсон, военный атташе США в Москве, описывал его как «внешне спокойного невысокого человека, до тех пор, пока не посмотришь ему в глаза. Вот тогда можно было почувствовать, что перед вами человек влиятельный». Адмирал Лихи был среди тех немногих, кто считал, что у Сталина был «зловещий вид»[156].
По словам биографа Сталина, Саймона Сибэга Монтефьоре, он славился своим обаянием, несмотря на то что мог повергнуть в хаос своих врагов или же тех, кто, по его мнению, мог стать его врагом. Для людей своего окружения он был очень доступным и очень внимательным к ним. «Основой власти Сталина в партии, – писал Монтефьоре, – был не страх, а личное обаяние… Он был, как сейчас говорят, «человечный человек». С одной стороны, он не был способен на проявление истинного сочувствия, но в то же время, с другой стороны, умел дружить. Он то и дело терял самообладание, но когда он был намерен очаровать кого-либо, то был неотразим». Его соратники называли его детским именем Сосо[157], или Коба, по имени отважного грузина, которым он восхищался подростком, или просто обращались к нему на «ты»[158]. Любому, кто хоть раз пообщался с ним, не терпелось увидеться с ним снова; «он создавал ощущение, что теперь между ними возникла нерушимая связь».
Наряду с этим он был крайне властным человеком, он контролировал жизнь своих соратников до мельчайших деталей. Он выбирал, где они будут жить: для Берии, главы НКВД, он выбрал роскошный дворянский особняк поблизости от Кремля; для Никиты Хрущева, молодого человека, которому он благоволил, Сталин выделил роскошные апартаменты в отделанных розовым гранитом домах на улице Грановского недалеко от Кремля. Другим членам своего внутреннего круга он решил выделить такие же квартиры в Кремле, в какой жил и он сам. Он выбирал для своих соратников автомобили, периодически выдавал им деньги и делал им и, как правило, их детям продуманные подарки.
Он был трудоголиком. Он находил время, чтобы просматривать множество новых советских фильмов, большинство газетных передовиц и новостных статей, а также всевозможные директивы, исходящие от комиссариатов, которые управляли Советской Россией, – все это первоначально направлялось в приемную Молотова. У него на столе стоял бронзовый стакан, заполненный толстыми, остро заточенными синими и красными карандашами. Одобряя фильм, передовицу, статью или директиву, он выводил по всему документу свои инициалы, «ИС», толстым синим карандашом. Если он не одобрял документ, то выводил на нем свои инициалы красным карандашом. Такие случаи глубоко расстраивали Молотова[159].
Убежденный коммунист, Сталин не слишком заботился о роскоши. Он проводил все свое время либо в своей просто обставленной квартире в Кремле, где жила его дочь Светлана, либо на даче в Кунцево, которую для него построили в 1934 году. Дача называлась «ближней», она находилась в девяти километрах от Кремля. Тут он обычно оставался ночевать, приезжая после ужина. На даче, окруженной крепким забором, было несколько спален и приемных, бильярдная, а также несколько просторных комнат, сплошь увешанных картами, и кинотеатр. Несмотря на то что дом был окружен забором, через который вряд ли можно было перелезть, и находился под постоянной охраной, там никто не оставался на ночь, кроме Сталина: он всегда был там один после того, как разъезжались его гости, приглашенные на ужин[160].
И Сталин, и Рузвельт понимали суть власти и знали, как получить и сохранить власть. Сталин стал руководить Советским Союзом после смерти Ленина в 1924 году, Рузвельт находился у власти после инаугурации в 1933 году.
Оба они отличались острым умом и прекрасной памятью, хоть и разного рода. Спичрайтер Рузвельта Сэм Розенман писал: «Я не встречал другого такого человека, который бы так быстро и глубоко вникал в суть излагаемой сложной проблемы, как он. Он внимательно слушал краткое изложение фактов, потом надиктовывал их для своего выступления, а затем поднимался на помост или за банкетным столом говорил об этом вопросе перед аудиторией так, как будто он всю жизнь об этом знал»[161]. Артур Шлезингер говорил, что у Рузвельта было «инстинктивное чутье на то, что сейчас самое главное на повестке дня. Он мастерски склеивал воедино разнообразные детали, был способен удерживать в памяти сразу множество различных проблем и переходить очень быстро от одной проблемы к другой»[162].
Сталин тоже обладал отличной способностью быстро усваивать и удерживать в памяти информацию. Кроме того, у него был еще один дар – фотографическая память. На совещаниях он работал «без бумаг», без записей, «но при этом ничего не упускал»; а память у него была «как компьютер», по словам Андрея Громыко, который позже стал послом СССР в Соединенных Штатах. Берия говорил, что Сталин «превосходил все свое окружение своим интеллектом»[163].
Те знатоки человеческого характера, которым довелось какое-то время общаться с Рузвельтом, отмечали, что он был непревзойденным актером. Раймонд Моли, входивший в круг самых передовых умов Колумбийского университета и принадлежавший к когорте тех блестящих молодых людей, которые снабжали Рузвельта свежими идеями и были его советниками (они же придумали термин «Новый курс»), говорил, что у Рузвельта был «сознательно созданный и продуманный облик для публичных выступлений. Роль, которую он всегда играл, была неотъемлемой частью его жизни». Пегги Бэкон отмечала, что ясный и прямой взгляд Рузвельта был «откровенным и чистым взглядом ловкого, как черт, и умного, но при этом такого невинного… великого старого актера»[164]. Рузвельт даже как-то обмолвился Орсону Уэллсу: «Знаете, Орсон, вы и я – два лучших актера в Америке»[165]. А однажды, посмотрев кадры кинохроники, в которых он увидел себя, Рузвельт улыбнулся и сказал: «Это во мне Гарбо проявилась»[166].
С другой стороны, всем было известно, что Сталин был непроницаем, как сфинкс.
Это была первая из трех встреч Сталина и Рузвельта, на которых не присутствовал Черчилль. И сам факт, что такие встречи состоялись, является лучшим подтверждением того, насколько влиятелен был Рузвельт: ведь британский премьер-министр приходил в ярость при одной мысли о том, что может оказаться не приглашенным туда. Он знал об этой встрече, знал и то, что его не пригласили, и по меньшей мере однажды обрушил свой гнев, вызванный этим, на своего врача, который попался под руку. Его очень задевало то, что он не был приглашен. При этом еще в 1942 году сам премьер-министр провел не одну, а целый ряд встреч со Сталиным в Москве, на которых обычно, но не всегда присутствовал Аверелл Гарриман. Целью этих встреч было лишь проинформировать Сталина об изменении ранее запланированных сроков операции «Оверлорд». «Моя поездка в Москву с Авереллом в августе 1942 года в целом проходила на более низком уровне» – так он это определил[167].
Все три встречи Рузвельта и Сталина были примечательны. Оба внимательно слушали друг друга и оценивали один другого. Они говорили о своих самых больших опасениях и самых сокровенных желаниях. Эти совещания не были похожи ни на какие другие: два руководителя обсуждали, как им обустроить послевоенный мир. Эти два человека занимались выработкой плана завершения войны. Они стремились достичь мира в свою эпоху.
В исторических описаниях этого периода двусторонним встречам Рузвельта и Сталина зачастую не уделяется должного внимания или о них не упоминается вовсе, несмотря на то, что Чарльз Болен составил стенографическую запись бесед в ходе этих встреч. Даже в знаменитой биографии «Рузвельт и Гопкинс», написанной Робертом Э. Шервудом на основе документов Гопкинса, о них говорится лишь вскользь, возможно, потому что Гопкинс не присутствовал ни на одной из этих встреч. В книге Гарримана «Специальный посланник Черчилля и Сталина», которую часто называют лучшим описанием Тегеранской конференции, эти двусторонние встречи едва упоминаются. Он лично присутствовал только на последней из них. Эти встречи не получили соответствующего освещения в истории еще и по той причине, что эта тема была слишком болезненна для Уинстона Черчилля, который не мог не только писать, но даже думать об этом. Черчилль считался главным историком этого периода, к тому же он был непревзойденным рассказчиком, поэтому исследователи чаще всего обращаются к его свидетельствам. Черчилль не зря так опасался этих частных бесед Рузвельта и Сталина. Встретившись лицом к лицу и поговорив напрямую, Рузвельт и Сталин поняли, как много между ними общего.
Их первая историческая встреча в гостиной у Рузвельта в то солнечное воскресенье продолжалась сорок минут, половину этого времени занял перевод. Первым заговорил Рузвельт. Примечательно, что разговор двух лидеров не был похож на легкую светскую беседу, однако он проходил с удивительной непосредственностью. Они легко и открыто отвечали на вопросы друг друга. В ходе этой же первой встречи проявилось замечательное сходство их мнений по различным вопросам. Не менее примечательно и то, что именно Рузвельт определил темы беседы и направлял разговор, как и на всех остальных двусторонних встречах между ними.
Рузвельт опасался, что Сталин спросит его, сколько именно немецких дивизий будут сразу же отвлечены с советского Западного фронта. Предвосхищая этот вопрос, он сразу сказал, что «он желал бы, чтобы в его власти было обеспечить отвод 30 или 40 немецких дивизий с Восточного фронта».
Сталин ответил: «Это имело бы большое значение».
Затем Рузвельт выступил с предложением «о возможности после войны предоставить в распоряжение Советского Союза часть американо-британского торгового флота, который в совокупности больше, чем флот какой-либо другой страны». Говоря это, он уже знал, что после войны торговый флот Америки будет самым большим в мире.
Сталин дипломатично сформулировал свой ответ в том духе, что при увеличении торгового флота, позволяющем расширить торговлю между двумя странами, «при условии, что оборудование будет отправлено… Соединенным Штатам может быть обеспечена обширная поставка сырья».
Президент вкратце обрисовал ситуацию в Китае, сообщив, что Америка осуществляет обеспечение и обучение тридцати китайских дивизий, а Объединенный комитет начальников штабов предложил подготовить и оснастить еще тридцать дивизий. Кроме того, Рузвельт рассказал о новом плане наступления через северные районы Бирмы.
Сталин отметил, что в плохой подготовке своих солдат виноваты сами китайские лидеры.
Затем Сталин поинтересовался ситуацией в Ливане, являвшемся французской колонией. Рузвельт дал краткое описание событий, в результате которых Ливан потрясли беспорядки и столкновения, и в заключение сказал: «Все это произошло в первую очередь потому, что таково отношение Французского комитета [национального освобождения. – Прим. ред.] и генерала де Голля».
8 ноября население Ливана проголосовало за окончание французского правления. Через три дня Французский комитет национального освобождения во главе с Шарлем де Голлем арестовал президента Ливана и постановил приостановить действие конституции и национального правительства Ливана. В результате на улицах начались беспорядки. Соединенные Штаты совместно с Великобританией искали способы заставить де Голля освободить президента Ливана. Рузвельт, направляясь на конференцию в Тегеран, телеграфировал Хэллу с борта «Айовы», отдав распоряжение «поддержать позицию Великобритании по Ливану и попытаться сделать ее еще более положительной». Хэлл последовал указаниям, заставив де Голля, в конце концов, пойти на попятную. За два дня до этого Хэлл опубликовал пресс-релиз, в котором с одобрением отметил действия французского руководства, направленные на исправление создавшегося положения.
Разговаривая о Франции, Рузвельт и Сталин обнаружили, что оба они с одинаковой неприязнью относились и к самой этой стране, и к ее руководителям, особенно к Шарлю де Голлю.
Сталин упомянул о позерстве де Голля. Он сказал, что «лично не знаком с генералом де Голлем, но, честно говоря … он очень далек от реальности в своей политической деятельности. В то время, как настоящая, реальная Франция под руководством Петена [была] занята оказанием помощи нашему общему врагу Германии, предоставляя в ее распоряжение французские порты, материалы, машины и т. д. для военных нужд … проблема с де Голлем в том, что его движение не имеет никакой связи с настоящей Францией, которую следует наказать за ее позицию во время этой войны». «Де Голль ведет себя так, будто он глава великого государства, в то время как на самом деле в его распоряжении имеется, по сути дела, лишь совсем небольшая сила», – сказал в заключение Сталин.
Рузвельт, который активно противостоял усилиям де Голля выступать в качестве признанного выразителя интересов Франции, согласился со Сталиным и отметил: «Ни один француз старше сорока лет и, в частности, ни один француз, который когда-либо принимал участие в работе нынешнего французского правительства, не должен в будущем быть допущен на руководящие посты».
Оба лидера открыто проявили свое недовольство французским народом. Сталин обрушился с критикой на французские правящие классы: «Они не должны иметь права получить какие-либо блага от заключения мира, поскольку запятнали себя сотрудничеством с Германией». Рузвельт воспользовался при этом возможностью упомянуть мнение Черчилля о том, «что Франция очень быстро восстановится и вновь станет такой же сильной, как прежде, но что он лично эту точку зрения не разделяет, так как полагает, что Франции потребуется много лет честно трудиться для восстановления своего прежнего статуса. Он отметил, что самое главное, что сейчас должны сделать все французы (не только правительство, но весь народ), – это стать честными гражданами». Маршал Сталин согласился с этим.
Оба лидера затем выразили на удивление схожие взгляды по поводу Индокитая, как тогда называли Вьетнам. Оказалось, что они оба полагали, что Франция своим правлением нанесла непоправимый вред этой стране, а также считали, что колониализм в целом пагубно воздействует на любые страны, находящиеся под его властью.
Сталин заявил, что он не предлагает, чтобы союзники проливали кровь за восстановление старой французской колониальной власти в Индокитае. Он сказал, что недавние события в Ливане оказали большую услугу всем ранее находившимся под колониальным господством странам, которые теперь делают первые шаги в обретении независимости. Он вновь повторил свою мысль о том, что Франция не должна возвращаться в Индокитай и что французы должны заплатить за свое преступное сотрудничество с Германией.
Президент отметил, что он на сто процентов согласен с этим, и подчеркнул, что после ста лет французского правления в Индокитае его население живет хуже, чем до этого. По его словам, Чан Кайши заверил его, что Китай не имеет никаких захватнических планов в отношении Индокитая, но народ последнего еще не готов к независимости. Рузвельт сообщил, что он ответил на это китайскому генералиссимусу. Он сказал, что, когда Соединенные Штаты получили в свое распоряжение Филиппины, жители этой страны тоже не были готовы к независимости, но она им будет предоставлена вне зависимости от этого по окончании войны против Японии. Он добавил, что обсуждал с Чан Кайши возможность установления режима опеки над Индокитаем на определенный период времени, чтобы подготовить его народ к независимости, возможно, в течение двадцати или тридцати лет.
Маршал Сталин полностью согласился с этой точкой зрения.
Рузвельт упомянул о представленной Хэллом на Московской конференции идее о создании международного комитета, члены которого будут посещать все колонии «и, используя общественное мнение, будут бороться с обнаруженными там злоупотреблениями».
Сталин сказал, что считает эту мысль заслуживающей внимания.
В продолжение беседы Рузвельт подробнее остановился на проблемах, связанных с колониальными владениями. Затем Рузвельт выступил с идеей, которую Сталин мог бы расценить как еще один выпад против Черчилля, сказав в продолжение разговора на тему колониальных владений, что, «как ему кажется, лучше будет не заводить с господином Черчиллем беседы об Индии, поскольку у него пока нет конкретного решения по этому вопросу, он лишь предложил отложить его решение до конца войны».
«Маршал Сталин согласился с тем, что для англичан это был больной вопрос».
«Президент сказал, что хотел бы в ходе какой-либо следующей встречи обсудить с маршалом Сталиным тему Индии; он полагал, что самое лучшее было бы осуществить там реформу снизу, отчасти по советскому образцу».
Возможно, Рузвельт сделал это замечание в надежде расположить к себе Сталина. Разумеется, Рузвельт знал историю прихода Ленина к власти; он был современником этих событий. Чарльз Болен, переводчик, пришел в ужас от этого замечания. «Это был яркий пример того, что Рузвельт мало знал о Советском Союзе… Он не понимал, что большевики были меньшинством, которое захватило власть в период анархии»[168], – писал он впоследствии. (Несмотря на отдельные критические комментарии о президенте, в целом Болен писал о Рузвельте, что «он был на конференции, безусловно, доминирующей персоной».)
Рузвельт проявлял то хитрость, то простодушие, а порой говорил что-нибудь просто, чтобы увидеть, какова будет реакция на это. Видимо, в данном случае он стремился именно к этой цели. «Маршал Сталин ответил, что вопрос об Индии – сложный вопрос, там другой уровень культуры, а между кастами нет взаимодействия. Он добавил, что реформа снизу будет означать революцию»[169].
Рузвельт ничего не сказал в ответ.
И хоть в составленном Боленом протоколе встречи Рузвельта и Сталина упоминаний об этом нет, позднее Рузвельт сказал в своем расширенном интервью Форресту Дэвису, всемирно известному журналисту, что он поднял вопрос о политике добрососедства в этом разговоре (стратегии, которая отвергает традиционный американский политический подход, предполагающий вооруженное вмешательство в дела латиноамериканских стран), о которой заговорил в связи с обсуждением ситуации в Индии и по вопросу самоопределения, и что затем он перешел к рассказу о федеральной системе США. Он, очевидно, пытался объяснить Сталину взаимоотношение между исполнительной и законодательной ветвями власти, о которых у маршала сложилось неправильное представление. Кроме того, он также объяснил, почему ему приходится реагировать на принятие Конгрессом законопроектов строго в определенный период времени, что очень тревожило Рузвельта в связи с конференцией в Тегеране.
По сути дела, Рузвельт в этой короткой первой беседе выразил свое желание немедленно ослабить бремя, которое несет Красная армия, подчеркнул, что с Черчиллем поддерживает далеко не самые тесные взаимоотношения, предложил послевоенную помощь СССР в виде торгового флота и дал понять, что у США нет намерения становиться колониальной державой. Сталин, в свою очередь, выразил желание стать после войны торговым партнером Соединенных Штатов, а также сообщил, что и Россия не имеет намерений становиться колониальной державой.
Две самые главные темы обсуждения, о которых думали они оба («второй фронт» и послевоенное мироустройство), были оставлены на потом.
На следующий день они наметили еще одну такую же частную встречу наедине здесь же, в гостиной Рузвельта, в 14:45.
Первое пленарное заседание, то есть первое совместное заседание с Уинстоном Черчиллем, началось сразу же после того, как закончилась двусторонняя личная встреча Сталина и Рузвельта.
Президент, маршал, премьер-министр и сопровождающие их лица вошли в просторный, красивый, с высоким потолком, зал заседаний, расположенный рядом с гостиной президента. В центре зала стоял большой круглый стол, покрытый зеленым сукном, а вокруг него – обитые полосатым шелком кресла с подлокотниками из красного дерева. На столе перед каждым креслом были разложены блокноты и заточенные карандаши. В центре стола стояла деревянная подставка, в которую были поставлены флаги Соединенных Штатов, Великобритании и Советского Союза. На стенах были гобелены, на окнах волнистой драпировкой висели французские шторы. На балконе, откуда хорошо просматривался весь зал заседаний, безмолвно стояли на часах советские охранники.
Все три руководителя сели за стол переговоров. Рядом с каждым из них сели трое его соотечественников. По правую руку от Рузвельта, сидевшего в своем инвалидном кресле без подлокотников, которым он обычно пользовался, расположился Гарриман, а переводчик президента, Чарльз Болен, сидел слева от него, далее за ним сидел Гопкинс. Рядом со Сталиным находились маршал Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и переводчик Владимир Павлов. Энтони Иден, министр иностранных дел Великобритании, лорд Исмей, заместитель военного министра, и переводчик Черчилля майор Бирс заняли места рядом с премьер-министром. Позади этого первого круга стульев рядами были поставлены стулья для других участников конференции.
Это пленарное заседание, как и все последующие, разительно отличалось от личных встреч Рузвельта и Сталина. Предметом обсуждения вместо политических соображений были стратегические вопросы военной кампании, боевые и тактические задачи. Как правило, Черчилль занимал одну позицию по этим вопросам, а Рузвельт и Сталин отстаивали противоположную точку зрения.
Рузвельт определял характер этих заседаний и руководил их ходом, но сам он говорил необычайно мало. По молчаливому согласию он открывал каждое заседание. Он не захотел, чтобы составлялась официальная повестка дня заседания, поэтому их вообще не составляли. Он (в большинстве случаев) сам решал, о чем будет идти речь. Во время своих выступлений он часто снимал пенсне и помахивал им, желая подчеркнуть сказанное.
То первое заседание он открыл словами о том, что для него, младшего из трех присутствующих глав государств, большая честь приветствовать их здесь.
– Впервые мы собрались здесь, за этим столом, как одна семья, и все мы стремимся лишь к одному – победить в войне – так начал он свою речь.
Затем он сказал, что им предстоит обсудить многое другое, «для достижения конструктивного согласия с тем, чтобы сохранить тесный контакт на протяжении всей войны и после войны». Тут он сделал любопытное предупреждение: «Если кто-нибудь из нас не захочет говорить на какую-либо конкретную тему … нам не следует ее обсуждать».
Со всей присущей ему дипломатичностью Рузвельт (повернувшись не к хозяину, Сталину, как следовало бы, а к Черчиллю) сказал, что прежде, чем приступить к обсуждению военных вопросов, «возможно, премьер-министр хотел бы сказать что-то по вопросам, касающимся последующих времен».
Премьер-министр ответил весьма красноречиво:
– В наших руках находится… будущее человечества. Я молюсь, чтобы мы были достойны этой дарованной Богом возможности.
Сталин, которого Рузвельт попросил затем выступить, поприветствовал собравшихся и сказал:
– Я думаю, что история покажет, что у этой возможности огромное значение… Теперь давайте к делу.
Затем Рузвельт приступил к изложению общей ситуации на Тихоокеанском театре военных действий, где «основные боевые действия велись Соединенными Штатами». Он сказал: «Мы считаем, что топим так много японских военных кораблей и гражданских судов, что японская сторона не в состоянии, видимо, восстанавливать их количество… К западу от Японии необходимо удерживать Китай в состоянии войны с ней. В связи с этим мы спланировали операции на территории Северной Бирмы и в провинции Юньнань», что позволит проложить войскам путь в Китай. «Мы, безусловно, должны удерживать Китай в состоянии активной фазы войны».
Затем президент сказал, что он переходит к разговору о наиболее важном театре военных действий, о Европе, и поднял вопрос об открытии «второго фронта». Он сделал легкий кивок в сторону Черчилля и сказал, что «хотел бы подчеркнуть, что вот уже более полутора лет в ходе последних двух или трех конференций в Касабланке, Вашингтоне и Квебеке… наши планы по большей части строились вокруг проведения кампании против «оси» с переброской войск через Ла-Манш».
Затем он коснулся проблем, которые были сопряжены с такой операцией: «Мы так и не смогли согласовать определенную дату ее проведения, во многом из-за трудностей, связанных с транспортировкой. Мы хотим не только пересечь Ла-Манш, но, оказавшись на материке, мы намерены продвигаться в глубь территории Германии. Однако начать такую операцию будет невозможно вплоть до приблизительно 1 мая 1944 года». Затем он упомянул о возможности приведения в исполнение англо-американских военных планов в Средиземноморье – Адриатическом и Эгейском морях, – отметив, правда, при этом, что «любая большая операция в Средиземном море» будет нести риск для России, поскольку если нечто подобное будет предпринято, то «придется отказаться от важной операции по переброске войск через Ла-Манш; кроме того, проведение некоторых запланированных средиземноморских операций может привести к задержке начала операции «Оверлорд» на один, два или три месяца».
Затем он передал слово Сталину, сказав, что цель англо-американской военной политики заключается в том, чтобы прийти на помощь Советскому Союзу, а также, что окончательное решение по проведению операций в Средиземном море принадлежит Сталину, тем самым дав Сталину возможность озвучить свои требования: «Я искренне надеюсь, что в ходе текущей военной конференции, на которой присутствуют два советских маршала, у нас будет возможность услышать их мнение и что они проинформируют нас, каким образом, на их взгляд, мы можем оказать наибольшую помощь СССР». (Говоря о другом маршале, Рузвельт имел в виду Ворошилова, с которым Сталин на самом деле никогда не удосуживался что-нибудь обсуждать и даже вообще не обращал на него внимания.)
Затем слово было предоставлено Черчиллю. Его высказывание теперь, задним числом, представляется весьма характерным. В то время как Рузвельт использовал слово «мы» для определения совместных англо-американских военных операций, Черчилль применил его, чтобы обозначить, что Рузвельт говорил от имени их обоих, что они были одной командой. Вот что сказал премьер-министр: «Нам хотелось бы знать, что мы можем сделать, чтобы наиболее существенно помочь в том, что Советы делают на своем Западном фронте… Мы пытались определить положение дел в самых простых выражениях. Между Великобританией и Соединенными Штатами нет принципиального расхождения во мнениях, не считая вопросов выбора “способов и средств“».
Сталин знал, что это не так. За месяц до тегеранской встречи, на конференции в Москве, Черчилль поручил министру иностранных дел Энтони Идену[170] «дать понять»[171] Сталину, что «данные ему заверения о том, что сроки начала операции “Оверлорд“, назначенные на май, подлежат пересмотру в связи с определенными условиями и должны быть изменены в соответствии с остротой ситуации на итальянском фронте. Я обсуждаю этот вопрос с президентом Рузвельтом, но ничто не повлияет на мою решимость не сворачивать на данном этапе сражение в Италии». Генерал Маршалл, который предвидел именно такое развитие событий, немедленно направил Сталину сообщение Объединенного комитета начальников штабов ВС США. Он заявил, что у них нет никаких сомнений, что операция «Оверлорд» не будет отложена ни при каких обстоятельствах, не говоря уже о полной ее отмене.
Сталин в это время рисовал что-то в блокноте красным карандашом. Затем, не обращая внимания на Черчилля, самым непринужденным образом он сказал о том, что Советский Союз может принять участие в войне против Японии. Он произнес очень негромко, так, что разобрать это мог только сидевший рядом с ним переводчик Павлов: «После того как Германия будет окончательно разгромлена, тогда станет возможно отправить необходимое подкрепление в Сибирь, а затем мы сможем, выступив общим фронтом, разгромить Японию».
При этом присутствовал Гопкинс. «Затем, – отметил он, – Сталин продолжил как ни в чем не бывало рисовать что-то в блокноте». Тот рисовал волков.
В молодости, в предреволюционной России, Сталина девять раз арестовывала царская охранка. Восемь раз он бежал из мест ссылки, различных городов Сибири. Однажды, при побеге из Сольвычегодска, расположенного в отдаленном районе Сибири города, известного центра торговли пушниной, он даже переоделся женщиной. За девять лет, последовавших за его первым арестом в 1908 году, на свободе он находился лишь полтора года. Именно в тот период, находясь на нелегальном положении в Санкт-Петербурге, он стал основателем и первым редактором газеты «Правда». Вскоре после распространения первого номера этой газеты Сталина снова обнаружила охранка, и он опять был сослан в Сибирь. В последнюю ссылку Сталин был отправлен в Курейку, глухую сибирскую деревушку недалеко от Полярного круга. Охранка определила ему это место ссылки, потому что всякий раз, как он оказывался в более-менее обыкновенном тюремном заключении, он подкупал своих охранников или же пускал в ход свое недюжинное коварство и устраивал побег. Курейка же находилась в таких суровых природных условиях и представляла собой крошечную деревушку в тундре, окруженную со всех сторон волчьими стаями, что сбежать оттуда было невозможно. Он получил свободу лишь в 1917 году, после падения царского правительства.
Но забыть волков Сталин не смог. Впоследствии всю жизнь, как только его рука начинала выводить на бумаге какие-то рисунки, на этих рисунках были изображены только волки. (Он и обычно вел себя именно так, но в данном случае он начал непроизвольно их рисовать, когда прозвучало упоминание о «Сибири»).
После того как Сталин заявил о готовности его страны вступить в войну против Японии, все ненадолго замолчали, а затем он заговорил о развитии событий на советско-германском фронте. Он заявил, что «успехи, которых они достигли этим летом и осенью, превзошли все ожидания». После этого он сообщил о том, какое количество боевых дивизий, как немецких, так и иностранных (венгерских, финских, румынских), брошено против Советской армии. При этом он отметил, что Красная армия имеет численное превосходство над немцами, и добавил, что «самое сложное, с чем приходится сталкиваться продвигающимся вперед советским войскам, это проблема недостаточного снабжения, поскольку немцы при отступлении уничтожают буквально все». Кроме того, Сталин подверг критике военную кампанию союзников в Италии как стратегически неэффективную. Он сказал, что, по мнению советских военачальников, «Гитлер стремится удержать как можно больше дивизий союзников на этом фронте, где нельзя добиться решения ни одной стратегической задачи, и что лучше всего, по мнению советского военного руководства, было бы вести наступление непосредственно на центральные районы Германии, продвигаясь с северной или северо-западной части территории Франции, а также через юг Франции».
Вслед за Сталиным выступал Черчилль. Он начал с заявления, что «Соединенные Штаты и Великобритания уже давно пришли к единому мнению о необходимости операции с переправой через Ла-Манш и что эта операция, которая получила кодовое наименование “Оверлорд“, в настоящее время требует огромных усилий и затрат со стороны союзников». Затем он пустился в подробное описание операций британских и американских войск в Северной Африке, в Италии и в Средиземном море, отметив, что Рим необходимо взять и что это планируется осуществить в январе. В таком случае операцию «Оверлорд» можно будет начать через шесть месяцев после того, «как мы возьмем Рим и разгромим там немецкие войска». Затем премьер-министр подробно говорил о том, насколько высока вероятность вступления Турции в войну, о том, как это было бы желательно и что это будет означать необходимость обеспечения ее армии. Он отметил, что «предлагалось направить туда 20 эскадрилий истребителей и несколько зенитных полков», и добавил, что широкомасштабная подготовка к отправке в Турцию этих сил «ведется уже давно». В завершение он задал вопрос, насколько какая-либо из предполагаемых операций в Средиземном море вызывает интерес у Советского Союза при учете того, что осуществление этих операций повлечет за собой задержку начала операции «Оверлорд» на два или три месяца. Кроме того, Черчилль сказал, что «они с президентом Рузвельтом не принимали пока никакого решения, не узнав мнения советского руководства по этому вопросу, и, таким образом, не составляли еще конкретных планов этих операций».
Рузвельт попытался отвлечь внимание от того, что говорил Черчилль (и, вероятно, одновременно обратиться к Сталину), и выступил с предложением, «предположительно, провести операцию в северной части Адриатического моря, чтобы выйти на соединение с партизанами Тито, а затем направиться на северо-восток в Румынию на соединение с советскими частями, которые перейдут в наступление из района Одессы». Это заявление так встревожило Гопкинса, что он поспешно написал записку адмиралу Кингу: «Кто стоит за всеми этими адриатическими затеями?» Кинг ответил: «Насколько я знаю, это его собственная идея».
Сталин не произнес ничего. Черчилль невозмутимо продолжил говорить. Он продолжал развивать так полюбившийся ему план сражения: «Если мы возьмем Рим и разгромим там немецкие войска».
Сталин ответил:
– Лучше было бы взять операцию «Оверлорд» за основу всех военных кампаний 1944 года. Таким образом, после того как Рим будет взят, освободившиеся силы можно будет направить на юг Франции.
Рузвельт отметил, что для операции, направленной на южную часть Франции, можно будет выделить восемь или девять французских дивизий.
Черчилль снова заговорил о Турции.
Сталин повторил:
– Эти операции целесообразно проводить лишь при условии, что Турция вступит в войну.
Он вновь отметил, что полагает, что этого не случится. (Всего через несколько дней в Каире подтвердилось, что Сталин был прав. По приглашению Черчилля туда приехал президент Турции Исмет Иненю. Но Черчиллю даже при поддержке со стороны Рузвельта не удалось убедить его вступить в войну.)
Тут Черчилль опять стал выдвигать аргументы в пользу активной военной кампании в Средиземноморье. Он вновь упомянул о периоде в шесть месяцев после взятия Рима, во время которого «ни он, ни президент ни в коем случае не хотели бы, чтобы их войска бездействовали, поскольку, если они будут участвовать в военных операциях, то британские и американские власти не будут подвергаться критике за то, что они допускают, чтобы Советский Союз один нес основное бремя войны».
Но Сталин не собирался с этим соглашаться. Он предложил провести наступление на юге Франции за два месяца до операции «Оверлорд», а взятие Рима отложить.
Черчилль привел еще один аргумент в пользу необходимости взятия Рима, но тут уже настойчиво вмешался Рузвельт, сказав, что «он лично считает, что проведение операции “Оверлорд“ нельзя откладывать ни по каким причинам, но такая задержка может оказаться неизбежной, если будут проводиться какие-либо операции в восточной части Средиземного моря». В связи с этим он предложил, «чтобы завтра утром сотрудники аппаратов руководителей разработали план операций наступления на юг Франции»[172].
Черчилль с неохотой согласился на это, но вновь поднял вопрос о возможности вступления Турции в войну. Рузвельт поддержал точку зрения Сталина, что этого не случится. Он заявил, что «если бы он был на месте президента Турции, то потребовал бы за это так много самолетов, танков и другой техники и снаряжения, что если бы это требование было бы выполнено, то операцию “Оверлорд“ вообще пришлось бы отложить на неопределенный срок».
Сталин добавил, что турки уже ответили отказом на предложение вступить в войну.
На это премьер-министр сказал, что, по его мнению, турки просто сумасшедшие.
Маршал Сталин сказал, что, очевидно, некоторые предпочитают оставаться сумасшедшими.
Все мнения были высказаны предельно ясно.
Заседание завершилось в 19:20.
Врач Черчилля, лорд Моран, пришел повидать премьер-министра сразу после окончания заседания: “Он выглядел таким подавленным, что я даже вопреки моей весьма разумной привычке его ни о чем не расспрашивать на этот раз решился спросить его напрямую, не случилось ли какой-нибудь неприятности.
Он коротко ответил: «Случилось много всяких чертовых неприятностей. Говорить об этом ему не хотелось»[173].
Фельдмаршал Алан Брук, начальник штаба Великобритании и высший британской военный руководитель, пришел к мысли, что Рузвельт занял крайне невыгодную для британцев позицию, а его вступительное слово Брук назвал «слабым и не слишком полезным выступлением»[174].
Брук был прав в том, что обсуждение на заседании постепенно превратилось в пререкания, но не совсем справедлив, считая вступительное слово президента слабым. Рузвельт начал с того, что подчеркнул: крупномасштабные действия в Средиземноморье могут задержать открытие «второго фронта». Он преднамеренно не стремился занять такую позицию, которая играла бы на руку Черчиллю. Было очевидно, что Рузвельт сознательно не встал на сторону Черчилля и что в результате по окончании первого пленарного заседания Черчилль был в отвратительном настроении, а Сталин – в отличном.
События на конференции развивались так, как и хотелось Рузвельту. Это касалось как открыто высказанных мнений, так и того, что осталось недосказанным. На конференции постепенно выяснилось, что умонастроения Рузвельта и Сталина очень похожи. Черчиллю не оставалось ничего другого, как в одиночку стараться с прежним упорством склонить Рузвельта и Сталина к такому стратегическому курсу, который, как стало ясно впоследствии, не устраивал ни одного из них. Черчилль был глубоко разочарован. «Поскольку англо-американские планы не были предварительно согласованы, мы очутились в неприятной ситуации, когда приходилось обсуждать вопросы с американцами прямо в присутствии русских»[175], – говорил он позже членам своего военного кабинета министров.
В какой-то момент президент попросил Сталина сфотографироваться с ним и с Черчиллем: Сталин с трубкой, Рузвельт с сигаретой в мундштуке, а Черчилль с сигарой. Но Сталин отклонил эту просьбу. Позже Рузвельт сказал: «Думаю, ему показалось, что это может показаться несерьезным»[176].
До обеда оставался час. Рузвельт использовал это время для того, чтобы подписать четыре законопроекта Конгресса и просмотреть свою корреспонденцию.
Обед
В 20:30 Рузвельт дал обед в честь премьер-министра и маршала и их штабов, который был приготовлен моряками-филиппинцами, привезенными им с собой. Однако сначала он приготовил коктейли, сам смешав их, как он обычно делал, когда находился дома. Этим вечером он угостил приглашенных классическим мартини: много вермута, и сладкого, и сухого, чуть меньше джина, все заливается в кувшин со льдом, а затем перемешивается. Отвечая на вопрос Рузвельта, понравился ли ему этот коктейль, Сталин ответил: «Все хорошо, только он холодит живот». (Обычно было несколько рискованно пробовать эти коктейли, поскольку Рузвельт делал свои мартини, смешивая аргентинский вермут и недостаточно качественный джин, что давало в результате «весьма грозную» смесь. Однако никто не смел жаловаться, опасаясь испортить Рузвельту любимый им ритуал.)
На обед было простое, традиционное американское блюдо: стейк и жареная картошка; поднимая тосты, вместо водки пили бурбон.
Рузвельта привезли в столовую в инвалидной коляске еще до появления других гостей и заранее усадили за стол. На обеде присутствовали Сталин, Молотов, Черчилль, Иден, Кларк Керр, Гопкинс, Гарриман и три переводчика. Маршала Ворошилова не было. Заняв место справа от Рузвельта, Сталин обратился к своему переводчику и сказал ему:
– Скажите президенту, что я теперь понимаю, что значило для него проделать такой длинный путь. Скажите ему, что в следующий раз я поеду к нему[177].
Рузвельт заметил, что, вероятно, будет планировать поездку на Аляску, после чего началась дискуссия о том, где и когда они могут встретиться в следующий раз. Была достигнута предварительная договоренность о встрече в Фэрбенксе на Аляске, в отношении чего Сталин высказался, что это было «вполне возможно».
После этого Сталин высказал свое глубокое отвращение к Франции и ее руководителям. Его негодование в отношении Франции имело глубокие корни. Франция сделала все, что было в ее силах, чтобы предотвратить установление советской власти в России. В 1918 году она направила войска, воевавшие на стороне Белой армии против большевиков, являлась вдохновителем тайных планов по организации экономической блокады, направленной на то, чтобы вынудить большевистское правительство пойти на уступки, а в середине 1930-х годов, когда Гитлер стал угрожать Европе, уклонилась от подписания договора с Советским Союзом, что не только заставило Советский Союз пойти на подписание договора с Гитлером (чтобы предотвратить войну с Германией), но и позволило Гитлеру начать без всякого сопротивления завоевание Европы. Великобритания в этих событиях выступала в качестве соучастника Франции, но англичане искупили свою вину героической защитой своей родины под руководством Черчилля. Они смогли дать отпор Гитлеру, в то время как Франция совершила непростительный грех – сдалась. Именно этот финальный «удар милосердия» привел Сталина в бешенство: французский народ оказался настолько труслив, что германская армия захватила страну за пять недель.
И теперь, излагая свою точку зрения перед присутствовавшими, Сталин заявил, что «весь французский правящий класс прогнил до мозга костей и предал Францию немцам, и сейчас Франция на самом деле активно помогает нашим врагам». Он отметил, что было бы «опасно оставлять у французов после войны какие-либо важные стратегические позиции».
Рузвельт ответил, что он «отчасти» согласен с этим мнением и что именно по этой причине он считает: лица старше сорока лет должны быть исключены из любого будущего правительства Франции. Он упомянул Дакар в Сенегале, французской колонии, самую западную точку на Африканском континенте, как «прямую угрозу США»[178], и Новую Каледонию, на которой совсем недавно были размещены ВМС США, поскольку по своему расположению эта заморская территория Франции представляла угрозу для Австралии и Новой Зеландии. Обе колонии, по его идее, должны быть переданы под международную опеку: «Это было бы не только несправедливо, но и опасно, если после войны у французов останутся какие-либо важные стратегические позиции».
Черчилль придерживался совершенно другого мнения о Франции, поэтому он сменил тему, заявив, что Великобритания «не стремилась и не рассчитывала приобрести какие-либо дополнительные территории». Это заявление, вероятно, должно было напомнить Рузвельту и Сталину о том, какие обширные территории по-прежнему контролировались Англией.
Тем не менее Сталин продолжил разговор о Франции. Этой стране нельзя доверить никаких стратегических владений за пределами ее собственных границ, заявил он. Черчилль возразил, что Франция была побежденной нацией и страдала от ужасов оккупации.
– Напротив, – ответил Сталин, – ее руководители организовали капитуляцию страны и «открыли фронт» перед германскими войсками.
Рузвельт перешел к теме, которой они пока еще не касались: к Германии. Он хотел бы, по его словам, чтобы сама концепция рейха была стерта в немецком сознании, «чтобы само это слово… исчезло из языка».
Сталин ответил примерно в таком же духе, наряду с этим он подчеркнул, что недостаточно уничтожить только слово «рейх»: «Надо, чтобы сама концепция рейха стала бессильной когда-либо вновь ввергнуть мир в пучину войны… И пока победоносные союзники не обеспечат себе стратегические позиции, необходимые для предотвращения рецидива германского милитаризма, они не смогут решить этой задачи»[179].
Затем Сталин поднял тему о послевоенных границах Польши, заявив, что хотел бы помочь полякам получить границу вдоль Одера.
Однако Рузвельт не был готов обсуждать со Сталиным вопрос о послевоенных границах, поэтому он изменил тему и поднял вопрос, представлявший для Советского Союза безусловный интерес: обеспечение выхода к Балтийскому морю. Он выдвинул идею о необходимости создания международной структуры для обеспечения свободного плавания через Кильский канал, который, согласно Версальскому мирному договору, имел международно-правовой режим, но находился под германским контролем. Имея длину около 100 километров, канал избавлял суда от необходимости проделывать путь длиной более 400 километров по бурному морю вокруг Дании. Гитлер закрыл этот канал для других стран.
Из-за ошибки перевода Сталин вместо «Балтика» услышал «Прибалтика» и немедленно обиделся: «Он в категорическом тоне ответил, что прибалтийские страны, выразив волю народа, проголосовали за присоединение к Советскому Союзу и что с учетом этого факта данный вопрос не поднимается для обсуждения». Когда ошибка была исправлена, он согласился с мнением президента.
Рузвельт вернулся к теме отдаленных владений. У него вызывал глубокую озабоченность вопрос опеки колониальных территорий. И теперь он обнародовал «концепцию, которая ранее никогда не разрабатывалась»: бывшие колониальные владения должны управляться «коллективным органом, таким как Объединенные Нации».
Но прежде, чем он успел изложить подробности, он вдруг буквально позеленел, и пот крупными каплями покатился по его лицу. Он приложил ко лбу дрожащую руку. Гопкинс прикатил президента на коляске в его комнату. Там его осмотрел его личный врач, вице-адмирал Росс Макинтайр, у которого на мгновение, пока он не произвел осмотра, возникла мысль, что президента, возможно, отравили. Однако затем он быстро понял, что случай не был серьезным и что у президента просто расстройство пищеварения в легкой форме. Макинтайр вернулся к обедавшим и сообщил Сталину, что Рузвельта можно будет увидеть в десять утра следующего дня.
В отсутствие Рузвельта отношения между Сталиным и Черчиллем стремительно ухудшились. Сталин поднял глаза на премьер-министра и произнес:
– Что ж, я рад, что здесь есть тот, кто знает, когда время идти домой[180].
Черчилль что-то ответил Сталину. Когда ответ Сталина был переведен, по словам Майка Рейли, «Уинстон так громко и сердито отреагировал, что все достаточно легко услышали его. Находясь лицом к лицу со Сталиным и грозя ему пальцем, Черчилль заявил: «Но вы же не позволите мне заниматься вопросами, касающимися вашего фронта, а мне бы хотелось добиться этого!» Сталин очень спокойно улыбнулся и ответил: «Нельзя исключать, что когда-нибудь это можно будет устроить, господин премьер-министр. Возможно, тогда, когда у вас появится фронт, на котором я также смогу побывать»[181].
После этого напоминания о том, что «второй фронт» до сих пор не открыт, Сталин и Черчилль обратились к теме о том, как будет необходимо поступить с Германией после войны, и по этому вопросу у них продолжали сохраняться разногласия.
Черчилль хотел быть уверенным в том, что Германия выйдет из войны достаточно сильной, чтобы быть способной уравновешивать влияние России в Европе: как он пытался успокаивающе объяснить, сильной, но не представляющей опасности.
Сталин, который, как всегда, проявлял обеспокоенность в связи с возможностью возрождения сильной в военном отношении и воинственной Германии, не был удовлетворен теми мерами, которые были предложены Черчиллем. Эти меры включали, в частности, организацию постоянного контроля на предприятиях Германии и разделение ее территории. По его мнению, указанные меры были «недостаточными для предотвращения возрождения германского милитаризма». Он добавил (хотя это было не совсем логичное заключение), что он лично спрашивал у пленных немцев, почему они разрушали русские дома, убивали русских женщин, и так далее, и что единственный ответ, который он слышал, был следующий: им приказали это делать.
Пользуясь отсутствием Рузвельта, Черчилль поинтересовался у Сталина, «нельзя ли было обсудить вопрос о Польше». Сталин неохотно согласился. После некоторого обсуждения этой темы Черчилль заявил, что он хотел бы, чтобы Польша переместилась в западном направлении тем же образом, как солдаты на строевых занятиях выполняют команду: «Влево сомкнись!» Он проиллюстрировал свою точку зрения на трех спичках, которые изображали Советский Союз, Польшу и Германию.
Сталин ответил, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.
В отсутствие президента Сталин высказал вслух обеспокоенность тем, что принцип безусловной капитуляции без определения ее точных условий «может способствовать объединению немецкого народа». Он согласился с этим еще в октябре на Московской конференции, на которой он также неохотно дал согласие на включение Китая в число «международных полицейских» в качестве четвертого их члена. Хэллу пришлось прибегнуть к угрозам в вежливой форме, упомянув возможность оказания помощи Китаю вместо России, чтобы вынудить Молотова согласиться с тем, чтобы Китай стал четвертой стороной, подписывающей Декларацию, а также с тем, что четыре страны будут сражаться до тех пор, пока Германия и Япония «не сложат своего оружия на основе безоговорочной капитуляции».
Учитывая, что Болен продолжал записывать их беседу даже в отсутствие Рузвельта, Сталин и Черчилль понимали, что он представит президенту свои комментарии. В этой связи можно предположить, что Сталин выразил свои опасения по поводу безоговорочной капитуляции с тем, чтобы быть уверенным, что у президента не останется никаких сомнений относительно его, Сталина, позиции по этому вопросу.
На следующий день Черчилль попытался встретиться с Рузвельтом наедине еще до пленарного заседания. Он послал президенту записку с предложением о совместном завтраке. Рузвельт «вежливо» отказался. Гарри Гопкинс, выступая в качестве посредника Рузвельта, пытался смягчить удар по самолюбию премьера, пояснив, что Черчиллю следует рассматривать данный отказ как часть кампании Рузвельта, направленной на то, чтобы заручиться доверием Сталина, той кампании, которая в случае успеха позволила бы устранить проблемы в общении со Сталиным в будущем. Черчилль должен был бы попытаться понять этот аргумент. Однако премьер-министр по-прежнему чувствовал себя уязвленным в связи с «дистанцированием» Рузвельта от него. Лорд Моран, его личный врач, который видел Черчилля сразу же после того, как тот получил записку с отказом на свое предложение, вспоминал, что премьер-министр выглядел «очевидно подавленным»[182] и пробормотал: «Это на него не похоже».
Глава 5 Единомыслие
На следующее утро, 29 ноября, Рузвельт поработал над своей почтой и спокойно позавтракал вместе со своими домочадцами.
Сталин в сопровождении Молотова появился в гостиной у Рузвельта для второй встречи в 14:45. Франклин, как и в прошлый раз, сидел на диване. Двое русских придвинули к нему кресла. На встрече присутствовал также Эллиот Рузвельт, который только что прилетел из Египта. Сталин предложил президенту и Эллиоту по папиросе, которые торчали из папиросной коробки. Они оба взяли папиросы, вежливо сделали несколько затяжек и положили их.
Рядом с Рузвельтом находились документы, которые он передал маршалу Сталину. Первый документ представлял собой отчет Управления стратегических служб (УСС)[183] США от майора Линна Фэриша, связника УСС у Иосипа Броз Тито (коммунистического лидера Югославии), который занимался поиском сбитых американских летчиков и тайно вывозил их из страны. Фэриш, который несколько раз сбрасывался в Югославию на парашюте, только что вернулся из своей последней миссии. Его информация о деятельности партизан под командованием Тито по спасению сотен американских летчиков помогла обеспечить поддержку США для Тито.
Затем Рузвельт передал маршалу предложение о том, чтобы предоставить возможность американским самолетам пользоваться авиабазами на Украине. Американцы уже начали воздушные налеты на Берлин, и эти налеты были достаточно масштабными и результативными. Как сообщали газеты, «в ожидании новых воздушных налетов союзников бóльшая часть административных структур Рейха переезжает из Берлина». Если бы бомбардировщики, которые взлетали с авиабаз в Италии и Англии для нанесения ударов по целям «стран оси», могли садиться на Украине для дозаправки и новой бомбовой загрузки, их удары могли бы стать еще более результативными. Организация таких челночных бомбардировок могла бы нанести противнику еще больший ущерб.
После этого Рузвельт вручил Сталину два документа, подготовленных комитетом начальников штабов ВС США и касавшихся возможного участия России в войне против Японии. Он сопроводил это фразой о том, что «он был бы счастлив услышать что-либо от маршала в отношении разгрома японских войск»[184]. Один документ касался заранее спланированных и согласованных воздушных операций двух стран в предстоящей войне против Японии, другой – морских операций. Сталин просмотрел первый документ и согласился с идеей о необходимости заранее спланированных и согласованных воздушных операций. Однако при изучении документа о морских операциях он прервался.
– Господин президент, – сказал он, – вы часто говорите мне, что должны проконсультироваться со своим правительством перед принятием решений. Вам следует понимать, что у меня тоже есть правительство и что я не всегда могу действовать без согласования с Москвой[185].
Рузвельт принял это частичное обещание сотрудничества.
Затем президент сосредоточился на своей любимой теме: организации мирного послевоенного устройства мира. По его словам, он с нетерпением ожидал возможности обговорить этот вопрос (в неофициальной обстановке) со Сталиным. Когда Молотов в прошлом году прилетел в Вашингтон специально для того, чтобы обсудить открытие «второго фронта», в котором Москва была крайне заинтересована, Рузвельт начал свою беседу с ним с обсуждения послевоенного устройства мира. Молотов держал Сталина в курсе их переговоров, каждую ночь направляя в Москву телеграммы. Сталин, похоже, благосклонно отнесся к идее создания сильной международной организации.
Рузвельт был удовлетворен положительным ответом Сталина и Молотова, однако этот обмен мнениями происходил, когда Советский Союз находился в смертельной опасности, когда германские войска продолжали завоевывать обширные территории России, грабя их и разрушая все на своем пути, когда Сталин крайне нуждался в американской помощи и был вынужден обращаться за ней. В это суровое лето 1942 года Сталин был готов согласиться с любым хоть сколько-нибудь разумным предложением, если только он полагал, что это может ускорить открытие «второго фронта», который бы оттянул на себя часть германских войск из России. Но сейчас ситуация была уже другой. Находясь теперь наедине со Сталиным, Рузвельт вновь обозначил контуры предлагаемого международного органа:
– Это будет крупная, всемирная организация, в которую войдут около тридцати пяти членов Объединенных Наций. Они будут периодически проводить встречи в разных местах, обсуждать различные вопросы и вырабатывать рекомендации для меньшего по численности органа. Предполагается создание исполнительного комитета, который будет заниматься вопросами гражданского характера, такими, как сельское хозяйство, продовольствие, здравоохранение, экономика. Этот комитет будет состоять из представителей десяти стран: Советского Союза, Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Китая, еще двух европейских государств, одного южноамериканского государства, одного государства ближневосточного региона, одного государства Дальнего Востока и одного британского доминиона. Эта группа будет собираться в различных местах.
Здесь президент заметил, что «господину Черчиллю это предложение не понравилось по той причине, что Британской империи предоставляется только два голоса»[186].
Сталин поинтересовался, будут ли рекомендации этого органа носить для всех стран обязательный характер.
Рузвельт ответил:
– И да и нет.
Однако затем, давая более развернутое пояснение, он дал понять, что однозначно «нет», поскольку, как он признался, считает, что Конгресс не согласится связать себя такими обязательствами.
– Власть будет сосредоточена в руках третьего органа, – продолжал президент, – состоящего из четырех «международных полицейских»: СССР, США, Великобритании и Китая. Эта организация будет иметь полномочия незамедлительно решать проблемы, связанные с возникновением какой-либо угрозы миру или какой-либо непредвиденной чрезвычайной ситуации, требующей соответствующих действий[187]. Если бы такая организация существовала в 1935 году (продолжил он), то она закрыла бы Суэцкий канал и тем воспрепятствовала бы нападению Италии на Эфиопию.
Сталин немедленно указал на имевшуюся проблему:
– Европейское государство может оказаться недовольно тем, что у Китая будут определенные механизмы воздействия на него[188].
В качестве возможной альтернативы он предложил создать Европейский или Дальневосточный комитет и Европейскую или всемирную организацию. Развивая свою мысль, он предположил, что европейская структура могла бы включать Соединенные Штаты, Великобританию, Советский Союз и «возможно, еще какое-либо европейское государство».
Рузвельт как раз пытался отойти от принципа региональных сфер влияния: этот принцип не смог предотвратить ни одной из мировых войн. Рузвельт отметил, что у Черчилля была похожая идея: создать региональные комитеты, один для Европы, один для Дальнего Востока и еще один для американского континента, предполагая при этом, что Соединенные Штаты станут членом европейской структуры. Однако президент отверг эту идею, подчеркнув, что он «сомневается в согласии Конгресса США на участие Соединенных Штатов исключительно в Европейском комитете, который может обязать американскую сторону направить в Европу американские войска»[189].
Сталин указал на то, что концепция создания всемирной организации, предлагаемая Рузвельтом, и, в частности, идея о четырех «международных полицейских» могут также предусматривать отправку американских войск в Европу. На это Рузвельт ответил, что его концепция предусматривает направление в Европу лишь американских самолетов и кораблей, «а Англия и Советский Союз будут размещать сухопутные силы»[190]. Он добавил, что если бы японцы не напали на Соединенные Штаты, он сомневается в том, что стало бы возможно направлять в Европу какие-либо американские войска.
Президент продолжил развивать идею о четырех «международных полицейских». По его замыслу, у них будет два метода борьбы с возможной агрессией. Если речь будет идти об угрозе революции или аналогичных событий в какой-либо небольшой стране, то «можно было бы прибегнуть к методу карантина: закрыть границы с этой проблемной страной и ввести эмбарго»[191]. Если же это не приведет к необходимым результатам, если угроза окажется более серьезной, то в этом случае четыре державы, действуя в качестве «международных полицейских», направят ультиматум, и отказ выполнить его «приведет к немедленным бомбардировкам и возможному вторжению в эту страну».
То, что обнародованная идея, похоже, не удивила Сталина, должно было порадовать Рузвельта, поскольку это свидетельствовало о том, что маршал не проигнорировал тех мыслей, которые президент изложил Молотову в ходе визита того в Вашингтон в 1942 году. (Рузвельт, естественно, не мог знать, насколько детально Сталин прорабатывал эту тему в разговорах с Молотовым. Если уж на то пошло, он не располагал непосредственной информацией о том, что Молотов каждую ночь докладывал Сталину в телеграммах о своих беседах с президентом и что мнение, которое Молотов излагал каждый день в ходе этих бесед, в значительной степени зависело от позиции Сталина и от его указаний, хотя, возможно, Рузвельт и подозревал это.)
Теперь настала очередь Сталина проинформировать Рузвельта о своей главной тревоге – о предстоящих усилиях по сдерживанию Германии. Шесть месяцев назад Сталин написал журналисту издания «Нью-Йорк таймс», что немцы представляли собой не только серьезную угрозу для будущего мира, но и являлись «основным противником» России[192]. Спустя неделю после Тегеранской конференции он заявил в Большом театре президенту Чехословакии Эдварду Бенешу: «Вы не измените немцев в течение короткого времени. Будет еще одна война с ними». Он также посоветовал Рузвельту, чтобы его позиция по данному вопросу отличалась от позиции Черчилля, который не верил в то, что Германия сможет восстановить свой потенциал и вновь угрожать Европе.
С учетом этого Рузвельт понял, что для того, чтобы обеспечить поддержку Сталина, планируемая международная организация должна будет иметь в качестве своего основного приоритета полномочия для контроля над возрождающейся Германией и необходимого противодействия данному процессу. Это также прояснило, что если бы Сталин был достаточно уверен в возможности создания такой организации, то он, скорее всего, поддержал бы ее. В то же время по мере продолжения разговора высказывания Сталина указывали на то, что он не был уверен, что структура по обеспечению безопасности мира, как ее представил Рузвельт, будет достаточно эффективной. («Я ненавижу немцев, – скажет Сталин чешской делегации в марте 1945 года. – Но это не должно влиять на чье-то мнение о немцах. Немцы – великий народ. Очень хорошие специалисты и организаторы. Хорошие, по своей природе храбрые воины. Нет никакой возможности избавиться от немцев, они останутся… Мы, славяне, должны быть готовы к тому, что немцы снова поднимутся против нас»[193].)
Затем Сталин сказал Рузвельту, что, по его личному мнению, если этому не противодействовать, то Германия полностью сможет восстановиться в течение от пятнадцати до двадцати лет, следовательно, «у нас должно быть что-то более серьезное, чем организация, предложенная президентом… Первая германская агрессия произошла в 1870 году, затем – сорок четыре года спустя в Первой мировой войне, и только двадцать один год прошел между окончанием последней войны и началом нынешней»[194]. Он добавил, что не верил в то, что в будущем период до возрождения германского военного потенциала будет больше.
Продолжая, Сталин отметил, что должен быть обеспечен контроль над определенными стратегическими позициями, либо на территории Германии, либо на ее границах, либо в более комплексном плане, чтобы быть уверенными в том, что Германия не встанет вновь на путь новой агрессии. Он упомянул, в частности, Дакар, самую западную точку на Африканском континенте, добавив, что такая же стратегия должна применяться и к Японии и что острова в непосредственной близости от Японии должны оставаться под строгим контролем, чтобы предотвратить возможную агрессию со стороны Японии.
Президент ответил, что он полностью согласен с маршалом Сталиным. На самом деле Рузвельт также испытывал глубокую антипатию к немцам, это чувство сформировалось у него еще в детстве. В юношеском возрасте он вместе с родителями провел много летних сезонов в Германии, когда его отец принимал ванны в Бад-Наухайме, стремясь восстановить свое здоровье. Джеймс и Сара Рузвельты наняли для Франклина репетитора немецкого языка, кроме того, они какое-то время отправляли его ежедневно в государственную народную школу в Германии. У него был достаточно хороший уровень знания немецкого языка, чтобы поговорить в Германии с Альбертом Эйнштейном. Его неприязнь к немцам, которую он обычно скрывал, была на удивление сильной. Он как-то сказал своему министру финансов Генри Моргентау: «Мы должны быть жесткими с Германией, и я имею в виду весь немецкий народ, а не только нацистов. Мы должны либо кастрировать немцев, либо обращаться с ними таким образом, чтобы они просто не имели возможности воспроизводить тех, кто хотел бы продолжать свой прошлый опыт»[195]. В другой раз он сказал, что первым необходимым условием мира должно быть то, что ни одному немцу не будет разрешено когда-либо вновь носить форму[196].
* * *
Сталин вновь выразил сомнения по вопросу об уровне китайского участия во всемирной структуре.
Рузвельт ответил, что он признаёт слабость Китая. (Никто лучше него не знал, насколько Китай был нестабилен и до какой степени было слабо правительство Чан Кайши. В 1938 году Рузвельт организовал для него кредит в размере 100 миллионов долларов, поскольку у того кончились деньги. С тех пор ситуация не изменилась в лучшую сторону: в Каире Чан Кайши обратился к нему с просьбой предоставить кредит в 1 миллиард долларов золотом.) Рузвельт беспокоился по двум причинам, одна из которых касалась нынешней ситуации, а другая – возможного развития в будущем. Если бы он сейчас слишком сильно оттолкнул Чан Кайши и не оказал ему достаточной поддержки, то генералиссимус мог бы пойти на сделку с Японией. (Он не испытывал беспокойства в отношении того, что китайские коммунисты никогда не сдаются.)
Другой же вопрос касался будущего Объединенных Наций (он постоянно думал об этом), и это беспокоило его гораздо больше, поскольку для воплощения в жизнь идеи о создании Объединенных Наций Китай был необходим. Как писал Рузвельт, «я действительно чувствую, что это триумф – получить четыреста двадцать пять миллионов китайцев на стороне союзников. Это даст громадную пользу спустя 25 или 50 лет, следовательно, даже и в том случае, если Китай и не способен в настоящее время обеспечить заметной поддержки в военном или военно-морском отношении»[197]. Сейчас он сообщил Сталину, что много думал об удивительно большой уже на данный момент численности китайского населения, которая сама по себе будет обеспечивать важную роль страны на международной арене вне зависимости от особенностей национального правительства: «Ведь численность населения Китая – 400 миллионов человек, и лучше, чтобы они были твоими друзьями, а не потенциальным источником различных проблем и неприятностей»[198]. Рузвельт вновь вернулся к обсуждению идеи о четырех «международных полицейских» в качестве лучшей сдерживающей силы в отношении возрождающейся Германии. Упомянув высказывание Сталина прошлым вечером (о котором позже ему, очевидно, сообщили) о той легкости, с которой германские мебельные фабрики могут быть перепрофилированы в авиационные предприятия, а часовые заводы – в предприятия по производству взрывателей для снарядов, он отметил, что «сильная и эффективная организация в составе четырех держав могла бы энергично действовать при появлении первых признаков, свидетельствующих о переоборудовании таких заводов для военных целей»[199].
Немцы продемонстрировали, что у них есть большой опыт в сокрытии таких мероприятий, ответил Сталин. Рузвельт согласился с правотой этих слов и указал, что стратегические объекты должны быть под контролем какой-либо всемирной организации, которая могла бы осуществлять мониторинг ситуации и предотвращать возможные попытки восстановления военного потенциала со стороны Германии и Японии.
Сталин подтвердил, что он считает обеспечение контроля над Германией самой важной задачей, стоявшей перед ними, что Германия и впредь будет серьезной угрозой для всеобщего мира[200]. Было также очевидно (с учетом вопросов, которые были заданы Сталиным), что Рузвельт должен переосмыслить концепцию о мировом правительстве, которое он был намерен создать.
На этой встрече присутствовал Эллиот Рузвельт, который, не вмешиваясь в ее ход, фиксировал те детали, которые были опущены Боленом. Болену пришлось выполнять нелегкую работу, поскольку он выступал одновременно в роли сразу и переводчика, и стенографиста неофициальных бесед. Кроме того, демонстрируя порой свою приверженность пробританской дипломатической практике Госдепартамента, он иногда выпускал из протокола некоторые моменты, которые считал либо несущественными, либо не относящимися к делу, либо те, которые, как он надеялся, больше не всплывут. Эллиот записал, что его отец вновь остановился на том, что у США и Великобритании разные цели, в частности в отношении колониальных владений. Согласно Эллиоту, Рузвельт отметил, что в послевоенном мире каждой из их трех стран придется действовать как самостоятельно, так и совместно друг с другом. Он передал Сталину то, что сообщил ему в Каире Чан Кайши: насколько важно было для Китая окончательное прекращение британских экстерриториальных прав в Шанхае, Гонконге и Гуанчжоу. В разговоре с ним Чан Кайши также подчеркнул, что Россия должна уважать маньчжурскую границу.
Сталин ответил, что всемирное признание суверенитета Советского Союза являлось базовым принципом и что в этой связи «он [Сталин] наверняка также будет уважать, в свою очередь, суверенитет остальных стран, больших и малых»[201].
Рузвельт коснулся других тем, которые поднимались в ходе его беседы с Чан Кайши, в частности обещания, что китайские коммунисты войдут в правительство еще до национальных выборов и что эти выборы состоятся сразу же после войны. По мере того как Рузвельт говорил, делая паузу после каждой фразы для ее перевода, Сталин кивал, словно подтверждая свое полное согласие. Генерал Джон Дин, руководитель программы ленд-лиза в Москве, ранее офицер по связи между начальниками штабов США и Великобритании, присутствовавший в Тегеране в качестве наблюдателя, позже писал, что позиция Сталина «совпадала с позицией Комитета начальников штабов США, и все, что он произносил, усиливало ту поддержку, которую они могли бы ожидать от президента Рузвельта в принятии окончательного решения»[202].
Почти в 15:30 генерал Па Уотсон просунул голову в дверь и сообщил, что все было готово для второго пленарного заседания.
Однако вначале Черчилль подготовил впечатляющую сцену: в большом зале, где должно было произойти предстоящее событие, их ждал почетный караул, состоявший из советских и британских солдат. Двадцать британских солдат с примкнутыми штыками, а затем такое же количество советских солдат с автоматами промаршировали мимо Рузвельта, сидевшего в большом зале, и Сталина с Черчиллем, которые стояли по обе стороны от президента. Русский военный оркестр сыграл «Интернационал», а затем гимн Великобритании «Боже, храни короля». Солдаты выстроились друг против друга у противоположных стен. Затем Черчилль (хотя он был полным и сутулым, но, одетый по этому случаю в синюю парадную форму высшего офицерского состава Королевских ВВС Великобритании с эмблемой летного состава, выглядел просто великолепно) объявил, что от имени короля он вручает Сталину «Меч Сталинграда»[203]. Он зачитал надпись на мече: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, от короля Георга VI, в знак глубокого восхищения британского народа». Меч был длиной около 120 сантиметров, с серебряной рукоятью, на которой были вытравлены головы леопардов, в ножнах из красной каракульчи. Сталин был очень тронут. Он поднял меч к губам и поцеловал его. В его глазах стояли слезы[204]. Он передал меч Ворошилову, который умудрился уронить его. Когда этот неприятный момент был улажен, Сталин и премьер-министр предложили Рузвельту осмотреть меч. Пока премьер-министр держал ножны, президент извлек из них меч, на всю длину его закаленного клинка. Он подержал его вертикально и, как сообщают, негромко произнес: «Воистину, у них были сердца из стали».
Сразу же после этого три руководителя прошли на крытую галерею, чтобы сфотографироваться. После этого началось второе пленарное заседание. Вместе с Рузвельтом были одиннадцать человек из его штаба, в том числе Гопкинс, Гарриман, адмирал Лихи, генерал Маршалл, адмирал Кинг, генерал Арнольд, бригадный генерал Дин, капитан Ройал, капитан Уэар и генерал Сомервелл. Черчилля сопровождали десять человек из его штаба, в том числе министр иностранных дел Энтони Иден, сэр Арчибальд Кларк Керр, фельдмаршал Джон Грир Дилл, генерал Алан Фрэнсис Брук, адмирал флота Эндрю Каннингем, главный маршал авиации Чарльз Портал, генерал-лейтенант Гастингс Исмей, генерал-лейтенант Гиффорд Мартель и бригадный генерал Уильям Холлис. В отличие от всех остальных, как и на других пленарных заседаниях, Сталин взял с собой лишь Молотова и маршала Ворошилова.
Рузвельт вновь открыл заседание и, повторив, что не существует какой-либо повестки дня, попросил огласить отчет представителей военных штабов, которые совещались утром.
Генерал Брук, генерал Маршалл и маршал Ворошилов изложили свои мнения о различных аспектах операции «Оверлорд». Генерал Брук перечислил плюсы и минусы военной кампании в зоне Средиземного моря, разобрал боевые действия на севере Италии, высказался о преимуществах участия Турции в войне. Генерал Маршалл подчеркнул первостепенную важность вопросов о необходимых десантных средствах и подходящих аэродромах и отметил, что производство десантных кораблей было расширено. Маршал Ворошилов сказал, что он получил все ответы на свои вопросы.
В разговор вступил Сталин.
– Кто будет осуществлять руководство операцией «Оверлорд»? – спросил он.
Рузвельт ответил, что решения еще не принято.
Тогда Сталин довольно резко произнес:
– Тогда из этой операции ничего не выйдет.
– Этот старый большевик пытается заставить меня назначить его Верховным главнокомандующим… А я еще не принял решения, – прошептал Рузвельт адмиралу Лихи.
Затем президент заверил Сталина, что уже согласованы имена всех командиров, кроме Верховного главнокомандующего.
Сталин ответил:
– Может оказаться, что Верховный главнокомандующий будет не согласен с тем, что подготовит начальник штаба. Должен быть один человек, который будет нести общую ответственность.
Рузвельт, не желая, чтобы Сталин понял, что он все еще колеблется, сделал ловкий ход, дав слово премьер-министру. Затем он устроился поудобнее и слушал Черчилля, не перебивая, пока тот сам себе рыл яму.
Черчилль говорил довольно долго. Премьер-министр начал с заявления о том, что подготовке операции «Оверлорд» необходимо уделить максимум внимания, однако, как заметил позже Гарри Гопкинс в разговоре с личным врачом Черчилля и как это подтверждают записи, «после этого предисловия он стал методично обсуждать действия на северном побережье Средиземного моря»[205]. Хотя позже Черчилль писал, что он говорил только «около десяти минут»[206], официальный протокол его выступления занял не одну страницу. Он снова поднял вопросы о желательности захвата Родоса, сдерживания группировки германских войск в Италии, вступления Турции в войну (и Великобритания была намерена заставить турок сделать это к Рождеству), а также о влиянии этих мер на развитие ситуации на Балканах, о помощи Броз Тито, о проблемах, связанных с десантными кораблями, и о других вспомогательных операциях в зоне Средиземноморья.
Сталин ответил ему по каждому пункту. (Брук позже признал: «Я быстро оценил, что у него был военный склад ума очень высокого уровня. Ни разу ни в одной из своих выкладок он не сделал каких-либо стратегических ошибок»[207].) Он исправил приведенное премьер-министром количество германских дивизий на Балканах, вновь заявил, что «Турция не вступит в войну», обратил внимание присутствующих на важность сосредоточения основных усилий на наиболее важных операциях и недопустимости распыления сил и закончил свою речь выражением уверенности в том, что пока не будет принято решение о руководителе операции «Оверлорд», от этой операции нельзя будет ожидать никакого успеха.
На этом этапе в разговор вступил Рузвельт. Подводя итог обсуждения, он легким поклоном остановил Черчилля, пытавшегося возражать, и объявил: «Если мы все согласны с необходимостью проведения операции «Оверлорд», то следующим будет вопрос о ее сроках»[208]. Продолжив, он указал на риск проведения операций в восточной части Средиземного моря, отметив, что в этом случае, вероятно, придется отложить операцию «Оверлорд».
Когда Сталин сказал, что во Франции размещено двадцать пять германских дивизий, Рузвельт ответил: «Поэтому мы должны разработать планы по сдерживанию этих германских дивизий… в такой степени, чтобы не отвлекать средства, необходимые для проведения операции «Оверлорд» в оговоренное время».
В ответ на это Сталин повторил: «Вы правы, вы правы».
Вслед за этим настал момент, когда Рузвельт присоединился к Сталину, загоняя Черчилля в угол.
Президент сказал: «Было бы хорошо, чтобы операция «Оверлорд» по возможности началась где-то 1 мая или, конечно же, не позднее 15 мая или 20 мая».
Премьер-министр ответил, что он «не может согласиться с этим».
Сталин указал, что, как он заметил на конференции накануне, «из-за этих предложений, отвлекающих внимание и направленных на распыление сил, ничего не выйдет».
Черчилль даже в условиях такого резкого осуждения его позиции не сдавался: «Многие широкие возможности, которые предоставляются в Средиземноморье, не должны быть безжалостно отброшены только по причине их якобы бесполезности из-за возможной задержки на месяц проведения операции «Оверлорд».
Сталин повторил: «Все операции в зоне Средиземноморья – это распыление сил, за исключением операций на юге Франции». Он добавил, что для него «не представляют никакого интереса какие-либо другие операции, кроме проводимых на юге Франции»[209].
Лорд Моран сказал о Черчилле, что он был уникален в своем чувстве слова и в обращении со словом: «Без этого чувства он бы мало чего смог добиться в своей жизни. Он не преуспел бы ни в юриспруденции, ни в профессиональных навыках, ни в искусстве администрирования, ни в понимании человеческой природы»[210].
Черчилль весьма красноречиво подтверждал суждения Морана. Он, похоже, считал, что только один Сталин выступает против него, что у него все еще была возможность переубедить Рузвельта – однако это было далеко от истины. Премьер-министр ошибался в своей оценке, и с этих ошибочных позиций он пытался убедить обоих руководителей по отдельным вопросам: относительно использования британской армии в Средиземном море, относительно действий по нанесению поражения Германии в Италии, относительно того, как действия в восточной части Средиземноморья смогут сдержать значительные силы германской армии, а также относительно вовлечения в войну Турции.
Сталин ничем не выдал своего нетерпения. Он машинально рисовал в блокноте (несомненно, волчьи головы) и курил.
Произнесенные Сталиным слова не могли передать всего разочарования Черчилля или степени раздражения Сталина. В какой-то момент, как описывал адмирал Кинг, «господин Черчилль так рассердился, что он поднялся и сказал Сталину, что тот не имел права таким тоном разговаривать ни с ним, ни с любым другим англичанином. Затем он в течение нескольких минут ходил в раздражении по комнате, пока господин Иден не поднялся и не переговорил с ним вполголоса, после чего господин Черчилль вернулся на свое место, как казалось, слегка успокоившись»[211].
Чарльз Болен в дальнейшем напишет, что Рузвельту следовало бы выступить в защиту Черчилля, потому что «тот был действительно весьма задет словами Сталина»[212]. Это высказывание показывает, на чьей стороне были симпатии Болена, учитывая, что, как признавал он сам, «Рузвельт на самом деле вел спор с тех же позиций, что и Черчилль, так что, по существу, такое резкое отношение к Черчиллю было оправданно».
Рузвельт откинулся в своем кресле, наблюдая за тем, как делается история. Он совершенно не желал вмешиваться. Он не желал сохранять Британскую империю, он выступал за то, чтобы она была разрушена. Поэтому планы Черчилля организовать наступление через Балканы, подбрюшье Европы, которое могло бы изолировать Советский Союз, так и не реализовались.
Накануне Сталин уже отклонил планы по проведению военной кампании в зоне Средиземноморья как имевшие второстепенное значение и отметил, что вся значимость итальянской военной кампании заключалась в том, чтобы обеспечить свободу действий для военно-морских сил союзников в Средиземном море. Он также указал, что Италия не могла считаться подходящим направлением для организации наступления на Германию, поскольку Альпы являлись практически непреодолимым препятствием, и это подтвердил в свое время знаменитый русский генерал Суворов. Теперь, с учетом упрямства Черчилля, Сталин повторил: «С точки зрения советской стороны, лучший способ нанести удар по Германии – это организовать наступление через северные или северо-западные районы Франции или даже через юг Франции». В заключение он поинтересовался у президента, сколько еще дней будет продолжаться конференция. Он заявил, что должен уехать после первого дня, но «мог бы» остаться и на второй, но затем ему следует покинуть Тегеран.
Черчилль сказал, что, если это необходимо, он мог бы остаться навсегда.
Сталин вынул из кармана кителя свою трубку, открыл коробку сигарет «Герцеговина Флор», достал несколько сигарет, медленно разломал их, набил табаком трубку, зажег ее и сделал несколько затяжек. Сделав это, он огляделся.
Рузвельт, пытаясь сгладить противоречия между двумя руководителями, предложил вернуть вопросы на рассмотрение начальников штабов, которые могли бы с учетом «несогласия сторон по каждому предложению, сделанному на заседании во второй половине дня», предоставить специальной комиссии материалы данного заседания для выработки единого мнения.
Сталин не мог с этим согласиться. По его словам, в специальном комитете не было необходимости: «Все, что было необходимо, – это принять решения о руководителе операции “Оверлорд“, о дате начала операции “Оверлорд“ и об обеспечивающих операциях»[213].
Рузвельт предложил выработать более конкретную формулировку в отношении специальной комиссии, которая бы в сжатом виде отразила его, Рузвельта, пожелания и пожелания Сталина и одновременно являлась бы «фиговым листком» для Черчилля, а именно: «(1) Комиссия подтверждает, что “Оверлорд“» является основной операцией; (2) Комиссия рекомендует проведение вспомогательной (ых) операции (ий) в зоне Средиземного моря, принимая во внимание, что никакая задержка не должна повлиять на проведение операции “Оверлорд“».
Сталин отметил, что не было никакого упоминания о дате начала операции. Он указал, что Советскому Союзу необходимо знать точную дату «для того, чтобы он мог подготовить удар со своей стороны».
Рузвельт напомнил им, что дата была определена в Квебеке еще в начале лета «и что только некоторые, гораздо более важные вопросы могли бы повлиять на нее». По крайней мере, его мнение было таким.
Примечательно, что Черчилль вновь стал настаивать на своем, пытаясь внести путаницу в этот вопрос. «Для него не было ясно, какие планы у президента… У него были вопросы к Сталину… Он считал, что специальная комиссия должна рекомендовать организацию вспомогательных операций… Он считал, что мы должны больше времени уделить составлению правильных указаний для специальной комиссии».
Рузвельт снова попытался найти общий язык с обоими собеседниками. Может быть, специальный комитет «приступит к проработке необходимых вопросов без каких-либо дальнейших указаний и подготовит ответ завтра к утру?»[214]
Сталин ответил: «Что может такой комитет сделать? У нас, глав государств, больше власти и больше полномочий, чем у комитета. Генерал Брук не может влиять на наши позиции».
Затем он спросил: «Не относится ли английская сторона серьезно к операции “Оверлорд“ только для того, чтобы удовлетворить СССР?»
Поскольку это и в самом деле было правдой, Черчилль уклонился от ответа – сделав это весьма выразительно.
«Если уж условия, выработанные в Москве относительно операции “Оверлорд“, придется соблюдать, то он твердо убежден в том, что Англия обязана использовать все свои возможности для форсирования Ла-Манша и удара по немцам»[215].
Они расстались, договорившись о том, что военные штабы, специальная комиссия и министры иностранных дел (подразумевались Гопкинс, Молотов и Иден) на следующий день обсудят все необходимые вопросы.
Последними словами Сталина были следующие: «Таким образом, завтра в четыре часа у нас будет продолжение конференции». Судя по всему, он начал беспокоиться. И у него были к этому все основания. Рузвельт закрыл заседание предложением запланировать на следующий день в 13:30 встречу за обедом начальников штабов.
Заседание завершилось сразу же после семи часов вечера. Рузвельт признался Эллиоту, который ждал его в его комнате, что он устал. Он на мгновение прилег, а затем потер глаза, сел и начал говорить с Эллиотом о Сталине. Как вспоминал позже Эллиот, его отец сказал: «Работать с ним – одно удовольствие. Никаких околичностей. Он четко излагает вопрос, который хочет обсудить, и никуда не отклоняется»[216].
– «Оверлорд»? – поинтересовался Эллиот. Рузвельт ответил, что «он говорил об этом. И мы тоже обсуждали этот вопрос… Уинстон говорит о двух одновременных операциях. Мне кажется, он понимает, что теперь уже нечего и пытаться возражать против вторжения на западе. Маршалл слушает слова премьер-министра с таким выражением, как будто не верит собственным ушам… Если уж есть американский генерал, которого Уинстон терпеть не может, то это генерал Маршалл. И происходит это, бесспорно, потому, что Маршалл прав… Я не вижу никаких причин рисковать жизнью американских солдат ради защиты реальных или воображаемых британских интересов на европейском континенте. Мы ведем войну, и наша задача заключается в том, чтобы выиграть ее как можно быстрее и без авантюр… Для всех присутствовавших было совершенно ясно, чего он [Черчилль] на самом деле хочет. Он прежде всего хочет врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить Красную армию в Австрию и Румынию и даже в Венгрию… Сталин понимал это, понимал и я, да и все остальные… А когда Дядюшка Джо говорил о преимуществах вторжения на западе с военной точки зрения … он тоже все время имел в виду и политические последствия».
Отец и сын еще некоторое время поговорили. Затем Рузвельт принял ванну. Эллиот спросил его, хочет ли он коктейль перед ужином. Тот ответил согласием, но предупредил: «Но только не крепкий, Эллиот… Сколько тостов мне предстоит!»[217]
* * *
Пришла очередь Сталина давать обед, который был организован в комнате возле большого зала рядом с апартаментами Рузвельта в советском посольстве.
В список приглашенных были включены Черчилль, Иден, Кларк Керр, Сталин, Молотов, президент, Гопкинс и Гарриман. Как всегда, присутствовали также переводчики.
Эллиот получил приглашение в последнюю минуту: когда Сталин заметил, что он стоял у двери комнаты, он провел его внутрь и усадил между Иденом и Гарриманом.
Было «невероятное количество блюд» и много напитков, как обычно бывает на официальных российских обедах. Этот обед начался с холодных закусок, за которыми последовали горячий борщ, рыба, различные мясные блюда, салаты, компот и фрукты. Одно блюдо следовало за другим «в большом изобилии». Каждая перемена блюд сопровождалась немалым количеством водки и вина, а по завершении были поданы ликеры.
По словам Молотова, любимым напитком Сталина было шампанское, которое он иногда пил на обедах вместо водки. Однако в этот вечер он, похоже, пил водку, и Эллиот Рузвельт обнаружил это, когда маршал налил ее из своей бутылки, стоявшей у его локтя, в фужер Эллиота.
По русской традиции бóльшая часть беседы сопровождалась тостами. Когда произносился очередной тост, все вставали, выпивали, а затем садились – до следующего тоста. Тосты были иногда искренними, иногда банальными, а порой они являлись возможностью, не переходя рамок, выплеснуть эмоции.
Этот день отложил свой след на Сталине. Во время длительного пленарного заседания он вынудил Черчилля отказаться от планов по организации военной кампании в зоне Средиземного моря и принять операцию «Оверлорд» без каких-либо предварительных условий. Черчилль, наконец, согласился действовать вместе с двумя своими союзниками, но с такой неохотой, что было совершенно очевидно: он согласился только потому, что у него не было никакого другого выбора, а не потому, что был убежден в правоте военных планов своих собеседников.
Рузвельт редко обижался на тех, кто расходился с ним во мнениях, поскольку он привык к обмену колкостями и практике взаимных компромиссов в политической жизни. Действительно, преодоление сопротивления тех, кто не был согласен с ним, доставляло ему истинное наслаждение, он получал удовольствие от таких ситуаций. И поскольку теперь он смог добиться консенсуса в отношении операции «Оверлорд», он пребывал в прекрасном настроении. Сталин, однако, не привык сталкиваться с инакомыслием. В его окружении его слово было законом. Он привык к тому, что все подчинялись ему. Черчилль же упрямо и безуспешно выступал против него, и теперь Сталин с удовольствием проявлял свое раздражение тем, что непрестанно «пилил» премьер-министра. Чарльз Болен писал, что Сталин «не упускал возможности покуражиться над господином Черчиллем. Почти каждая реплика, с которой он обращался к премьер-министру, содержала какую-нибудь колкость»[218]. Однако он пользовался этим с большой осторожностью. «Манеры маршала были совершенно дружескими». Болену, не питавшему симпатий к премьеру, пришлось признать это. Кроме того, одно из высказываний Сталина можно было расценить как предупреждение: «Было бы ошибкой считать, исходя из того, что русские – это простые люди, что они слепы и не видят того, что происходит у них на глазах». Раскрывая свою мысль, он обвинил Черчилля в стремлении обеспечить «приемлемый» мир для Германии или, еще хуже, в скрытых симпатиях к Германии.
Рузвельт, который вовсе не собирался выступать на защиту Черчилля, наблюдал за происходящим со стороны. Он знал, что сказанное Сталиным действительно является правдой. Он знал, какие мысли витали в голове у Черчилля: тот желал сильной Германии, чтобы обеспечить баланс сил с Советским Союзом в Европе. «Что мы получим на пространстве между белыми снегами России и белыми скалами Дувра?»[219] Черчилль «взорвался» во время встречи с президентом в Квебеке прошлым летом. Рузвельт не предполагал, что Черчилль представлял себе Россию еще могущественнее и сильнее, чем она была (премьер-министр считал, что численность ее населения – 200 миллионов человек, а не 165 миллионов).
Какое-то время среди руководителей трех держав царила дружеская атмосфера, и Сталин, казалось, расслабился. Гопкинс, который всегда тонко чувствовал ситуацию, провозгласил тост в честь Красной армии. Польщенный, Сталин достаточно откровенно рассказал о Советской армии. Он сказал, что по результатам зимней военной кампании с Финляндией 1940 года, в ходе которой армия показала себя весьма плохо, она была полностью реорганизована, это было необходимо, и по мере продолжения боевых действий с немцами она теперь наращивает свой потенциал. Сразу же после этого Гопкинс, который не знал, как бы ему потактичней выразиться, принес свои извинения.
Позже, уже к концу обеда Сталин поднялся, чтобы предложить свой «надцатый» тост (Эллиот Рузвельт напишет впоследствии: «Я пытался вести счет, но к этому моменту уже безнадежно сбился».) Эллиот вспоминает следующий тост Сталина, который тот произнес относительно Германии: «Я предлагаю выпить за то, чтобы над всеми германскими военными преступниками как можно скорее свершилось правосудие и чтобы они все были казнены. Я пью за то, чтобы мы объединенными усилиями покарали их, как только они попадут в наши руки, и чтобы их было не менее пятидесяти тысяч»[220]. Болен считал, что Сталин сделал этот тост в «полушутливой манере»[221]. Если это так, это было полностью в духе Сталина.
Сталин не понаслышке знал о том, насколько жестоким было отношение германских солдат ко всем славянам. Война, которую вел Гитлер против Советского Союза и Польши (арийцы против славянских народов), разительно отличалась от войны, развязанной им в Западной Европе (арийцы против арийцев).
Гитлер считал славян низшей расой. После успешного завершения войны он планировал превратить Россию и Польшу в порабощенные страны, население которых должно быть лишено основных прав. Он хвалился этим. «Военная кампания на Востоке, – заявил он, – будет весьма сильно отличаться от военной кампании на Западе»[222]. Когда вермахт вошел в Польшу, стала осуществляться политика фюрера по депортации и переселению гражданского населения на этнической основе. Интеллигенция была согнана в концентрационные лагеря, а обычные поляки были размещены в районах, где они умерли от голода и болезней (Ричард Дж. Эванс подробно, на основе документальных свидетельств, описал это в своей книге «Третий рейх. Дни войны»). Медицинская помощь не оказывалась, поэтому больные умирали. Школы были закрыты.
Польша была единственной страной за пределами Германии, где были созданы лагеря смерти. Это объяснялось тем, что Гитлер планировал истребить весь польский народ. Гитлер намеревался проводить ту же политику и в Советском Союзе: начать с уничтожения интеллигенции и евреев и завершить уничтожением оставшегося коренного населения, затем восстановить инфраструктуру и заселить выбранные территории и оставшиеся города немецкими фермерами и бюргерами.
Таким образом, чтобы решить одновременно две задачи, практически на польско-советской границе были созданы три лагеря смерти: Собибор, Майданек и Белжец. Гитлер планировал превратить при нацистах захваченную Украину в некое подобие колонии Британской империи, воссоздав таким образом Индию или Африку. От 80 до 85 процентов поляков, 64 процента украинцев и 75 процентов белорусов должны были быть переселены дальше на восток. Таким образом, Гитлер намеревался в целом искоренить в Восточной Европе от тридцати одного до сорока пяти миллионов человек, поселив на их месте миллионы немцев («колонистов»), которые бы жили на красивых, просторных фермах, возделывали славянскую землю современной сельскохозяйственной техникой и собирали обильные урожаи для увеличивающегося по численности немецкого народа. Евреи как нация подлежали полному уничтожению, где бы они ни были обнаружены. «Через сто лет наш язык будет языком Европы»[223], – обещал фюрер.
С учетом этой установки со всеми русскими солдатами, взятыми в плен, как правило, обращались с крайней жестокостью, как с животными. В зимние морозы их держали в открытом поле, иногда давали крошечные порции пищи. Если они не погибали от холода, то умирали от голода. Других военнопленных – десятками тысяч – расстреливали специальные команды. Некоторых отправляли в трудовые лагеря и лагеря смерти в Германии. В декабре 1941 года, согласно официальному германскому отчету, от 25 до 70 процентов советских военнопленных гибли на пути в концлагеря. К концу войны 3,3 миллиона советских военнопленных – более половины из числа взятых в плен – погибли[224]. Со всеми захваченными военнослужащими обращались как с расовыми и идеологическими врагами Третьего рейха. Женевские конвенции были просто забыты.
Участникам конференции в Тегеране было невозможно поверить во весь ужас гитлеровского плана по расовому покорению и уничтожению народов Восточной Европы. Ни Рузвельт, ни Черчилль не знали в полной мере о жестоком обращении немцев с советскими военнопленными. В этой связи произнесенный Сталиным тост не был оправдан. Правда, до американцев уже начала доходить информация о зверствах нацистов, и у них стало появляться чувство мщения. Несколько недель назад на Московской конференции Хэлл сказал: «Будь моя воля, я бы передал Гитлера, Муссолини и Тодзио и их пособников военно-полевому трибуналу. И на рассвете на следующий день свершилось бы историческое событие»[225].
В ходе пленарных заседаний Сталин неоднократно третировал Черчилля. Гарриман вспоминал: «Когда говорил президент, Сталин внимательно и уважительно слушал его, в то же время он, не колеблясь, прерывал или отпускал язвительные замечания в адрес Черчилля при малейшей возможности»[226]. И теперь, после тоста Сталина, Черчилль, наконец, взорвался. Он выкрикнул, что британский народ никогда не потерпит такого массового наказания. Он, должно быть, решил, что у него появилась возможность представить Сталина в качестве грубого, беспринципного, нецивилизованного тирана. Или же он, возможно, просто был уже настолько пьян, что его скрываемый от всех страх того, что Германия может выйти из войны истощенной и недостаточно сильной, чтобы противостоять России, вдруг выплеснулся наружу.
По словам Эллиота, затем Черчилль заявил: «Подобная установка коренным образом противоречит нашему, английскому, чувству справедливости! Я пользуюсь этим случаем, чтобы высказать свое решительное убеждение в том, что ни одного человека, будь он нацист или кто угодно, нельзя казнить без суда, какие бы доказательства и улики против него ни имелись!»[227]
Эллиот Рузвельт вспоминает эту сцену именно такой. Согласно же изложению самого Черчилля, во время этого инцидента он сказал следующее: «Английский парламент и английский народ никогда не потерпят массовых казней. Даже если на войне позволят проявляться страстям и яростно обратят их против тех, кто несет ответственность за начало бойни. Советы, безусловно, должны придерживаться этого принципа»[228].
Сталин, как заметил Эллиот Рузвельт, оставался серьезным, но его глаза смеялись. Он повернулся к президенту Рузвельту, который, как вспоминал Эллиот, еле сдерживал улыбку, и осведомился о его мнении.
«Как обычно, – ответил Рузвельт, – мне, очевидно, приходится выступать в качестве посредника и в этом споре. Совершенно ясно, что необходимо найти какой-то компромисс между вашей позицией, господин Сталин, и позицией моего доброго друга премьер-министра. Быть может, вместо казни пятидесяти тысяч военных преступников мы согласимся на меньшее число. Скажем, на сорок девять тысяч пятьсот?»[229] (Сам Рузвельт как-то на заседании правительства высказался о немцах следующим образом: «С ними следует поступить сурово, но я бы не стал применять слишком жесткое наказание… Просто организовать на местах военно-полевые суды, и завершить все это быстро». Министр финансов Генри Моргентау считал, что надо составить список крупных германских преступников и, захватив этих людей, сразу же расстрелять их[230].)
Черчилль, который был хорошо известен своим поразительным пристрастием к спиртному, весь вечер постоянно пил коньяк, и на этот раз он перебрал. Его лицо и шея побагровели. Возмущенный, он резко встал, опрокинув при этом свою рюмку с коньяком, и, повернувшись к Сталину и Рузвельту (коньяк в это время растекался по столу), он прокричал, что военные преступники должны заплатить за свои преступления, они должны предстать перед судом, и что он был только против казней с политическими целями[231]. Далее, критикуя Рузвельта, он заявил, что был против обеспечения сверхдержавами контроля за стратегическими объектами, предложенного Рузвельтом в начале конференции. Он добавил, продолжая критиковать Рузвельта, что Великобритания будет крепко удерживать свои территории и базы, и никто не сможет забрать их у нее, не развязав с ней войны. Он упомянул, в частности, Гонконг и Сингапур. Великобритания при определенных обстоятельствах может предоставить им независимость, разглагольствовал он, но «это будет сделано только самой Великобританией в соответствии с ее собственными моральными заповедями».
Сталин наслаждался этой сценой. Самым доброжелательным образом он обошел всех за столом, опросив каждого из присутствовавших, сколько немцев, по его мнению, следует расстрелять. Иден и Кларк Керр, будучи дипломатами, тактично уклонились от ответа, указав, что этот вопрос требует внимательного изучения. Ответ Гарримана не сохранился. Но когда очередь дошла до Эллиота, он (как вспоминал он сам) поднялся и сказал:
– Русские, американские и английские солдаты разделаются с большинством из этих пятидесяти тысяч на поле боя, и я надеюсь, что такая же судьба постигнет не только эти пятьдесят тысяч военных преступников, но и еще сотни тысяч нацистов[232].
До того как Эллиот успел сесть, Сталин обошел вокруг стола, обнял его за плечи и проговорил:
– Превосходный ответ! Тост за ваше здоровье!
Для Черчилля это было уже слишком. Он закричал на Эллиота:
– Вы понимаете, что вы сказали? Как вы осмелились произнести подобную вещь?
Он поднялся и прошел в гардероб, находившийся в полутьме по соседству. Сталин последовал за ним, чтобы принести извинения и загладить этот инцидент.
Сам Черчилль, описывая эту сцену, представил для истории свою собственную версию: «Меня там не было буквально минуту, как за моей спиной начали хлопать, и Сталин вместе с Молотовым, оба широко улыбаясь, нетерпеливо заявили, что они просто разыграли нас… Когда Сталин поступает так, то он очень увлекается, и я до этого момента еще никогда не видел, чтобы он разыгрывал кого-либо до такой степени… Я согласился вернуться, и остальная часть вечера прошла приятно»[233].
Они вместе вернулись, и у Сталина на лице сияла широкая улыбка.
Разговор возобновился. Черчилль сильнее, чем обычно, дымил своей сигарой.
Рузвельт переменил тему на нейтральную (как он надеялся), заявив, что базы и стратегические объекты в непосредственной близости от Германии и Японии должны быть подконтрольны.
Сталин согласился с этим.
Черчилль все еще находился в воинственном настроении. На командном пункте в Лондоне, где Черчилль и высшее командование Великобритании планировали стратегию страны и следили за развитием военной обстановки, на трех стенах перед ним были развешаны огромные карты. На картах на левой и на центральной стенах отмечался ход сражений на суше и на море по всему миру. Но в поле зрения Черчилля на правой стене всегда была таких же размеров выполненная в красном цвете (и вызывающая чувство благоговения) карта Британской империи. С 1905 года по 1908 год Черчилль был заместителем министра по делам колоний, а в 1921 и 1922 годах – министром по делам колоний. Мысли об империи никогда не покидали его.
Сейчас, утратив самообладание, он сделал выпад в сторону Рузвельта, объявив, что Великобритания не желает приобретать каких-либо новых территорий или баз, «однако намерена удерживать те, которые у нее есть … и никто не сможет забрать их у нее, не развязав с ней войны!»
Рузвельт продолжал хранить молчание. Сталин решил вмешаться с миротворческой целью, высказавшись в том духе, что Великобритания хорошо показала себя в войне и что лично он выступает за увеличение Британской империи, «в частности, за счет территорий в районе Гибралтара», которые в то время находились под контролем Франко.
Черчилль, ошибочно полагая, что у него появилась возможность продемонстрировать заинтересованность Советского Союза в послевоенных территориальных приобретениях, поинтересовался, в чем будут заключаться территориальные интересы России. Ответ Сталина, однако, не доставил ему удовлетворения. Маршал ответил: «Когда придет время, мы об этом поговорим»[234].
Они расстались. Если Рузвельт и сказал что-то напоследок, то его слова не дошли до нас.
Болен позже заметил, что, когда он заглянул в теперь уже почти безлюдную столовую, русский высокого роста (под два метра) и крепкого телосложения, в белом пиджаке, который весь вечер стоял за спиной Сталина (поэтому он решил, что это официант), снял пиджак – и оказалось, что под ним была форма генерал-майора.
Эллиот опасался, что он спровоцировал скандал своим ответом Сталину. После обеда он попытался извиниться перед отцом за то, что, как он опасался, он испортил отношения между союзниками. Однако Рузвельт ответил ему, что он находит этот инцидент просто забавным. Он заверил Эллиота:
– Ты ответил совершенно правильно. Это был прекрасный ответ. Уинстон просто потерял голову, увидев, что никто не принимает его слова всерьез. Дядя Джо… так допек его, что Уинстон готов был обидеться на любые слова, особенно если они понравились Дяде Джо[235].
Он, очевидно, не чувствовал угрызений совести в связи с тем, что не вмешался.
Позже тем же вечером Гопкинс, стремясь удостовериться в том, что Черчилль согласен со сроками проведения операции «Оверлорд», посетил английское посольство, чтобы дать понять премьер-министру: следует отказаться от попыток перенести сроки проведения этой операции, поскольку Соединенные Штаты и Советский Союз уже определились в них; ему остается лишь смириться с этим. Неясно, направился ли Гопкинс туда по собственной инициативе или же по просьбе президента, но, учитывая близкие отношения между ними, данный визит, вероятно, состоялся по результатам обсуждения ими этого вопроса.
Черчилль никогда не простил Эллиоту Рузвельту этого инцидента. До этого Эллиот был частым гостем в Чекерсе, усадьбе Черчилля, и находился с премьер-министром в таких хороших отношениях, что Черчилль обращался с Эллиотом, словно с сыном. Однажды, в конце недели, Эллиота позвали к Черчиллю, чтобы проститься. «Премьер-министр бродил по комнате, – вспоминал Эллиот, – и из одежды при нем была только сигара»[236]. Таким было завершение их отношений. К сожалению Эллиота, его больше никогда не приглашали в Чекерс.
* * *
Когда Объединенный комитет начальников штабов США и Великобритании (высшая военная структура союзников[237]) собрался на следующее утро, во вторник, 30 ноября, на совещание, даже сэр Алан Брук, начальник Имперского Генерального штаба ВС Великобритании, получив соответствующие указания от Черчилля, снял свои возражения против согласованных сроков проведения операции «Оверлорд». Объединенный комитет единогласно рекомендовал «президенту и премьер-министру, соответственно, чтобы мы сообщили маршалу Сталину о начале операции “Оверлорд“ в мае месяце одновременно с обеспечивающей операцией на юге Франции, которая планируется в максимально возможном масштабе с учетом имеющихся на этот момент времени десантных кораблей».
Тем не менее имеются свидетельства того, что борьба продолжалась до самого конца: на проекте документа, касавшегося операции «Оверлорд», была фактически проставлена дата «1 июня». Рузвельт перечеркнул ее и твердой рукой написал: «Май»[238].
Рузвельт провел часть утра в киоске по продаже персидских сувениров, который был открыт в советском посольстве специально для американского персонала. Среди ножей, кинжалов, ковров и других предметов он выбрал «более или менее старинную» чашу, которую он был намерен подарить Черчиллю на день его рождения позже во время ужина.
За обедом в посольских апартаментах Рузвельта президент, Черчилль и Сталин (с участием своих переводчиков) обсудили некоторые детали предстоящих действий. Рузвельт сообщил Сталину, что Объединенный комитет начальников штабов США и Великобритании согласился с тем, что операция «Оверлорд» должна будет начаться 1 июня и что одновременно начнется обеспечивающая операция на юге Франции. Сталин выразил «глубокое удовлетворение»[239] и заявил, что Красная армия также в это же время проведет ряд наступательных операций, чтобы тем самым подтвердить, какое значение она придает данному решению.
Но его вопрос, который он задал накануне, остался без ответа, поэтому Сталин спросил еще раз:
– Когда будет назван главнокомандующий?[240]
Рузвельт все еще выбирал между генералом Маршаллом и генералом Эйзенхауэром. На вопрос Сталина он ответил, что для принятия решения ему нужно несколько дней. Президент затронул вопрос о подходах к проблеме Балтики, которую он начал зондировать в первый вечер как раз перед тем, как ему стало нехорошо. Он отметил, что ему «нравилась идея превращения… Бремена, Гамбурга и Любека в некое подобие свободной зоны, чтобы при этом Кильский канал находился под международным контролем и имел международный характер, со свободой его прохода для торговых судов любой страны мира». Несколько месяцев назад в Советском Союзе при Народном комиссариате иностранных дел была создана Комиссия по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства для рассмотрения именно этих вопросов. Эта комиссия под председательством Максима Литвинова выработала концепцию, которая предусматривала, что Россия получит в свое распоряжение важные в стратегическом отношении районы и опорные пункты, а Кильский канал – международный статус.
Сталин ответил: «Это неплохая идея». Затем он спросил напрямик: «Что можно было бы сделать для России на Дальнем Востоке?»
Черчилль воспользовался этой возможностью, чтобы прозондировать почву – то, чего Сталин как раз никогда не любил. Как он высказался, ему было бы «интересно узнать мнение Советского правительства в отношении Дальнего Востока».
Безусловно, по времени вопрос Черчилля был неуместен, но самое главное заключалось в том, что Сталину было действительно неинтересно выслушивать это от Черчилля: Сталин задал свой вопрос, чтобы узнать мнение Рузвельта. В силу вышесказанного Сталин ответил премьер-министру, что у Советского Союза есть своя точка зрения, но было бы лучше дождаться того времени, когда советская сторона примет активное участие в войне на Дальнем Востоке. Он добавил, что все порты на Дальнем Востоке были закрыты для использования Советским Союзом, поскольку Владивосток был лишь часть года свободен ото льда и мог быть в любой момент перекрыт японцами. Тогда Рузвельт вмешался, чтобы ответить на вопрос Сталина: «На Дальнем Востоке можно было бы применить идею свободного морского порта… Дайрен[241]… Вполне возможно».
Сталин поинтересовался у президента, как к этой идее относится китайская сторона: он полагал, что ей вряд ли понравится такая схема.
Рузвельт только что вернулся с Каирской конференции, где он беседовал с Чан Кайши, поэтому основу высказанной им идеи составляла информация, которая была скрыта за дипломатическими экивоками: он считал, что Китай хотел бы иметь свободный морской порт с международными гарантиями. Сталин ответил: «Это было бы неплохо». Он отметил, что у России был незамерзающий порт на Камчатке, но с ним отсутствовало железнодорожное сообщение. «В целом у страны, по существу, был только один незамерзающий порт – это Мурманск».
Черчилль заявил, что страны, которые будут управлять послевоенным миром, «должны быть довольны своим статусом и не иметь никаких территориальных или каких-либо других претензий и амбиций… Голодные страны и амбициозные страны опасны».
Его слова были хорошо восприняты собеседниками. Рузвельт и Сталин согласились с Черчиллем, при этом оба пришли к выводу, что эти торжественно прозвучавшие слова для главы Британской империи, по-прежнему самой крупной колониальной державы в мире, было произнести не так уж и сложно. У Черчилля была другая проблема: ему предстояло обеспечить защиту границ империи и спасти ее от распада.
Утром, после посещения киоска с сувенирами, Рузвельт встретился в своем кабинете в посольстве с молодым шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви. В ходе беседы шах поднял тему о том, как Великобритания прибрала к рукам нефтепромыслы и месторождения руд в его стране. Рузвельт (по словам Эллиота, который присутствовал при этом) сочувственно выслушал его рассказ и согласился с тем, что необходимо что-то предпринять, чтобы защитить природные ресурсы Ирана. Когда молодой шах ушел, Рузвельт попросил Эллиота найти Патрика Херли и поручить ему подготовить проект меморандума, который предстояло подписать ему, президенту, а также Сталину и Черчиллю и который гарантировал бы независимость Ирана и его право на экономическую самостоятельность.
После встречи со Сталиным и Черчиллем Рузвельт работал с Херли над проектом, подготовленным Патриком, который в последующем станет Декларацией трех держав об Иране. Херли разделял позицию Рузвельта относительно того, что британская политика в Иране была империалистической, но, тем не менее, было важно, чтобы британский военный флот, который использовал иранскую нефть (Черчилль называл ее «сказочный приз за пределами наших самых смелых мечтаний»), по-прежнему получал ее.
Обычно подобные проекты подготавливались сотрудниками Госдепартамента, но Рузвельт был настолько низкого мнения о чиновниках этого ведомства, что не желал иметь дела ни с кем, кроме Чарльза Болена, который работал там в качестве переводчика. Рузвельт называл чиновников внешнеполитического ведомства не иначе как «мальчиками из Госдепартамента в брюках в полоску, помешанными на соблюдении формальностей». Президент говорил своему сыну Эллиоту спустя некоторое время после Тегеранской конференции: «Большинство из них убеждены, что для того, чтобы определить, какую Америке необходимо проводить внешнюю политику, необходимо выяснить, что делают англичане, а затем скопировать их». Гопкинс также недолюбливал чиновников Госдепартамента, язвительно описывая тех, с которыми ему довелось столкнуться, следующим образом: «Дипломаты-белоручки, светские бездельники, слюнтяи и, как правило, изоляционисты до мозга костей»[242].
Многие сотрудники внешнеполитического ведомства проходили подготовку под руководством Роберта Ф. Келли, антисоветски настроенного начальника отдела Госдепартамента по восточноевропейским делам, и, несомненно, они были против «Нового курса» и его внешнеполитической установки на сближение с Россией. Рузвельт дал заместителю госсекретаря Самнеру Уэллсу, стремительному в своих действиях и решительному руководителю, поручение реорганизовать этот отдел и перестроить его текущую деятельность на новой основе. Рузвельт знал Уэллса (который, как и сам президент, окончил Гротон и Гарвард и вышел из Демократической партии) еще с тех времен, когда тот на его свадьбе в 1905 году двенадцатилетним мальчиком нес шлейф платья Элеоноры. Уэллс с благословения президента приступил к вытеснению Келли из Госдепартамента и слиянию отдела по восточноевропейским делам с отделом по делам Западной Европы. Тем не менее дух антисоветизма среди сотрудников дипломатической службы пустил слишком глубокие корни. Большинство чиновников внешнеполитического ведомства были настроены против оказания помощи России даже после того, как Гитлер напал на Советский Союз. Они даже не пытались понять позицию Сталина в отношении Запада. Так, в последующем Чарльз Болен напишет про сотрудников Госдепартамента, включив и себя в их число, что их оценка Сталина в годы войны была настолько ошибочной, что «у нас, тех, кто принимал участие в решении вопросов, связанных с Советским Союзом, были большие сомнения в том, насколько серьезно он рассматривает возможность вступления в такую международную организацию, как Объединенные Нации… Когда соответствующий проект был впервые предложен советским представителям, мы ждали их реакции с некоторым трепетом»[243]. Келли был вовсе не одинок в своих взглядах среди сотрудников Госдепартамента. Большинство (хотя были и исключения) пришло на дипломатическую работу в это ведомство из консервативных, состоятельных, известных семей восточных штатов, которые резко выступали против «Нового курса». Даже Болен, чьи взгляды под воздействием Гарри Гопкинса и Рузвельта претерпели изменения, следовал их стереотипам. Неудивительно, что Болен посещал англиканскую церковь и Гарвард, где он вступил в мужской студенческий клуб «Порселлиан», самый снобистский из всех клубов Гарварда. Отец Рузвельта также был членом этого клуба, а сам он не был принят в его члены, и это явилось самой болезненной неудачей в годы его молодости, прежде чем он заболел полиомиелитом. (Болен, конечно же, знал, как и каждый член клуба «Порселлиан», что Рузвельт не был «клеймен», как называли это «порселлианцы», поскольку эта информация ходила среди нестареющих клубных новостей и, несомненно, порой давала Болену повод отзываться о президенте с некоторым оттенком превосходства. С другой стороны, президент, возможно, не знал, что его новый переводчик был членом клуба «Порселлиан».)
Рузвельту нравилось иметь дело с теми (как с мужчинами, так порой и с женщинами), которые понимали, чего он хочет, и делали бы это без лишних вопросов. Херли относился как раз к этой категории людей.
С тех пор как Рузвельт в марте 1942 года объявил, что Иран имеет право на поставки по программе ленд-лиза, Соединенные Штаты приобрели серьезное влияние в стране. К моменту проведения Тегеранской конференции американцы контролировали такие сферы деятельности Ирана, как финансы, работу полиции, снабжение населения продовольствием. Кроме того, Соединенные Штаты занимались также вопросом реорганизации иранской армии. Рузвельт хотел получить простую, ясную декларацию, которая бы подтвердила иранцам, что Америка уважала и намерена поддерживать территориальную целостность Ирана и после окончания войны, и в которой было бы зафиксировано, что Россия и Великобритания будут также соблюдать свои соглашения. Херли, который в значительной степени нес ответственность за обеспечение влияния США в Иране, должен был понимать, как составить такую декларацию.
В связи с тем что, по существу, это являлось повторением Атлантической хартии, ни Сталин, ни Черчилль не могли оспорить обещание «поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирана». Наряду с этим поскольку у каждой из их стран была своя история соглашений с Ираном, которая обычно игнорировалась, по всей вероятности, ни Черчилль, ни Сталин не придали значения этому заявлению, решив, что это рекламный ход. (На самом деле ни один из них не соблюдал впоследствии данного обещания. В Ялте, когда Энтони Иден предложил вновь подтвердить приверженность этой декларации, Молотов отказался. Великобритания, которая сохраняла влияние в южной части страны, где располагались нефтеперегонные заводы Англо-иранской нефтяной компании (АИНК) и важные нефтяные скважины, признала декларацию только на словах, продолжая в действительности практику присвоения львиной доли прибыли АИНК, расселяя сотрудников этой компании из числа иранцев в трущобах и отказываясь назначать иранцев на руководящие должности или же обучать их – что создало благоприятную почву для последующих социальных потрясений и революции.)
После того как Херли ушел, Рузвельт сказал Эллиоту: «Побольше бы нам таких людей, как Пэт, на которых я мог бы положиться».
Рузвельт продолжал проявлять обеспокоенность ситуацией в Иране. Учитывая, как мало он побыл в этой стране, он смог узнать про нее очень много. Через несколько недель после возвращения в Соединенные Штаты Рузвельт послал Хэллу записку с описанием своих впечатлений: «Иран, безусловно, очень-очень отсталая страна. Она состоит из нескольких племен, и 99 процентов населения, по существу, находится в рабстве у одного процента. 99 процентов населения не имеют своей земли и лишены возможности начать собственное дело или же превратить его в деньги или имущество»[244].
* * *
Был день рождения Черчилля (ему исполнялось шестьдесят девять лет), и именинник использовал это по максимуму. Днем британские и индийские военнослужащие и сотрудники Англо-иранской нефтяной компании устроили в его честь небольшой парад. Пользуясь таким случаем, Черчилль пригласил вечером к себе на ужин в британское посольство Рузвельта и Сталина, а также высших военных представителей и представителей внешнеполитических ведомств трех держав, Эллиота Рузвельта и своих детей Рандольфа Черчилля и Сару Черчилль-Оливер.
Это был прекрасный вечер. День был жарким, но с приходом темноты настала приятная прохлада. Для обеспечения безопасности (и чтобы создать драматический эффект от их формы) англичане поставили на входе в богато украшенное белое здание сикхов. Они также установили пандусы на входное крыльцо, чтобы Рузвельт в своей инвалидной коляске мог въезжать и выезжать.
Не доверяя британской основательности, Берия к приезду Сталина предпринял свои собственные меры безопасности. Сотрудники НКВД проверили здание сверху донизу, заглянув не только за каждую дверь, но под каждую подушку каждого кресла, и даже, по утверждению раздраженного Черчилля, опросили служащих посольства. К вечеру советская охрана находилась возле каждой двери и каждого окна, а также на крыше.
Тем не менее к началу ужина Черчилль вместе со своей дочерью Сарой сияли весельем (сам Черчилль счастливо дымил сигарой), принимая гостей, большинство из которых пришли с подарками. Рузвельт отметил, что, когда Черчилль представил Сару Сталину, тот склонился, «взял ее руку и поцеловал в старомодной, элегантной европейской манере».
Рузвельт подарил премьер-министру персидскую чашу, Сталин – папаху и большую фарфоровую скульптуру, изображавшую персонажей русских народных сказок. Черчилль был одет в смокинг, но Рузвельт, который не любил фрака и, как правило, избегал его, надел, как он это часто делал, когда требовалась официальная одежда, темно-синий костюм в едва заметную полоску и черный галстук-бабочку. Сталин был в форме.
Общество переместилось в элегантный обеденный зал, стены которого были выложены зеркальной плиткой, а окна задрапированы красными шторами. Длинные столы были уставлены хрусталем и серебром, мерцал свет свечей. Слуги были в ливреях и перчатках. Черчилль разместил своих гостей таким образом, чтобы Рузвельт находился справа от него, а Сталин – слева.
Посреди стола возвышался «грандиозный» праздничный торт, на вершине которого будут зажжены шестьдесят девять свечей.
Около каждого прибора находилось такое количество ножей и вилок, что Сталин был вынужден обратиться к британскому переводчику, Э. Г. Бирсу, сидевшему рядом с ним: «Прекрасная коллекция столовых приборов, но выбрать из них верный – проблема. Вы должны будете подсказывать мне, а также дать знать, когда я могу начать есть. Мне незнакомы ваши обычаи»[245].
Блюда, поданные к ужину, на самом деле были довольно простыми и скромными, особенно по советским стандартам. В соответствии с британской традицией перед каждым на столе было размещено меню: бычий хвост в кляре, филе морского языка в кляре в соусе «муслин», фаршированная индейка с пряностями, сезонный салат, винегрет со спаржей, яблочный пирог, фрукты.
Отовсюду сыпались тосты, после каждого из них все обычно вставали (безусловно, за исключением Рузвельта). Сталин поступал в своей обычной манере: он шел к тому, за кого поднимал тост, и чокался с ним. Черчилль делал то же самое. Таким образом, как вспоминал советский переводчик Валентин Бережков, «они вдвоем медленно перемещались по залу с бокалами в руках». Черчилль был настолько счастлив, что станцевал «веселый и безудержный танец английских моряков “хорнпайп“».
Рузвельт предложил тост за здоровье Сары Черчилль, после чего Сталин по своей традиции обошел стол, чтобы чокнуться с ней. Сара вспоминала, что, хотя он представлял собой «пугающую фигуру с узкими медвежьими глазами, он был в веселом настроении. В его глазах играли вспышки света, как холодные солнечные блики в темной воде»[246]. После того как она чокнулась со Сталиным, Сара подошла поблагодарить президента, который сказал ей (и это был редкий случай, когда он сослался на свое состояние): «Я бы тоже подошел к тебе, моя дорогая, но я не могу».
У всех остались в памяти две взаимных реплики Сталина и Черчилля. Во время одного из тостов Сталин упомянул Рузвельта и Черчилля как своих «боевых друзей» или «товарищей по оружию», затем он сделал паузу и сказал: «Если только это возможно для меня – считать Черчилля своим другом». В другом случае Черчилль заявил, что мир меняется. Он отметил в этой связи, что Великобритания стала приобретать «розовый» оттенок. В этот момент Сталин вставил: «Это признак здоровья». Черчилль ответил, что он согласен – при условии, что процесс не зайдет так далеко, чтобы привести к полнокровию и застою крови. Была еще одна весьма неоднозначная и удручающая сцена, когда Сталин в ответ на хвалебные тосты в его честь и в честь русского народа заявил, что «Красная армия сражалась героически, но русский народ и не ожидал ничего другого от своих вооруженных сил… Даже люди среднего мужества (и даже трусы) становились в России героями. Те, кто не погиб».
В какой-то момент Рузвельт поднял бокал и произнес тост за сэра Алана Брука, начальника Имперского Генерального штаба. Сталин сказал, что он хотел бы что-то добавить к тосту Рузвельта. Затем он заявил, что сожалеет о том, что сэр Алан так сурово и так недоверчиво относится к русским и что он пьет за здоровье генерала в надежде, что сэр Алан «лучше узнает нас и обнаружит, что, в конце концов, мы не так уж и плохи».
Результат был катастрофическим. Ужин до сих пор проходил в достаточно дружественной обстановке. Сэр Алан Брук уважал Сталина, но не любил его. Теперь же, несомненно, под влиянием излишка алкоголя Брук постучал ножом по своему бокалу и произнес тост, заявив, что англичане пострадали в этой войне больше, чем все другие, потеряли больше и сражались больше, чем любой другой народ.
После этого опрометчивого замечания, которое, как все в зале знали, было несправедливым (русские потеряли миллионы солдат и гражданского населения, больше, чем Великобритания, и уничтожили гораздо больше немцев, нежели англичане), «Сталин стал мрачен»[247], как вспоминал Бережков. «Он выглядел так, как будто вот-вот взорвется». Однако, взяв себя в руки, он спокойно сказал:
«Я хочу рассказать вам, что, с советской точки зрения, сделали для победы президент и Соединенные Штаты. В этой войне главное – машины. Соединенные Штаты доказали, что они могут производить от 8 до 10 тысяч самолетов в месяц. Советский Союз может производить в лучшем случае 3 тысячи самолетов в месяц. Англия производит ежемесячно от 3 до 3,5 тысячи самолетов, главным образом, тяжелых бомбардировщиков. Следовательно, Соединенные Штаты – страна машин. Без этих машин, полученных по ленд-лизу, мы бы проиграли войну»[248].
Позже американская пресса отметила, что Сталин сделал самый громкий комплимент в адрес Рузвельта, который когда-либо звучал от руководителя самой крупной коммунистической страны в мире в адрес руководителя самой крупной капиталистической страны в мире. Кроме того, он смог также виртуозно изменить тему беседы.
Рузвельт, конечно же, должен был ответить, и в своем ответном тосте он воспользовался возможностью, чтобы подчеркнуть их самое большое достижение в Тегеране: они сделали первые шаги для объединения наций («Даже здесь, как он сделал это и в конференц-зале, Рузвельт посчитал необходимым упомянуть о послевоенном устройстве мира и о важности сохранения единства и сотрудничества великих держав не только на данный момент, но и в будущем», – отметил Бережков.).
«У всех нас разные обычаи, философские воззрения и образ жизни. Каждый из нас выработал свою схему действий в соответствии с устремлениями и идеями наших народов.
Однако в Тегеране мы доказали, что различные идеалы наших народов могут совпасть в единое, гармоничное целое, чтобы сплоченно служить для нашего общего блага и ради всего мира.
Завершая описание этой исторической встречи, мы впервые увидим в небе традиционный символ надежды – радугу».
На этом обед закончился.
Глава 6 Укрепляя союз
Рузвельт планировал остаться в Тегеране до четверга, 2 декабря, но погода изменилась к худшему, в горах пошел снег. Он решил уехать поздно вечером в среду и уведомил всех об этом.
Он провел последнее утро, просматривая срочную официальную почту, которая должна была быть отправлена. Пленарное заседание со Сталиным и Черчиллем должно было начаться в конференц-зале в полдень, продолжиться на обеде в апартаментах президента и затем вновь в конференц-зале после обеда, а в случае необходимости и вечером, пока все проблемы не будут решены.
Рузвельт, конечно же, не знал, как тщательно Сталин следил за его частными разговорами, но был в курсе, что у Сталина была привычка заглядывать в его комнаты, чтобы убедиться, что о президенте хорошо заботятся. Уильям Ригдон, пресс-секретарь Рузвельта, и Зоя Васильевна Зарубина, советская разведчица, которая говорила по-английски и которой было поручено контролировать, чтобы у Рузвельта все было в порядке, были свидетелями того, как Сталин несколько раз без приглашения появлялся в комнатах Рузвельта. По словам Ригдона, иногда Сталин приходил вместе с Павловым, однажды он спросил, «не нуждаются ли они в чем-либо»[249], и через Павлова пояснил смысл русских безделушек на столе у Рузвельта. «При этом он все время улыбался и выказывал своему гостю большое уважение… Сталин обычно настаивал, чтобы президент продолжал заниматься своим делом. “Не позволяйте мне мешать вам работать”, – говорил он через Павлова».
Зарубина вспоминала, что однажды утром она впервые увидела Сталина, когда он находился рядом с апартаментами Рузвельта и, очевидно, был намерен зайти к президенту. Она перевела вопрос Сталина: «Можно войти?» Рузвельт ответил: «Добро пожаловать».
«Разговор начался с простых вопросов Сталина Рузвельту: «Как вы себя чувствуете? Хорошо ли спали?» Президент ответил: «Да, я выспался. Мне здесь нравится. Лягушки, правда, квакали в пруду и некоторое время не давали мне заснуть». Я обернулась, посмотрела на Сталина и от волнения забыла, как будет на русском языке слово «лягушка». Тогда я сказала: «Иосиф Виссарионович, такие маленькие желтые животные, которые квакают в пруду, мешали президенту США заснуть». Я всегда начинаю свои воспоминания с этой сцены, поскольку это был для меня своего рода шок и провал»[250]. (Согласно советским документам, чтобы не нарушать сна Рузвельта, все лягушки были убиты).
Теперь, в последнее утро перед своим отъездом, Рузвельт, просмотрев почту, решил, как и Сталин, поступить неформально и зайти к нему частным образом. Рузвельт полагал, что если бы он смог вызвать Сталина на откровенность, проявить единство взглядов, тогда Сталин мог бы начать доверять ему. Рузвельт чувствовал: требуются дружеские отношения, чтобы заставить Сталина принять его планы, подразумевавшие признание необходимости силовых методов. Объединенные Нации, планируемые Рузвельтом, были предназначены для принуждения к миру, для обуздания стран-изгоев, стран-нарушителей, и они должны будут черпать власть из власти его полномочных членов. Это означало, что каждая страна должна была отказаться от некоторой части своей власти в пользу организации. Навязать Сталину идею о передаче власти было трудным делом. Для создания Объединенных Наций Рузвельт нуждался в полном сотрудничестве со Сталиным, что-либо меньшее означало поражение. И он собирался добиться этого сотрудничества своим собственным, особым образом.
В этот день Рузвельт был весьма коварен. Он имел склонность играть людьми – и он брал над ними верх, поскольку был слишком умен и превосходно разбирался в людях. Он играл, например, с генералом Дугласом Макартуром, которого он считал талантливым генералом, но весьма опасным лидером, которого необходимо держать под неустанным контролем. Как отмечал биограф Макартура, Уильям Манчестер, Рузвельт одновременно расхваливал генерала и ставил его в тупик. Рузвельт однажды сказал, что он считает генерала одним из двух самых опасных людей в стране. (Другим был губернатор Луизианы Хью Лонг, беспринципный демагог, который был убит в 1935 году. Этих двух людей объединяло то, что они оба были возможными претендентами на пост президента страны.)
Макартур совершил непростительный для военного шаг: он ослушался приказа. Вместо того чтобы разогнать ветеранов Первой мировой войны, которые, требуя денежных компенсаций, расположились со своими семьями возле Вашингтона летом 1932 года (как ему было приказано это сделать), он поджег их лагерь. Погибли невинные люди, в том числе дети. Находясь на посту президента, Рузвельт воздавал Макартуру почести как генералу, но в остальном обращался с ним как с лидером консервативных политических кругов.
Как-то спустя несколько лет на ужине в Белом доме Макартур спросил Рузвельта: «Господин президент, почему вы часто спрашиваете мое мнение по поводу социальных реформ, находящихся на этапе рассмотрения… но обращаете мало внимания на мои взгляды по военным вопросам?» Рузвельт ответил с честностью Макиавелли: «Дуглас, я не могу довериться вашим советам по этим вопросам, но могу довериться вашей реакции на них. Для меня вы являетесь символом совести американского народа»[251].
Теперь, оказавшись лицом к лицу с Иосифом Сталиным, сдержанность и скрытность которого он хотел преодолеть, он решил прибегнуть к одной из своих игр. Как позже Рузвельт сообщил Фрэнсис Перкинс, он понял, что должны быть востребованы кардинальные меры, иначе «со всем тем, что мы делали, могли бы справиться и министры иностранных дел»[252].
Его «операция», направленная на установление личных дружеских контактов со Сталиным, причем за счет Черчилля, была организована им как раз перед последней пленарной сессией. Черчилль был в плохом настроении. По воспоминаниям Рузвельта, когда они вошли в конференц-зал, «у меня была ровно секунда, чтобы сказать ему: «Уинстон, я надеюсь, вы не рассердитесь на меня за то, что я собираюсь сделать». Черчилль в ответ лишь перекатил свою сигару во рту и что-то пробурчал. Как только они расселись вокруг стола, Рузвельт (как он сам рассказывал позже Перкинс) «начал лично общаться со Сталиным. Я не говорил ему ничего такого, чего я не высказывал раньше, но делал это настолько по-дружески и конфиденциально, что и другие русские стали прислушиваться к нам. Сталин оставался по-прежнему сдержанным.
Тогда я сказал, прикрыв рукой рот (но так, чтобы переводчик смог перевести мой шепот): «Уинстон сегодня не в духе, он встал с утра не с той ноги».
Смутная улыбка появилась в глазах Сталина, и я понял, что был на верном пути… Я начал дразнить Черчилля его британской гордостью, его сигарами, его привычками, называть его Джоном Буллем[253]. Сталин отметил это. Уинстон покраснел и нахмурился, и чем больше он так делал, тем больше улыбался Сталин. Наконец, Сталин разразился глубоким, от души, смехом, и впервые за эти три дня я увидел просвет в наших отношениях, и у меня появилась надежда. Я продолжал свою тактику, Сталин смеялся вместе со мной, и именно тогда я назвал его “Дядюшкой Джо”. Накануне, возможно, он общался со мной прохладно, но в тот день он засмеялся и подошел ко мне пожать мне руку.
С этого времени наши отношения перешли на личный уровень, и Сталин сам стал время от времени отпускать различные шутки и остроты. Лед был сломан, и мы начали общаться как обычные люди, как братья».
Поддразнивая Черчилля, Рузвельт, несомненно, хотел тем самым показать Сталину, что он теперь чувствовал себя так же комфортно и хорошо со Сталиным, как и с премьер-министром. Этим он привел Сталина и, конечно же, самого себя в хорошее расположение духа. В июне Литвинов сообщил, что Рузвельт «был полностью убежден в необходимости открытия “второго фронта” как можно скорее, и, безусловно, в Западной Европе», но что он «постепенно отошел от этого мнения под давлением своих военных советников и, особенно, Черчилля… Возможно предположить, без риска ошибиться, что там, где дело касалось военной политики, Черчилль вел Рузвельта на буксире»[254].
Примерно в то же время Дэвис сообщил Рузвельту, что Сталин обвинил президента США в поддержке «традиционной британской внешней политики, направленной на то, чтобы отгородиться от России, закрыв Дарданеллы и выстроив систему компенсационного баланса сил против нее»[255].
Если у Сталина все еще оставались сомнения относительно внешнеполитических целей Рузвельта или относительно того, вел ли Черчилль его на буксире, то Рузвельт хотел поставить на них крест.
* * *
Пленарное заседание началось. Гопкинс и Гарриман сидели по обе стороны от президента, Иден и британский посол Кларк Керр – по обе стороны от Черчилля, Молотов – рядом со Сталиным. Рузвельт открыл совещание вопросом о том, что можно было бы предпринять, чтобы побудить президента Турции Исмета Иненю вступить в войну. И Объединенный комитет начальников штабов, и Рузвельт считали, что вступление Турции в войну в целом нецелесообразно, поскольку могло обойтись слишком дорого – с учетом необходимости предоставления туркам боевой техники и вооружения, в частности десантных кораблей, уже предназначенных для операции «Оверлорд». Тем не менее Черчилль, понимая, что это создаст проблемы для организации операции «Оверлорд», утверждал, что мотивированная Турция, обеспеченная десантными кораблями, могла бы осуществить успешную операцию по захвату Родоса, который он считал стратегически важным островом. Он предложил направить десантные корабли из Тихоокеанской зоны. Однако Гопкинс, проявив твердость, заявил, что свободных десантных кораблей в распоряжении не было. Рузвельт также сказал, что переброска откуда-либо десантных кораблей «абсолютно невозможна»[256]. Сталин не придал этим разногласиям значения, поскольку вопрос был закрыт.
Обсуждение продолжилось в течение обеда, который был организован в апартаментах Рузвельта его слугами-филиппинцами.
Затем Рузвельт поднял тему Финляндии. Он был крайне недоволен вторжением Советского Союза в Финляндию в 1939 году, назвав в одном из писем эту войну «ужасным насилием»[257]. На заседании правительства, состоявшегося после вторжения советских войск в Финляндию, президент Рузвельт объявил, что в Советский Союз не будет поставляться вооружение или какое-либо военное снаряжение. С тех пор ситуация, безусловно, резко изменилась: финские войска входили теперь в состав германских войск, обеспечивавших блокаду Ленинграда. Рузвельт полагал, что он знал, о чем сейчас думал Сталин: в июне 1942 года Литвинов рассказал Гопкинсу, что Сталин решил воздерживаться от каких-либо действий в отношении Финляндии. Рузвельт надеялся, что Литвинов правильно сообщил о позиции Сталина, но он не особенно рассчитывал на то, что Сталин будет неукоснительно придерживаться ее: он был готов к любому развитию событий. Как он в сентябре мрачно написал архиепископу Нью-Йорка кардиналу Спеллману, он считал, что была высока вероятность того, что Сталин заявит притязания на Польшу, Прибалтику, Бессарабию и Финляндию, «поэтому было лучше уступить их изящно… Что мы можем поделать с этим? Через десять или двадцать лет… под европейским влиянием русские, возможно, перестанут быть такими грубыми варварами»[258].
Сталин успокоил президента. Он вначале выступил с критикой в адрес Финляндии, отметив, что на советском фронте находилась двадцать одна финская дивизия и что уже двадцать семь месяцев Ленинград был в блокаде, организованной совместно финскими и германскими войсками. Наряду с этим он заявил, что у России не было «никаких планов» по вопросу о независимости Финляндии. Рузвельт был чрезвычайно доволен.
Затем разговор перешел к некоторым деталям советских территориальных претензий к Финляндии. Сталин заявил, что он хотел бы получить один из двух портов: Ханко на южном побережье Финляндии или Петсамо на северной оконечности ее побережья: «Если передача Ханко представляет собой проблему, то я готов согласиться на Петсамо»[259]. У Рузвельта, который вздохнул с облегчением, не было никаких возражений. «Это справедливый обмен», – признал он.
Заседание на время прервалось.
Рузвельт обратился к Сталину с просьбой в последний раз встретиться с ним без присутствия Черчилля.
Сталин появился у Рузвельта в 15:20 в сопровождении Молотова. С президентом был Гарриман.
Как всегда, Рузвельт обозначил повестку дня. Как только он со Сталиным расположились друг напротив друга, он упомянул две темы. Первая – это Польша.
Рузвельт был готов согласиться с контролем Советского Союза над Польшей при условии, что она будет миролюбивой страной и ее политические структуры сохранятся. Рузвельта забавлял очевидный недостаток энтузиазма в отношении польского правительства в изгнании в Лондоне, хотя Соединенные Штаты, как и Великобритания, признали его в качестве официального правительства Польши. Он считал, что оно не являлось представителем своей страны. Кроме того, оно было нереалистичным в своих ожиданиях и, что еще более важно, занимало явную антисоветскую позицию. Непосредственно перед тем, как отправиться в Тегеран, он высказал свои мысли молодому английскому другу Элеоноры Рузвельт: «Я устал от этих людей. Посол Польши некоторое время назад приходил ко мне, чтобы переговорить по этому вопросу»[260]. Продолжив, он изобразил просьбу посла оказать помощь в отношениях с советской стороной: «Я сказал [ему]: «Как вы думаете, они будут готовы прекратить это, чтобы порадовать вас или нас? Или вы ожидаете, что США и Великобритания объявят войну дядюшке Сталину, если они перейдут заветные границы вашей страны?»
У Гарримана также были серьезные сомнения в отношении польского правительства в изгнании. Он описывал его как группу аристократов, которые ожидали, что американцы и англичане восстановят их положение и их земельные владения (достаточно обширные) и поддержат феодальную систему, которая существовала в Польше в начале века.
Рузвельт, общаясь со Сталиным, не стал останавливаться на этих вопросах. Он дал понять, что он рассматривает будущее Польши через призму предстоявших в США президентских выборов: если война все еще продолжится в 1944 году, он будет баллотироваться на четвертый срок, и если он решится на этот шаг (а он пока еще не объявил об этом), то ему будут нужны голоса американцев польского происхождения (от шести до семи миллионов человек). Следует отметить, что Рузвельт сильно преувеличивал число польского населения в Америке: по данным переписи населения США 1940 года, в США было менее миллиона коренных поляков и менее двух миллионов граждан польского происхождения. Рузвельт подчеркнул, что он не будет принимать участие в какой-либо дискуссии о границах Польши с учетом его заинтересованности в голосах поляков, но он согласен со Сталиным, что восточная граница Польши должна быть отодвинута на запад, а западная – перенесена на реку Одер. Такой шаг (с акцентом в западном направлении) мог бы одновременно дать Советскому Союзу то, что он хотел в отношении польской территории (присоединение ее части к своей территории), и увеличить территорию Польши за счет Германии.
Сталин ответил, что теперь он понял идею президента.
Затем Рузвельт вынес на обсуждение вопрос о балтийских странах – Литве, Латвии и Эстонии, – которые располагались между Советским Союзом и Балтийским морем. Они являлись провинциями России, пока Германия не захватила их во время большевистской революции, затем они были освобождены в результате Первой мировой войны и в 1939 году вошли в Лигу Наций. В 1940 году Сталин послал туда Красную армию и утвердил там силой свой порядок – по его мнению, восстановил порядок. Рузвельт был в ярости по поводу этих шагов. Как он пожаловался Самнеру Уэллсу, это была «откровенная грубость со стороны Москвы… Он искренне недоумевал, целесообразно ли продолжать поддерживать дипломатические отношения с Советским правительством»[261]. Рузвельт был настолько раздражен, что чуть не разорвал отношения с Советским Союзом и был готов закрыть все советские консульства. В конечном итоге он принял более мягкое решение – заморозить советские активы. Вторжение Гитлера, конечно же, изменило все эти планы, и хорошие отношения между двумя странами сразу же были восстановлены.
Рузвельт продолжал считать, что страны Балтии должны быть свободными. В марте 1943 года он сказал Энтони Идену, что ему не нравится идея возвращения стран Балтии в состав России и что Советский Союз «серьезно упадет в общественном мнении, если будет настаивать на своем». Он считал, что «прежний плебисцит, очевидно, был сфальсифицирован». В октябре Рузвельт сказал Хэллу, что он намерен обратиться к высоким моральным качествам Сталина и указать ему, что с точки зрения позиции России в мире было бы правильно, чтобы Советский Союз согласился провести референдумы в Латвии, Литве и Эстонии через два года после окончания войны. Однако к ноябрю Рузвельт изменил свое мнение и смирился с существующим положением дел. «Все эти прибалтийские республики ничем не лучше русских»[262], – сказал он другу Элеоноры лейтенанту Майлзу.
Теперь Рузвельт относился к этой теме очень деликатно. По воспоминаниям Болена, президент в шутливой форме говорил, что, хотя в США проживали литовцы, латыши и эстонцы (которые также принимали участие в голосовании), «когда советские войска вновь заняли Прибалтику, он не был намерен по этому поводу объявлять Советскому Союзу войну». Если же отрешиться от шутливой формы этого высказывания, то можно было понять, что Рузвельт испытывал внутренний дискомфорт, чувство неловкости в связи с отказом от своей прежней позиции. Ограничившись разъяснениями о необходимости соблюдать приличия, он говорил Сталину о роли общественного мнения в Соединенных Штатах, подчеркивая, что вопрос о референдуме и о праве этих трех стран на самоопределение будет иметь большую значимость и что «мировое общественное мнение выступает за то, чтобы эти народы выразили свою волю, возможно, не сразу же после их повторной оккупации советскими войсками, но в недалеком будущем»[263].
Сталин уже понял, что Рузвельт не намерен настаивать на статусе стран Балтии, однако заинтересован в соблюдении приличий, поскольку прошлым летом Литвинов уже информировал его об этом. «У США нет ни малейшего экономического или внешнеполитического интереса к проблеме Прибалтийских стран или к спорным пограничным вопросам между нами и Польшей… Тем не менее Рузвельт в связи с предстоящими президентскими выборами должен учитывать голоса выходцев из стран Балтии и Польши, а также американских католиков, и по этой причине он не желает открыто поддержать наши требования»[264], – сообщал тот.
Поэтому, отвечая сейчас на критику Рузвельта, Сталин знал о прочности своей позиции. Он заявил, что при последнем царе у этих трех стран не было автономии, что никто в то время не поднимал вопрос об общественном мнении и что он не видит основания поднимать его в настоящее время. Он добавил, что не согласится на международный контроль в каком бы то ни было виде. Наряду с этим он предложил провести определенную пропагандистскую работу.
Рузвельт поддержал эту идею. Он сказал, что «для него лично пошло бы на пользу, если с учетом предстоящих выборов могли бы быть сделаны некоторые публичные заявления, о которых упомянул маршал»[265].
Сталин ответил: «Имеется много возможностей для подобного выражения воли народа».
Само собой разумеется, что, с точки зрения Рузвельта, у Сталина не было прав на управление странами Балтии. Однако у Рузвельта имелись аналогичные проблемы и с Черчиллем по поводу прав Великобритании управлять Индией. Рузвельт добился согласия Черчилля на то, чтобы 1 января 1942 года Индия подписала Декларацию Объединенных Наций как самостоятельная страна, подобно Канаде, чему премьер-министр вначале противился («Черчилль немедленно отреагировал отрицательно, пожал плечами и стал тянуть время»[266], – заметил Рузвельт). Однако Черчилль не сделал ничего, чтобы обеспечить какие-либо шаги по ослаблению влияния Великобритании на Индию, хотя назревал бунт индийского населения, и в результате британской политики миллионы индийцев умирали от голода. Рузвельт понимал схожесть обеих ситуаций. Кроме того, были определенные границы, которые он не мог перейти. Он знал, что если он усилит давление на Сталина, то он может поставить под угрозу их отношения.
Рузвельт перевел разговор на Объединенные Нации, намереваясь увлечь Сталина своей идеей о действительно международной по своему характеру и форме организации. Рузвельт осознавал, что региональные блоки были недееспособны. В 1942 году, когда он затронул эту тему в ходе визита Молотова в Вашингтон, Сталин дал Молотову указание поддержать идею о региональных блоках: ему по-прежнему нравилась эта концепция. Черчилль также выступал за организацию, которая разделяла свои сферы влияния. Намереваясь убедить Сталина в правоте своего проекта, касавшегося создания международной организации, при этом не оказывая излишнего давления, Рузвельт теперь заявил, что, по его мнению, «было бы преждевременно рассматривать в настоящий момент здесь эти планы совместно с господином Черчиллем»[267].
Он пояснил, что Объединенные Нации будут представлять собой три отдельные организации под одним «зонтиком». Первая – это крупное собрание всех государств-членов. Вторая – это исполнительный комитет, который будет заниматься невоенными (гражданскими) вопросами и в котором будут представлены Россия, США, Великобритания, Китай, еще два европейских государства, одна латиноамериканская страна, одна ближневосточная страна, одна страна Дальневосточного региона и одна страна из числа британских доминионов. Третья организация – это четыре «международных полицейских» – охранителя мира.
Он «особо» подчеркнул, что четыре великих державы (Соединенные Штаты, Великобритания, Советский Союз и Китай) будут в послевоенный период обеспечивать всеобщий мир, добавив, что «это только идея, конкретная реализация которой потребует дальнейшего изучения»[268]. Рузвельт указывал, что он хотел бы знать мнение Сталина, но наряду с этим он также отмечал, что он со Сталиным, Америка с Россией должны стать двумя самыми влиятельными «международными полицейскими» – охранителями мира.
Как-то раз Рузвельт попытался обсудить проблему годовой заработной платы рабочих с Генри Фордом. Рузвельт описывал, что когда он упомянул об этой проблеме и Форд понял, к чему он ведет, то хотел проигнорировать этот вопрос, но Рузвельт подошел к нему с другой стороны, а Форд вновь стал уклоняться. Рузвельт вспоминал, что провел весь обед, играя в шахматы с «дядей Генри» (как он назвал Форда), пытаясь проработать с ним этот вопрос. Однако, как выразился Рузвельт, «я не смог склонить его к этому»[269]. То же самое он пытался сейчас проделать и со Сталиным – но с лучшими результатами.
Его аргументация заключалась в том, что организация, устроенная подобным образом, будет иметь лучшие шансы для обеспечения всеобщего мира. Сталин, выслушивая его, очевидно прежде всего думал о последствиях.
Молотов, конечно же, также делал свое дело. В своих редких ремарках он отмечал, что на Московской конференции они согласились обсудить, как обеспечить доминирование («ведущую роль») четырех великих держав.
Сталин ответил, что «после того, как он обдумал вопрос о международной организации, как это было определено президентом, он согласен с президентом, что это должна быть всемирная структура, а не региональная»[270].
На этом их встреча завершилась.
Согласно воспоминаниям Гарримана (который присутствовал при этом), Рузвельт был «весьма» воодушевлен этим утверждением Сталина. Как отметил Самнер Уэллс, для Рузвельта ничего не было более важно, чем признание идеи Объединенных Наций и роли в ней России: «Для Франклина Рузвельта твердое соглашение с Советским Союзом было незаменимой основой для мира в будущем». Уступив по вопросу Балтийских стран и их пребывания в составе Советского Союза, Рузвельт заплатил небольшую цену, чтобы обеспечить мир в послевоенное время, особенно при учете того фактора, что на самом деле было только два варианта: согласиться с этим элегантно или же неуклюже.
Сталин тоже был воодушевлен конкретными результатами их беседы. Он считал, что ему удается направить Советский Союз новым, неизведанным курсом, который не смог спланировать даже Ленин. Позже он скажет одному из югославских коммунистов: Ленин считал, что «все будут нападать на нас… в то время как оказалось, что одна группа буржуазии против нас, а другая с нами. Ленин не думал, что будет возможно объединиться с какой-то частью буржуазии. Но нам это удалось».
В шесть часов вечера Рузвельт, Сталин и Черчилль в последний раз сели в конференц-зале в шелковых креслах вокруг стола с зеленым сукном – под взглядами советских охранников, расположившихся на балконе выше. Рузвельт открыл это заключительное пленарное заседание, заявив, что предстоит обсудить еще два вопроса: вопрос о Польше и отношение к Германии.
Следующим выступал Молотов, который, однако, затронул тему, ранее не поднимавшуюся: ожидание Советского Союза, что он получит часть захваченного итальянского флота. В составе флота было много торговых судов и несколько меньше боевых кораблей. Молотов заявил, что Советскому Союзу нужны суда и корабли и что он готов незамедлительно использовать их «в общих интересах до момента завершения войны»[271], после чего они могут быть распределены. По мнению Сталина, советская просьба была вполне умеренной. Черчилль высказал предположение, что если корабли вдруг будут переданы России, будет высока вероятность мятежа на итальянском флоте, что может привести к затоплению кораблей. После короткого обсуждения было решено, что Советский Союз получит корабли «где-то в конце января»[272].
Затем Рузвельт перевел разговор на Польшу. Советский Союз разорвал отношения с польским правительством в изгнании в Лондоне в апреле 1943 года, когда оно предприняло попытку расследовать обвинения немцев в том, что Советский Союз уничтожил в 1940 году тысячи польских офицеров, являвшихся военнопленными. Эта ситуация была чревата серьезными проблемами, поскольку обвинения имели веские основания: в рамках многовекового конфликта между двумя странами Сталин (как будет выяснено позже) дал согласие на казнь офицеров, которые, как считалось, симпатизировали немцам, и они были похоронены в братской могиле в Катынском лесу под Смоленском. Рузвельт отказался рассматривать возможность казни офицеров советской стороной или быть вовлеченным в любого рода расследование этого вопроса. Сталин был его союзником, и расследование не привело бы ни к чему, кроме напряженности в их отношениях, а в сложившейся ситуации виновность или невиновность той или иной стороны не имела никакого значения. Он просто высказал свое пожелание, чтобы Советский Союз восстановил отношения с польским правительством в изгнании, а все спорные вопросы «будут так или иначе решены». Тем не менее Сталин продолжал делать различие между польским правительством в изгнании, которое было «тесно связано с немцами», и Временным польским правительством, которое пользовалось поддержкой Советского Союза.
Положение было безвыходным. Черчилль перевел разговор на менее конфликтный вопрос – о границах Польши.
Сталин вновь заявил, что Россия выступает за восстановление и расширение Польши «за счет Германии»[273], с чем и Черчилль, и Рузвельт были готовы согласиться. Была неофициально согласована «линия Керзона», точное местоположение которой было установлено на карте, предоставленной Боленом. Сталин разметил карту красным карандашом, чтобы показать области к востоку от советско-польской границы 1941 года и к западу от «линии Керзона», восстановления которой в Польше он ожидал. Он высказался также за передачу Советскому Союзу прусских портов Кенигсберг и Тильзит.
Затем Рузвельт вновь завел речь о Германии. Он хотел бы согласовать вопрос о том, была ли необходимость разделять ее.
Сталин без колебаний ответил, что Россия выступает за разделение Германии.
Черчилль, который надеялся на возрождение Германии в качестве сильной державы, способной противостоять Советскому Союзу на континенте, сказал, что он больше заинтересован в отделении Пруссии, «дьявольской сердцевины германского милитаризма»[274], выступая наряду с этим за то, чтобы южные земли Германии могли стать частью Дунайской конфедерации.
Рузвельт представил свой план, который предусматривал разделение Германии на пять автономных частей: (1) Пруссия, которая становилась, насколько это только было возможно, небольшой и слабой; (2) Ганновер и северо-запад Германии; (3) Саксония и Лейпциг; (4) Гессен-Дармштадт; (5) Бавария, Баден и Вюртемберг. Кильский канал, Гамбург, Рур и Саар должны были перейти под контроль Объединенных Наций. Сталину план Рузвельта понравился больше, чем Черчиллю, поскольку предполагал более жесткий подход к Германии. Наряду с этим Сталин считал, что данный подход был все же недостаточно жестким. Сталин отметил, что задачей «любой международной организации» будет являться нейтрализация тенденции к воссоединению Германии и что страны-победительницы «должны быть достаточно сильными, чтобы побить немцев, если те когда-либо развяжут новую войну»[275]. Это заявление вызвало у Черчилля вопрос (что отразило его глубокое недоверие к Сталину), «не стремится ли маршал Сталин к тому, чтобы Европа состояла из маленьких, оторванных друг от друга, разделенных и слабых государств»[276]. Сталин ответил, что речь шла не о Европе, а только о Германии.
Черчилль не поверил ему. Он был твердо убежден, что Сталин намеревался ослабить и, возможно, даже оккупировать Западную Европу. Не пройдет и месяца, как он напишет Энтони Идену: «Хотя я всячески пытался пробудить в себе симпатию к этим коммунистическим лидерам, я не могу испытывать к ним ни малейшего доверия»[277].
Рузвельт же, напротив, не сомневался, что истинная цель Сталина в этом случае заключалась в том, чтобы, как тот и сказал, ослабить Германию, но наряду с этим сохранить прежнее положение остальных стран Западной Европы. И президент действительно был прав: у Сталина не было никаких военных намерений в отношении Западной Европы. В отличие от германских и японских руководителей, допускавших расовые высказывания, Сталин не считал, что славяне были расой господ, которой было суждено править миром. Он полагал, что коммунизм был экономической моделью будущего и что в конечном итоге коммунизм будет принят на Западе, поскольку являлся более эффективной формой управления. Однако в настоящее время первоочередной задачей было выиграть войну и обезопасить границы Советского Союза, а это означало, что требовалось обеспечить контроль над Германией.
Сталин был до такой степени обеспокоен вопросом будущего Германии, что после возвращения в Москву он тщательно отредактировал русскую часть состоявшихся в Тегеране бесед, чтобы отразить то, что он сказал в их ходе, и собственноручно внести необходимые правки. Окончательный вариант советского документа гласил: «Товарищ Сталин заявил, что в целях ослабления Германии Советское правительство предпочитает разделить ее. Товарищ Сталин положительно отнесся к плану Рузвельта, кроме предварительного определения количества государств, на которые Германия должна быть разделена. Он выступил против плана Черчилля по созданию после разделения Германии нового, нестабильного государства наподобие Дунайской Федерации»[278].
После того как обсуждение уже завершилось, Рузвельт высказал мысль, которую едва ли можно было считать нейтральной (учитывая только что поднимавшийся вопрос о разделении Германии). Он заявил, что, когда Германия состояла из 107 провинций, она представляла меньшую опасность для цивилизации. Черчилль в ответ ограничился репликой о том, что он «рассчитывает на более крупные административные единицы».
Заседание завершилось заявлением Черчилля о том, что вопрос о польских границах следует окончательно согласовать и урегулировать. Сталин вновь указал, что если России будет передана северная часть Восточной Пруссии, расположенная вдоль левого берега реки Неман и включающая Тильзит и Кенигсберг, то он будет готов признать «линию Керзона» в качестве советско-польской границы.
Они разошлись, чтобы вновь встретиться на ужине. Рузвельт просил позволить ему организовать этот ужин, потому что он знал, что может рассчитывать на свой филиппинский персонал, который эффективно справится с этой задачей. Сталин и Черчилль согласились с этим.
В ходе этого завершающего ужина им был представлен окончательный проект Иранской декларации, провозглашающей их цели. Была представлена также декларация по Ирану, на которой настоял Рузвельт и которая была составлена Херли. В последнем документе признавался вклад Тегерана в дело союзников и его будущее право на независимость. Три руководителя изучили эти документы.
Несколько недель назад в ходе Московской конференции Сталин выступил против публикации какого-либо заявления о политике в отношении Ирана. Теперь, после поступления такого предложения со стороны самих иранцев, а также с учетом личного обращения президента США Сталин изменил свое мнение и согласился с таким документом.
Состоявшиеся переговоры и споры заметно вымотали Сталина. Когда этот последний ужин подошел к концу, Болен отметил, что тот выглядел уставшим. Когда Сталин читал русский текст одного из документов, Болен быстро подошел к нему сзади, чтобы передать информацию от Рузвельта. Сталин повернулся и в раздражении воскликнул: «Ради бога, дайте нам завершить эту работу!»[279] Увидев, что это был Болен, «он смутился в первый и единственный раз».
Подписание декларации по Ирану дает интересную возможность получить определенное представление о том, насколько Сталин полагался на Рузвельта. Официальный текст для того, чтобы его подписали три руководителя, был подготовлен только на английском языке. Гарриман представил его Сталину и уточнил, хотел ли он, чтобы текст был переведен. Сталин отметил, что в этом не было необходимости, и попросил Павлова устно перевести его. Выслушав перевод Павлова, он, по воспоминаниям Гарримана, «в моем присутствии и в присутствии господина Болена сказал, что одобряет Декларацию» и что из-за нехватки времени он согласен подписать текст на английском языке. Однако он настоял на том, чтобы Черчилль подписал его первым. При этом он не стал подписывать его и вторым. «Он заявил, что сделает это после президента. Я передал Декларацию президенту, который подписал ее. И уже после этого ее незамедлительно подписал и Сталин».
Тот документ, который подписали Черчилль и Сталин, должен был дать иранцам большую надежду на будущее, поскольку он призывал «обеспечить независимость, суверенитет и территориальную целостность Ирана», что в течение многих лет игнорировалось как Великобританией, так и Советским Союзом. Когда эти две страны в августе 1941 года вторглись в Иран, всего через два месяца после начала операции «Барбаросса», германского вторжения в Россию, шах телеграфировал Рузвельту с просьбой о помощи. Рузвельт подождал, пока вторжение не стало свершившимся фактом, а затем успокоил шаха заявлениями о том, что это было временной военной мерой, направленной на то, чтобы предотвратить захват страны Гитлером. Затем он вынудил Великобританию и Россию сделать заявление о том, что они покинут страну после разгрома Гитлера. Иран получил право на поставки по программе ленд-лиза, которые были весьма щедрыми. Теперь страна пользовалась и административной, и экономической помощью США. Президент привез домой из Тегерана от благодарного шаха ковер, который положил в своем кабинетете.
Ужин завершился ровно в 22:30, к тому времени уже похолодало. Рузвельта выкатили в его кресле на крыльцо и перенесли в машину. Президент покинул Тегеран так же, как он въехал в него: в ничем не примечательном лимузине вслед за ничем не примечательным джипом, направляясь в Кэмп-Амирабад, лагерь в пустыне на окраине Тегерана, где располагались американские войска из состава командования тылового обеспечения в зоне Персидского залива. Он вместе с Гопкинсом провел там ночь в качестве гостя генерала Дональда Коннолли, старого друга Гопкинса.
В последний день Рузвельт написал в своем дневнике: «Конференция прошла успешно, хотя я и обнаружил, что разрабатываю военные планы совместно с русскими. Сегодня утром британцы, к моему великому облегчению, также присоединились к нам»[280].
На следующее утро Рузвельт совершил поездку по лагерю в пустыне и выступил с зажигательными речами перед задубевшими на солнце солдатами и персоналом гарнизонного госпиталя:
– В течение последних четырех дней у меня была конференция с маршалом Сталиным и господином Черчиллем, весьма успешная, по разработке военных планов сотрудничества между нашими тремя странами, которые стремятся добиться победы как можно скорее… Другой целью переговоров было также обсуждение условий построения мира после войны. Мы попытались спланировать мироустройство для себя и для наших детей, когда война перестанет являться необходимостью. И мы добились в этом значительного успеха.
Примерно в то же время, когда Рузвельт утром обращался к солдатам, в советской миссии Валентин Бережков был свидетелем, как он думал, весьма мелодраматического отъезда Рузвельта. Он писал, что, одетый в черный плащ, шляпу, в пенсне и с сигаретой в длинном мундштуке, «он» (возможно, тот же агент личной охраны президента, что и прежде) сел в ожидавший его джип. Как только машина тронулась, четыре оперативника, согласно рассказу Бережкова, вскочили на подножки, затем двое достали из курток автоматы и положили их на передние крылья автомобиля. Бережков прокомментировал это весьма неодобрительно: «Мне показалось, что умышленная демонстрация своих действий оперативниками могла только привлечь внимание каких-либо злоумышленников»[281].
Если бы Рейли знал, что он обманул такого умудренного человека, как Бережков, он был бы доволен.
Сталин со своим окружением поехал в аэропорт Гейле-Морге позже утром, где два двухмоторных пассажирских самолета ожидали, чтобы отвезти их в Баку. Сталин сел во вторую машину. По прибытии в Баку он сменил изящную маршальскую форму на обычную солдатскую шинель и фуражку без каких-либо нашивок или знаков отличия. Вскоре в аэропорт прибыла вереница лимузинов. Сталин сел во вторую машину рядом с водителем, его личный телохранитель устроился на заднем сиденье, и кортеж помчался на вокзал. Там специальный поезд Сталина, с длинными вагонами-люкс, уже ожидал его, чтобы отвезти обратно в Москву.
Сталин сделал одну остановку, чтобы своими собственными глазами увидеть невероятное разрушение Сталинграда: груды камней, которые раньше были стенами зданий, кучи щебня, торчащие трубы, обугленная земля, обезображенные ямы (бывшие подвалы), которые означали, что раньше здесь стояли дома, – остатки того, что когда-то было цветущим городом. Поезд прибыл в Москву на четвертый день утром.
Сталин был доволен конференцией. Он первый раз после революции принял участие в международной конференции за пределами Советского Союза. Десять лет назад в результате признания Рузвельтом Советского Союза правительство-изгой превратилось в законного, признанного члена международного сообщества. И теперь он совместно с Рузвельтом и Черчиллем на равных обсуждал устройство будущего мира.
Он нашел общий язык с президентом, и они одинаково смотрели на целый ряд вопросов, чего он никак не ожидал. Они с Рузвельтом оба чувствовали необходимость разделения Германии, лишения Франции ее колониальных владений, перемещения польских границ на запад (в целом к «линии Керзона») с одновременной передачей Польше части территории Германии. Реализация идеи Рузвельта о создании Объединенных Наций в том виде, как это предполагалось, с предоставлением власти четырем «международным полицейским» – охранителям мира, обеспечит за Советским Союзом статус одной из великих мировых держав. Это было элементом нового мирового порядка. Кроме того, операция «Оверлорд» становилась реальностью.
* * *
После прибытия в Каир Рузвельт направил Сталину две дружеских телеграммы, чтобы поблагодарить его за гостеприимство: «Я считаю, что конференция была весьма успешной, и я уверен, что она является историческим событием, подтверждающим не только нашу способность совместно вести войну, но также работать для дела грядущего мира в полнейшем согласии. Наши личные беседы доставили мне большое наслаждение»[282].
Сталин ответно телеграфировал президенту в несвойственной ему откровенной манере: «Согласен с Вами… что наши личные встречи имели во многих отношениях весьма важное значение… Теперь имеется уверенность, что наши народы будут дружно совместно действовать и в настоящее время, и после завершения этой войны… Я также надеюсь, что наша встреча в Тегеране не будет считаться последней и мы вновь увидимся»[283].
Рузвельт сообщил Сталину, что он произведет назначение Верховного главнокомандующего экспедиционными силами в операции «Оверлорд» в течение трех или четырех ближайших дней или же сразу после прибытия в Каир Черчилля.
Маршалл, находясь в Каире в ожидании того, что он будет назначен на эту должность, телеграфировал в пятницу военному министру Стимсону, одному из своих покровителей, что, «вероятно, он в ближайшее время примет командование»[284].
Генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, которого звали «Айк», в прошлом году был назначен Маршаллом (в обход 366 офицеров) командующим силами союзников в Северной Африке и Италии. В то время, как они вместе были на полях сражений, Рузвельт сделал интригующее и двусмысленное заявление: «Мы с вами знаем, кто был начальником штаба в последние годы гражданской войны, но практически никто этого больше не знает… Мне невыносимо думать, что через пятьдесят лет практически никто не будет знать, кем был Джордж Маршалл. Это одна из причин, по которым я хочу, чтобы Джордж стал Большим Начальником – у него есть право остаться в истории в качестве великого полководца».
Когда Рузвельт принял решение назначить Маршалла начальником штаба армии США, он ни у кого не спрашивал совета. Теперь же он стал задавать соответствующие вопросы каждому. Среди тех, с кем он советовался, были генерал Першинг, герой Первой мировой войны, адмирал Лихи, адмирал Кинг, генерал Арнольд, Генри Стимсон и Гарри Гопкинс. Первые четверо настолько уважали и ценили генерала Маршалла в качестве руководителя соперничающих друг с другом сил союзников и различных служб и его умение решать проблемы командования в таких условиях, что они считали целесообразным оставить его в прежней должности и не поручать ему командования операцией «Оверлорд». С другой стороны, Гопкинс и Стимсон выступали за то, чтобы он был назначен командующим экспедиционными силами в операции «Оверлорд». Такого же мнения придерживались Сталин и Черчилль.
Рузвельт, не объявляя этого вслух, принял другое решение. По словам Стимсона, у Рузвельта появилось желание назначить Маршалла в качестве командующего операцией, одновременно сохранив за ним пост начальника штаба армии (просто назначив кого-нибудь другого временно работать в Вашингтоне), чтобы тем самым не вызывать озабоченности у Лихи, Кинга и других. Однако Маршалл настаивал на том, что если он примет командование, то он должен будет уйти с поста начальника штаба армии, поскольку эта должность «должна полностью и постоянно, на справедливой основе, принадлежать тому, кто на нее поставлен»[285].
Рузвельт решил оставить решение за самим Маршаллом. Он поручил этот вопрос Гарри Гопкинсу. Гопкинс появился у Маршалла до обеда на следующий день после прибытия в Каир. Как описывал это Маршалл, Гопкинс «сказал мне, что президент был в некоторой степени озабочен вопросом моего назначения… Я постарался дать ясно понять, что совершенно искренне приму любое решение президента, каким бы оно ни было… Я отказался высказать свое мнение по этому вопросу. На следующий день президент позвал меня к себе на виллу… В ответ на его вопросы я повторил еще раз, что не стану оценивать своих способностей, это должен сделать только президент. Я вновь дать понять, что, каким бы ни было решение, я всем сердцем приму его… В завершение нашего разговора президент заявил: “Я чувствую, что не смогу спать по ночам, если вас не будет в стране“»[286].
Телеграмма Рузвельта Сталину о его выборе в пользу Эйзенхауэра в качестве командующего экспедиционными силами в операции «Оверлорд», как обычно, была направлена из Штабной комнаты в Вашингтоне, где она была зашифрована и адресована в американское посольство в Москве, а там расшифрована и перепечатана. Понимая ее важность, Гарриман, взяв с собой Болена, чтобы тот смог немедленно перевести сообщение, лично доставил ее Молотову в Кремль. Как услышал Гарриман, Молотов позвонил Сталину и сообщил ему эту новость. После того как Сталин повесил трубку, Молотов объявил Гарриману довольно сухо: «Маршал Сталин доволен этим решением. Он считает Эйзенхауэра опытным генералом, особенно в командовании крупными силами и десантными операциями».
На самом же деле Сталин был так рад, что заключительная часть мозаики – назначение командующего «вторым фронтом» – наконец-то сложилась, что он собственноручно отредактировал телеграмму, направленную Рузвельту: «Приветствую назначение генерала Эйзенхауэра»[287].
В течение последнего вечера в Каире, согласно воспоминаниям Эллиота, его отец хотел разговаривать лишь о том, что являлось краеугольным камнем достижения, которого он добился, в течение месяца находясь вдали от дома, – об Объединенных Нациях: «Американцы – конгрессмены, газетные обозреватели – говорят об Объединенных Нациях, как о чем-то существующем только в связи с войной. Имеется тенденция нападать на них, заявляя, что мы едины лишь потому, что к единству нас вынуждает война. Но не война является подлинно объединяющей силой. Такая сила – мир. Только после войны я смогу добиться, чтобы Объединенные Нации были поистине Объединенными Нациями»[288].
На пути домой президент писал Дейзи Сакли: «Поездка почти вся была приятной, особенно русские»[289]. Он испытывал чувство удовлетворения также в связи с тем, что во время этой поездки ему на подпись Конгрессом было представлено сорок четыре законопроекта. Он наложил вето на два. Все законопроекты были возвращены в Конгресс в установленный срок. Когда Рузвельт увидел, как беспокоился Стимсон из-за того, что Черчилль мог уговорить его отложить операцию «Оверлорд», он сказал ему: «Я вернул “Оверлорд“ в целости и сохранности и в готовности к реализации»[290]. В результате Стимсон сообщил журналистам на пресс-конференции, что, прочитав только что протоколы конференции, он взволнован осознанием того, что было достигнуто: «Учитывая, конечно же, что характер и детали этих решений не могут быть преданы огласке, тем не менее, могу сказать, что присутствие на конференции премьера Сталина и его спутников, в том числе маршала Ворошилова, внесло значительный вклад в обеспечение успеха конференции. Ощутимо способствовала решению ряда давних застарелых проблем также удивительная способность маршала Сталина к разумному анализу и его справедливое отношение к делу».
Стимсон почти всегда соглашался с решениями Рузвельта, хотя он никогда не мог понять, как президент мог вырабатывать правильные решения, поскольку его мышление было скорее интуитивным, чем логическим. Кроме того, Стимсон не был политиком, и он не понимал всех нюансов и тонкостей общения Рузвельта с окружающими. В этой связи в его дневнике была масса критических замечаний в отношении того, каким образом у Рузвельта получается добраться из пункта А в пункт Б, даже если пункт Б, как правило, и являлся желанным результатом для Стимсона. Ознакомившись со всеми протоколами Каирской и Тегеранской конференций, Стимсон упустил тот факт, что Рузвельт позволил Черчиллю зайти настолько далеко, поскольку это отвечало его цели: в полной мере продемонстрировать сильные антисоветские настроения Черчилля и его предвзятость. Так, Стимсон писал:
«Я благодарю Господа, что Сталин был там. На мой взгляд, он спас ситуацию. Он вел себя прямо и решительно и энергично отмел все попытки премьер-министра увести переговоры в сторону, что порадовало мое сердце. К моменту его прибытия наша сторона была в невыгодном положении. Во-первых, потому, что президент достаточно слабо владел ситуацией и влиял на нее довольно бессистемно, а во-вторых, потому, что Маршалл, на котором лежит вся полнота ответственности, настойчиво пытается в большей или меньшей степени держаться в стороне, поскольку чувствует, что он является заинтересованной стороной. Поэтому первая встреча, проведенная до прибытия Сталина, как можно было понять из протоколов, оказалась довольно обескураживающей, без четко координированных нашими представителями результатов. Но когда появился Сталин со своим генералом Ворошиловым, они смогли полностью изменить ситуацию, поскольку перешли в наступление, отстаивая необходимость проведения операции “Оверлорд“. Они поддержали мысль о проведении вспомогательной наступательной операции на юге Франции и высказались категорически против отвлекающих действий в восточной части Средиземного моря. В конечном итоге Сталин вышел в этот день победителем, и я был в восторге от этого»[291].
Стимсон был не одинок в своем беспокойстве (что отразилось в его дневниковых записях) по поводу бессистемности в действиях Рузвельта и кажущегося отсутствия в них четкой направленности. На это довольно часто жаловались те, кто работал на президента. Однако в то время никто не мог в полной мере понять истинных мотивов действий Рузвельта.
Как стало известно послу Гарриману, после конференции советское правительство предприняло активные шаги, чтобы разъяснить важность ее итогов для обычных трудящихся, которые в противном случае не смогли бы ничего узнать о новой роли России на международной арене и ее новых союзниках. Посол Югославии рассказал ему, что, по словам одного из рабочих, «для каждой бригады на заводе было проведено собрание, и “политработник“ объяснил существо принятой на конференции декларации и ее значение. Рабочим предлагалось задавать вопросы».
Рузвельту писали многие американцы, заявляя ему о поддержке результатов конференции. Так, например, экипаж корабля ВМС США «Джордж Вудворд» написал ему: «Та замечательная задача по устранению фашистских держав, которую Вы, наш президент, премьер-министр Уинстон Черчилль и премьер Сталин поставили перед собой… будет увековечена на страницах будущей истории». 155 представителей Союза рабочих электропромышленности, радиопромышленности и машиностроения писали: «Мы с радостью приветствуем решения этой конференции, проведение которой означает близкую и решительную победу».
Первые страницы всех американских газет пестрели заголовками о достижениях «Большой тройки» в Тегеране.
«Согласованное наступление трех держав по всем фронтам, направленное на достижение основной цели союзников в войне – разгрома германской армии, – и послевоенное устройство мира сегодня, после встречи Рузвельт – Черчилль – Сталин в Тегеране, похоже, стали на один шаг ближе», – написал 6 декабря в «Нью-Йорк таймс» Джеймс Рестон. В январе прошлого года журнал «Тайм» назвал Сталина «Человеком года»: если бы не Сталин, «то Гитлер стал бы бесспорным хозяином Европы». Теперь этот журнал писал о Сталине следующее: «Начиная с зимнего наступления, организованного в ноябре 1942 года, под его руководством советские войска отвоевали около 325 тысяч квадратных километров своей выжженной земли, оставляя позади себя тысячи немецких трупов. Его тень пала уже на Восточную и Южную Европу. Но теперь Сталин больше не является одиноким победителем, каким он был в 1942 году. Теперь он после настойчивых попыток добился сотрудничества с другими великими державами».
Высказывание Сталина на ужине у Черчилля о мощи американской техники нашло отражение в заголовках американских газет еще до возвращения Рузвельта. «В своем тосте… премьер Сталин отдал, возможно, самую большую дань, которую когда-либо отдавали американской промышленности… Без американских машин Объединенные Нации никогда не смогли бы выиграть войну», – с энтузиазмом писала газета «Нью-Йорк таймс» в статье, посвященной второй годовщине нападения на Перл-Харбор.
Советская пресса также широко и в доброжелательном духе осветила конференцию. Газета «Известия» сообщила, что принятые решения имеют «историческое значение для судеб всего мира». Газета «Правда» назвала Тегеранскую декларацию «предвестником не только победы, но также долгого и стабильного мира». Сталин, который любил лично вникать в мельчайшие детали, остался не удовлетворен заголовком информационного агентства ТАСС «Конференция глав правительств СССР, США и Великобритании» и изменил его на следующий: «Конференция руководителей трех союзных держав».
ТАСС опубликовало также комментарии издания «Лондон таймс», которые после существенных правок Молотова стали выглядеть следующим образом: «Три лидера расстались временно, как настоящие друзья по духу и по своим целям»[292].
Доктор Эдвард Бенеш, президент Чехословакии, который находился в Москве, чтобы подписать со Сталиным (после возвращения того из Тегерана) договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, сказал послу Гарриману, что Сталин «стал неузнаваемым» по сравнению с тем, каким он его видел последний раз в 1935 году. В своей телеграмме в Вашингтон Гарриман передает следующие впечатления Бенеша:
«Скромность и спокойствие заняли место агрессивности и раздражительности, которые ранее были присущи советскому режиму… Появился энергичный национализм, связанный с прошлым России, – «Россия для русских», а не база для международной революции. Стремление «большевизировать» другие страны уступило место намерениям принимать участие в качестве сильной державы в решении международных проблем. Сталин высказал чувство большого удовлетворения новым состоянием отношений… Он находился под сильным впечатлением от своих встреч с президентом и считал, что в Тегеране между ними было достигнуто полное согласие по всем вопросам, конечно, не в деталях, а в самом подходе».
Сотрудники посольства США в Москве сообщали о почти «революционных изменениях» в отношении к Америке и Великобритании и о том, что газеты практически ежедневно упоминают исторические решения, принятые на конференции. ТАСС уделило существенное место цитате из статьи британского агентства новостей «Рейтер»: «Подпись Сталина, означающая его полное одобрение английских и американских планов сотрудничества в военных операциях на западном и южном направлениях, является последним гвоздем в гроб германских надежд посеять раздор между тремя великими державами в вопросе ведения войны»[293]. Гарриман отмечал: «Внедрение в сознание людей идеи о новом союзе с Соединенными Штатами и Великобританией стало основным направлением политики советского правительства»[294].
Маршалу Георгию Жукову, заместителю Верховного главнокомандующего Красной армией, Сталин заявил: «Рузвельт дал слово, что широкомасштабная операция будет проведена во Франции в 1944 году. Я верю, что он сдержит свое слово». После этого он, правда, добавил, вполне в своем духе: «Но даже если он этого не сделает, у нас достаточно собственных сил для завершения разгрома нацистской Германии».
* * *
Путешествие Рузвельта длиной в семнадцать тысяч миль 16 декабря, наконец, подошло к концу, когда президентская яхта «Потомак» встретила линкор «Айова» в Чесапикском заливе. Как Рузвельт писал в своем дневнике в тот день, «маленький «Потомак» замаячил в 6 милях впереди в устье реки, и в 4:30 меня пересадили на него… А завтра в 9:30 мы должны будем прибыть на военно-морскую верфь в Вашингтоне, и вскоре я уже буду в Белом доме и начну звонить по телефону. Так закончится новая одиссея».
Во второй половине дня, уже находясь на борту «Потомака» и перебирая почту, доставленную вахтенным офицером Штабной комнаты лейтенантом резерва ВМС Р. Г. Майерсом, он наткнулся на наиболее интригующий факт: только что добытые чертежи германских укреплений на французском побережье. Этот замечательный успех принадлежал службе РРТР (радио– и радиотехнической разведки). В 1940 году криптоаналитики РРТР дешифровали японский дипломатический код. С тех пор американская разведка могла читать японскую дипломатическую почту. Особую важность имели телеграммы Хироси Осимы, посла Японии в Германии, который был другом Адольфа Гитлера и лиц из числа окружения Гитлера и который подробно докладывал обо всем, что он узнавал в Берлине[295]. Осима, сын японского военного министра, выпускник японской военной академии, который выступал за то, чтобы Япония присоединилась к войне против Советского Союза, регулярно сообщал в Токио о том, что он узнавал о германских военных планах и военных операциях.
Подробная информация Осимы передавалась в японском коде, которому американские криптоаналитики дали условное название «фиолетовый», но его всегда называли «магическим». Фрэнк Б. Роулетт, блестящий бывший преподаватель математики, возглавлял команду РРТР в Арлингтоне, штат Виргиния, которая «взломала» этот код. Для этого его команде потребовалось восемнадцать месяцев интенсивной работы над японской шифровальной машиной. Хотя могло показаться, что это много времени, однако начальник Роулетта генерал-майор Джозеф Моборн, руководитель службы РРТР, был настолько впечатлен результатом и тем, что Роулетт и его команда полностью решили поставленную перед ними задачу, что он стал называть их «магами». В результате словом «магический» стал называться и расшифрованный код.
Из телеграмм Осимы стали получать весьма ценную информацию.
Осима был не только в курсе последних военных планов Германии, о которых ему сообщало германское командование, он также часто посещал германские военные объекты, и он всегда информировал свое правительство обо всем, что он узнавал. Генерал Маршалл использовал доклады Осимы в качестве одного из своих основных источников информации о планах Гитлера.
К счастью для Рузвельта и союзников, посол Осима в октябре посетил германские оборонительные сооружения на французском побережье, обсудил подготовку обороны с генералом-фельдмаршалом Гердом фон Рундштедтом и другими высокопоставленными германскими офицерами и представил соответствующую информацию своим начальникам в Токио: боевой порядок всех германских армий, занимавших рубежи береговой обороны, детальные сведения о германских оборонительных сооружениях от Нидерландов до французского побережья Средиземного моря. Он доложил все это в полном объеме.
Телеграмма занимала несколько страниц. Одна из ее частей гласила:
«Все германские оборонительные сооружения на французском побережье расположены очень близко к берегу, поэтому совершенно ясно, что немцы планируют сорвать любую попытку противника высадиться на самых дальних морских рубежах… Даже самые небольшие оборонительные объекты сооружены таким образом, что они смогут самостоятельно продержаться в течение очень долгого времени… Вся эта схема похожа на систему обороны на “линии Зигфрида“ вдоль франко-германской границы, но качество укреплений Атлантического вала намного лучше… Основное внимание в системе укреплений и размещении германских войск уделено зоне пролива Па-де-Кале, затем следуют Нормандия и полуостров Бретань».
Рузвельт прочел эту телеграмму, раскрывавшую все детали германской обороны, и направил ее в Объединенный комитет начальников штабов. Это было как раз то, что им было нужно.
Иметь такой план было невероятной стратегической и психологической удачей. Это практически гарантировало успех операции «Оверлорд». Если бы Рузвельт располагал этой информацией в Тегеране, ему было бы гораздо проще опровергнуть сомнения и возражения Черчилля. В целом же, имея такой план на руках, можно было с уверенностью планировать свои действия, и это был триумф союзников. Черчилль также получил доступ к телеграммам Осимы, и это сделало его более оптимистичным в отношении успеха операции «Оверлорд».
В почте было также сообщение от Черчилля, информировавшее президента о том, что премьер-министр находился в Карфагене, болел. Рузвельт немедленно ответил: «Весьма огорчен в связи с пневмонией. Мы оба, Гарри и я, желаем Вам всяческих благ и скорейшего выздоровления. Я только что покинул «Айову» и направляюсь вверх по реке Потомак»[296].
Президентская яхта «Потомак» бросила якорь в военно-морской базе «Куантико» на следующее утро. Когда Рузвельт в 9:35 появился в Белом доме, его встречал кабинет министров в полном составе, руководители большинства правительственных учреждений, руководители Демократической партии в Конгрессе и некоторые представители Республиканской партии – все они ждали в зале дипломатического приема.
Рузвельт был одет в серый костюм, свитер и клетчатую рубашку. «Я бы оделся по такому случаю, если бы знал об этом», – пошутил он, оглядев такое скопление.
«Я не припомню, чтобы президент выглядел более удовлетворенным и довольным, чем он был в то утро, – вспоминал Сэм Розенман, спичрайтер Рузвельта, его хороший друг и биограф. – Он искренне верил, что достиг того, что он намеревался сделать – вовлечь Россию вместе с западными державами в солидную по своим масштабам организацию для обеспечения мира, – и он был очень рад этому… Он действительно был чемпионом, вернувшимся с призом»[297].
Рузвельт в первую очередь встретился с лидерами Конгресса. Он обсудил с ними свою программу действий. Он планировал выступить с речью, которая должна была являться его обращением к американскому народу по поводу состоявшейся конференции. Неудивительно, что конгрессмены предложили ему выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса. Рузвельт, который всегда весьма серьезно относился к средствам массовой информации (он хотел бы, чтобы его выслушала не только Америка, но и весь мир) и который желал заручиться поддержкой своего видения послевоенного устройства мира, не стал связывать себя никакими обещаниями. К полудню он решил, что не будет выступать перед Конгрессом, что он получит наибольший результат, если организует беседу президента с населением.
Но это потребовало некоторого планирования. Он мог провести пресс-конференцию незамедлительно, чтобы обеспечить интерес к ней и соответствующую поддержку, и немного погодя в тот же день он поступил именно так. К тому времени, когда журналисты увидели его, он уже переоделся в серый твидовый костюм, зеленый галстук-самовяз и белую рубашку. Когда журналисты, более ста человек, столпились вокруг его стола в Овальном кабинете, Рузвельт начал свое выступление словами:
– Дискуссии, я надеюсь, будут иметь вполне конкретные и весьма благотворные последствия для послевоенного периода, исходя из общей мысли, что, когда мы выиграем войну, мы не захотим еще одной, пока живо это поколение.
Как отметил один из журналистов, он курил сигарету «в неизменном длинном мундштуке».
На вопрос, что он думает о Сталине, Рузвельт ответил:
– Я бы назвал его кем-то вроде меня. Он реалист.
В ответ на вопрос, разделяет ли Сталин надежды президента предотвратить очередную войну в эпоху этого поколения, Рузвельт сказал:
– Совершенно очевидно, что те, которые стремятся к этой цели, поддержат соответствующие усилия.
Мэй Крейг, журналист некоторых изданий штата Мэн, поинтересовался, не мог бы президент рассказать им еще кое-что о Сталине, на что Рузвельт ответил:
– Мэй, я не пишу для отдела светских новостей.
Эта реплика вызвала взрыв смеха.
Пресс-конференция завершилась на оптимистической ноте, когда Рузвельт на вопрос журналиста, как он смог выдержать все тосты во время обедов, ответил:
– У нас был один банкет, на котором мы обедали в русском стиле. Кстати, очень хороший обед. Русский стиль предполагает несколько тостов, и я насчитал их до трехсот шестидесяти пяти. И мы все ушли трезвые. Это к тому, на что вы можете оказаться способны, если постараетесь.
Рузвельт решил выступить с речью, «подводящей итоги», в виде непринужденной беседы в канун Рождества. Он мог бы, таким образом, увязать основную мысль – постоянный мир – с изначальной вестью Рождества: мир на земле, поддержание доброй воли между людьми.
Он решил (достаточно неожиданно) выступить в Гайд-парке. Рузвельты проводили Рождество в Гайд-парке первый раз за последние одиннадцать лет. Однако 21 декабря Гарри Гопкинс и его жена Луиза переехали из Белого дома в таунхаус на Тридцать третьей улице и N-стрит в Джорджтауне. Отъезд Гопкинсов был ударом для Рузвельта, хотя его дочь, Анна Беттигер, должна была в скором времени переехать в апартаменты Линкольна в Белом доме вместо Гопкинсов.
Луиза Гопкинс поначалу была очарована возможностью быть настолько близкой с Рузвельтами, и для нее это было крайне важно, но в действительности жизнь в небольшом ограниченном пространстве (все, что у них с Гарри было с собой, – это книги, радиофонограф, немного посуды и шейкер, который стоял на верхней полке) перестала устраивать ее. В конечном итоге на первый план у нее вышел инстинкт обустройства семейного гнездышка. Кроме того, она хотела проводить больше времени с мужем.
Она ревновала к тому, что ее муж находится в полном распоряжении Рузвельта весь день, начиная с завтрака и вплоть до ужина вечером. Гопкинсы, похоже, были счастливы покинуть апартаменты в Белом доме. «Это первый случай, когда я провел Рождество в своем собственном доме в течение многих лет, и Луиза сделала это время самым приятным из всего, что, думаю, у меня когда-либо было в жизни»[298], – писал Гопкинс своему сыну Стивену, который находился в это время на корабле в южной части Тихого океана. (К сожалению, в ближайшие недели Гопкинс слег и весь следующий год лечился в различных клиниках в связи с проблемами с желудком.)
Рузвельт действовал импульсивно, но отнюдь не по принципу случайного выбора: именно совпадение ухода Гопкинсов из Белого дома и дополнительный эмоциональный подъем, который он почувствовал, скорее всего, помогло ему настроиться на речь, которую он произнес из своего родного дома, вернувшись в Гайд-парк в двадцатиградусный мороз.
Президент уделил особое внимание этой речи, произнесенной им в рождественский сочельник. Основную помощь ему оказали Роберт Э. Шервуд, Сэм Розенман и Гопкинс. После шести или семи черновиков (что было вполне обычно для него) Рузвельт, по воспоминаниям другого спичрайтера, Джона Гюнтера, мог сказать: «Мы почти справились с этим. Давайте вернемся и начнем все сначала». Как вспоминал Розенман, для этой речи в канун рождественского сочельника потребовалось восемь черновиков. Это был весьма напряженный труд.
Рузвельт произнес речь, сидя за письменным столом в своем кабинете, небольшой захламленной комнате рядом с холлом в тыльной части дома, которая в годы его молодости была его классной комнатой. Камеры с «солнечными» прожекторами освещали президента со всех сторон, его стол был заставлен микрофонами и телефонами, по всему полу тянулись провода. За всем этим, стоя в углу кабинета, наблюдали его сыновья Франклин-младший и Джон, которые прибыли из своих подразделений, а также внуки, соседи (включая Генри Моргентау и его жену Элинор) и Дейзи Сакли. Элеонора Рузвельт находилась за столом вместе с дочерью Анной. Кинорепортаж этого выступления будет показан на этой неделе в кинотеатрах по всей стране.
Рузвельт начал свою речь ровно в три часа дня. Он подчеркнул те главные результаты, которые были достигнуты в ходе его недавней поездки:
– Выражаясь простым языком, я «отлично поладил» с маршалом Сталиным. Этот человек сочетает в себе огромную, непреклонную волю и здоровое чувство юмора. Думаю, душа и сердце России имеют в нем своего истинного представителя. Я верю, что мы и впредь будем отлично ладить и с ним, и со всем русским народом.
Затем он представил свою концепцию четырех «международных полицейских» – охранителей мира:
– Великобритания, Россия, Китай и Соединенные Штаты вместе со своими союзниками представляют более трех четвертей всего населения Земли. До тех пор, пока эти четыре страны, обладающие великой военной мощью, едины в своем стремлении сохранить мир, ни один агрессор не предпримет попытки развязать новую мировую войну. Однако эти четыре державы должны поддерживать единство и сотрудничество со всеми свободолюбивыми народами Европы, Азии, Африки и Американского континента. Права каждой страны, большой или малой, необходимо уважать и хранить столь же ревностно, как и права каждого отдельного человека в нашей собственной республике. Конференции в Каире и Тегеране дали мне возможность впервые лично встретиться с двумя непобедимыми военными руководителями: генералиссимусом Чан Кайши и маршалом Сталиным – и поговорить с ними. Конференции в Каире и Тегеране планировались как встречи за одним столом лицом к лицу, однако вскоре выяснилось, что мы находимся, так сказать, по одну сторону стола. Уже до этих конференций мы верили друг в друга, однако нам был необходим личный контакт. И теперь наша вера получила решительное подтверждение.
Не забыл он также упомянуть и премьер-министра:
– Вам, конечно, известно, что с господином Черчиллем мы – ко взаимному удовлетворению – встречались уже много раз. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Господина Черчилля узнали и полюбили многие миллионы американцев.
Как отметила газета «Нью-Йорк таймс», он впервые смягчил свои ультимативные требования «безоговорочной капитуляции», заявив:
– Мы хотим, чтобы у него [немецкого народа] была возможность мирно развиваться в качестве достойного уважения члена европейской семьи. Однако мы со всей решительностью подчеркиваем, что он должен стать действительно достойным уважения. Для этого мы собираемся раз и навсегда очистить Германию от фашизма и прусского милитаризма, заставить немцев отказаться от фантастического и гибельного представления о себе как о «расе господ».
В частных беседах он не был столь оптимистичен. Он признался Гопкинсу, что он нашел Сталина жестче, чем ожидал, хотя, подбирая слово поточнее, он назвал его «излишне педантичным». Билл Хассетт, помощник секретаря Рузвельта, бывший журналист, отличавшийся сдержанностью и рассудительностью, как-то спросил его, какое впечатление от Сталина у него останется надолго. Тот ответил: «Это человек, высеченный из гранита»[299].
Как Рузвельту было известно, Сталин пошел ему навстречу по трем важным вопросам еще до начала планирования конференции: религия, Коминтерн и Китай. Рузвельту было особенно приятно, что Сталин изменил свою позицию на Московской конференции в отношении Китая, согласившись с тем, что он может стать четвертым «международным полицейским». Еще до начала конференции Сталин написал лично Рузвельту: «Можно считать согласованным, что вопрос о декларации четырех держав не включается в повестку совещания».
Гопкинс сообщил Андрею Громыко, когда тот был советским поверенным в делах в Вашингтоне, что у Рузвельта были некоторые сомнения в отношении Сталина и будущего советско-американских отношений. Рузвельт намеревался в Тегеране оценить советского руководителя и изучить возможности сосуществования двух стран: «Это зависит от многих факторов, основным из которых является позиция, которую займет СССР в качестве великой мировой державы». Затем Гопкинс заверил Громыко, что «он [Рузвельт], очевидно, считает, что США должны сделать все возможное, чтобы заложить основы будущих хороших отношений с СССР».
Элеонора Рузвельт приводит следующие комментарии Рузвельта после того, как тот высказал предположение, что он не был уверен, что ему удалось достичь своей цели: «По словам моего мужа, у него было впечатление, что, когда они впервые встретились со Сталиным, со стороны маршала чувствовалось большое недоверие, и, оставляя его, он не знал, смог ли он пошатнуть это недоверие или нет. Он добавил, что он намеревался определиться, сможем ли мы неукоснительно придерживаться своих обязательств».
Рузвельт продолжал беспокоиться, сумел ли он убедить Сталина. Поверил ли Сталин на самом деле, что международный характер деятельности Объединенных Наций, на котором настаивал Рузвельт, является наилучшим решением? Он опасался, что Сталин может вернуться к своей первоначальной позиции, схожей с позицией Черчилля относительно регионального характера предлагавшейся структуры. Он признавался сенатору Тому Коннели, что ни Сталин, ни Черчилль не были полностью убеждены в правоте его видения. «Я буду вынужден еще убеждать их обоих», – сетовал он сенатору.
Однако в разговорах с Фрэнсис Перкинс, министром труда, Рузвельт был более оптимистичен. «Знаете, – говорил он ей, – я действительно считаю, что русские поддержат меня в вопросе отказа от принципа сфер влияния и в соглашениях о свободных морских портах по всему миру… морских портах, которые все союзники могли бы свободно использовать в любое время. Я думаю, что мы согласуем это решение»[300]. Он полагал, что она, имея широкий круг знакомств в профсоюзных и деловых кругах, могла бы внести свой вклад в решение этой задачи: «Я не знаю, как отличить хорошего русского от плохого русского. Я могу сказать, что вот это хороший француз, а это плохой француз. Я могу отличить хорошего итальянца от плохого итальянца. Я могу распознать хорошего грека, когда я встречаюсь с ним. Но я не понимаю русских. Я просто не знаю, что ими движет… Я бы хотел, чтобы вы узнавали все, что возможно, и время от времени сообщали мне».
28 декабря Рузвельт провел еще одну пресс-конференцию, на которой он подытожил результаты работы в предвоенные годы и подчеркнул опасность возврата к изоляционизму. Интересно то, что он представлял себе Америку страной, стоявшей, наконец, на собственных ногах (психологически он, должно быть, сам хотел бы этого для самого себя). «Старый доктор “Нового курса“» решал такие внутриполитические проблемы, как спасение банков, помощь фермерам, обеспечение страхования по безработице. Затем пришло время для «Доктора, выигрывающего войну». Теперь он мог заявить: «Результатом является то, что пациент встал на ноги. Он отказался от своих костылей. Он ходит еще недостаточно уверенно и не сможет делать этого, пока не выиграет войну. Но когда придет победа, на мой взгляд, безусловно, настанет время для осуществления ранее разработанной программы, той, которая осуществляется в остальных стран, послевоенной программы, в противном случае нам придется заплатить за это. Мы не можем больше находиться в экономическом изоляционизме, в противном случае мы можем оказаться в военном изоляционизме».
Очевидно, что теперь настало время для выработки мер, необходимых для обустройства послевоенного мира. Однако для того, чтобы обсуждать соответствующие планы, которые уже сформировались в представлении Рузвельта, с американским народом, время еще не пришло.
Сталин достаточно редко выступал с речами. С праздничной речью накануне Нового года выступил Михаил Калинин, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Он назвал конференцию в Тегеране «действительно, самым большим событием нашего времени, историческим ориентиром в борьбе с германским агрессором. Все усилия немцев разделить свободолюбивые народы не удались. Руководители трех великих держав достигли полного согласия по вопросам войны и мира».
Конечно же, он был успокоен действиями Рузвельта. На самом деле, с точки зрения Сталина, Рузвельт был идеальным американским президентом. И он действительно являлся таким. Сталин увидел, что Рузвельт предлагал Советскому Союзу сотрудничество. Россия, которая в последнее время была нездоровым членом европейской семьи, завершала войну «могущественной державой мирового уровня». Это делало его одним из двух самых могущественных людей в мире.
Спустя несколько недель после Тегеранской конференции Рузвельт встретился с Андреем Громыко и побеседовал с ним. Как отметил Громыко (который обратил на это особое внимание), Рузвельт в очередной раз подчеркнуто дистанцировался от Черчилля: «Он начал с того, что подчеркнул, что общался со Сталиным в хорошей обстановке. Затем он кратко подвел итоги завершившейся конференции и, наконец, сказал мне: “Для того чтобы достичь согласия, зачастую было необходимо оказывать давление на Черчилля. Боюсь, что он соглашался на компромисс довольно медленно. Но он согласился на него, и мы достигли ряда довольно полезных договоренностей“»[301]. Громыко отметил, что, говоря о Черчилле, «президент одарял меня одной из своих очаровательных «улыбок Рузвельта» и давал мне понять, что британский премьер-министр был партнером, который доставлял ему массу неприятностей».
В начале февраля в Вашингтоне серьезно обеспокоились, когда газета «Правда» неожиданно подвергла критике Уэнделла Уилки, соперника Рузвельта от Республиканской партии на выборах 1940 года. Уилки проводил предвыборную кампанию в западных штатах, добиваясь своего выдвижения от Республиканской партии на пост президента страны в 1944 году, и средства массовой информации уделяли этому существенное внимание. Критика, прозвучавшая на страницах «Правды», была достаточно несущественной, была упомянута лишь состоявшаяся в прошлом году встреча Уилки со Сталиным, в ходе которой они обсудили проблемы Восточной Европы. «Правда» скептически отмечала: «Настало время понять, что вопрос о Прибалтийских странах является внутренним вопросом Советского Союза, не относящимся к ведению господина Уилки»[302]. По словам Кларка Керра, британского посла в СССР, беседовавшего с Уилки во время своего визита в США, тот был ошеломлен этим выпадом, поскольку всегда был активным сторонником Советского Союза, и статья в газете «Правда» выставила его в «смешном» свете. Тем не менее ситуация нормализовалась после того, как Кларк Керр сообщил Гарриману, что, когда он рассказал Сталину о реакции Уилки, Сталин заметил, что «Уилки ему нравился, выразил сожаление по поводу инцидента и заявил о готовности послать ему телеграмму»[303], возможно, дав понять в этой телеграмме следующее: «Вы мне нравитесь, но я не хочу, чтобы Вы стали президентом»[304]. Его популярность, очевидно, беспокоила Сталина.
Надо было иметь в виду также и Черчилля, который продолжал усилия, направленные на то, чтобы отложить день высадки союзнических войск в Европе. Организовав переписку из Марракеша (Марокко), он выискал новые причины отложить операцию «Оверлорд». Он писал Рузвельту, что, чтобы обеспечить гарантированный успех, на первом этапе Ла-Манш должны форсировать крупные силы, а их концентрация займет больше времени, поэтому он был не один, кто считал, что операцию следует отложить. Черчилль продолжал: «Командующие считают, что у них будет больше возможностей… Почва будет суше и будет более подходить для крупных операций Дядюшки Джо»[305].
Рузвельт ответил ему весьма прохладно: «В Тегеране Дядюшке Джо было обещано, что операция “Оверлорд“ будет организована в мае при одновременной поддержке по возможности крупной операцией “Энвил“[306], и он согласился спланировать одновременное наступление советских войск»[307].
Глава 7 Сталин в поисках союзников
Ленин внимательно следил за Америкой и имел в ее отношении свои собственные взгляды еще с момента прихода к власти, даже с учетом того, что власть была консолидирована, когда Красная армия еще воевала с белогвардейцами, союзные войска поддерживали блокаду, а голод был повсеместным. Совет Народных Комиссаров (СНК), высший правительственный орган, в первый день 1919 года озаботился вопросом установления дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Ленин, председатель СНК, а также Сталин, его верный соратник в те далекие годы[308], рассматривали Америку в качестве возможного союзника против остального враждебно настроенного мира, в качестве страны, которая сможет оградить их от европейской агрессии, по крайней мере до того момента, пока ситуация внутри страны не стабилизируется. В этой связи 1 января 1919 года Советом Народных Комиссаров был издан следующий выдающийся документ:
«О проблеме наших взаимоотношений с Соединенными Штатами. Советская Россия должна освободить себя от «железного занавеса», который образовался вокруг нее. В противном случае она погибнет… Единственными, кто сможет помочь Советскому правительству, являются только Соединенные Штаты Америки, поскольку они сами нуждаются в дружбе с Республиканской Россией в интересах своей внутренней и внешней политики. Они нуждаются: во-первых, в рынках сбыта продукции своих отраслей промышленности; во-вторых, в возможностях для выгодного размещения своих инвестиций; в-третьих, в ослаблении влияния Англии на страны Европы… Отношения между Соединенными Штатами и Японией неискренни… Война между ними неизбежна… В первую очередь необходимо вступить во взаимоотношения с Соединенными Штатами… Вступление во взаимоотношения с Соединенными Штатами является вопросом первостепенной государственной важности, и судьба Советской России зависит от успешного разрешения данного вопроса»[309].
Была надежда, что признание Советской России Америкой является достижимым, поскольку Соединенные Штаты нуждались в советских рынках и, как и Советский Союз, боялись японской экспансии. Торговля являлась первым шагом, который должен был послужить толчком к началу развития дипломатических отношений. Взгляды Ленина никогда не менялись. Два года спустя в газете «Известия» появилось утверждение о том, что Америка является «главной силой в мире. Все возможные средства должны быть использованы так или иначе для того, чтобы достичь соглашения с Соединенными Штатами»[310].
21 января 1924 года умер Ленин. Сталин тогда занимал пост генерального секретаря Центрального Комитета и главы правительства. Он также хотел установить диалог с Америкой, особенно после того, как ряд европейских стран, одна за другой, и, в конце концов, Великобритания признали Советскую Россию. Но Америка оставалась вне досягаемости: Хардинг, Кулидж и Гувер не желали иметь ничего общего с Советским Союзом. В 1930 году Сталин, испытывающий раздражение от отсутствия прогресса в получении признания со стороны США, высказал свое мнение корреспонденту «Нью-Йорк таймс» в Москве Уолтеру Дюранти: «Америка знает, где мы находимся… Мы сделали все, что могли, но мы не будем висеть у нее на шее. Мы по-прежнему готовы делать то, о чем я говорил раньше: урегулировать вопрос задолженности путем выплаты дополнительных процентов по кредитам или займам и возобновить нормальные взаимоотношения, как мы сделали это с остальными великими державами»[311]. Кроме того, он добавил: «Урегулировать задолженность с Америкой достаточно легко; в любом случае это сравнительно небольшой вопрос».
Сталин следил за каждым новым шагом в международных отношениях Америки, который мог бы способствовать какому-либо участию в них России и привести к развитию торговли между двумя странами. Наступил и прошел 1931 год. Сталиным было заявлено: «Главным вопросом является вопрос о нашей тактике на предстоящий год, последний, по всей видимости, который будет не менее трудным, чем предыдущий… Банки «Морган»… группа компаний «Дюпон» отказались от участия в каких-либо переговорах… время для сделок с Россией еще не пришло»[312].
Рузвельт, еще будучи губернатором штата Нью-Йорк, вызвал Уолтера Дюранти, одного из немногих американцев, которые знали хоть что-то о Советской России, и задал ему вопросы о советской экономике, в частности о добыче золота в стране и платежеспособности в отношении товаров, которые страна может купить. Через четыре месяца после вступления в должность он решил вернуться к вопросу признания Советской России. Однако это не означало того, что он восхищался Сталиным.
Америке, находившейся в состоянии глубокой депрессии, были крайне необходимы рынки для своих фермерских хозяйств и предприятий. Кроме того, Япония оказывала давление на Китай. Посол США в Китае Джозеф С. Грю увидел, как быстро Рузвельт уяснил, что признание Соединенными Штатами Советской России затронет обе проблемы. «Он не сказал ни слова о Маньчжурии, но начал с наращивания флота и признания Советской России»[313]. Рузвельт признавал, что Сталин был диктатором, о чем он заявил редактору журнала «Форум» Генри Годдарду Личу в 1930 году, когда Лич выразил желание осветить вопрос о принятии Рузвельтом мер и взятии под свой контроль городов штата Нью-Йорк. Рузвельт написал ему: «Я согласен с Вами на 100 % в том, что следует что-то предпринять, однако ответ на данный вопрос находится вне рамок государственного или федерального контроля. Моральная трусость ведет страну прямиком к такому типу правительства, который в настоящее время действует в России и Италии. Редактору журнала «Форум» в 1930 году придется признать, что Муссолини и Сталин являлись не просто дальними родственниками, но были братьями по крови»[314].
К июню 1933 года идея признания Советского Союза стала повсеместной. В частности, восстановление дипломатических отношений с Россией поддержали Торговая палата США, декан Гарвардской школы бизнеса, а также Ассоциация внешней политики. Многие ведущие американские издательства также выступали за данную идею. Рой Говард, председатель правления американского газетного объединения «Скриппс Говард ньюспейперс», дал следующий комментарий: «Я думаю, что угроза большевизма в Соединенных Штатах приблизительно настолько же велика, как и угроза солнечного удара в Гренландии или обморожения в Сахаре»[315].
По причине того, что большинство сотрудников Госдепартамента были настроены против данной идеи, Рузвельт просто игнорировал их мнение, и в августе 1933 года он назначил Генри Моргентау, своего соратника и друга, которому он собирался доверить пост главы министерства финансов, ответственным за осуществление первого шага: обеспечение торговли между двумя странами. Как-то во время обеда с Рузвельтом Моргентау обозначил проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться и которые были вызваны, с одной стороны, отсутствием соответствующих полномочий у представителей России, с которыми он вел переговоры, а с другой стороны, наличием барьеров, созданных Реконструктивной финансовой корпорацией, которые требовалось преодолеть для финансирования кредитов для России. Если ему удастся прийти к соглашению, как озабоченно заметил Моргентау президенту, он будет героем, однако если он не сможет этого сделать, ему придется покинуть Вашингтон. Рузвельт ответил: «Ну, конечно же, вы знаете, что я поддерживаю вас в этих переговорах, и если вам придется покинуть Вашингтон, я оставлю свой пост вместе с вами»[316].
Тем не менее, понимая, что меры, предпринятые Моргентау, не сработали (а к этому времени, несомненно, сотрудники Госдепартамента были осведомлены о том, что переговоры, хоть и предварительные, были начаты), Рузвельт обратился за помощью к русским. Совместно с Хэллом он направил письмо Михаилу Калинину, президенту[317] и номинальному руководителю Советского Союза, с просьбой отправить своего представителя в Вашингтон для принятия мер по налаживанию дипломатических отношений между двумя странами. Когда письмо было получено в Советском Союзе, это стало долгожданным и весьма желательным известием. Советское радио, политический инструмент советского правительства, которое было доступно в каждом доме, активно транслировало эту новость. Радиопередачи в Советском Союзе обладали огромным влиянием; в каждом доме, каким бы скромным он ни был, имелось радио, причем только с одним каналом – правительственным. (Советские радиоприемники отличались от западных: у них отсутствовала возможность выбора режима, и радио могло быть либо включенным, либо выключенным. Радио было идеальным средством, которое тоталитарное правительство использовало в целях просвещения населения.)
Россияне по всей стране были в восторге от письма Рузвельта: по этому поводу наблюдался всеобщий энтузиазм. Для советских граждан это означало, как если бы, наконец, Советский Союз реализовал свои цели. Это ощущали даже самые рядовые граждане. Чарльз Тайер, выпускник Вест-Пойнта, который проходил обучение в Москве и планировал стать сотрудником дипломатической службы, вспоминал, как «однажды ночью в отеле был разбужен ночным портье, который с трогательным волнением сообщил мне, что по радио только что объявили о том, что Рузвельт написал письмо Калинину, намекая на возможность восстановления отношений»[318].
Уже через несколько недель Максим Литвинов, нарком иностранных дел (министр) Советского Союза, находился на судне, направляющемся к берегам США. Рузвельт, не желая связываться в этом вопросе с Госдепартаментом, решил лично вступить в переговоры и пригласить Литвинова в Белый дом для частных бесед. В течение нескольких дней они решали сложные вопросы свободы вероисповедания американцев в Советском Союзе, которую Россия не желает им предоставлять, а также вопросы выплат американцам их сбережений в России, захваченных большевистским правительством после революции. Ими была достигнута договоренность о размере долга, образовавшегося у России до становления советской власти, который должен быть погашен. Дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены 16 ноября 1933 года.
На следующий день на заседании правительства Рузвельт с гордостью рассказывал, каким убедительным он был с Литвиновым, в частности, в вопросе вероисповедания. После того как Литвинов заявил, что американским гражданам была предоставлена свобода вероисповедания в России, в которой они нуждались, и никого не преследовали за посещение церкви, он был совершенно обескуражен следующим заявлением:
«“Вы знаете, Макс, ваши достопочтенные отец и мать, благочестивые евреи, всегда возносили молитвы. Я знаю, что они должны были научить вас молиться…“ К этому моменту Макс был красный как рак, и я сказал ему: “Сейчас вы можете считать себя атеистом… но я говорю вам, Макс, когда вам придет время умирать… вы вспомните о том, чему вас учили отец и мать…“ Макс бушевал и пыхтел, высказывал разные мысли, смеялся и был очень смущен, но я заставил его задуматься. По выражению его лица и по его действиям я понял, что он знал, что я имею в виду, и что он знал, что я был прав»[319].
Реакция Литвинова на заявление президента неизвестна: было ли это согласие, изумление или, как рискнула предположить Фрэнсис Перкинс, смущение. Но результатом стало то, что президент добился своего.
Рузвельт направил в качестве посла, как и ожидалось, Уильяма Буллита и вооружил его длинной, подробной и специфичной инструкцией, поскольку, хотя он и был рад, что наконец-то добился признания Америкой потенциально мощного государства, он не питал особых иллюзий насчет его пугающих странностей:
«Уважаемый Билл, 7 января, 1934 года
мне ясно, что специфические трудности, связанные с учреждением посольства и консульства в Москве, требуют специфического подхода к их преодолению. Вы будете в той или иной степени находиться в положении полярного исследователя Бэрда: отрезанный от цивилизации, Вы, как мне представляется, должны будете организовать свою экспедицию так, как будто Вы отправились на корабле, на котором не планируется заходить в порт в течение целого года»[320].
Затем Рузвельт остановился на подробном перечне того, что ему понадобится: автомобили и создание хозяйственно-продовольственных запасов для обеспечения всех потребностей, начиная от продуктов питания и заканчивая офисной техникой и расходными материалами. Он рекомендовал привлечь врачей (он предложил создать небольшую операционную, а также изолятор для инфекционных больных) и поискать теннисные корты для активного отдыха. Однако именно его советы по дипломатическому поведению являются наиболее поучительными:
«В дополнение к перечисленным выше пунктам важным для меня является то, что всем нашим дипломатическим, консульским, военным и военно-морским представительствам в СССР должно быть запрещено заниматься шпионажем любого рода, и они должны быть проинструктированы о необходимости развития самых искренних и прямых связей с членами советского правительства. Вы, безусловно, предупредите всех сотрудников как посольства, так и консульства в России, что за ними постоянно будет осуществляться слежка и что они должны быть настороже и остерегаться разглашения кому-либо государственной тайны любого рода и в любое время».
В Советском Союзе эта новость была встречена с большой радостью, а газеты провозгласили Рузвельта героем. Его крупные фотографии появились на первых полосах всех газет, во всех статьях, посвященных этой теме. Данное событие было ознаменовано как личная победа президента, который подавался как лидер рабочего класса, что было самой высокой похвалой, дарованной коммунистами. «Рабочие массы Советского Союза тепло приветствуют эту новую победу как дань делу мира, – выразила свой энтузиазм газета «Правда». – Необходимо отдать должное инициативе, предпринятой президентом Соединенных Штатов. Вопрос о нормальных взаимоотношениях был включен в его повестку сразу после инаугурации. Господин Рузвельт счел необходимым преодолеть немало предрассудков, бытующих в американских буржуазных кругах, прежде чем смог довести этот вопрос до успешного завершения»[321].
«Известия» осветили это событие через призму классовой борьбы: «Соединенные Штаты, мощнейшая капиталистическая сила в мире, наконец “были вынуждены“ установить нормальные дипломатические отношения». Как указывалось далее в передовой статье, «это был конец затянувшейся борьбы, продолжаемой прогрессивными элементами американской буржуазии с целью признания СССР»[322]. Поскольку в Советском Союзе ничего не печаталось без ведома и разрешения Сталина, статьи в обеих газетах были приравнены к салюту, данному Сталиным в честь президента «мощнейшей капиталистической силы в мире».
«Судя по всему, он решительный и смелый политический лидер, – эти слова Сталина были процитированы спустя месяц после признания Советского Союза. – Он реалист и знает факты такими, как они есть»[323].
Когда посол Буллит в декабре прибыл в Москву, Сталин устроил в его честь званый обед в Кремле, что было неслыханным событием в истории российской дипломатии. Произнося тост за Рузвельта во время обеда, он отметил, что внимательно следит за политическими удачами Рузвельта и его недругами, в частности за Гамильтоном Фишем, сказав: «За президента Рузвельта, который, несмотря на немое ворчание Фиша, осмелился признать Советский Союз»[324].
В 1934 году Сталин заявил Буллиту: «На сегодняшний день президент Рузвельт является не только лидером капиталистической нации, но и одним из самых популярных личностей в Советском Союзе»[325]. Позднее в том же году Сталин, похоже, придерживаясь мысли о том, что Рузвельт был не только достоин восхищения, но и фактически мог обдумывать некие социалистические цели, сообщил английскому журналисту Г. Дж. Уэллсу: «Несомненно, Рузвельт выделяется как одна из сильнейших фигур среди всех лидеров современного капиталистического мира»[326]. Он также заявил Уэллсу, что у него не то чтобы были какие-либо сомнения «в личных способностях, таланте и смелости президента Рузвельта, однако в неблагоприятных обстоятельствах даже самый талантливый лидер не сможет достичь цели».
Никого, кроме Ленина, Сталин ранее не одаривал такой высокой похвалой.
Одной из причин того, почему Сталин с таким радушием приветствовал новые отношения с Соединенными Штатами, был тот факт, что Гитлер, пришедший к власти в 1933 году, начал свою пропагандистскую кампанию, направленную против славян, евреев и других неевропейских рас. Отчасти автобиографический, отчасти политический трактат фюрера «Майн кампф» был пропитан жестокой антиславянской и антисоветской ненавистью. В нем Гитлер весьма открыто говорил о своих планах по колонизации славянских земель достойными немецкими фермерами. («Сегодня, говоря о новой почве и территории в Европе, мы прежде всего, думаем только о России и ее вассальных пограничных государствах… Немецкому плугу нужна земля, отвоеванная военной силой»[327].)
Сталин надеялся, что Соединенные Штаты помогут Советам, продавая им то, что потребуется на случай войны, что было необходимостью, поскольку Гитлер нисколько не скрывал своих планов относительно России. В 1936 году Германия начала постройку «Бисмарка», линкора длиной почти 250 метров с восемью пятнадцатидюймовыми пушками на борту и экипажем, состоящим из более двух тысяч человек. Этот корабль был способен развивать скорость до тридцати узлов даже при полном тяжелом вооружении. Это был крупнейший корабль, когда-либо построенный в Германии. Сталин решил, что Советскому Союзу также необходим свой линкор и что он должен быть еще крупнее. Поскольку в Советском Союзе не было условий для строительства такого огромного корабля, он планировал построить его в Соединенных Штатах. Сталин назначил Сэма Карпа своим главным переговорщиком и выделил его компании «Карп экспорт энд импорт корпорейшн» 200 миллионов долларов, что было в то время огромной суммой, для налаживания контактов и заключения договоров с судостроительными компаниями. Будучи любителем истории, Сталин знал о прецеденте: во время Крымской войны с Англией девяносто лет назад частная американская фирма построила пароход для российского правительства[328]. Сталин проинструктировал Карпа, чтобы тот затребовал суперлинкор с шестнадцатидюймовыми пушками – еще более мощными, чем пушки «Бисмарка». Карп был американским гражданином, проживавшим в штате Коннектикут, братом жены Молотова Полины. Он усердно трудился над этим проектом, однако почти сразу же столкнулся с проблемами, организованными начальником штаба ВМС Уильямом Лихи и министром ВМС Клодом Э. Свенсоном, которые, как и бóльшая часть высших чинов ВМС, были ярыми антикоммунистами и согласованно блокировали проект. Когда слухи о том, что ВМС не давали хода сделке по строительству линкора, дошли до госсекретаря Хэлла, он сообщил об этом президенту. Как отмечено в записях Гарольда Икеса, министра внутренних дел США, на заседании правительства, состоявшемся 3 апреля 1937 года, «стало очевидно, что президент не видит никаких причин препятствовать строительству корабля на какой-либо из наших верфей, того же мнения придерживался и Хэлл. Президент приказал Свенсону сообщить всем судостроительным компаниям, что это было частное предприятие и частный договор и что они могут поступать по своему усмотрению»[329].
Тем не менее офицеры ВМС различных рангов, видевшие в Советском Союзе потенциального противника, пригрозили компаниям, желавшим принять участие в проекте, потерей будущих контрактов. Компания «Бетлехем стил», работавшая над проектированием судна, неофициально призналась, что советский заказ «приведет лишь к непреодолимым разногласиям с Министерством ВМС»[330]. Однако Карп продолжал упорно добиваться своего. В феврале 1938 года вопрос о линкоре снова был представлен вниманию Рузвельта. Президент «выразил надежду, что линкор будет построен в нашей стране в соответствии с планами»[331]. 8 апреля Рузвельт вновь заявил, что «не видит никаких препятствий для реализации планов или представления проекта русским»[332]. Тем не менее строительство так и не было начато.
Нельзя недооценивать значимость этого проекта для Сталина. 5 июня 1943 года, когда посол Джозеф И. Дэвис нанес официальный прощальный визит руководителю страны Калинину и премьеру Молотову перед назначением на новую должность посла в Бельгии, с ним обошлись таким образом, что всеми было воспринято это как своего рода намек. По прибытии в Кремль Дэвис сперва выразил свое почтение Калинину, который заявил, что понимает решение Дэвиса об отъезде из Москвы, поскольку «жизнь дипломата в Москве в целом не так уж приятна и имеет свои ограничения, так как взаимоотношения между руководителями Советского Союза и дипломатическим корпусом в целом складываются не так, как в других странах»[333]. Затем Дэвиса проводили по длинному коридору в другое крыло здания и провели в кабинет Молотова. Едва они с Молотовым успели присесть, как вошел Сталин.
Остальная часть дипломатического корпуса и сам Дэвис считали, что Сталин встретился с ним по причине своей личной симпатии (так он продолжал думать до конца своей жизни), однако реальная причина, по которой Сталин встретился с Дэвисом, заключалась в осведомленности Сталина о том, что Дэвис был весьма близок к Рузвельту, и, таким образом, желал, чтобы тот поспособствовал строительству линкора. (В ближайшие годы Сталин будет встречаться с послами и других стран, однако не так часто, как с послами Рузвельта.)
Сталин начал встречу со слов о том, что он не может понять, почему проект строительства линкора не продвигается, что Советский Союз готов платить наличными, что с помощью проекта он предоставит работу безработным в Америке. Главным его аргументом (учитывая его осведомленность о том, что Дэвис и президент являются близкими друзьями и что проект строительства линкора не развивается в связи с противодействием правительственных служащих высшего ранга) явился следующий: «Если бы президент Соединенных Штатов действительно хотел реализовать этот проект, он бы сделал так, чтобы ни армия, ни флот не могли этому помешать, и при этом проект был бы реализован законным путем»[334].
Дэвис добросовестно передал опасения Сталина Рузвельту. Три дня спустя, 8 июня, Рузвельт, вновь повторив, что не имеет никаких возражений против проекта и что он «надеется, что проект будет реализован», приказал ВМС оказать поддержку проектировщикам, судостроителям и советскому руководству в реализации заказа уже на несколько кораблей. Кроме того, чтобы обойти несговорчивый персонал ВМС, Рузвельт приказал назначить кого-либо из адмиралов ответственным за проект. 17 июня Государственный департамент «передал хорошие новости»[335] советскому послу Александру Трояновскому. Тем не менее особых успехов не было заметно, и, несмотря на то что был завершен корпус корабля, бюрократическое противостояние продолжалось, и судно так и не было достроено. Пакт между Гитлером и Сталиным положил конец этому предприятию. Из этой истории Сталин усвоил, что Рузвельт действительно симпатизировал советскому народу и осознавал, какую угрозу представлял для него Гитлер, однако не всегда он мог поступать по-своему.
Сталин продолжал быть заинтересованным в том, чтобы пользоваться благосклонностью США и производить на них хорошее впечатление. Когда в 1937 году ему позвонил Гровер Вэлен, руководитель Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке, по вопросу финансирования российского павильона, Сталин согласился переговорить с ним и в конце получасового телефонного разговора согласился выделить 4 миллиона долларов для возведения крупного павильона в выбранном месте. Это был первый крупный иностранный контракт Вэлена. Созданный в результате этого замечательный российский павильон включал в себя копию интерьера станции метро «Маяковская» в натуральную величину. Посетители выставки и ее руководство пришли в такой восторг от увиденного, что архитектор станции Алексей Душкин был награжден Гран-при выставки.
Сталин и Молотов в 1938 году постоянно думали об угрозе со стороны Гитлера. Сталин укреплял советскую систему обороны. В апреле он увеличил производство советских самолетов до четырехсот единиц в месяц, то есть до 4 800 в год. В период с 1934 года по 1937 год процент совокупного государственного дохода, выделявшегося на военные цели, вырос с 3,3 % до 22 %. Был принят Третий пятилетний план, направленный на продолжение укрепления промышленной мощи страны.
* * *
В 1938 году германская армия начала маршировать по Европе. Гитлер объявил аншлюс Австрии и завершил его 12 марта кровавым вторжением в страну. В сентябре, в тщетной надежде на то, что этот шаг утолит у Гитлера жажду новых территорий, премьер-министр Британии Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье и премьер-министр Италии Бенито Муссолини вылетели в Мюнхен и подписали соглашение о передаче Германии Судетской области – части Чехословакии с преимущественно немецким населением.
В 1939 году, когда стало очевидным, что Гитлер и вермахт готовы нанести очередной удар, международное сообщество было обеспокоено не тем, действительно ли это произойдет, а тем, где именно он будет нанесен. Большинство американцев продолжали относиться к проблемам Европы как к чему-то крайне далекому. Изоляционисты верили, что океанские просторы являются несокрушимой защитой Америки. Однако Рузвельт так не считал. Еще в раннем возрасте на него оказала большое влияние книга Альфреда Мэхэна «Влияние морской силы на историю» (как рассказывала его мать, он погрузился в нее, «пока практически не выучил книгу наизусть»[336]), и он находил невразумительным мнение изоляционистов о том, что Америка может отстраниться от всего мира и чувствовать себя в безопасности за Атлантическим и Тихим океанами. Именно у Мэхэна он научился тому, что если страна не защищает и не патрулирует свои океаны, то на ее берега обязательно высадится противник. Он уяснил также и то, что торговля и экономическое состояние государства зависят от свободы судоходства.
Президент решил поднять вопрос о растущей угрозе для страны в своем ежегодном послании Конгрессу 4 января 1939 года. Как вспоминал его спичрайтер Сэм Розенман, Рузвельт тщательно подбирал верные слова, чтобы добиться своей цели – предупредить об опасности (не вызвав при этом гнева у пацифистов и изоляционистов) большинство граждан, которые до сих пор считали, что Америка может оставаться в стороне, что бы там ни случилось в Европе и сколько бы стран Гитлер и Муссолини ни захватили.
Он стремился подготовить Америку к войне различными способами, не трубя об этом на каждом углу. Он четко формулировал свои фразы, отмечая необходимость защитить американские структуры и постоянно делая особый акцент на религии. Он упомянул бога и религию девять раз. «Нестабильность за рубежом создает угрозу безопасности трем институтам, которые всегда остаются незаменимыми для Америки, – заявил он. – Первый – это религия, которая является источником двух других: демократии и добросовестности в международных отношениях… Религия, обучая человека его взаимоотношениям с Богом, вместе с тем наделяет его индивидуальным чувством собственного достоинства… Демократия, практика самоуправления, является договором, заключенным между свободными людьми, об уважении прав и свобод других наций»[337].
С другой стороны, он хотел предупредить Гитлера: если провокации зайдут слишком далеко, Америка вступит в борьбу. Свою речь он завершил словами: «На прошлом опыте международных отношений мы научились тому, чего делать не нужно. Опыт новых войн научил нас, что мы должны делать. Мы усвоили, что эффективное время для обеспечения обороны и отдаленные точки, из которых можно осуществлять нападения, кардинально отличаются от того, чтоб было двадцать лет назад».
Трем спичрайтерам, работавшим с ним над этой речью (Тому Коркорану, Бен Коэну и Сэму Розенману), он сказал то, что полностью прояснило для них, какие чувства он испытывал по поводу Чемберлена и Мюнхенского соглашения: «Мы могли бы сотрудничать с Гитлером, но в итоге мы бы потеряли все, что символизирует Америку»[338].
По мере того как угроза со стороны Гитлера нарастала, страны, к которым приближался вермахт, активно искали союзников, и Советский Союз был среди них. После того как Гитлер аннексировал Чехословакию и Австрию, Польша, единственная страна, остававшаяся между Германией и Россией, разрывалась между страхом перед новой воинствующей Германией и страхом перед своим старым пограничным недругом – Россией. Вражда между Россией и Польшей зародилась еще много веков назад. На Красной площади стоит знаменитый памятник в честь двух русских народных героев, гражданина и князя, которые изгнали поляков из Кремля в 1612 году. Эта скульптура является единственным архитектурным памятником (помимо мавзолея Ленина) на всей площади, что свидетельствует о том, насколько затяжными и глубокими были распри между этими двумя странами.
Однако даже при этом общественное мнение в Польше (несмотря на то что польское феодальное общество до сих пор управлялось полковниками и помещиками) имело очевидный антигерманский настрой. Тем не менее полковники, стоявшие у власти, и, в частности, влиятельный министр иностранных дел Юзеф Бек, контролировавший внешнюю политику, были настроены в пользу Германии. После встречи с Гитлером в Берхтесгадене Бек ушел со словами: «Если Советский Союз слаб в военном отношении, то какой толк нам привязываться к нему? Если же Советский Союз силен, то он никуда не денется»[339]. Даже перед лицом настойчивости Гитлера и заведомо ложных жалоб на бесчинства поляков по отношению к немцам (что послужило основанием для последующего захвата Данцига, польского порта на Балтийском море, а также для обеспечения контроля над Данцигским коридором) Бек продолжал верить, что Гитлер не станет нападать на Польшу. Это была его роковая ошибка. (Любопытным объяснением противоречивого и иррационального польского мезальянса всегда было подозрение, что Бек был германским агентом и что Гитлер уговорил его на альянс с Германией, развернув перед ним перспективу передачи Польше части территории Украины. Здесь кроется зерно истины, поскольку его младший сын Антони, которого он отправил в Луми, эксклюзивную подготовительную школу в Америке, уже после смерти отца найдет среди памятных вещей фотографию, на которой отец был снят вместе с нацистскими генералами и различными представителями нацистского правительства.)
* * *
Сталин искал союзника. Он хотел вступить в союз с Чемберленом и Даладье, поскольку у него не оставалось иного выбора: кроме Британии и Франции, больше не было стран, к которым он мог бы обратиться для обеспечения защиты Советского Союза от Гитлера.
10 марта 1939 года по радио состоялась трансляция его речи для нации и всего мира по случаю XVIII съезда ВКП (б). Сталин заявил делегатам съезда, собравшимся в построенном в 1935 году большом зале с 1 300 столами (для каждого представителя каждой республики), что «война неумолима. Ее нельзя скрыть никакими покровами. Ибо никакими “осями“, “треугольниками“ или “антикоминтерновскими пактами“ невозможно скрыть тот факт, что… Германия захватила Австрию и Судетскую область, Германия и Италия вместе – Испанию, – и все это вопреки интересам неагрессивных государств.
Они [Великобритания и Франция] уступили ей [Германии] Австрию, несмотря на наличие обязательства защищать ее самостоятельность, уступили Судетскую область, бросили на произвол судьбы Чехословакию».
Он обвинил обе эти страны в публичной лжи о «слабости русской армии» и «разложении русской авиации».
Он задался вопросом: почему это произошло? Это выглядело как односторонняя, однобокая война. Объяснялось ли это слабостью неагрессивных государств? «Конечно, нет! Неагрессивные, демократические государства, вместе взятые, бесспорно, сильнее… Англия и Франция отказались от политики коллективной безопасности и перешли на позицию “нейтралитета“».
Самым интересным моментом в этой речи для международного сообщества стало заявление Сталина, что если бы Англия и Франция предприняли совместные действия, они бы стали сильнее: как он отметил, война могла бы быть выиграна. Именно это повышало для России соблазн стать их союзником.
Пять дней спустя, 15 марта, Гитлер захватил оставшуюся часть Чехословакии.
Упоминание Сталиным в своей мартовской речи возможности альянса с союзниками стало сигналом для Британии и Франции: «Вместе взятые, неагрессивные государства, бесспорно, сильнее… Англия и Франция отказались от политики коллективной безопасности и перешли на позицию “нейтралитета“». Министр иностранных дел Литвинов был назначен ответственным за ведение переговоров по вопросу создания альянса.
Литвинов был опытным дипломатом, приобретшим английские манеры, прожив много лет в Лондоне в качестве посла Советского Союза в Великобритании. Он был женат на англичанке и известен своей симпатией к Британии. Он также симпатизировал США. Он вел переговоры с Рузвельтом о признании Советского Союза Соединенными Штатами. Во время его службы в качестве министра иностранных дел советское правительство проявило готовность бороться за Чехословакию и заняло позицию осторожного дистанцирования от Германии. В период работы Литвинова Россия присоединилась к Лиге Наций и в 1934 году последовала политике коллективной безопасности. В это время Литвинов вел переговоры по франко-советскому пакту о взаимопомощи, который Сталин называл «препятствием для противников мира»[340]. В 1936 году Сталин предсказал, каким образом развернется германская агрессия по всему миру: «История говорит, что когда какое-либо государство хочет воевать с другим государством… то оно начинает искать границы, через которые оно могло бы добраться до границ государства, на которое оно хочет напасть… Я не знаю, какие именно границы может приспособить для своих целей Германия, но думаю, что охотники дать ей границу “в кредит“ могут найтись»[341].
Он оказался совершенно прав.
Сталин сделал эти заявления еще до Мюнхенского соглашения. В 1939 году перед всем миром встал вопрос: отстранится ли Британия от принципа коллективной безопасности? Неделю спустя после речи Сталина со стороны Британии не последовало никакой реакции. 18 марта, взяв по указанию Сталина инициативу в свои руки, Литвинов предложил созыв конференции с участием Франции, Британии, Польши, России, Румынии и Турции, чтобы выработать соглашение, способное остановить Гитлера. Чемберлен ответил отказом. Он написал своему другу: «Я вынужден признаться в своем глубочайшем недоверии к России. Я нисколько не верю в ее способность к эффективным наступательным действиям, даже если бы она этого и хотела. И я не доверяю ее мотивам»[342]. Чемберлен стойко сохранял убеждение, заложенное еще в юности его отцом, Джозефом, в том, что миром должны управлять прагерманские, тевтонские нации, под которыми подразумевались Англия, Германия и Америка. Тем не менее, осознавая, что он не добился «мира в свое время» в Мюнхене в сентябре 1938 года, 31 марта 1939 года Чемберлен объявил в Палате общин, что Британия и Франция готовы предоставить гарантии Польше на случай нападения на нее Гитлера: «Польскому правительству будет оказана любая поддержка, которая будет в их силах»[343].
Однако это никак не помогло России.
14 апреля лорд Галифакс, влиятельный и аристократичный министр иностранных дел Великобритании и бывший вице-король Индии (Черчилль прозвал его «Святым Лисом»), дал ответ Британии на предложение Литвинова, сделанное 18 марта. Он сообщил советскому послу в Великобритании Ивану Майскому, что британское правительство не собирается предоставлять его стране гарантию поддержки на случай нападения, какую предоставило Польше. Как сообщают источники, это «привело Сталина в бешенство».
Тем не менее на протяжении следующих шести недель Литвинов в Москве пытался убедить сэра Уильяма Сидса, британского посла в Советском Союзе, который также представлял французского посла Поля-Эмиля Наджиара, в необходимости обсуждения военного и дипломатического альянса. Однако послы ничего не смогли предложить ему в ответ – никакого альянса, никаких гарантий. Британия дала понять России, что той следует справляться в одиночку.
16 апреля Сталин предпринял поразительный шаг: он велел Литвинову официально предложить Сидсу, чтобы Россия, Франция и Великобритания заключили пакт, обязывающий все три страны объявить войну Германии в случае, если кто-либо из них или любая страна, находившаяся между Балтийским и Средиземным морями, подвергнется нападению, «оказывать всевозможную поддержку, включая военную, в случае агрессии в Европе против одной из этих держав»[344]. Как объяснил Литвинов, указанное соглашение должно было быть достигнуто в форме двух пактов: между Великобританией и Советским Союзом и между Францией и Советским Союзом. Каждая страна должна была заключить соглашения, предусматривавшие оказание незамедлительной военной поддержки в случае агрессии, наподобие пакта, недавно подписанного между Великобританией и Польшей.
* * *
Проблема заключалась в Польше. Независимо от того, кто с кем состоял в союзе, все, кроме польского министра иностранных дел Бека (его вера в Гитлера был непоколебима), соглашались с тем, что Гитлер, который периодически выступал с резкими обличительными речами о своих намерениях контролировать «Данцигский коридор» и Гданьск, развяжет войну, напав на Польшу. Уильям Ширер, военный корреспондент и автор книги «Взлет и падение Третьего рейха», провел первую неделю апреля в Польше, которую он посчитал проблемной страной. Он отмечал в своих наблюдениях: «В военном и политическом плане поляки находились в катастрофическом положении. Их военно-воздушные силы устарели, их армия была неманевренной, а их стратегическое положение – в окружении немцев с трех сторон – практически безнадежным… Укрепление германской “линии Зигфрида“ сделало англо-французское наступление против Германии в случае нападения последней на Польшу крайне затруднительным. И, наконец, стало очевидно, что упрямые польские “полковники“ никогда не согласятся на получение российской помощи, даже если немцы будут стоять у ворот Варшавы»[345].
И все же, скептически отмечал он, они полагались на Германию.
В действительности, если бы германская армия вступила в Польшу, Великобритания не смогла бы ничего сделать, чтобы остановить ее – вне зависимости от того, о чем говорилось в том или ином соглашении. Галифакс использовал в качестве предлога для отсрочки серьезных переговоров с СССР отказ Юзефа Бека от возможного вступления российской армии в его страну даже для того, чтобы дать отпор германской армии. На самом деле, по мнению Ширера, для всех было очевидно, что Великобритания, если бы захотела, смогла бы заставить поляков согласиться на действия России на территории Польши.
1 мая лорд Галифакс посетил советское посольство в Лондоне. Это был первый визит министра иностранных дел Великобритании в советское посольство с момента Великой Октябрьской социалистической революции. Тем не менее стало очевидно, что позиция Галифакса по данному вопросу еще более ужесточилась: он сообщил послу Майскому, что правительство Великобритании не готово заключить договор с Россией.
* * *
В США президент Рузвельт и госсекретарь Корделл Хэлл всесторонне рассматривали растущую опасность для мира, которую представлял Гитлер. Президент и Хэлл также пришли к выводу, что если бы Англия и Франция заключили договор с Советским Союзом, это сдержало бы Гитлера. Кроме того, они понимали, что объединенная военная мощь трех стран не только соответствовала военной мощи Германии, но и превосходила ее. Наряду с этим они видели и опасность: возможность того, что Сталин в том случае, если он не заключит соглашения с Великобританией, мог бы вступить в сделку с Гитлером. Для него это имело бы смысл, поскольку позволило бы Советскому Союзу выиграть время, необходимое для организации обороны. Джозеф И. Дэвис, бывший посол в Советском Союзе и чрезвычайно независимый мыслитель, на которого полагался Рузвельт, докладывая о европейских альянсах со своего поста перехвата информации в Брюсселе, где он тогда был послом США, пророчествовал: «Решающим фактором для того, чтобы Гитлер определился относительно того, будет ли этим летом в Европе мир или война, является заключение Англией и Францией конкретного соглашения с Советским Союзом либо отказ от него»[346]. Он и другие разбиравшиеся в ситуации американцы выступали лишь в роли наблюдателей, поскольку это было все, что им оставалось делать.
Сталин получал интересную информацию об образе мышления Рузвельта от своих послов. Александр Трояновский, первый посол России в США (с 1933 года по 1938 год), невысокий, коренастый, сдержанный и снискавший уважение окружающих, шесть раз встречался с Рузвельтом на протяжении тех лет, что он провел в Вашингтоне. Летом 1938 года он был отозван в Советский Союз, где в течение нескольких месяцев жил в страхе ареста, но остался на свободе, поскольку был давним другом Сталина. Существует неподтвержденная история об одном из немногих известных случаев, когда Сталин проявил сострадание: когда он увидел имя Трояновский в списке лиц, подлежащих физическому уничтожению, то он вычеркнул его и написал: «Не трогать»[347]. Трояновский сообщил, что Рузвельт симпатизировал Советскому Союзу, но «был сбит с толку и в значительной степени введен в заблуждение аппаратом Государственного департамента, который готовил различные меморандумы в духе нейтралитета и в целом работал на стороне агрессоров»[348]. Сменивший Трояновского Константин Уманский, которого ненавидели Стимсон и Хэлл (Хэлл писал, что Уманский был «оскорбительным в своем поведении и в речи… заносчивым… протестовал против наших действий так, словно это были отвратительные преступления»[349]), тем не менее также был в курсе событий и сообщал, что президент «сильно ненавидел нацистов и японцев»[350], и его раздражали ограничения, которые наложил на него Закон о нейтралитете. Он также отмечал «активизацию реакционеров, которые в настоящее время обнаруживаются в основном в Комиссии Диеса [Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности]… в месте повседневной травли прогрессивного крыла администрации Рузвельта».
Сталин узнал еще один интересный факт о Рузвельте. НКВД сообщил, что Невилл Чемберлен, вероятно, даже не стал бы вовсе вести переговоры с Россией, если бы Рузвельт не оказывал давления на премьер-министра. Эта информация поступила от Дональда Маклейна, профессионального советского шпиона. Маклейн, который еще в Кембридже был завербован коммунистами и позже перешел на сторону Советского Союза, в качестве третьего секретаря посольства Великобритании в Париже принимал участие во всех дискуссиях, происходивших между англичанами, французами и русскими. По словам Маклейна, Рузвельт практически вынудил британское правительство начать переговоры с Советским Союзом. «Дональд Маклейн сообщил, что… Рузвельт призвал Чемберлена вступить в переговоры с европейскими союзниками Великобритании, в том числе с Советским Союзом, чтобы сдержать Гитлера. Наши разведывательные источники сообщили, что британское правительство неохотно отреагировало на эту американскую инициативу и было вынуждено под давлением Рузвельта начать переговоры»[351].
У лорда Галифакса, как и у большинства представителей того класса, к которому он относился, был глубоко укоренившийся страх перед коммунизмом. После встречи с Гитлером он сказал о фюрере: «Уничтожив коммунизм в своей стране, он преградил ему путь в Западную Европу… Германия, следовательно, могла справедливо рассматриваться как оплот Запада против коммунизма»[352]. Он и другие мировые лидеры боялись России не только потому, что коммунизм как система правления был самым ужасным кошмаром Западной Европы, но еще и потому, что в 1939 году Советский Союз, являвшийся воплощением коммунистической модели, являлся страной с энергично развивавшейся экономикой. Действительно, можно было утверждать (и во многих кругах именно так и поступали), что у Советского Союза были более серьезные экономические успехи, чем у США, которые еще не смогли покончить с последствиями «Великой депрессии», или чем у демократических европейских стран, которые все еще пытались оправиться от Первой мировой войны. Поэтому Галифакс, как мог, продолжал тянуть с переговорами, стремясь тем самым препятствовать серьезному рассмотрению российских инициатив и надеясь с помощью такой тактики, по крайней мере, отсрочить войну, если уж он не мог ее избежать.
В апреле произошел спуск на воду нового современного линкора Германии «Бисмарк».
1 мая Литвинов стоял на трибуне рядом со Сталиным, когда части Красной армии, артиллерии и бронетанковых войск проходили по Красной площади во время ежегодного первомайского парада. Советские газеты назвали его «почетным гостем». Судя по всему, Сталин еще не знал о недавнем категорическом отказе Галифакса, о котором тот объявил Майскому. Но в конце дня Сталин, безусловно, был уже уведомлен о том, что произошло в Лондоне. В течение двух последующих дней он внезапно избавился от Литвинова и назначил Молотова, уже являвшегося тогда председателем Совета Народных Комиссаров, новым комиссаром иностранных дел. Данная новость была опубликована советскими газетами на последних страницах. Это стало большой неожиданностью. Поверенный в делах Германии в Москве сообщал, что «внезапные перемены вызвали здесь большое удивление, так как Литвинов находился в самом разгаре переговоров с британской делегацией; …по-видимому, это было спонтанное решение Сталина»[353].
В личном плане это изменение, наконец, позволило Молотову выиграть десятилетнее соперничество с Литвиновым за близость к Сталину. С политической точки зрения это создало проблему для Англии, поскольку Молотов был менее пробритански настроенным и более доверял немцам, чем Литвинов. В 1933 году он написал весьма примечательное разоблачительное письмо Сталину (несомненно, со временем за ним последовали и другие): «Литвинов вместе со своим недобросовестным кругом склонен организовать “оппозицию“ немцам… Считаю необходимым остановить его»[354].
В противоположность этому Литвинов с самого начала указывал на намерение Гитлера «проложить путь экспансии на восток огнем и мечом… и поработить советские народы»[355]. Назначив Молотова ответственным за советскую внешнюю политику, Сталин тем самым открыл дверь к переговорам с Гитлером. Если бы Сталин не смог добиться соглашения с союзниками, он бы воспользовался возможностью договориться с Гитлером, и сделать это было бы сложнее, если бы ответственным за переговоры был еврей Литвинов.
Молотов всегда был ближайшим соратником Сталина, единственным человеком, который «мог поговорить со своим начальником как товарищ с товарищем»[356]. Для Сталина, перед которым стояла неотложная задача спасения своей страны от войны, присутствие Молотова на переднем крае внешнеполитической деятельности означало, что он будет знать о каждом нюансе, каждом повороте событий, каждой вновь открывавшейся возможности. Кроме того, у него появлялись широкие возможности по организации переговоров с немцами.
Молотов продолжал переговоры с Наджиаром и Сидсом, однако через два дня после того, как Чемберлен заявил в парламенте, что Великобритания не будет вступать в союз с Россией, Сталин поручил Молотову встретиться с графом Фридрихом фон дер Шуленбургом, послом Германии в СССР, и начать обсуждение торговых отношений между двумя странами.
На тот момент Германия хотела нейтрализовать Советский Союз, поскольку Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел рейха, жаждавший войны, убедил Гитлера, что сближение с Россией даст рейху немедленный шанс (после вторжения в Польшу) нанести смертельный удар по Великобритании. А после завоевания Великобритании будет достаточно времени, чтобы расправиться с Россией.
Вначале Молотов возражал против сближения с Германией. Он обвинял Шуленбурга и его правительство в недобросовестном ведении переговоров. Молотов заверил Шуленбурга, что «Сталин следит за переговорами с большим интересом и получает информацию о мельчайших деталях»[357].
Министерство иностранных дел Германии в Берлине вовсе не было уверено в возможности «изменения позиции» СССР. «Мы полагаем, что союз Англии и России будет, безусловно, непросто предотвратить… Возможность успешного исхода здесь весьма ограниченна»[358], – сообщал Шуленбург.
Вскоре после этого, 31 мая, по указанию Сталина Молотов выступил по радио, которое было выбрано средством для трансляции важной внешнеполитической речи в связи с тем, что Сталин и Молотов желали, чтобы эта речь была услышана не только в России, но и во всех заинтересованных странах.
Молотов объявил, что Великобритания не гарантировала военной помощи ни России в случае нападения на нее, ни приграничным странам. «Мы выступаем за мир и против агрессии, – заявил он, – но мы должны помнить предостережение Сталина о том, что нас нельзя использовать для того, чтобы мы таскали для других из огня каштаны». Он ясно дал понять, что Россия была заинтересована в эффективном соглашении о взаимопомощи с Англией и Францией, которое устанавливало бы объем и характер этой помощи, ожидаемой Советским Союзом, а также гарантии помощи приграничным странам в случае военных действий. Для русской аудитории (а также для британских, французских и немецких слушателей) Молотов включил в свою речь предупреждение о том, что не следует автоматически исключать возможность восстановления дружественных отношений с Германией. Он пояснил, что в 1938 году Германия хотела установить торговые отношения с Советским Союзом. Тогда переговоры были прерваны, но, продолжал он, они «могут быть возобновлены».
Конечно же, они уже были возобновлены.
Использование радио в тот момент свидетельствовало о переломном этапе. Если бы Сталин хотел просто предостеречь Францию и Англию, Молотов мог бы просто встретиться с британскими и французскими послами. Но для Молотова радио было необходимо, чтобы подготовить советский народ к значительным изменениям политики страны.
В эфире Молотов упомянул по имени только одного мирового лидера, Рузвельта, что было ясным сигналом того, что Сталин был в курсе усилий президента, предпринимаемых в интересах России. 14 апреля президент направил Гитлеру сообщение, в котором перечислил тридцать одну страну, на которые он попросил не нападать по меньшей мере в течение десяти лет. Основной результат, к сожалению, был негативным, так как Гитлер выставил это сообщение на посмешище во время своего выступления в рейхстаге. Уильям Ширер охарактеризовал это как «самую блестящую речь, которую он когда-либо произносил»[359]. Тем не менее сообщение Рузвельта было высоко оценено в Советском Союзе. Молотов в своем выступлении заявил, что нарушение германским государством международных соглашений «было ответом Германии на предложение президента Соединенных Штатов Рузвельта, проникнутое духом миролюбия»[360].
В короткие сроки Молотов стал играть ведущую роль во встречах с Шуленбургом и выдвигал на обсуждение как политические, так и экономические вопросы взаимоотношений между двумя странами.
Следующий этап переговоров Советского Союза зависел от позиции Лондона, и он стал сложной задачей для Галифакса. «Приедет ли тот в Москву для серьезных переговоров и для того, чтобы сгладить все разногласия?» – задавался вопросом Майский.
Галифакс отвечал: «Выезд невозможен».
Энтони Иден, бывший министр иностранных дел, шокированный грубостью Галифакса, вызвался поехать вместо последнего, однако Чемберлен пресек эту инициативу. Майский вновь предложил Галифаксу приехать в Москву – и вновь получил отказ: последний определил, что для него «на тот момент» было невозможно покинуть Лондон.
Учитывая, что Чемберлен уже ездил в Мюнхен договариваться с Гитлером, повторный отказ министра иностранных дел посетить Москву стал пощечиной для Сталина.
* * *
Рузвельт страстно хотел встретиться со Сталиным, быть среди тех, кто уговаривал его отказаться от каких-либо соглашений с Гитлером. И он нашел необходимый канал связи. Посол Трояновский был заменен на своем посту и 6 июня появился в Белом доме с прощальным визитом, после чего он должен был отчитаться об этой встрече в Москве. Рузвельт передал через него одно простое послание. «Скажите Сталину, – сказал он, – что если его правительство присоединится к Гитлеру, то так же, как день сменяет ночь, случится то, что, как только Гитлер завоюет Францию, он повернет на Россию, и это станет поворотным пунктом в судьбе Советского Союза»[361].
* * *
Книга «Майн кампф» к середине 1920-х годов разошлась в Германии миллионными тиражами, а в 1933 году появилась в англоязычном варианте. Британские правители прочли слова Гитлера о том, что русские и евреи – это отбросы, слова, произнесенные им во время его многочисленных публичных речей о том, что Германия имела право на славянские сельскохозяйственные земли, в частности на Украину. Немецкая раса господ нуждалась в жизненном пространстве, поэтому Гитлер проповедовал: «Российское пространство – это наша Индия. Как и англичане, мы должны править этой империей с пригоршней народа»[362]. Осмыслив эти слова, британцев, вероятно, можно было простить за их образ мышления, и поскольку Гитлер становился все более жестоким и опасным, уже не было необходимости в поспешном заключении соглашения с Советским Союзом, поскольку угрозы заключения соглашения между Россией и Германией уже не существовало. Англичане, вероятно, считали, что сам процесс переговоров о соглашении с Россией, чьей формы правления они побаивались и которая могла пустить корни в их стране, был бы предпочтителен, поскольку даже сам факт переговоров мог бы хоть на время (или даже вообще) остановить Гитлера, прежде чем он успеет нанести следующий агрессивный удар. У них даже не укладывалось в голове, что Гитлер и Сталин могут объединиться. Переговоры позволили бы им выиграть время, возможно, даже достаточно времени для того, чтобы удержать Гитлера до следующей весны, поскольку было хорошо известно, что неделя ливневых дождей, прошедших в сентябре в Польше, сделает дороги непроходимыми, а затем бы последовала зима со снегом и льдом, что значительно усложнило бы начало войны[363].
Советская пресса теперь была инструментом, который использовался Сталиным для запуска переговоров с Британией. Он заставил газету «Правда» обвинить союзников в неискренности. «Британское и французское правительства не желают равноправного соглашения с Советским Союзом» – гласил заголовок на первой полосе издания от 29 июня. Внимательное прочтение, тем не менее, свидетельствовало, что Сталин не окончательно захлопывал дверь перед Британией и Францией. Также сообщалось, что «точка зрения автора о неискренности Британии и Франции не разделяется “его друзьями“»[364].
* * *
15 сентября 1938 года, в тот день, когда Чемберлен впервые посетил Мюнхен, чтобы попытаться договориться с Гитлером, Рузвельт написал одному из своих хороших друзей, что война «неизбежна… Возможно, когда она начнется, Соединенные Штаты окажутся в состоянии собрать обломки европейской цивилизации и помочь сохранить то, что останется после крушения»[365].
Теперь же, почти год спустя, наблюдая за тем, как Советский Союз входит в орбиту Германии, Рузвельт начал серьезную подготовку. 5 июля 1939 года, в преддверии войны, которая уже маячила на горизонте, он без лишнего шума издал приказ[366]. Согласно этому приказу был учрежден новый институт, Исполнительное управление президента, которому с этого момента должны были подчиняться Объединенный совет сухопутных и военно-морских сил (начальники штабов), который координировал все стратегические планы, а также Аэронавигационный совет и Объединенный совет по боеприпасам для сухопутных войск и ВМС, контролировавший программы военных закупок. Если ранее начальники штабов отчитывались перед военным министром и министром ВМС, то теперь все военное планирование (все вопросы стратегии, тактики и операций) перешло к президенту страны. Он полностью взял бразды правления в свои руки.
Теплые июльские дни проходили один за другим, и французский, британский и американский послы в Берлине телеграфировали своим правительствам, что находят все более очевидным тот факт, что Генеральный штаб Германии готовится в августе начать войну. Как они отмечали, к тому времени, как урожай будет собран, оборонительные сооружения будут готовы, и резервисты, стекавшиеся в Берлин у них на глазах, будут в больших количествах сосредоточены в военных лагерях.
17 июля посол Дэвис вернулся из Бельгии на судне «Квин Мэри», пришвартовавшемся в Манхэттене. В 12:30 следующего дня он обедал с Рузвельтом в Белом доме, рассказывая ему о том, что бельгийцам удалось узнать о планах Гитлера с помощью своих связей с германскими лидерами. В ходе обсуждения войны, которая, по их общему убеждению, уже приближалась, Дэвис выразил президенту свои соображения, исходя из сведений, полученных им от деловых и дипломатических источников. По его мнению, Гитлер и Риббентроп ожидают, что Сталин порвет с Англией и Францией. Он предсказывал, что Гитлер объявит войну Польше до съезда НСДАП, который должен состояться в сентябре в Нюрнберге.
Дэвис также сообщил Рузвельту, что в Брюсселе «просто молятся за внесение поправок в Закон о сохранении нейтралитета в надежде на то, что это поможет сдержать Гитлера и, по крайней мере, отсрочить войну»[367]. Как отметил Дэвис в своем дневнике, «эти заявления его [Рузвельта] не удивили. Кажется, они только упрочили его глубочайший пессимизм».
На самом же деле слова Дэвиса вынудили президента активно действовать. Вооруженный информацией Дэвиса о том, что изменения в Законе о сохранении нейтралитета могут предотвратить войну, Рузвельт в тот же день созвал собрание главных сенаторов, чтобы попытаться убедить их немедленно внести поправки в закон, которые обеспечили бы возможность для США оказывать помощь и посылать вооружения за рубеж. Он надеялся, что в этой ситуации, когда Сталин разрывался между Германией и союзниками, а союзники не желали доверять Сталину, последний довод Дэвиса убедит Сенат приступить к действиям. Он проводил заседание у себя в кабинете. На нем присутствовали госсекретарь Корделл Хэлл, вице-президент Джон Нэнс Гарнер и, что самое главное, республиканский сенатор Уильям Э. Бора, высокопоставленный член сенатского Комитета по международным отношениям, являвшийся ключевым представителем оппозиции, а также некоторые другие сенаторы. Рузвельт открыл заседание, сказав о власти и влиянии сенатора Джеральда Ная, республиканца из Северной Дакоты, чьи крайне изоляционистские убеждения тормозили внесение поправок. Бора перебил его. Он взмахнул рукой и заметил: «Есть и другие, господин президент»[368]. Рузвельт был до такой степени застигнут врасплох этой репликой, что попросил его повторить, что Бора и сделал с особым выражением, подчеркнув, что «никакой войны не ожидается, по крайней мере в ближайшем будущем… Германия не готова к ней». Крайне расстроенный, Хэлл сказал, что война может начаться до конца лета. Он предложил Бора как следует проверить свои каналы и высказался за признание закона утратившим силу. Как вспоминали участники заседания, у него в глазах стояли слезы, и он был на грани потери контроля над собой, настолько он был взбешен бесцеремонными манерами Бора и его излишней уверенностью в том, что знал о Германии больше, чем Госдепартамент. Заседание продлилось до полуночи, и тогда Гарнер заявил: «Господин президент, пора взглянуть фактам в лицо. Вы не набрали необходимого количества голосов, и говорить здесь больше не о чем»[369]. Сенат стал препятствием, которое Рузвельт летом 1939 года преодолеть не смог.
* * *
Молотов не оставил попыток договориться с Наджиаром и Сидсом. Теперь он убеждал их, что Советский Союз желает «немедленно» вступить в военные переговоры в Москве и что в Москву должна быть направлена военная миссия для подписания соглашения о взаимопомощи. Галифакс, наконец, согласился.
Давление на Министерство иностранных дел Великобритании и, в частности, на Галифакса и его ближайшее окружение, а также их противодействие заключению полноценного соглашения с Советским Союзом можно отследить в комментариях британского дипломата Уильяма Стрэнга: «История переговоров [о Тройственном союзе] – это история о том, как британское правительство под натиском доводов Советского Союза, под давлением парламента, средств массовой информации и результатов опроса общественного мнения, а также по рекомендации своего посла в Москве шаг за шагом приближалось к советской позиции»[370].
31 июля адмирал сэр Реджинальд Дракс и генерал Жозеф Думенк, переговорщики с английской и французской стороны, предположительно, наделенные полномочиями для заключения военного пакта, вместе со своими штабами отбыли в Москву. Маршрут их движения отличался крайней нерациональностью. Британский флот оставался величайшим в мире, но вместо того, чтобы отправить дипломатов на достойном корабле или, что было бы еще практичнее, на самолете (Чемберлен и Даладье использовали этот транспорт для поездки в Мюнхен), Галифакс отправил делегацию на тихоходном грузовом судне «Сити оф Экзетер», которому понадобилось десять дней, чтобы добраться до Ленинграда.
Пока «Сити оф Экзетер» следовал на восток, встречи Шуленбурга и Молотова продолжались. Шуленбург (в качестве заманчивого предложения для Сталина) убеждал Молотова в том, что Германия станет «жизненно важной защитой для интересов советской Балтии»[371].
Молотов блестяще выполнял свою работу и удерживал Шуленбурга на расстоянии. Шуленбург никоим образом не был уверен в том, что Сталин пойдет до конца и заключит соглашение с Гитлером. Он сообщил на Вильгельмштрассе о своих серьезных сомнениях: «У меня сложилось общее впечатление, что на данный момент советское правительство нацелено на подписание соглашения с Англией и Францией, если те выполнят все его пожелания».
А в это время в Лондоне Чемберлен решил придерживаться своего плана и 5 августа отбыл на рыбалку в воды Шотландии. Американский посол в Лондоне сообщил, что Чемберлен «надеется какое-то время (в разумных пределах) отсутствовать»[372].
* * *
Рузвельт получил информацию от Корделла Хэлла о статусе переговоров между Советским Союзом и Англией и Францией. Это состоялось 4 августа, в пятницу, в 14:00 на заседании кабинета министров. Рузвельт знал, что «Сити оф Экзетер» еще плыл по морским просторам. Сразу после заседания, действуя вместе с заместителем госсекретаря Самнером Уэллсом, в последней отчаянной попытке остановить Сталина и не допустить заключения его соглашения с Гитлером, Рузвельт написал ему личное письмо. Доставка этого письма оказалась непростой задачей. Было решено отправить его, поскольку президент чрезвычайно хотел, чтобы Сталин прочел его (однако он не хотел, чтобы кто-то перехватил его), и в результате, в условиях строжайшей секретности, письмо было отправлено окольными путями. Понадобилось одиннадцать дней, чтобы на фоне бесконечных переговоров этого лета оно дошло до Молотова, и почти две недели для того, чтобы Рузвельт получил ответ от Сталина. В ту пятницу в Вашингтоне также было возобновлено торговое соглашение с Советским Союзом, способствующее торговой деятельности последнего.
Судно «Сити оф Экзетер» прибыло в Ленинград 10 августа, а 12 августа Дракс и Думенк были готовы начать переговоры со своими российскими коллегами. Поскольку обсуждаемое соглашение носило военный характер и россияне ожидали серьезных переговоров, российскую делегацию возглавил нарком обороны Климент Ворошилов. В качестве советников Ворошилова сопровождали советские военачальники высших чинов, включая генерала Бориса Шапошникова, начальника Генерального штаба Красной армии, главнокомандующего ВВС и главнокомандующего флотом. В отличие от них, делегация союзников представляла собой разношерстную команду: генерал Жозеф Думенк был командующим Первым военным округом Франции, а адмирал сэр Реджинальд Дракс – военно-морским адъютантом короля Георга VI, но никогда не служил в штабе ВМС. Дракса сопровождал маршал авиации сэр Чарльз Бернетт, летчик, который, по словам германского посла в Лондоне, не разбирался в вопросах стратегии.
Встреча состоялась в особняке на Спиридоновке, величественном готическом здании царских времен с просторными комнатами, декорированными позолоченными потолками, парчовыми обоями и изысканными восточными коврами, который был предназначен Министерством иностранных дел для встречи иностранных эмиссаров. Стоял теплый день, двери, выходящие в тщательно ухоженный сад, были открыты, и участники сидели за круглым столом, курили и разговаривали.
Дракс прибыл без каких-либо документов, подтверждавших его полномочия для ведения переговоров. (Прежде чем были доставлены его документы, прошла целая неделя.) У России было 120 пехотных дивизий, готовых сражаться в случае войны. Ворошилов спросил, сколько британских войск будут готовы драться. Дракс ответил: пять обычных дивизий и одна механизированная. Ворошилов был ошарашен: русская разведка располагала иной информацией о мощи британских войск, таким образом, Британия была гораздо слабее, чем ожидали русские. То же самое можно было сказать и про Францию. Ворошилов задал новый вопрос, добавив, что это был «принципиальный момент, от которого зависели все остальные»: согласится ли Польша с тем, чтобы советские войска вошли в страну для организации боевых действий с немцами в случае их вторжения? Дракс был проинструктирован уклоняться от ответа на этот вопрос и отвечать предельно просто: конечно же, поляки и румыны с готовностью примут Красную армию[373]. 17 августа Ворошилов предложил отложить переговоры до тех пор, пока не будет четкого ответа на этот вопрос. 21 августа делегации встретились вновь, однако, поскольку вопрос так и остался без ответа, переговоры были окончательно прерваны. Оглядываясь назад, можно заметить, что союзники не вели переговоры добросовестно. Перед началом совещания Сидс написал: «Я не испытываю оптимизма в отношении успеха военных переговоров… однако их начало могло бы встряхнуть страны “оси“ и стимулировать наших союзников, а в дальнейшем их можно было бы продлевать, чтобы преодолеть последующие опасные месяцы»[374]. Сэр Чарльз Бернетт, летчик, после четырех дней пребывания в Москве написал в Лондон: «Я понимаю, что это политика правительства – затягивать переговоры как можно дольше, если мы не можем принять решения о соглашении»[375].
Как только «Сити оф Экзетер» отплыл, поверенный в делах США в Лондоне телеграфировал в Вашингтон: «Военная миссия, которая только что отбыла в Москву, получила указания тянуть переговоры до 1 октября».
Министерство иностранных дел Великобритании вело переговоры недобросовестно.
* * *
Рузвельт только что назначил послом в Советском Союзе Лоуренса Штейнгардта, ранее занимавшего должность посла США в Швеции и Перу. Штейнгардт прибыл в Москву и вручил верительные грамоты Молотову 10 августа, в тот день, когда судно «Сити оф Экзетер» прибыло в Ленинград.
Процесс передачи секретного сообщения Рузвельта Сталину происходил в условиях большой секретности. Чтобы избежать возникновения негодования у американских изоляционистов, жаждущих найти признаки вмешательства Рузвельта в европейскую политику, сообщение было направлено Штейнгардту и подписано не Рузвельтом, а Самнером Уэллсом. Оно было отправлено по прямому защищенному каналу связи, которым пользовался Госдепартамент для связи Вашингтона с посольством США в Париже. Поскольку как телефонные линии, так и телеграфная связь по всей Европе, как считалось, контролировались, посольству США в Париже было поручено воспользоваться достаточно безопасным, но в то же время крайне медленным способом – посредством курьера. Письмо было передано Штейнгардту через девять дней, утром 14 августа, вторым секретарем посольства. Предполагалось, что Штейнгардт лично передаст письмо Молотову, который, в свою очередь, доложит его содержание Сталину. Штейнгардт незамедлительно попросил о встрече с Молотовым и 15 августа лично передал ему письмо.
В этом письме от 4 августа сообщалось:
«Уважаемый господин посол, президент попросил меня передать Вам срочное сообщение… По мере того как страны “оси“ будут одерживать победы, это будет неминуемо оказывать существенное и незамедлительное влияние как на Соединенные Штаты, так и на Советский Союз. В этом случае на позициях Советского Союза указанное влияние скажется гораздо быстрее, чем на позициях Соединенных Штатов… Президент не может оказать помощь в данном вопросе, но считает, что достижение соответствующего соглашения по противодействию агрессии с другими европейскими державами будет иметь несомненно стабилизирующий эффект в интересах обеспечения международного мира»[376].
Рузвельт просил Сталина держаться подальше от Гитлера.
Молотов внимательно выслушал Штейнгардта, затем разъяснил позицию своего правительства. Штейнгардт с согласия Молотова делал необходимые пометки.
Молотов объяснил, что его правительство заинтересовано не «просто в общих декларациях», а в «определении конкретных действий, которые следует предпринять в тех или иных особых условиях или обстоятельствах, а также в выработке взаимных обязательств сторон по противодействию агрессии… Для нас важны все переговоры с Францией и Англией, которые состоялись до настоящего времени, поскольку они могут привести к соглашению о взаимной помощи по организации обороны»[377]. Штейнгардт спросил у Молотова его мнение по поводу вероятного исхода переговоров. Молотов ответил: «Мы потратили много времени на переговоры, давая тем самым понять, что ожидаем положительного исхода, и нас не стоит винить в задержке принятия решения».
Молотов заявил, что он четко осознает, что Рузвельт не мог принять «немедленного» участия в решении европейских вопросов, однако он знает, что президент Рузвельт искренне желает сохранить всеобщий мир и что в этой связи его правительство уделит максимум внимания только что высказанному мнению и осознает его важность.
Послание президента, к сожалению, было слишком кратким и запоздалым, чтобы изменить ситуацию. В тот же вечер в 20:00 Молотов встретился с Шуленбургом. Шуленбург доложил руководству, что он нашел Молотова «на удивление сговорчивым и откровенным… Важно то, что он совершенно ясно выразил желание заключить с нами пакт о ненападении»[378]. Молотов дал согласие на приезд в Москву министра иностранных дел Риббентропа, чтобы «заложить основы для решительного улучшения германо-российских отношений»[379] и заключить экономическое соглашение, после которого должно последовать заключение Советским Союзом пакта о ненападении.
Прочитав телеграмму, Риббентроп был весьма взволнован. Он с трудом владел собой. Он отправил телеграмму с пометкой «СРОЧНО» Шуленбургу с указанием сообщить Молотову, что министр иностранных дел рейха может прибыть в Москву «в любое время после пятницы, 18 августа»[380].
20 августа Шуленберг, как ему и было указано, представил Сталину телеграмму на его имя, на простом листе бумаги (не на бланке). Письмо, адресованное «господину Сталину», было написано Гитлером в примирительной и вежливой форме:
«Заключение пакта о ненападении с Советским Союзом означает для меня определение долгосрочной политики Германии… Я убежден, что текст дополнительного протокола, желаемого Советским Союзом, может быть выработан в самые короткие сроки, если ответственный государственный деятель Германии сможет лично прибыть в Москву для переговоров… Имперский министр иностранных дел будет облечен всеми чрезвычайными полномочиями для составления и подписания пакта о ненападении, а также протокола.
Я был бы рад получить Ваш скорый ответ. Адольф Гитлер».
Сталин телеграфировал немедленно: «Я надеюсь, что германо-советский пакт о ненападении станет решающим поворотным пунктом в улучшении политических отношений между нашими странами», – и подчеркнул, что Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел рейха, может прибыть 23 августа.
Риббентроп, и так-то взволнованный, теперь еще был обеспокоен тем, что его поездка может сорваться (Сталину достаточно было лишь передумать), поэтому на следующий день он отправил Шуленбургу телеграмму: «Прошу сделать все возможное, чтобы поездка состоялась»[381].
Между тем германская армия готовилась к войне. Можно было видеть, как колонна протяженностью более полукилометра, состоявшая из солдат в полной боевой экипировке, огромных грузовиков, буксировавших боевую технику, в том числе пятиметровые пушки, и гусеничных машин, направлялась в германские казармы в Глейвице, расположенном в трех километрах от границы с Польшей. Британский военный министр Лесли Хор-Белиша, которого журналисты 20 августа видели в шортах на пляже в Каннах, спустя полчаса после получения телеграммы уже в одетом виде направлялся на поезде в Париж[382]. В Шотландии Невилл Чемберлен упаковал свое снаряжение, покинул свой заветный водоем с форелью и на ночном поезде направился в Лондон.
23 августа, в среду, Риббентроп прибыл в Москву на личном самолете Гитлера, хорошо оборудованном «Кондоре». Вместе с ним прибыли девять дипломатов, в том числе заместитель министра иностранных дел, глава протокольной службы и руководитель Восточного департамента министерства иностранных дел. По их прибытии в Кремль Сталин лично приветствовал делегацию, подчеркнув тем самым важность этого события.
Встречи германских и советских официальных представителей продолжались всю вторую половину дня и завершились ночью. В час ночи Риббентроп позвонил Гитлеру и сообщил о подписании пакта. Тотчас же данная новость была обнародована по национальному радио Германии. Поскольку данное соглашение гарантировало безусловный нейтралитет России вне зависимости от предпринятых Германией действий, издание «Нью-Йорк таймс» сообщило, что оно «вызвало величайший восторг во всех политических кругах»[383]. Согласно заявлению Штейнгардта, Сталин лично проводил переговоры с Риббентропом, и после их завершения Риббентроп поднял тост за Гитлера и «за возрождение традиционной русско-германской дружбы». В соответствии с записями нескольких присутствовавших германских офицеров Риббентроп даже позволил себе большее, повторив берлинскую шутку, что «Сталин еще присоединится к Антикоминтерновскому пакту»[384].
Позже в тот же день новость о заключении пакта была опубликована в газетах «Правда» и «Известия». В обмен на обещание советского нейтралитета (статья 2: «Воздерживаться от любой поддержки любой страны, находящейся в состоянии войны с другой страной»[385]) Гитлер неохотно дал согласие на право Советского Союза контролировать Прибалтийские страны и часть польских территорий, примыкавших к Советскому Союзу (данное соглашение не было частью официального документа).
Тем самым Сталин вернул территории, ранее принадлежавшие Российской империи.
Когда Гитлеру, находившемуся в Берхтесгадене, сообщили о заключении пакта, он «на мгновение пристально посмотрел в пространство, пришел в сильное волнение, затем ударил по столу с такой силой, что с него упали очки[386], и возбужденно воскликнул: «Они мои! Они мои! Теперь Европа моя!»[387]
На следующий день Ворошилов, у которого теперь не было необходимости продолжать беседы с английскими и французскими представителями, с двумя другими членами Политбюро, Георгием Маленковым и Никитой Хрущевым, отправился на охоту на уток в свой охотничий заповедник[388]. (Хрущев ошибочно указал воскресенье, но во всем остальном его пересказ событий выглядит весьма правдоподобно.) Погода была отличная, охота на уток удалась. После этого трое мужчин отправились на дачу Сталина, где они все вместе сидели, беседовали, выпивали и закусывали. День завершился, наступила ночь, уток ощипали и приготовили. Ничто так не нравилось Сталину, как долгие, многочасовые разговоры за столом со своим «ближним кругом» до глубокой ночи с нескончаемой чередой блюд и спиртных напитков. В этот день Сталин совершил огромный шаг для защиты своей страны от агрессии, по крайней мере на ближайшее будущее. Он верил, что, пообещав Гитлеру не присоединяться к тем, кто выступит против него, он тем самым откупился от него. Хрущев вспоминал, что Сталин в этот день постоянно вспоминал проект Договора о дружбе и границе, разработанный Гитлером и Риббентропом. Риббентроп привез данный документ с собой, и, как Сталин сообщил своим собеседникам, с некоторыми изменениями он был только что подписан в Кремле. Было заметно, что со Сталина спало напряжение, в котором он находился почти целый год (после Мюнхенского соглашения). Сталин был в приподнятом настроении, он был счастлив.
Он «был в очень хорошем настроении и много шутил»[389]. Он заявил, что, «как только британские и французские представители, все еще находящиеся в Москве, на следующий день узнают об этом договоре, они немедленно покинут страну… Они действительно не желали объединять с нами своих усилий… Конечно, это все игра, чтобы увидеть, кто кого сможет обмануть. Я знаю, что задумал Гитлер. Он думает, что перехитрил меня, а на самом деле это я обманул его».
Сталин считал, что выиграл время, и Советский Союз теперь может оставаться нейтральной стороной, тем самым сохранив свою мощь: Гитлер в первую очередь уничтожит Францию и Великобританию, прежде чем нападет на Россию.
* * *
Рузвельт также принял решение отправиться в отпуск, чтобы спрятаться от летнего зноя в Вашингтоне. Однако в его доме в Гайд-парке, в долине реки Гудзон, вряд ли было бы прохладней. Поэтому утром 12 августа он направился в Нью-Йорк, чтобы сесть на борт тяжелого крейсера «Таскалуса» с планами отбыть в канадские воды, – это было как раз в то время, когда начались переговоры в особняке на Спиридоновке. Он планировал посетить остров Кампобелло в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады, где он так много времени провел со своей семьей. Именно здесь в августе 1921 года он заболел полиомиелитом. До болезни он был высоким (183 сантиметра), стройным, привлекательным и стильно одетым мужчиной, которого Вудро Вильсон описал как «самого красивого молодого гиганта, которого я когда-либо встречал»[390]. Борьба с болезнью превратила его в полностью уверенного в себе человека, который смог дать ей отпор и одержать победу над своей инвалидностью. В результате болезни он стал выглядеть как совсем другой человек. Он и стал другим человеком. Самнер Уэллс отмечал: «Казалось, что все мелочи жизни просто выгорели в нем. Его душа превратилась в сталь»[391]. Тогда из Кампобелло его увезли скорее мертвым, нежели живым. С тех пор он ни разу не был здесь.
Корабль ВМС США «Таскалуса» был поистине величественным, достойным президента. Это был тяжелый крейсер типа «Нью-Орлеан», 1934 года постройки, девятнадцать метров в ширину, почти 185 метров в длину, с экипажем, состоявшим из семисот человек.
Его сопровождали, по традиции, Па Уотсон и Росс Макинтайр, а также военно-морской адъютант Дэниэл Дж. Каллаган. Однако, учитывая напряженную международную ситуацию, большой объем работы, связанной с необходимостью планирования, корабль был превращен в командный центр, и, таким образом, у Рузвельта была возможность решать вопросы в случае возникновения какого-либо политического кризиса. С этой же целью на корабле присутствовали также три секретаря, чтобы писать под диктовку, помогать составлять речи или выпускать пресс-релизы: Дороти Брэди, Генри Кани и Билл Хассетт, а также телефонистка Луиза Хахмейстер, которая могла найти необходимых людей по телефону (в то время это было нелегкое дело), и Дьюи Лонг, начальник службы сообщений Белого дома.
Рузвельт собирался заняться рыбалкой, отдохнуть, погреться на солнце и посетить остров Кампобелло. Двигаясь на северо-восток, корабль вначале бросил якорь в порту Галифакс (провинция Новая Шотландия на востоке Канады), а 14 августа в 13:00 прибыл к острову Кампобелло. Рузвельт быстро покинул корабль, предположительно, на одном из вельботов и навестил свой дом. Это, скорее всего, было для него мучительным – оказаться там, где с ним случилась трагедия. Три часа спустя он вновь был на борту «Таскалусы». Корабль проследовал дальше на восток к порту Сидней на острове Кейп-Бретон.
Уотсон, Макинтайр, Каллаган и Рузвельт рыбачили на киле «Таскалусы», пока корабль не достиг залива Бей-оф-Айлендс (канадская провинция Ньюфаундленд). Немного погодя, после обеда, Рузвельт и его попутчики несколько часов с вельботов ловили лосося в реке Хамбер. На следующий день в 7:44 «Таскалуса» достигла района Петитпас-Поинт, где Рузвельту захотелось порыбачить на другом участке реки Хамбер. Должно быть, рыбалка прошла замечательно (хотя нигде в записях не упоминается, что именно они поймали), поскольку Рузвельт и его друзья рыбачили пять часов подряд, прежде чем вернуться на борт «Таскалусы». Далее они планировали проследовать на север к проливу Белл-Айл, чтобы взглянуть на огромный севший на мель айсберг, а затем обогнуть остров Ньюфаундленд, однако сильный туман помешал им. Было решено вернуться в Галифакс (провинция Новая Шотландия). По пути «Таскалуса» бросила якорь у острова Берд-Рок в заливе Святого Лаврентия, чтобы предоставить президенту и его попутчикам последнюю возможность половить лосося с вельботов. Однако уже через полчаса они вернулись на борт, и корабль со скоростью 20 узлов двинулся к Галифаксу. В понедельник в 15:00 они пришвартовались в порту Галифакс. Курьер из Вашингтона, инспектор почтовой службы США Лео де Уард, прибыл на борт со специальным мешком с почтой для президента. Рузвельту необходимо было вернуться в Вашингтон утром 25 августа, в пятницу.
В понедельник вечером радио Германии сообщило новости, прервав музыкальную программу сообщением о том, что Германия и Россия приняли решение подписать Пакт о ненападении. На следующий день, 22 августа, на десятый день путешествия Рузвельта, эта новость заняла все первые полосы германской прессы.
Бóльшую часть лета Рузвельт, Хэлл и Дэвис не только обсуждали и пытались предотвратить такой исход, они предусмотрели также определенные шаги на случай такого развития событий. Наряду с этим, по их мнению, нужно было избежать действий, которые бы еще больше подтолкнули Советский Союз в объятия Гитлера. Издание «Нью-Йорк таймс» как нельзя лучше описало реакцию администрации, поскольку его репортер получил сведения напрямую от Госдепартамента. По его словам, сообщение о заключении Пакта о ненападении «не явилось неожиданностью в коридорах Госдепартамента. Желание канцлера Адольфа Гитлера поставлять военные материалы России… было воспринято как стремление господина Гитлера продемонстрировать Иосифу Сталину, что Германия больше не планирует прямой агрессии против СССР, и обеспечить для Сталина по возможности пассивную роль в развитии событий в Европе»[392].
Это весьма точно отражало точку зрения Рузвельта.
Рузвельт проконсультировался с Хэллом и Уэллсом по поводу того, должен ли он срочно вернуться в Вашингтон. Их ответ был отрицательным. Рузвельт, однако, проигнорировал их совет и приказал командиру корабля подготовиться к отплытию «Таскалусы» в 6:00 следующего дня, 22 августа, в направлении Аннаполиса. Во второй половине дня Гарри Гопкинс явился на борт корабля с тайным внеплановым визитом к Рузвельту, чтобы сообщить тому последние новости. Предположительно, у Гопкинса были проекты тех посланий, которые должны были быть направлены два дня спустя от имени Рузвельта Адольфу Гитлеру и президенту Польши Игнацы Мосцицкому с призывом выработать мирное решение существовавшей проблемы.
В телеграмме Рузвельта Гитлеру, отправленной в полночь 23 августа, особое значение придавалось обеспечению всеобщего мира и высказывалась просьба «воздержаться от любого акта враждебности на разумный обговоренный период», а также передать «спорные вопросы на беспристрастное рассмотрение третейским судом, которому могли бы доверять обе стороны». Президенту Польши Мосцицкому Рузвельт написал, что «существующая между правительством Польши и правительством германского рейха проблема могла бы стать предметом прямых переговоров между правительствами двух стран», либо предложил «достичь примирения при участии незаинтересованной третьей стороны».
Чтобы сэкономить время, «Таскалуса», следовавшая на юг на максимальной скорости, направилась не к Аннаполису, а в район Сэнди-Хук в штате Нью-Джерси, где в четверг, 24 августа, в восемь утра бросила якорь. Утром отдохнувший Рузвельт уже вернулся в Белый дом, где обсуждал с Уэллсом и Хэллом, как быть с этим кошмаром: союзом между Германией и Советским Союзом. Двум руководителям от имени президента были направлены послания.
На следующий день пришел вежливый, но обескураживающий ответ от Мосцицкого. Он благодарил Рузвельта за его «важное и благородное» послание. Он писал, что прямые переговоры между правительствами являются «наиболее целесообразным способом решения проблем, которые могут возникать между государствами», наряду с этим «метод примирения посредством третьей стороны, такой же беспристрастной и непредубежденной, как Ваше Превосходительств», также выступает в качестве «объективного и справедливого способа урегулирования разногласий».
Рузвельт немедленно отправил Мосцицкому ответную телеграмму, отметив, что, «исходя из оснований, изложенных в моем послании, польское правительство желает согласиться на урегулирование разногласий… путем прямых переговоров или путем достижения примирения… Весь мир молится, чтобы Германия также согласилась на это». Однако Гитлер так и не ответил. Спустя несколько дней после объявления о подписании Пакта о ненападении французское правительство проследило за тем, чтобы все картины из Большой галереи Лувра и его выставочных залов были упакованы и перевезены в замок Шамбор в долине реки Луары. Остались только тяжелые скульптуры, которые сложно было перевозить. Британское правительство рекомендовало своим гражданам в Польше как можно скорее покинуть страну «ввиду угрозы обострения отношений между Германией и Польшей»[393].
В Англии полученные известия были встречены с изумлением. Английская пресса не позволила правительству уйти от ответственности. Например, издание «Дейли геральд» расценило это как «преступное замешательство со стороны британского и французского правительства по отношению к России», добавив: «Нет оправдания этому предательству мира и европейской свободы, которое по своим масштабам превосходит то, что произошло в Мюнхене».
Лорд Исмей, который в следующем году станет начальником личного штаба Черчилля, признал: «Я не мог и рассчитывать на то, что наша запоздалая и лишенная реальных полномочий миссия в Москву была способна привести к каким-либо результатам»[394]. Однако, как и многие другие, он был поражен скоростью процесса переговоров между Гитлером и Сталиным. Казалось, что соглашение было достигнуто буквально за одну ночь.
Соглашение с Гитлером было настолько невероятным для Советского Союза, даже для членов Политбюро (особенно если учесть, что Гитлер уже столько раз повторял, что его «раса господ» разгромит славян и что советские лидеры – это «отбросы человечества»), что пакт никогда не упоминался ни на партийных съездах, ни даже в общественных речах. «Мы не могли признать того, что мы достигли соглашения о мирном сосуществовании с Гитлером. Сосуществование было бы возможным с немецким народом в целом, но не с гитлеровскими фашистами»[395], – пояснял Никита Хрущев. Члены Политбюро лишь в частном порядке делились между собой мнением о том, что была надежда: до того, как напасть на Советский Союз, Гитлер с учетом существования данного договора прежде совершит агрессию против Великобритании и Франции.
Через девять дней после подписания договора, 1 сентября, вермахт напал на Польшу. Через восемь дней сражений не осталось ни одной польской дивизии: 450 000 человек были взяты в плен, восемьсот самолетов были подбиты или захвачены. 17 сентября Красная армия вошла в восточные районы Польши. Польша перестала существовать.
Соединенные Штаты предпочли расценить российское вторжение, как вспоминал Хэллл в своих «Мемуарах», как стремление Сталина «удержать легионы Гитлера от приближения к России… Мы [Рузвельт и Хэлл] не хотели ставить Россию на одну ступень с воинствующей Германией, поскольку это еще больше подтолкнуло бы ее в объятия Гитлера… Гитлер не отказался от своих амбиций по поводу России»[396].
Не выражая это вслух, Рузвельт, тем не менее, был разъярен. Он упоминал коммунизм в своем послании к Джозефу Кеннеди, послу США в Великобритании, как «русскую форму жестокости»[397] и передал ему шутку: «Представьте, что у вас есть две коровы. Социалист возьмет себе одну и одну оставит вам. Нацист позволит вам оставить себе обе коровы, но будет забирать себе все молоко. А коммунист заберет обеих коров себе».
В ближайшие несколько недель Рузвельт созвал специальные заседания Конгресса для отмены закона о сохранении нейтралитета, чтобы позволить странам (Англии и Франции) приобретать у США вооружение. Правительство Германии незамедлительно обвинило Рузвельта в «несоблюдении нейтралитета». По словам Уильяма Л. Ширера, Гитлер всегда относился к Рузвельту с должным уважением и с примесью страха, но в течение этого года он стал относиться к Рузвельту как к своему сильнейшему врагу, ступившему на путь к мировому господству.
Сдержанная реакция Рузвельта на пакт Сталина и Гитлера принесла свои плоды осенью 1940 года. Гитлер хотел, чтобы Сталин направил Молотова в Берлин для обсуждения будущих планов в отношении мирового господства за счет Англии. Сталин, стремясь противостоять давлению со стороны Гитлера, настоял на том, чтобы визит Молотова в Берлин состоялся не раньше 5 ноября (день, когда Рузвельт должен был быть переизбран на третий срок).
Вскоре после подписания Пакта о ненападении Сталин сделал весьма показательное признание министру иностранных дел Турции: «Англичане и французы, и особенно англичане, не хотели заключать соглашения с нами, полагая, что они могут справиться без нас. Если мы в чем-либо и виноваты, так только в том, что не смогли все это предвидеть»[398]. Тридцать пять лет спустя Хрущев будет продолжать защищать необходимость заключения этого пакта: «Если бы мы не сделали этого шага, война началась бы еще раньше, и мы понесли бы еще большие потери. А так нам хотя бы была предоставлена возможность передышки»[399].
Стоит отметить тот факт, что летом 1939 года Сталин получил послания от Гитлера и Рузвельта, но от Чемберлена или Даладье не пришло ни одного послания.
Ганс Франк, германский генерал-губернатор оккупированной Польши, 31 октября объявил: «Полякам не нужны ни университеты, ни средние школы. Польские земли будут превращены в интеллектуальную пустыню… Единственные возможности для образования останутся лишь для того, чтобы показать их безнадежность и подтвердить их этническую судьбу»[400]. Немцы действительно сдержали слово: когда Красная армия освободила Польшу, то не нашла ни одного здания школы, школьного оборудования, учебных материалов, ни одной лаборатории. То, что немцы не смогли уничтожить, было отправлено в Германию.
Глава 8 План «Барбаросса»
Сталин чувствовал, что неминуемое уже надвигается, хотя не хотел признаться в этом даже самому себе. К началу июня его здоровье, по свидетельству близких, настолько ухудшилось, что врач убедил его уехать на дачу в Сочи, чтобы отдохнуть там. Лицо у него пожелтело, глаза стали красными, а руки не переставали дрожать.
В течение последних нескольких лет Сталин жил в твердом убеждении, что Гитлер обязательно нападет на Россию, что это лишь дело времени. Он заключил договор с Риббентропом именно для того, чтобы выиграть это время. Еще с января 1941 года советские дипломаты, работавшие в разных странах мира, а также агентура широкой советской разведывательной сети отправляли в Кремль донесения, в которых говорилось, что Гитлер планирует вторгнуться в СССР в июне. Однако Сталин им не поверил. Он почему-то был убежден, что Гитлер не нарушит летом Пакта о ненападении. Советские военачальники пытались предупредить его, что вторжение неминуемо, но он редко принимал во внимание мнения других и еще реже следовал их рекомендациям. Поэтому наиболее близкие к нему соратники всегда подстраивались под него и не смели высказывать собственную точку зрения, если она отличалась от мнения Сталина. Многих несогласных с решениями Сталина жизнь научила держать свои возражения при себе. А такие деятели, как Ворошилов, искренне верили, что Сталин всегда прав, потому что он – великий вождь, он все видит и все знает. Когда советский посол в Берлине Владимир Деканозов доложил Москве о совершенно очевидных признаках подготовки Германии к войне против СССР, Ворошилов резко одернул дипломата: «Как ты посмел позволить себе спорить с товарищем Сталиным! Он знает больше нас, и он дальновиднее нас всех!»[401]
В январе 1941 года атташе посольства США в Берлине по вопросам торговли Сэму Вудсу удалось добыть и переслать в Госдепартамент декабрьскую директиву Гитлера, касавшуюся операции «Барбаросса»[402]. Этот документ дипломату передал немецкий антифашист во время сеанса в темном зале кинотеатра. Вудс вкратце описал планируемое Гитлером военное вторжение по трем направлениям, сообщил, что уже напечатаны целые пачки рублей и назначены чиновники для управления захваченными территориями России. Самнер Уэллс передал эту информацию советскому послу Уманскому.
Несколько месяцев спустя в телеграммах, отправленных Хироси Осимой своему начальству в Токио, содержались сведения, полученные им от Германа Геринга: число самолетов, количество и типы дивизий, подготовленных к войне против Советского Союза, а также время начала войны: начало лета[403]. Радио– и радиотехническая военная разведка сначала не имела возможности читать эту переписку, поскольку японцы внедрили новую систему шифрования. Однако затем специалистам военной разведки удалось взломать систему шифрования и прочитать это сообщение, которое, по словам офицера, было «слишком тревожным, чтобы я мог уснуть в ту ночь».
Когда об этом доложили Рузвельту, он поручил Уэллсу вторично предупредить Уманского, что тот и сделал в конце марта. Уманский ответил: «Мое правительство будет весьма благодарно вам за оказанное доверие. Я немедленно проинформирую Москву о нашей беседе»[404].
Британская разведка тоже выявила признаки надвигающейся германской агрессии, что побудило Черчилля тоже предупредить об этом Сталина. Реакция Сталина была негативной: он не доверял Черчиллю. Изучив предупреждение Черчилля, Сталин раздраженно сказал Жукову: «Нас пугают немцами, а немцев пугают Советским Союзом. Они просто натравливают нас друг на друга». (Позднее Молотов говорил: «Могли ли мы тогда поверить Черчиллю? Ведь он был заинтересован в том, чтобы как можно скорее вовлечь нас в конфликт с немцами. Могли ли мы тогда думать иначе?»[405])
Лидер китайских коммунистов Чжоу Эньлай предупредил Сталина из Чунцина, что германское вторжение произойдет 21 июня.
Работавший в Токио под прикрытием корреспондента германской газеты резидент советской агентурной сети Рихард Зорге, находившийся в дружеских отношениях с послом Германии в Японии Эйгеном Оттом, 15 мая сообщил в Центр, что война начнется в период между 20 июня и 22 июня. 19 мая он передал очень подробные (и точные) сведения о том, что у советской границы сосредоточена группировка из девяти германских армий и 150 дивизий. Однако в Кремле заподозрили, что Зорге является двойным агентом. Такое подозрение основывалось на том факте, что Зорге был назван в числе вероятно неблагонадежных советскими офицерами, обвиненными в лояльности к Германии и казненными в ходе массовых репрессий 1937 года. И все же, поскольку Сталин всегда требовал докладывать ему всю поступающую информацию, 9 июня генералы Тимошенко и Жуков представили Сталину свои доклады, включив в них донесения Зорге. Сталин с усмешкой ознакомился с документом и раздраженно бросил: «Надо же! Этот подонок, опекающий в Японии фабрики и бордели, соблаговолил сообщить нам дату германского нападения 22 июня. Неужели вы думаете, что я ему тоже поверю?»[406]
Горькая ирония заключалась в том, что параноидальный страх предательства, который уже заставил Сталина уничтожить многих генералов во время репрессий, теперь лишил его возможности объективно воспринимать донесение Зорге, столь подробное и столь точное. Громыко потом напишет в своих мемуарах: «Никакие предупреждения – будь они из Лондона или Токио – не могли поколебать его навязчивой идеи»[407].
Следует отметить, что Гитлеру блестяще удавалось скрывать подготовку к войне. Развернутая разведкой германского Генштаба кампания по дезинформации имела в качестве своей основы легенду, будто бы Германия намеревается до нападения на СССР сначала покончить с Англией, а также что вся деятельность, воспринимаемая как подготовка к вторжению в Советский Союз, направлена на то, чтобы спровоцировать у британцев ложное чувство безопасности перед тем, как им будет нанесен мощный и неожиданный удар, к отражению которого они просто не успеют подготовиться. Эта кампания по дезинформации была проведена настолько успешно, что операция «Барбаросса» стала «почти полной»[408] неожиданностью не только для русских, но и для населения Германии. Известно, что даже граф фон дер Шуленбург, германский посол в Москве, оставался в неведении, верил, что Гитлер не собирается объявлять войны, и старался убедить в этом Сталина.
И это несмотря на то, что планы вторжения разрабатывались уже в течение полугода: еще 18 декабря 1940 года вермахту был направлен приказ «готовиться сокрушить Советскую Россию в ходе стремительной кампании даже до завершения войны с Англией»[409].
20 мая руководитель советской военной разведки генерал Филипп Голиков доложил Сталину, что агент под псевдонимом Старшина, внедренный в штаб люфтваффе, неоднократно предупреждал его о военных приготовлениях Германии. Сталин приказал наказать Старшину, после чего злобно добавил: «Не послали бы вы к… матери этот ваш «источник» в штабе германских ВВС. Это – не «источник», а дезинформатор»[410].
Не рискуя снова вызвать гнев Сталина, 31 мая 1941 года Голиков доложил ему, что военные приготовления Германии направлены против Англии: «Германское командование одновременно продолжает направлять войска в Норвегию… намереваясь провести главную военную операцию против Британских островов». («Признаюсь, – говорил он позднее, – я сознательно искажал разведданные, чтобы они понравились Сталину. Я боялся его»[411].)
Кое-какие приготовления, впрочем, удалось сделать. Тимошенко и Жуков уговорили Сталина дать свое согласие на призыв в конце апреля 800 000 резервистов. 1 мая все дороги, ведущие от Владивостока, были перекрыты. 4 мая Сталин освободил Молотова от должности премьер-министра и сам занял этот пост, сосредоточив таким образом в своих руках всю власть. Наряду с этим продолжились усилия, направленные на то, чтобы ублажить Гитлера. 8 мая Советский Союз отозвал признание правительств Норвегии и Бельгии в изгнании и признал марионеточные правительства, сформированные нацистами в этих странах. Посол Штейнгардт 10 мая докладывал: «Наблюдается огромный рост грузов, прибывающих во Владивосток для отправки в Германию по железной дороге»[412].
План «Барбаросса» стал объектом настоящей телеграфной лихорадки в истории войн. Посол США в Риме Уильям Филлипс в день вторжения записал в своем дневнике: «Сегодня утром по радио сообщили новость, которую ждали каждый день»[413]. Поступавшие в американское посольство в Москве телеграммы буквально «кишели прогнозами»[414], когда случится вторжение. Особенно часто назывались четыре даты, которые запомнились, как самые вероятные: 1 мая, 15 мая, 23 мая и 15 июня.
Поскольку Сталин оставался глух ко всем донесениям, его примеру последовал и его ближайший друг, тоже грузин, глава НКВД Лаврентий Берия, всегда пользовавшийся особым доверием Сталина. Берия предпочел в этой ситуации вообще не касаться опасной темы. Когда посол Деканозов, приятель Берии и тоже грузин, доложил ему, что Германия готовится к нападению, Берия хладнокровно посоветовал Сталину не только отозвать, но и наказать Деканозова. Сталин же объяснял многие предупреждения, полученные от источников в других странах, корыстными мотивами.
Даже когда предупреждения обрели более конкретную форму, а германская активность на границе стала совсем очевидной, Сталин упорно продолжал верить, что Гитлер не нападет. Он считал, что ни в коем случае нельзя давать Гитлеру никакого повода для начала враждебных действий. В мае он дал свое согласие на просьбу Шуленбурга разрешить группам немцев организовать поиск захоронений германских солдат, погибших в России во время Первой мировой войны. Когда Сталин сказал об этом Тимошенко и Жукову, оба генерала были буквально огорошены такой новостью: более благоприятного способа вести разведку дислокации советских войск придумать было невозможно. Когда Тимошенко сообщил Сталину о «все возрастающих нарушениях границ советского воздушного пространства»[415], тот отрезал: «Я не уверен, что Гитлер знает об этих полетах». Затем Сталин сообщил генералам, что Гитлер говорил советскому послу Деканозову, что переброшенные к советской границе германские войска – это военная хитрость с целью скрыть от Лондона предстоящее вторжение в Англию. Он настаивал на продолжении поставок советской продукции в Германию. СССР поставлял Третьему рейху более половины всего германского импорта фосфатов, асбеста и марганца и треть своего никеля и нефти. Министр иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуока, посетивший Москву в апреле, подкрепил доверие Сталина к Германии новой фикцией. Мацуока сказал ему: он уверен, что немцы намеренно распространяют слухи о якобы предстоящем нападении, чтобы добиться от Советского Союза продолжения поставок продукции в Германию[416].
На очередном первомайском военном параде Сталин поставил Деканозова рядом с собой на трибуне Мавзолея Ленина, символизируя тем самым дружественный жест в адрес Германии. А 14 июня, определенно по распоряжению Сталина и Молотова, газета «Правда» напечатала официальное сообщение TАСС, которое со всей очевидностью было адресовано Гитлеру. В сообщении содержалось обвинение Англии в распространении слухов о том, что вот-вот начнется война между Германией и Советским Союзом и что «слухи о том, что Германия намерена разорвать отношения с СССР, фактически лишены всяких оснований. Недавние перемещения германских войск с Балканского полуострова в восточную и северо-восточную Германию происходят по другим причинам, не имеющим ничего общего с германо-советскими отношениями. Слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются ложными и провокационными. Попытки выдать летние учения Красной армии как угрозу Германии являются абсурдными»[417].
15 июня Сталин заявил: «Я совершенно убежден, что Гитлер не будет рисковать, формируя второй фронт нападением на Советский Союз. Гитлер не такой идиот, и он понимает, что Советский Союз – не Польша, не Франция и даже не Англия»[418].
Даже посол Иван Майский сообщал из Лондона о подозрительной военной активности немцев, хотя он тоже не мог позволить себе поверить, что вторжение может произойти. 18 мая он записал в своем дневнике: «Гитлер не пойдет на явное самоубийство. А нападение на СССР практически самоубийственно»[419].
Однако не все в окружении Сталина поддались этому заблуждению. Георгий Жуков, волевой человек и в свои сорок с небольшим лет уже прославленный генерал, одержавший в 1937 году победу над японцами, сын уличного сапожника (как и Сталин), в начале 1941 года назначенный Сталиным начальником Генштаба, а также нарком обороны СССР Семен Тимошенко, ранее командующий Северо-Западным фронтом, – они оба пытались уговорить Сталина провести мобилизацию войск. К ним присоединился и член Политбюро Андрей Жданов. Сталин объяснил Жукову свое понимание ситуации за ужином на даче в Кунцево в ответ на просьбу Жукова усилить оборону западной границы: «Скажу Вам по секрету: наш посол имел личную беседу с Гитлером, и Гитлер сказал ему: «Не стоит тревожиться по поводу сосредоточения наших войск в Польше. Наши войска проходят переподготовку»[420]. Но Жуков продолжал настаивать, чем привел Сталина в бешенство: «Ты хочешь повоевать, потому что тебе медалей мало? Если ты спровоцируешь немцев на границе перемещением войск без нашего разрешения, полетят головы»[421]. И, хлопнув дверью, Сталин вышел из комнаты.
* * *
Все в американском посольстве знали, что вторжение вот-вот начнется. Персонал посольства разместил в подвале большие запасы продовольствия и напитков. За сутки до вторжения немцев весь женский персонал посольства был эвакуирован самолетами в Швецию или Иран. Мужчинам оставалось только ждать неотвратимого.
Суббота 21 июня была днем летнего солнцестояния, самым долгим днем в году. Зима была длительной и холодной, теперь же палило солнце, парки заполнились людьми. В России суббота была днем отдыха. Сэр Стаффорд Криппс, британский посол в Москве, предсказал, что для вторжения Гитлер выберет воскресный день: «Это даст ему некоторое преимущество, так как в воскресенье бдительность противника будет ниже обычной»[422]. А в воскресенье после дня солнцестояния русские, по его мнению, будут еще более беспечны.
Вечером 21 июня члены Политбюро собрались в кремлевском кабинете Сталина для обсуждения мер, которые необходимо принять в случае, если война с Германией станет реальностью. По свидетельству Анастаса Микояна, Сталин продолжал стоять на своем. Он помнил, что Наполеон напал на Россию именно в июне, но июнь 1940 года миновал, закончился и май сорок первого, а война так и не началась; возможно, и оставшиеся дни июня пройдут мирно. Уж слишком долго им всем приходилось находиться в столь тревожном ожидании. Генерал Дмитрий Павлов, командующий войсками Западного фронта, в эти часы находился в театре (вскоре его арестуют и расстреляют по приговору военного трибунала), Андрей Жданов отдыхал в Сочи, а Сталин к ужину вернулся на свою дачу в Кунцево. Вскоре после 21:00 ему позвонил генерал Жуков, он приехал в Генштаб для изучения ситуации и сообщил Сталину о дезертире, который с риском для жизни перешел польско-советскую границу, чтобы предупредить штаб Красной армии о готовности германской армии уже этой ночью форсировать реку Буг на плотах, лодках и понтонах[423]. Сталин на это заявил, что дезертира могли послать немцы, чтобы спровоцировать его (Сталина) начать враждебные действия, и что германские генералы могли действовать по собственной инициативе, чтобы подтолкнуть Гитлера к активным действиям. Тем не менее он приказал Тимошенко и Жукову возвратиться в Кремль, куда вернулся и сам. После обсуждения планов дальнейших действий в связи с происходящими событиями во все воинские соединения были разосланы следующие странные и противоречащие друг другу приказы, четко отразившие неуверенность и колебания Сталина в те тревожные часы:
«ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ:
1. В течение 22–23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев…
2. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения…
а. В течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе.
б. Перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировав.
в. Все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточено и замаскировано.
г. Противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов.
3. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить»[424].
Части Красной армии получили этот приказ в ранние утренние часы 22 июня. Видимо, считая, что этого недостаточно, Сталин сказал маршалу Тимошенко: «Передайте [генералу] Павлову, что товарищ Сталин запрещает открывать артиллерийский огонь по немцам»[425]. После этого Сталин возвратился в Кунцево. А на рассвете Жуков позвонил Сталину и сообщил ему о начале вторжения. Сталин снова вернулся в Кремль. Когда Жуков и Тимошенко прибыли к нему, он «был очень бледен… сидел за столом… с потерянным видом, держа двумя руками набитую табаком трубку», и встретил их словами: «Это – провокация германских офицеров… Уверен, что Гитлер ничего об этом не знает»[426].
В 03:15 утра 22 июня три миллиона германских солдат, а также полмиллиона румынских, финских, венгерских, итальянских и хорватских войск, скоординировав вторжение от финской границы до Черного моря, оснащенные 700 000 орудиями полевой артиллерии, перешли западную границу СССР, кто пешим маршем, кто на броне 3600 танков и 600 000 бронемашин, кто в составе кавалерии верхом (около 600 000 человек). Над их головами на восток направлялись 500 тяжелых бомбардировщиков, 270 пикирующих бомбардировщиков и 480 истребителей[427].
Поскольку немцам под разными предлогами удавалось получать разрешения на совершение разведывательных полетов над приграничной территорией СССР и иметь возможность наносить на карту аэродромы, военные объекты и командные пункты, для люфтваффе не составило труда легко и быстро найти нужные цели. Потери были огромные. Только в первый день войны были уничтожены тысяча двести советских самолетов. Командующий ВВС Западного фронта был так потрясен, что покончил с собой. Командир 9-й смешанной авиадивизии бежал, но позднее был найден и расстрелян.
Сталин все еще отказывался верить, что Гитлер санкционировал вторжение. И продолжал не верить, пока граф фон дер Шуленбург не вручил Молотову официальную ноту об объявлении войны. Столкнувшись, наконец, лицом к лицу с реальностью, Сталин произнес: «Они напали на нас, не предъявляя никаких претензий, не требуя никаких переговоров, напали подло, как разбойники»[428].
В полдень 22 июня к гражданам Советского Союза обратился с речью не Сталин, а Молотов, закончивший выступление по радио словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» Сталин обратился к народу только 3 июля, повторив почти те же слова.
Через три дня войска вермахта углубились на территорию Советского Союза до 250 километров. За первую неделю немцы взяли в плен 400 000 человек, полностью уничтожили более 4 тысяч самолетов и продвинулись вглубь до 500 километров, захватив Минск. На следующей неделе были захвачены в плен еще 200 000 человек.
Через несколько дней после начала вторжения Сталин, наконец, осознал страшную цену своих ошибок. Он выглядел потрясенным и, казалось, молча ругал себя за неспособность разумно оценить поступавшие сигналы. Он покинул Кремль и переехал на дачу в Кунцево, находясь, по-видимому, на грани нервного срыва. Несколько дней он не отвечал на телефонные звонки и сам никому не звонил. Говорили даже, что он начал сильно пить. 29 июня в присутствии Молотова, Ворошилова, Жданова и Берии его прорвало: «Ленин оставил нам великое наследство, а мы, его наследники, все просрали!»
На следующий день, когда к нему снова приехали Молотов, Берия и Ворошилов, он на какое-то мгновение решил, что они явились арестовать его. Но они не собирались делать этого. Тогда, осознав, что, несмотря ни на что, он остается у власти и что его окружение хочет, чтобы он оставался у власти, Сталин снова почувствовал себя хозяином положения.
* * *
Сталин вышел из своего убежища с новым пониманием главной цели. Теперь следовало обратиться за помощью. Сталин осознал, что Советскому Союзу для выживания будут нужны союзники. Третьего июля он обратился с речью не только к населению страны как ее вождь, но и явно адресовал эту речь Рузвельту и Черчиллю, готовя основу для будущего альянса с Соединенными Штатами и Великобританией. Майский вспоминал, что Сталин произносил слова каким-то тусклым и бесцветным голосом, «часто делал паузы, тяжело вздыхал»[429], но его слова производили сильное впечатление. Вспомнив историю, он назвал войну Великой Отечественной войной русского народа и, подобно Рузвельту, предрек, что война приведет к новым взаимоотношениям между Советским Союзом и остальным миром. Он сказал, что эта война «сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения»[430].
Вернувшись к власти, Сталин реорганизовал все аспекты обороны и взял на себя еще больше полномочий[431]. Был сформирован Государственный Комитет Обороны (ГКО). Сначала его членами стали Молотов, Берия, член Политбюро Георгий Маленков и Ворошилов. Вскоре Сталин стал председателем ГКО, наркомом обороны, а с 8 августа – Верховным главнокомандующим. Генералы стали называть его «Верховный». Через два дня, 10 августа, ГКО приказал сформировать новые сибирские дивизии в составе российских, украинских и белорусских воинских частей и обеспечить их готовность к боевым действиям в период с 15 сентября по 15 ноября.
Сталину было всегда свойственно фанатически относиться к работе, но теперь он работал по восемнадцать часов в сутки, иногда перегружая себя такими второстепенными делами, как, например, подготовка планов создания минных полей и распределение оружия и боеприпасов, что не соответствовало его уровню и было бы разумнее поручить кому-то другому.
Генерал Дмитрий Волкогонов вспоминал, что, когда он «потерял» воинский эшелон, назвав Сталину одну станцию, хотя эшелон тогда находился на другой, Сталин процедил: «Если вы, генерал, не найдете этот эшелон, то пойдете на передовую рядовым». Когда генерал вышел из кабинета Сталина бледный как полотно, Поскребышев сказал ему: «Постарайтесь не оплошать, Хозяин дошел до предела, он обязательно проверит». Это прозвучало зловеще, потому что Поскребышев хорошо знал своего хозяина. Александр Поскребышев, личное доверенное лицо Сталина, его секретарь и «цепной пес», был всегда рядом со Сталиным или ждал команды за дверью сталинского кабинета. По его собственному признанию, Сталин нанял его из-за отталкивающей внешности: «Однажды Сталин позвал меня и сказал: «Поскребышев, ну до чего же ты уродлив! Тобой же только людей пугать». И он взял меня на эту работу»[432]. Некоторые поговаривали, что у него был облик висельника: узкие плечи и непропорционально большая голова. Он был коротконогий и толстый, малорослый и сутулый с крючковатым носом, а глаза, по выражению переводчика с английского языка Э. Г. Бирса, напоминали глаза стервятника. Когда он сидел за столом, видна была только голова. Для Сталина он стал незаменимым помощником.
В первые дни войны на фронте царили сумятица и полная неразбериха, и это было вызвано не столько действиями германской армии, сколько отсутствием опытных командиров. Во время репрессий 1937 года были расстреляны три маршала из пяти, 15 командармов из 16, 60 комкоров из 67 и 136 комдивов из 199. Теперь приходилось назначать на генеральские должности офицеров, не имевших ни должного образования, ни командирского опыта, и это являлось причиной больших потерь. Четыре генерала, включая Павлова, были отданы под суд за антисоветскую деятельность и намеренное разрушение структуры командования Западного фронта. Сталин перечеркнул первоначальную формулировку приговора и размашисто написал: «Какая чушь… Проявление трусости, некомпетентность и недостаточная исполнительность, неумелое командование». Генералы не отрицали своей вины, но просили дать им возможность искупить ее в бою. В этом было отказано: их признали виновными и расстреляли.
К середине сентября пал Киев, еще 453 000 красноармейцев были взяты в плен.
В самом начале войны, поскольку официальной доктриной Германии был план значительного сокращения численности славянского населения, многих пленных красноармейцев держали на огороженных площадках под открытым небом, одни умерли от голода, других расстреляли. «Сейчас мы стали совсем мало брать пленных, – писал один германский солдат своей жене 27 июня 1941 года, – и ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду»[433]. В официальном германском докладе в декабре месяце говорилось, что от 25 до 70 процентов взятых в плен красноармейцев умирали в пути следования к лагерям для военнопленных. По свидетельству историка Второй мировой войны и специалиста по нацистской Германии Герхарда Вайнберга, в официальной документации германского военного командования говорилось, что каждый день в течение первых семи месяцев войны десять тысяч военнопленных расстреливались либо умирали от голода и болезней[434]. К их числу, достигшему двух миллионов, следует добавить свыше одного миллиона советских гражданских лиц, которые тоже погибли в этот период.
Условия содержания пленных красноармейцев несколько улучшились, когда немцы поняли, что если пленных хотя бы минимально кормить и содержать, они смогут выполнять полезную для рейха работу. Но поскольку все славяне были официально объявлены низшей расой, солдаты и обращались с ними соответствующим образом. А идея соблюдать требования Женевской конвенции при обращении с военнопленными никому даже не приходила в голову.
* * *
Вечером 22 июня Рузвельт отправился в Бетесду, штат Мэриленд, на ужин к очаровательной норвежской принцессе Марте. Утром после вторжения германских войск в СССР он несколько раз звонил исполнявшему обязанности госсекретаря Самнеру Уэллсу (госсекретарь Корделл Хэлл был болен), затем пригласил его к себе в кабинет. Ему предстояло подготовить заявление о намерениях Соединенных Штатов в сложившейся ситуации.
Рузвельт понимал, что если Гитлеру удастся одержать победу над Советским Союзом, в его руках окажутся кавказская нефть, зерно Украины и людские ресурсы России. А обладая такими союзниками, как Хирохито и Муссолини, он станет править не только Западной Европой, но и всем миром. Поэтому Советскому Союзу следовало оказать помощь. Но в США была сильная оппозиция, не желавшая помогать коммунистической стране. Часть американцев была против оказания помощи России, полагая, что эта страна уже обречена, а помощь станет излишней тратой ресурсов Америки. Другие были против помощи России, потому что считали Сталина не менее опасным, чем Гитлер, и надеялись, что в войне эти двое уничтожат друг друга. Среди противников оказания помощи были и те, кто считал, что Америке ничего не грозит, что она неприступна, так как с двух сторон защищена океанами. Сенатор Бертон К. Уилер, демократ от штата Монтана и председатель ассоциации «Америка превыше всего», самой влиятельной изоляционистской группировки в стране, выступил против оказания любой помощи и заявил в феврале, что даже наделение Франклина Делано Рузвельта правом запустить программу помощи по ленд-лизу скажется на благосостоянии каждого четвертого американца[435].
Президенту предстояло успокоить американцев и склонить общественное мнение на свою сторону, прежде чем направить какую-либо помощь Советскому Союзу. Он не мог зайти слишком далеко в попытке повлиять на электорат. Если его речь будет слишком категорична, на него тут же набросятся изоляционисты. Такое уже случалось – четыре года назад, в 1937 году, когда он впервые попытался предупредить американцев о Гитлере. Он говорил тогда о расползающемся по всему миру беззаконии и о том, какие, по его мнению, гарантии нужны для сбережения здоровья общества от распространения столь опасной эпидемии. Это вызвало целый шквал резкой критики и обвинений в пропаганде войны. Он не имел ничего против добавления некоторой изоляционистской риторики, если такой ценой удалось бы разбудить другие слои населения, но он слишком поторопился и в результате не смог добиться вообще ничего. Позднее он поделился своей тревогой со своим другом и личным спичрайтером Сэмом Розенманом: «Это ужасно, когда ты уверен, что ведешь за собой людей, а оглянувшись, не видишь позади ни души»[436]. После утверждения конгрессом закона о ленд-лизе в марте месяце ему пришлось умерить свои предупреждения о войне до такой степени, что он встревожил этим свою администрацию. А потом он был вынужден слечь на десять дней из-за обострения болезни, которую доктор Макинтайр отказался назвать, сообщив прессе только о том, что президент слишком слаб, чтобы заниматься делами. Рузвельт был недоступен по вполне конкретной причине: он не хотел, чтобы его вынудили заявить, что Америка готова предпринять какие-то действия. «Не хочу стрелять первым»[437], – сказал он в частной беседе, отказавшись от уже запланированной речи.
За месяц до начала реализации плана «Барбаросса» германская подводная лодка пустила на дно в Южной Атлантике американское судно «Робин Мур». Несколько недель пассажиры и экипаж судна болтались в море на маленьких спасательных шлюпках, пока не были обнаружены и спасены. Только тогда стало известно о потоплении судна. Этот инцидент дал Рузвельту удобную возможность обратиться к Конгрессу с антинацистской речью 20 июня, то есть всего за два дня до нападения Гитлера на СССР. Рузвельт любил насыщать свои речи сарказмом, не изменил этой привычке он и в этот раз: «Мы должны воспринимать потопление судна «Робин Мур» как предупреждение Соединенным Штатам за то, что они не оказывали сопротивления стремлению нацистов к мировому господству. Это также предупреждение о том, что Соединенные Штаты могут теперь пользоваться водами Мирового океана только с согласия нацистов»[438].
В течение нескольких дней после начала германской агрессии Рузвельт не делал никаких заявлений. Он оказался перед проблемой: «Я не могу говорить о том, что нам нужно привлечь Россию на свою сторону, чтобы выиграть войну. Россия – особая страна, и я не могу оказаться в роли сторонника коммунистического режима. Но реальность ситуации такова, что как Великобритания нуждается в США, так и мы нуждаемся в России для разгрома очень серьезного противника»[439]. Рузвельт позволил Уэллсу выступить от его имени: ему необходимо было прозондировать почву. Уэллс сделал заявление для издания «Нью-Йорк таймс», в котором осторожно обошел тему американской помощи Советскому Союзу, но при этом заявил: «Гитлер и гитлеровские армии сегодня представляют собой главную угрозу для Америки… А для нынешнего германского правительства даже понятие «честь» не означает вообще ничего»[440].
Уэллс учел также обеспокоенность Рузвельта вопросами религиозности: он знал, как мало она значит в советском обществе.
Годом раньше, 16 сентября 1940 года, впервые в истории США Конгресс утвердил закон о призыве в армию в мирное время. Однако законом о воинской повинности был предусмотрен призыв только на один год военной службы. И срок службы первого призыва уже почти истек. Через несколько недель, в августе, Конгрессу предстояло принять закон о продлении срока военной службы, а это было очень непопулярной идеей. Существовала реальная опасность, что законопроект не наберет необходимого числа голосов. Лидер большинства демократов в Палате представителей Джон Маккормик, насчитавший среди демократов сорок пять голосов против и тридцать пять воздержавшихся, встревоженно сообщил Стимсону, что он теряет контроль над своими однопартийцами, что заставило Рузвельта стать еще осмотрительнее. Помощь для России была важнейшей задачей, но если закон о воинской повинности не будет поддержан Конгрессом, у Америки не будет никакой армии, о которой стоило бы вести речь. А обострять свои отношения с Конгрессом Рузвельт просто не мог себе позволить. Следовало привлечь на свою сторону общественное мнение.
К середине июля Советский Союз оказался в отчаянном положении. Он уже потерял два миллиона военнослужащих, три с половиной тысячи танков и больше шести тысяч самолетов. 17 июля пал Смоленск, дорога на Москву была открыта. За короткий срок вермахту удалось существенно продвинуться в глубь страны, взять в плен еще 300 000 красноармейцев и захватить три тысячи танков.
Через четыре дня была захвачена и капитулировала Голландия. Через восемнадцать дней была захвачена и капитулировала Бельгия, через пять недель – Норвегия. Франция продержалась дольше всех – целых шесть недель.
А сколько сможет продержаться Россия?
* * *
Заявление Уэллса, сделанное им 24 июня, почти без купюр было опубликовано в издании «Нью-Йорк таймс». В заявлении говорилось, что между коммунистической диктатурой и диктатурой нацистов для граждан США нет большого различия. Соединенные Штаты свято соблюдают неоспоримый принцип свободы совести, в то время как русские и германские власти лишили свои народы такого права. «Но гитлеризм и угроза завоевания им всего мира… является главной проблемой, стоящей сегодня перед человечеством. Гитлеровские армии стали сегодня главной угрозой и для Америки».
Чтобы выиграть время и прозондировать намерения оппозиции, Рузвельт поручил Уэллсу сказать, что следующим шагом Америки может стать вопрос, который уже «витает в воздухе»: возможность расширения программы ленд-лиза либо отказ от этого.
Сенатская оппозиция мгновенно и шумно отреагировала на саму идею оказания помощи России. Самой яростной была реакция сенаторов от штата Миссури: «Пусть одна собака грызет другую собаку!» – заявил сенатор от Миссури Беннетт Кларк. Другой сенатор от Миссури, Гарри Трумэн, выразился еще резче: «Если мы увидим, что победу одерживает Германия, мы должны помочь России; а если будет побеждать Россия, следует оказать помощь Германии. Так мы дадим им возможность убивать друг друга сколько им заблагорассудится»[441].
Русские никогда не забудут Трумэну этих слов.
На пресс-конференции во вторник Рузвельт, отвечая на вопросы журналистов, пообещал «оказывать Советской России всю возможную помощь»[442]. Но он намеренно сгладил формулировку, сказав репортерам, что «до тех пор, пока наше правительство не получит список того, в чем нуждается Россия… не будет предприниматься никаких шагов по поставке ей чего-либо для удовлетворения ее потребностей». Он не позволит оказывать на себя давление. Он пошутил:
– Ботинки и носки поставим от Гарфинкеля… На поставку самолетов и танков уйдет куда больше времени.
– Является ли защита России защитой и Соединенных Штатов? – спросил один из репортеров. В ответ Рузвельт предложил ему спросить о чем-нибудь другом, например: «А сколько уже лет Анне?»
Хотя закон о ленд-лизе давал Рузвельту право отправлять боеприпасы и вооружение в любую страну, обеспечение обороноспособности которой президент считает жизненно необходимой для обеспечения защиты Соединенных Штатов, Рузвельт крайне нуждался в поддержке со стороны общественности. Он знал, что поставки военной техники и оружия для России будут восприняты в штыки оппозицией.
Не остался в стороне и бывший президент Гувер, который заявил: «Мы уже дошли до того, что пообещали помогать Сталину и его военной клике»[443]. На вопрос корреспондента «Чикаго трибьюн» он ответил: «А почему мы должны помогать азиатскому мяснику и его команде безбожников?.. Мы вполне способны противостоять любой опасной болезни такого рода». Даже либеральная газета «Нью-Йорк таймс» не была уверена в том, что следует оказывать помощь России: «Да, Сталин сегодня на нашей стороне. Но где он будет завтра?»[444]
Были и другие, более практичные возражения, основанные на убеждении, что Россия обречена на поражение и помогать ей совершенно бессмысленно. Таково было мнение первого американского посла в СССР Уильяма Буллита, обратившегося в середине лета к «Американскому легиону»[445] со следующими словами: «Я не знаю никого в Вашингтоне, кто верил бы в то, что советская армия сможет разгромить германскую. Вероятнее всего, после понесения больших потерь Гитлер захватит огромные ресурсы Советского Союза, а затем подготовит несокрушимые военные силы для завоевания Великобритании, затем Южной Америки и Соединенных Штатов»[446]. Посол в Риме Уильям Филлипс придерживался той же точки зрения. «Совершенно очевидно, что Германии предстоит установить контроль над Украиной и над кавказской нефтью; и я полагаю, что со временем ей удастся сделать это»[447], – писал он в своем дневнике. Британская разведка предсказывала, что вермахт дойдет до Москвы «через три недели или даже раньше»[448].
Поэтому Рузвельт продолжал держать свои планы при себе и выражался на этот счет со всей неопределенностью, насколько это ему удавалось. 30 июня министр ВМС Фрэнк Нокс сделал заявление о том, что пришло время использовать военный флот, чтобы очистить Атлантику от германской угрозы. Заявление не осталось без внимания со стороны прессы, и репортеры атаковали министра вопросами, согласовал ли он свою позицию с Рузвельтом. Президент провел в своем доме в Гайд-парке конференцию. Репортеры поинтересовались у него, как он прокомментирует заявление Нокса. Комментария не последовало. Сидя в кресле в рубашке с расстегнутым воротником и легких полосатых брюках (несколько неожиданная форма одежды для тех дней), президент сообщил репортерам, что он «хорошо отдыхает, сидит сложа руки и каждый день купается в послеобеденное время»[449]. Он не сделал «никаких намеков» относительно возможных боевых действий со стороны ВМС. Конгрессмен от родного округа Рузвельта, Гайд-парка, Гамильтон Фиш, который терпеть не мог президента, провел опрос общественного мнения по вопросу о вступлении страны в войну. Журналисты спросили Рузвельта, что он думает по этому поводу. Отвечая на этот вопрос, Рузвельт вспомнил случай из жизни президента Кулиджа, который, вернувшись домой из церкви после воскресной службы, сказал жене, что пастор предостерегал верующих от греха. «А что он говорил?» – спросила миссис Кулидж. «Он говорил, что лично он против греховности», – ответил Кулидж.
И Рузвельт продолжил свою мысль:
– Все это напоминает мне опрос, проведенный господином Фишем. Понятно, что на такой вопрос можно ответить только однозначно: вы против войны? Конечно же, все мы против войны!
Через пять дней Рузвельт отдал приказ первой бригаде американских войск в Исландии быть готовой к защите Западного полушария. 9 июля он направил письма идентичного содержания военному министру и министру ВМС с требованием подготовить «полный перечень всего необходимого для отражения агрессии наших потенциальных противников»[450]. Он попросил их «выяснить, какое именно военное снаряжение, боеприпасы и боевая техника потребуются, чтобы обеспечить в полном объеме нужды наших потенциальных союзников».
11 июля Рузвельт внес в действующую систему разведки новую структурную единицу, чтобы отныне все разведданные поступали непосредственно к нему, а не передавались через прежние каналы по ранее существовавшей системе. Он назначил Уильяма Дж. Донована, героя Первой мировой войны, которого лично знал еще по совместной учебе в Колумбийском юридическом колледже, а в 1939 году приглашал войти в состав своей администрации, на должность «личного координатора по информации», то есть руководителем новой разведывательной службы, в задачу которой входил анализ, изучение и проверка информации, касавшейся национальной безопасности. Эта новая структура должна была быть подчинена лично президенту. Новая служба под руководством Донована стала называться Управлением стратегических служб (УСС), которое проводило операции в тылу противника и отчитывалось непосредственно перед Рузвельтом. Однако Рузвельт, который всегда предпочитал, чтобы его сотрудники конкурировали между собой, не торопился сообщить Доновану, что американские криптографы уже взломали шифры противника.
К президенту поступил перечень необходимых России предметов для поставки. 23 июля он вручил его своему помощнику генералу Па Уотсону и попросил того «разобраться» в течение двух дней[451].
25 июля в ответ на японскую агрессию во французском Индокитае Рузвельт вопреки советам генерала Маршалла и адмирала Гарольда Старка, командующего морскими операциями, объявил эмбарго на поставку нефти в Японию.
Созданной Рузвельтом в марте системой ленд-лиза сначала должен был руководить оргкомитет из четырех министров: финансов, обороны, ВМС и государственного секретаря, исполнительным секретарем был назначен Гарри Гопкинс. Гопкинс привлек к этой работе своего друга, Эдварда Р. Стеттиниуса, который успешно реорганизовал корпорацию US Steel, добившись ее оптимизации. Стеттиниус сократил сроки прохождения документов по бюрократическим инстанциям перед подписанием их Рузвельтом с девяноста до трех дней. Впрочем, в системе были и «узкие места»: армейские и морские офицеры, которые брезговали помогать русским, которых они ненавидели, преднамеренно затягивали процесс. Рузвельт был нетерпим к таким вещам. Среди прочих, с кем Рузвельт связывался по телефону, был генерал Маршалл, которого президент попросил найти железнодорожных экспертов для оказания русским помощи в поддержании Транссибирской магистрали в рабочем состоянии. 1 августа на совещании правительства президент выглядел заметно раздраженным. Как вспоминал военный министр Стимсон, «сегодня днем на совещании президент в очень резкой форме осудил проволочки с подготовкой поставок материалов России. Он вздыбился [устаревшее слово для описания поведения человека, страдающего параличом нижних конечностей; Симпсон, должно быть, сам был разъярен], закричав, что война в России длится уже шесть недель, что русские ждут обещанных им боеприпасов и военной техники, что русские дипломаты слоняются без всякой пользы по Вашингтону, и никто ничего для них до сих пор не делает»[452]. Рузвельт продолжил, что он уже «устал слушать о том, что русские вот-вот получат то, что русские вот-вот получат это… Что бы мы ни собирались передать им, это должно быть сделано не позднее 1 октября, и единственный ответ, который я хочу от вас услышать, что грузы уже в пути». После чего Рузвельт приказал немедленно отправить из США в Советский Союз такое количество самолетов, что вывел из себя даже генерала Маршалла. На следующий день на заседании штаба Маршалл, как бы размышляя вслух, задумчиво произнес: «Сможет ли президент устоять под ураганом критики политических противников, если мы проведем осенние маневры вообще без самолетов?»[453]
Рузвельт оставался непреклонным и выразил уверенность, что советское правительство знает о том, что он делает. Он поручил Самнеру Уэллсу написать послу Уманскому, что «правительство Соединенных Штатов приняло решение оказывать всестороннюю и практически осуществимую экономическую поддержку… выпуская неограниченные лицензии на экспорт в Советский Союз изделий широкого диапазона»[454].
При проведении 5 августа опроса общественного мнения выяснилось, что 38 процентов американцев поддерживают идею ленд-лиза для Советского Союза. Эта цифра даже превзошла ожидания Рузвельта. Следующим шагом Рузвельта, к большому разочарованию Стимсона, стало назначение специального администратора, которым стал Уэйн Кой, сотрудничавший с Гопкинсом в реализации программ Управления общественных работ на Ближнем Востоке и имевший репутацию прекрасного организатора. Теперь этот человек должен был обеспечивать необходимые поставки Советскому Союзу, разрушив все бюрократические препоны. Многие из неотложных проблем предстояло решать с использованием тех самолетов, от которых отказалась Великобритания (но которые были предоставлены ей) и число которых следовало определить по получении грузов. Но Стимсон понимал, что это только начало: ему еще предстояло решать проблему вооружения для американских войск.
Гарри Гопкинс, который в Лондоне занимался вместе с Черчиллем решением вопросов поставок по ленд-лизу, 25 августа позвонил Рузвельту и сообщил, что у него возникла неплохая идея вылететь в Москву: «Транспортировку туда грузов по воздуху можно осуществлять через двадцать четыре часа. Уверен, что следует сделать все возможное для удержания русскими линии фронта, даже если боевая обстановка на данный момент складывается не в их пользу. Если на Сталина и будет возможно каким-либо образом повлиять в критической ситуации, я думаю, что лучше всего это сделать путем прямого общения с ним через вашего личного представителя»[455].
Через два дня Рузвельт ответил согласием. Советский посол в Лондоне Иван Майский, несомненно, предупредил Сталина и очень позитивно охарактеризовал Гопкинса, назвав его «человеком, который сохраняет верность демократическим традициям президента Линкольна»[456].
Полет Гопкинса в СССР был сопряжен с огромным риском. В Архангельск его доставил патрульный бомбардировщик, метеоусловия были крайне неблагоприятными. Из Архангельска советские летчики переправили его в Москву на борту американского транспортного самолета «Дуглас», и сразу по прибытии его принял Сталин:
«Он поприветствовал меня по-русски, вежливо пожал мне руку, тепло улыбаясь. Ни одного лишнего слова, жеста, никакого позерства. Разговор напоминал беседу с отлично налаженной машиной, интеллигентной машиной. Иосиф Сталин знал, чего хочет; знал, чего хочет Россия, и считал, что вы тоже все знаете… Он предложил мне одну из своих папирос и взял одну из моих сигарет. Сталин – заядлый курильщик, и, возможно, этим объяснялся его низкий, тщательно контролируемый голос. Он часто улыбался, но только на мгновение, и в этой улыбке было что-то сардоническое. Никаких разговоров о пустяках ради светской беседы. Его шутки были едкими, но остроумными. Он не говорил по-английски, но когда быстро говорил мне что-то по-русски, он не обращал внимания на переводчика, смотрел мне прямо в глаза, словно я понимал без перевода каждое произнесенное им слово»[457].
Встреча продолжалась два часа. Гопкинс объяснил, что он прибыл в качестве личного представителя Рузвельта, который стремится помочь Советскому Союзу в его борьбе против Германии.
Буквально самыми первыми словами Сталина было признание, до какой степени его шокировало вероломство Гитлера: «Немцы сначала без всякой задней мысли сегодня подписывают договор, завтра расторгают его, а на следующий день подписывают новый. Государства должны выполнять свои договорные обязательства, либо международное сообщество просто не сможет существовать»[458].
Заявленные им потребности были огромны. Он хотел получить двадцать тысяч зенитных орудий и миллион винтовок: «Дайте нам зенитные орудия и алюминий, и мы сможем воевать три или четыре года». Сталин, по словам Гопкинса, предложил провести конференцию, в ходе которой можно было бы обменяться технической информацией по возможностям и конструкциям советских и американских танков, орудий и самолетов. Гопкинс поинтересовался у Сталина конкретными данными советской боевой техники и, по словам британского посла сэра Стаффорда Криппса, был потрясен, что Сталин держал в памяти все цифры и статистику, о которых его спросил Гопкинс, разве что кроме пары отдельных позиций.
Сталин так жаждал получить помощь США, что «просил меня передать американскому президенту, что он будет рад принять американские войска на любом направлении русского фронта под полным командованием США»[459]. Гопкинс ответил Сталину, что лично у него «есть сомнения, что наше правительство в случае войны захочет направить в Россию американскую армию», но пообещал передать президенту его заявление.
На следующий день на первых полосах всех советских газет были напечатаны фотографии Гопкинса и информация о предполагаемой помощи США.
Во время отдельной встречи с Молотовым Гопкинса насторожили мрачные советские предчувствия в отношении Японии. Молотов «заявил, что, по его мнению, только одно может удержать Японию от агрессивных шагов, – это если президент найдет подходящее средство оказать влияние на Японию, и такое средство Молотов назвал “предупреждением”».
Сталин сказал Гопкинсу, что народы оккупированных стран «и многие другие миллионы жителей стран, которые еще не захвачены [нацистами], могли бы получить моральную силу и вдохновение, столь необходимые им для противостояния Гитлеру, из одного источника, и таким источником являются Соединенные Штаты. Он добавил, что во всем мире авторитет президента и правительства Соединенных Штатов огромны… В заключение он попросил меня передать президенту… что потребность в поставках к весне серьезно обострится и что он нуждается в нашей помощи»[460].
Гопкинс встречался со Сталиным дважды, и обе встречи были продолжительными и полезными, как он описал их в своем докладе Рузвельту. Гопкинс добавил, что он покидал Кремль, впечатленный высоким боевым духом этих людей. «У них безграничная решимость одержать победу»[461], – написал он в отчете.
Американская пресса не была в восторге от поездки Гопкинса. Примером типичного едкого комментария являлась публикация в издании «Ноксвилл джорнэл»: «Человек, склонный к проектам подобного рода, каким всегда был Гарри, скорее всего, попытается отнять у нас даже больше, чем мы имеем»[462].
2 августа Рузвельт дал Кою строгое указание начать поставки в Россию: «Почти шесть недель прошли с момента начала войны в России, а мы до сих пор практически ничего не сделали для отправки того, что они просили поставить… Возьмите список [необходимого] и будьте любезны под мою полную ответственность и самым жестким образом добиться конкретного результата. Действуйте решительно. Сдвиньте, наконец, дело с мертвой точки»[463]. Он уточнил, что есть две категории товаров; первая – материалы, которые должны быть доставлены в срок, чтобы их могли использовать в боевых действиях уже в октябре; вторая – материалы, которые физически не могут попасть в Россию раньше 1 октября.
12 августа закон о продлении сроков воинской повинности был утвержден Палатой представителей США большинством в один голос.
Рузвельт организовал встречу с Уинстоном Черчиллем в порту Арджентия на берегу бухты Пласенсия на острове Ньюфаундленд, где только что состоялось открытие новой базы ВМС США. Выбор места встречи частично объяснялся тем, что стояло очень жаркое лето, и прохладное северо-восточное побережье было идеальным для путешествия в этих водах, хотя Рузвельт любил морские прогулки в любую погоду. 3 августа он поднялся на борт «Потомака» в порту Нью-Лондон (штат Коннектикут), на следующий день достиг Нью-Бедфорда (штат Массачусетс), где ловил рыбу и принимал гостей, чему были свидетелями очевидцы и журналисты. Потом под покровом ночи «Потомак» обошел южную оконечность острова Каттиханк и проследовал до острова Мартас-Вайнярд. Там Рузвельт скрытно перешел на борт тяжелого крейсера ВМС США «Аугуста», ожидавшего его в заливе Менемша в составе семи военных кораблей США, после чего флотилия покинула прибрежные воды. Встреча с Черчиллем состоялась 8 августа. Первоначально целью этой поездки было обсуждение с Черчиллем вопросов, касавшихся разгрома Германии, но в ходе встречи было подготовлено заявление об общих принципах, получившее известность под названием «Атлантической хартии».
О комментариях Черчилля относительно личности Рузвельта написано достаточно много. Однако премьер-министр, вероятно, почувствовал бы себя оскорбленным, если бы он узнал о первом впечатлении, которое сложилось о нем у американского президента. «Это удивительно энергичная личность, которая во многих отношениях является английской версией мэра Ла Гуардия!»[464] – писал Рузвельт, имея в виду малорослого, тучного и бойкого мэра Нью-Йорка.
Оба лидера заявили, что их страны не имеют никаких территориальных притязаний, относятся с уважением к праву всех народов самим выбирать для себя форму правления, при которой они хотят жить, и надеются установить мир, который предоставит каждому государству возможность находиться в пределах собственных границ в полной безопасности.
Внимательное изучение Атлантической хартии показывает, что Рузвельт отказался от упоминания какой-либо послевоенной общемировой организации, обеспечивающей безопасность, ограничившись туманной формулировкой об «установлении на постоянной основе более широкой системы общей безопасности»[465]. Отсутствие такой определенности объясняется опасением президента, что в этом случае активизируется протестное движение ассоциации «Америка превыше всего» и других американских изоляционистов. Он полагал, что такое упоминание могло бы преждевременно создать обстановку «подозрительности и оппозиции» по поводу формирования какой-либо всемирной организации.
Еще интереснее то, что Черчилль воспринял основную концепцию Атлантической хартии без всякого энтузиазма и согласился с ней с явной неохотой. «Возникла некоторая проблема в связи с применением этой концепции в Тихоокеанском регионе. Уинстон не хотел, чтобы… Рузвельт настаивал на прояснении понимания содержания Хартии в контексте ее универсального применения»[466], – написал в своем дневнике Макензи Кинг после частной беседы с президентом.
Фактически Хартия провозгласила гибель колониальных империй. Европа, находившаяся под гнетом Гитлера, и Америка, одержимая стремлением помочь Европе, услышали только то, что странам будет гарантирована полная безопасность в пределах их границ. Однако страны «третьего мира» услышали и другое: Хартия – не что иное, как призыв к национальной независимости. Пройдут годы, и эта идея постепенно распространится по всей планете, но первой страной, в которой она нашла самый живой отклик, стала Индия. Черчилль пошел на этот шаг только потому, что судьба Британии была под угрозой, и только Америка могла спасти ее. Понимая это, Черчилль не решился возразить Рузвельту. Настроение Черчилля прокомментировал Гарри Гопкинс, который круглосуточно находился вместе с премьер-министром на борту линкора ВМС Великобритании «Принц Уэльский» во время его перехода из Англии в порт Арджентия: «Можно было подумать, что он уже готовится вознестись к небесам для встречи с Господом»[467].
Ключевой фразой в Хартии была следующая: «Они [США и Великобритания] уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путем».
В последующем Черчилль выступил в Палате общин, где пояснил, что принцип самоуправления не распространяется на Британскую империю: «Мы, прежде всего, подразумевали восстановление суверенитета, самоуправления и гражданского общества в государствах Европы, которые оказались под гнетом нацистов»[468]. Как вспоминал позднее сын Рузвельта Эллиот, президент США намеренно добивался от Черчилля заявления, которое ослабило бы британские колониальные связи, зная, что тот не сможет отказаться. Эллиот включил в свою книгу «Его глазами» несколько наиболее интересных высказываний отца в связи с той встречей. Например, ожидая прибытия Черчилля, Рузвельт произнес: «Мне кажется, я выступаю как президент США, когда говорю, что Америка не будет помогать Англии в этой войне только для того, чтобы дать ей возможность и впредь продолжать имперскую политику угнетения народов своих колоний»[469].
Рузвельту было хорошо известно, что Черчилль испытывал неприязнь к Советскому Союзу, не доверял ему и недооценивал его. (Даже в день вторжения Гитлера в Россию личный секретарь Черчилля Джон Колвилл записал в своем дневнике: «ПM[470]… сурово осуждает коммунизм и называет русских варварами. Он говорил, что даже смертельная угроза никогда не приобщит коммунистов хотя бы к самым базовым принципам гуманизма»[471].)
Вечером накануне прибытия Черчилля Рузвельт сказал Эллиоту: «Мне уже известно, насколько ПМ верит в способность России выстоять в этой войне»[472]. И он жестом показал, что эта вера равна нулю. А когда Гопкинс вернулся из Москвы в твердой уверенности, что русские выиграют войну, Рузвельт сказал: «Он способен убедить и меня в этом»[473].
После встречи с Черчиллем Рузвельт процитировал высказывание премьер-министра: «Когда Москва падет… когда сопротивление русских, в конце концов, прекратится… переданная Советам военная техника станет военной техникой нацистов»[474].
Будучи виртуозным политиком, Рузвельт принял все меры к тому, чтобы сделанное им в порту Арджентия заявление стало известно всему миру и одновременно произвело впечатление на Черчилля. Это заявление, как и намеревался Рузвельт, не только стало лучом надежды для порабощенных Гитлером миллионов людей, но и пробудило от сна колониальные народы во всем мире. Особенно в Индии, где, к большому огорчению Черчилля, оно стимулировало национально-освободительные тенденции.
Что же касается премьер-министра, то он отправил Клементу Эттли телеграмму следующего содержания: «Уверен, что мне удалось установить с нашим другом теплые и глубокие личные отношения»[475].
Когда несколько дней спустя журналисты застали Рузвельта на борту «Потомака» в порту Роклэнд (штат Мэн), президент сделал продуманный шаг, давая пояснения по поводу своей встречи с Черчиллем: он дал десятиминутное описание «замечательного богослужения» на борту корабля в минувшее воскресенье.
* * *
На русских совместное заявление Рузвельта и Черчилля произвело особенно сильное впечатление, поскольку в нем также упоминалось о подготовке совещания для рассмотрения вопроса о поставках, необходимых Советскому Союзу.
Сталин, которому было обещано, что в Москве немедленно соберется совещание для разработки конкретного плана и графиков поставок, неделей позже все еще ждал информации о конкретных приготовлениях. Проявляя нетерпение, он сообщал послам Штейнгардту и Криппсу, что Россия готова для консультаций уже «в самое ближайшее время»[476].
Германские бомбардировщики бомбили Москву, вынуждая Сталина, Молотова и их окружение, включая Поскребышева, укрываться на станции метро «Кировская». В предвидении таких чрезвычайных обстоятельств метрополитен, построенный в 1934 году, был построен на глубине нескольких десятков метров.
День за днем германская армия все глубже продвигалась по территории Советского Союза. 20 августа началась осада Ленинграда. Жестокость Гитлера поражала воображение. Своим войскам, штурмовавшим Ленинград, он направил приказ следующего содержания: «Предлагаю подойти ближе к городу и уничтожить его с помощью артиллерийского обстрела из орудий различного калибра… № 9 —… Эрмитаж… № 192 – Дворец юных пионеров… № 708 – Институт матери и ребенка»[477]. Командование ВМС Германии просило оставить в целости верфь и порт для использования их своими кораблями. Верховное командование отклонило эту просьбу, указав, что «предполагается окружить город, а затем сровнять его с землей»[478]. Гитлер намеревался уморить голодом 2,2 миллиона жителей города; он заявил: «Если будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты… Мы не намерены оставлять в живых даже часть населения этого огромного города»[479].
* * *
Планы проведения совещания для рассмотрения вопроса о поставках в интересах Советского Союза, как отмечал Криппс после встречи со Сталиным 9 сентября, подействовали на того весьма воодушевляющим образом: «Сталин выглядел более уверенно и менее подавленным, чем в наши последние встречи. Я думаю, что причиной тому было приближающееся совещание, которое действительно должно было состояться очень скоро»[480].
Думается, что Сталину стоило огромных усилий произвести такое впечатление на Криппса. 8 сентября штурмующие Ленинград германские войска обрушили на город такой шквал огня, что Ворошилов, близкий к отчаянию, уже подумывал о сдаче города. Ленинград был полностью отрезан. 11 сентября Сталин направил Жукова принять командование от Ворошилова. Попасть в Ленинград было трудно, дорога туда была сопряжена с большим риском. Финские войска наступали с севера, с юга наступали немцы. Это означало, что самолету с Жуковым на борту пришлось бы лететь или над Ладожским озером, или над линией фронта. Поэтому Сталин, опасавшийся, что Жуков может погибнуть, сказал ему, что приказ о его назначении командующим будет подписан только тогда, «когда вы прибудете в Ленинград»[481].
Жуков благополучно добрался до города и реорганизовал его оборону. (Позднее Эйзенхауэр скажет о Жукове: «Война в Европе завершилась победой, и никто не сделал для этой победы больше маршала Жукова»[482].) Ворошилов, опасаясь, что в случае сдачи города корабли Балтийского флота попадут в руки немцев, отдал приказ об их затоплении. Жуков отменил этот приказ и использовал корабельную артиллерию таким образом, что она стала дополнительным огневым средством для обороны города, дав его жителям надежду на спасение. Он также подписал приказ, согласно которому любой солдат, самовольно оставивший свою позицию, должен быть расстрелян. 19 сентября германская артиллерия вела непрерывный обстрел города в течение восемнадцати часов.
* * *
Рузвельт поручил своей администрации составить рабочие планы, на которые он мог бы опираться при подготовке для Сталина своих «твердых и всеобъемлющих обязательств». Аверелл Гарриман, возглавлявший отправлявшуюся в Москву группу американских экспертов, сначала вылетел в Лондон для переговоров с руководителем британской группы экспертов лордом Бивербруком, министром запасов и снабжения. Учитывая последнее развитие ситуации вокруг Советского Союза, Рузвельт пересмотрел рабочий график Гарримана, и теперь тот вместе с Бивербруком должен был прибыть в Москву уже где-то 25 сентября, а не 1 октября, как планировалось прежде. Тем временем посол Уманский сообщил Рузвельту, что «Москва [Сталин] очень огорчена ситуацией с кредитованием»[483], имея в виду то, что у Советского Союза не было финансовых средств, чтобы оплачивать направляемые Рузвельтом грузы.
К 15 сентября Гарриман уже был в Лондоне и обсуждал с Бивербруком весьма раздражающую их обоих проблему: Бивербрук настаивал, чтобы миссия в Россию осуществлялась не под американским, а под британским контролем. Черчилль сказал Бивербруку: «Ваша задача будет заключаться не только в том, чтобы содействовать формированию планов оказания помощи России. Вам предстоит также проследить за тем, чтобы в ходе этого процесса мы не оказались обескровлены»[484]. Гарриману было заявлено, что ему надо только решить, сколько и чего именно США ранее согласились поставлять в Британию для передачи Советам. На что Гарриман резко возразил, что в таком случае у него нет никаких причин отправляться в Москву. Бивербруку пришлось отступить, и с затеей Черчилля было покончено.
Рузвельт внимательно наблюдал за развитием ситуации. Он лично телеграфировал Гарриману, что в последнюю минуту сообщит ему «общее количество танков и месяц, когда начнется экспорт независимо от источника финансирования. Ваша главная задача заключается в том, чтобы… определить формат распределения наших экспортируемых танков. Все, что я сказал о танках, в равной мере относится и к самолетам»[485]. Он поручил Стимсону сообщить ему количество самолетов, которое Гарриман сможет предложить Сталину ежемесячно, начиная с 1 октября и до 1 июля: «Мне нужна эта цифра независимо от источника финансирования… По приблизительным расчетам, в частности, когда речь идет о 4-моторных тяжелых бомбардировщиках, полагаю, что это составит 50 процентов от всего объема нашего производства таких машин»[486].
26 сентября Моргентау сообщил Гарриману по телеграфу: «Президент хочет рассмотреть вопрос о том, чтобы советское правительство получило доллары для покрытия текущих нужд»[487].
Когда 28 сентября Гарриман и Бивербрук прибыли в Москву, город подвергался бомбежке. Как позднее вспоминал Гарриман, «ночью мы могли видеть вспышки русских зениток»[488]. Рузвельт вручил Гарриману свое письмо Сталину очень оптимистичного содержания. Письмо заканчивалось словами: «Я хочу воспользоваться этим случаем в особенности для того, чтобы выразить твердую уверенность в том, что Ваши армии в конце концов одержат победу над Гитлером, и для того, чтобы заверить Вас в нашей твердой решимости оказывать всю возможную материальную помощь»[489].
Гарриман и Бивербрук в течение трех вечеров подряд встречались в Кремле со Сталиным и Молотовым. Для таких мероприятий Сталин всегда предпочитал позднее время суток. На первой встрече, которая началась в 19:00, был представлен и обсужден список потребностей Советского Союза. Сталин заявил, что мощь германской авиации превышает на 50 процентов советский потенциал, а положение с танками и того хуже: у Германии в три или даже в четыре раза больше танков, чем у Советского Союза, а, по мнению Сталина, «танки в войне являются решающим фактором… в большей степени, чем авиация». Для обсуждения конкретных нужд были сформированы шесть комиссий: по авиации, по сухопутным войскам, по ВМС, по транспорту, по сырью (включая продовольствие) и оборудованию, а также по медицинскому снабжению. Гарриман заметил (не комментируя этого факта), что Сталин проявил особую заинтересованность в получении большого количества колючей проволоки: по четыре тысячи тонн ежемесячно. На следующий вечер в ходе второй встречи Сталин отказался от предложения поставить Советскому Союзу полевые орудия и минометы и подчеркнул острую потребность в значительном количестве зенитных и противотанковых орудий. Он также попросил, чтобы Соединенные Штаты направили большие объемы сырья. Гарриман счел эту просьбу вполне обоснованной и поддержал ее. (Позднее он объяснит Рузвельту: «Заявленные количества достаточно скромные, если учесть масштабы усилий российской стороны и потери русских»[490].) Во время обсуждения Бивербрук обратил внимание на то, что Сталин, должно быть, получил плохие известия о продвижении германских войск: «Он выглядел очень встревоженным, ходил по кабинету, непрерывно курил и, как показалось нам обоим, испытывал сильнейшее напряжение… Он трижды говорил по телефону, каждый раз сам вызывая нужный ему номер»[491]. Затем он предупредил, что должен покинуть их в девять часов вечера. Скорее всего, ему сообщили то, о чем будет объявлено на следующий день: Гитлер отдал приказ о начале решительных действий по захвату Москвы.
На следующий вечер во время третьей встречи Сталин держался более уверенно, а когда Гарриман подробно ответил на каждую из семидесяти позиций перечня необходимых поставок, Сталин сказал, что у него есть новая просьба относительно грузового автотранспорта: русские остро нуждались в грузовиках в количестве от восьми до десяти тысяч машин ежемесячно. Накануне Гарриман телеграфировал Рузвельту: «Сталин убежден, что у немцев в три раза больше танков». Рузвельт отреагировал немедленно, разрешив утроить количество ежемесячных поставок танков. Когда Бивербрук и Гарриман завершили работу со списком, внеся в него новые данные, они заметили на лице Сталина «выражение удовлетворения». «Вы довольны?» – спросил Бивербрук. Сталин улыбнулся и кивнул. А Литвинов, выполнявший обязанности переводчика, вскочил с кресла и воскликнул: «Теперь мы выиграем войну!»[492]
Настроение Гарримана тоже заметно поднялось, как только они завершили согласование списка позиций планируемых поставок. Он сказал своему секретарю, что только что закончил, быть может, самую важную работу в своей жизни. Секретарь заметил: «Он выглядел словно кошка, поймавшая мышь»[493].
Последний вечер завершился банкетом в огромном зале Кремлевского дворца, построенного Екатериной Великой в XVIII веке. Зал, в который вела роскошная лестница, освещался шестью дореволюционными люстрами, а кресла во всем их имперском великолепии были покрыты сусальным золотом. Председательствовал Сталин, сидя между Гарриманом и Бивербруком за огромным столом во всю длину зала. На нем был простой, но хорошо сшитый серый френч с голубоватым отливом. При встрече он каждому пожимал руку, лично приветствуя большинство из гостей.
Как заметил Гарриман, «количество и качество блюд было впечатляющим, но еще поразительнее была атмосфера банкета… Одно из величайших сражений в истории происходило не более чем в ста пятидесяти километрах отсюда. Поражала огромная уверенность этих людей в себе и во время банкета, и в течение всего вечера… Царила атмосфера безопасности, взаимного доверия и непоколебимой стойкости»[494].
Это впечатление усилилось, когда в середине банкета вдруг завыли сирены воздушной тревоги. Затем во дворе Кремля захлопали зенитные орудия, а когда они на время замолчали, Сталин предложил тост: «Джентльмены, за артиллеристов!»
Организованный в стране, которая находилась в отчаянном положении, банкет отличался роскошью. Была бесконечная череда самых экзотических закусок, начиная с икры и филе разных рыб и кончая молочным поросенком. Были поданы горячие супы, лосось, цыплята, утки, куропатки, овощи, грибы в сметанном соусе, мороженое и пирожные. В завершение банкета на стол подали свежие фрукты, доставленные самолетом из Крыма.
Перед каждым сидящим за столом стояли бутылки с перцовой водкой, красным и белым вином, русским коньяком и шампанским на десерт.
Сталин пил из очень маленькой рюмки, размером примерно в двойную порцию бренди. Первый тост он произнес с рюмкой перцовой водки, отхлебнув только немного, а остальное плеснул в один из своих бокалов размерами побольше. В дальнейшем он наполнял себе небольшой бокал красного вина, причем делал это довольно часто. Затем из того же бокала пил шампанское. Один из бокалов с шампанским он отставил в сторону, «чтобы выпустить пузырьки». Он ел икру вилкой, и довольно много. Сталин выглядел расслабленным и время от времени оглядывал зал.
Во время тостов Сталин вставал, его бокал оставался на столе, а когда тост ему нравился, что происходило в большинстве случаев, он хлопал в ладоши, а затем уже пил из бокала. Свой тост за Рузвельта он закончил словами «Да поможет ему Бог!», – чем так поразил Гарримана, что тот потом проверил каждое слово, чтобы быть уверенным, что он правильно расслышал.
* * *
В тот же день Рузвельт дал пресс-конференцию, на которой рассказал об оказании России «самой серьезной помощи, какая только возможна». Он также заметил, что религия разрешена советской конституцией.
Гарриман потом напишет, что Сталин был «человеком, который знал все проблемы военных поставок России, он тщательно проверял все фактические данные… Ему была свойственна такая же быстрота мышления, как и медлительность в физических движениях. И он ненавидел Гитлера, степень этой ненависти была безмерной». Поскольку обещанная помощь имела огромное значение для советского народа не только в военном аспекте, но и психологически, Бивербрук и Гарриман стремились уверить русских, что «принято решение предоставить в распоряжение советского правительства практически все, о чем просило военное командование и гражданские власти»[495]. Все это активно обсуждалось в советской прессе.
Московский протокол (о военных поставках), как назовут это соглашение, спасет Советский Союз. Список того, что Рузвельт обязался направлять советской стороне, поражал воображение. В перечень ежемесячных поставок вошли следующие позиции: 400 самолетов, 500 танков, 5 000 автомобилей, 10 000 грузовиков, огромное количество противотанковых и зенитных орудий, дизельных генераторов, полевых телефонов, радиостанций, мотоциклов, пшеницы, муки, сахара, 200 000 пар аpмейских ботинок, миллион метров шерстяной ткани для шинелей, а также полмиллиона пар хирургических перчаток и 15 000 медицинских пил для ампутации конечностей. Поставки начались практически сразу. К концу октября суда вышли в море, имея на борту 100 бомбардировщиков, 100 истребителей и 166 танков (включая запасные части и боеприпасы), а также 5 500 грузовых автомобилей. Сотрудники американского посольства и военный персонал, включая майора Айвэна Йитона, военного атташе, отнеслись к идее поддержки Советского Союза в большинстве своем враждебно. Большинство из них – профессиональные дипломаты и военнослужащие – не доверяли советским руководителям и пытались всячески препятствовать титаническим усилиям Рузвельта по оказанию помощи России. Об этом хорошо знал генерал Джеймс Г. Бернс, которого Рузвельт лично послал в Москву для осуществления контроля за поставками. Бернс, который некоторое время наблюдал за этой непродуктивной ситуацией и который одобрил только действия военного атташе США подполковника Филипа Феймонвиля, в августе направил Гопкинсу докладную записку с описанием нездоровых настроений среди аккредитованного в Москве американского персонала: «За исключением Феймонвиля, здесь мало кто симпатизирует политике президента по обеспечению максимально возможной помощи России по ленд-лизу в духе добрососедства и искренней дружбы и на основе принципа: помогая России, помогаешь США. Здесь не хватает командного духа, авторитета, чувства достоинства, компетентности и респектабельности, столь необходимых для такой ответственной работы, что в конечном итоге вредит репутации США»[496]. Он рекомендовал Гопкинсу без промедления назначить Феймонвиля руководителем программы ленд-лиза в Москве.
Выпускник Вест-Пойнта, полковник Феймонвиль, который занял пост военного атташе США в Москве еще в 1934 году, время от времени подвергался нападкам со стороны своих коллег и начальников, чей страх перед коммунизмом был настолько велик, что они считали: если он владеет русским языком и симпатизирует русской культуре, то он способен предать свою страну. В 1939 году армейское командование отозвало Феймонвиля в США и попросило ФБР поискать на него компрометирующую информацию, предполагая, что он является гомосексуалистом. ФБР провело тщательную проверку его биографии, начиная со школьной парты, и не обнаружило никаких фактов, свидетельствующих о каких-либо сексуальных отклонениях, кроме множества поощрений и благодарностей за добросовестную работу. Когда Гопкинс объявил, что Феймонвиль будет не только отвечать за программу ленд-лиза в Москве, но и представлен к званию бригадного генерала, вся военная верхушка, включая генерала Маршалла, была буквально ошеломлена и попыталась помешать этому, аргументируя свои возражения тем, что Феймонвиль якобы никогда не обращал особого внимания на инструкции. Но им пришлось уступить. Как признался Маршалл, «у Гопкинса были полномочия для работы с русскими, и они всегда перевешивали мои из-за его близости к президенту»[497]. У Феймонвиля были и другие влиятельные друзья, одним из которых был Джозеф И. Дэвис, писавший в 1939 году Рузвельту, что «и Молотов, и Сталин выразили свое доверие к здравомыслию, профессиональности и честности нашего военного атташе подполковника Филипа Р. Феймонвиля»[498].
Лоуренс Штейнгардт, американский посол в Советском Союзе, был довольно пугливым и не слишком инициативным человеком. Через три дня после вторжения германских войск он упаковал свои вещи в двадцать три ящика и семь чемоданов и отправил их так поспешно, что вещи ушли вообще без каких-либо опознавательных ярлыков и наклеек. В конце августа он отправил в Стокгольм жену Далси и пятнадцатилетнюю дочь. Не испросив на то разрешения Вашингтона, он отправил в Казань на Волге первого секретаря посольства Чарльза Дикерсона-младшего вместе с другим персоналом на грузовике с имуществом. Он думал, что русские выстоят. Он даже поделился своими мыслями с писателем Эрскином Колдуэллом, с которым он встретился в Москве: «Скорее возможно, чем невозможно, что история повторится»[499].
Он сделал немало, чтобы не понравиться Сталину. Как только начался процесс консультаций между двумя державами, Бивербрук и Гарриман быстро поняли, что Сталин не доверяет Штейнгардту. Сталин пожаловался Бивербруку, что посол соглашался с теми, кто говорил ему «абсурдные» вещи о предстоящей капитуляции Москвы. Сталину было известно, что Штейнгардт эвакуировал персонал посольства в Казань и в течение первых шести недель войны дважды впадал в панику, полагая, что у Москвы нет шансов на спасение. По словам Бивербрука, «Сталин жестко осуждал его за это»[500].
Сталин поинтересовался мнением Бивербрука о советском после Уманском. Бивербрук дипломатично ответил, что Уманский слишком многих раздражал своим «энтузиазмом» и бесконечными требованиями. Непопулярен Уманский был и в Вашингтоне. Он не нравился генералу Маршаллу, а Стимсон, который вообще его не переносил, как-то написал в дневнике: «Он просто аферист… У Гувера и в ФБР есть документы, из которых известно, что однажды он получал деньги от германского правительства… Он очень скользкий, ненамного умнее кошки и очень сильно отличается от двоих весьма порядочных и прямодушных русских мужиков, которые рядом с ним»[501].
Эта двое будут потом отозваны.
Во время общения со Сталиным Бивербрук заметил, что тот рисовал множество волков, заштриховывая фон красным карандашом.
Сталин был прав в своих претензиях к Штейнгардту, чье здоровье было серьезно подорвано из-за постоянных стрессов. Время от времени Штейнгардта охватывали панические настроения. 7 октября он телеграфировал в Вашингтон, что возвращается в США, затем изменил свое решение и 13 октября телеграммой сообщил, что его возвращение откладывается.
* * *
Операция по осаде Москвы под кодовым названием «Тайфун», разработанная ответственным за ее проведение германским генералом Федором фон Боком, началась в сентябре с наступления трех армий численностью два миллиона человек. По числу участников этой операции и ее значению для страны битва под Москвой стала величайшим сражением этой кампании. По данным историка Родрика Брейтвейта, автора книги «Москва 1941. Город и его люди на войне», она унесла жизни 926 000 советских людей.
Поначалу дела у вермахта шли блестяще. 3 октября Адольф Гитлер, выступая с речью в Берлине, заявил, что Красная армия уже разбита и никогда не воскреснет. К 5 октября три германских фронта были уже близки к тому, чтобы взять город в кольцо. Жуков, которому Сталин приказал вернуться в Москву, прибыл в столицу 8 октября. В этот день 600 000 москвичей были мобилизованы для минирования главных мостов и туннелей, строительства заграждений, рытья окопов и уничтожения всех оставляемых промышленных объектов. Эвакуации по железной дороге на восток подлежали 498 организаций и 210 000 рабочих (многие из них уже были отправлены: к ноябрю свыше 700 заводов были эвакуированы по железной дороге на Урал, свыше 300 – в Сибирь, свыше 400 – за Волгу[502]).
9 октября пресс-секретарь Гитлера Отто Дитрих заявил, что армии маршала Тимошенко и маршала Семена Буденного обращены в бегство: «Советская Россия лишена возможности обороняться. С мечтой Британии о втором фронте в войне покончено»[503].
10 октября майор Йитон телеграфировал в Вашингтон, что скоро русские прекратят сопротивляться. (Гопкинс, который в июле беседовал в Москве с Йитоном, попросил военного министра Генри Стимсона оставить эту информацию без внимания. Он писал: «Я не могу понять, насколько вообще может быть обоснованной и объективной информация военного атташе, которую он черпает на улице или в общественном транспорте».) Тем не менее Стимсон был очень встревожен сообщением Йитона. «Это очень плохие новости из России, – писал он в своем дневнике. – У немцев большой успех, хотя и нет полной уверенности в том, что они смогут реализовать свои планы и завершить кампанию до наступления зимы»[504].
Генерал-майор сэр Гастингс Исмей, начальник личного штаба Черчилля, полагал, что Москва падет в течение трех недель. Газета «Нью-Йорк таймс» в те дни писала: «Нас пока не покидает надежда, что русские армии могут быть спасены, что будет создан новый фронт». Газета процитировала заявление Рузвельта: «Для нашей страны настало время прекратить игру в кошки-мышки с Гитлером и, наконец, приступить к решительным действиям».
В Англии все больше людей требовало немедленных военных действий для спасения России. Популярным был призыв направить британские войска, чтобы они форсировали пролив и высадились на континент, обосновывая целесообразность такой операции тем, что Гитлер сосредоточил всю свою военную мощь против России и оставил все побережье от Норвегии до Испании плохо защищенным. Однако Черчилль был слишком далек от реализации таких планов. Он собирал силы для боевых действий в Северной Африке.
* * *
Через несколько дней Рузвельт провел пресс-конференцию, на которой объявил о том, что в последнее время в Россию было отправлено значительное количество военных грузов[505]. Потом он добавил, что вся военная техника и снаряжение, обещанные на совещании в Москве в октябре, включая танки, самолеты и грузовики, должны быть отправлены в Россию до конца месяца, причем бóльшая часть этой техники покинет порты США в двухдневный срок. Он также сообщил, что для того, чтобы обеспечить оперативную доставку грузов в порты, персоналу пришлось работать в прошедшие выходные.
Из Токио продолжала поступать военная информация от Рихарда Зорге. Доверие к нему возросло после того, как он сообщил точную дату германского вторжения. Теперь ему поручили выяснить, имеет ли Япония планы нападения на советский Дальний Восток на границе с Маньчжурией. 14 сентября Зорге сообщил, что Япония приняла решение не нападать на СССР. А в своем последнем сообщении от 4 октября он подкрепил такие сведения убедительными фактами. Сталин пришел к выводу, что у него практически нет выбора: ему предстояло либо отозвать с Дальнего Востока все охраняющие маньчжурскую границу войска, либо потерять Москву. Однако армии пришлось бы преодолеть огромное расстояние, многие тысячи километров, на что уйдут недели, пока они прибудут сюда. А чтобы японцы не рискнули напасть (что вовсе не исключалось, если бы они все же узнали, что граница почти не охранялась), передислокацию войск следовало провести максимально скрытно от Квантунской армии. По свидетельству советского историка Роя Медведева, 12 октября Сталин вызвал в Кремль командующего войсками Дальневосточного фронта генерала Иосифа Апанасенко и других высших офицеров штаба Дальневосточного фронта.
Геннадий Андреевич Борков, первый секретарь Хабаровского краевого комитета ВКП (б), вспоминает о срочном телефонном звонке Сталина, вызвавшего его в Москву.
«По аппаратной сверхсекретной связи мне позвонил Сталин… За годы моей работы на Дальнем Востоке, да и в других местах, Сталин никогда мне не звонил. Поэтому я был чрезвычайно удивлен, когда услышал в телефонной трубке его голос: “… Гитлер готовит наступление на Москву, у нас нет достаточного количества войск, чтобы спасти столицу“… В конце он еще раз повторил: “Вылетайте немедленно самым быстроходным военным самолетом…“
[Когда мы вошли, Сталин] пригласил [нас] сесть за длинный стол, покрытый зеленым сукном. Он сначала не сел, молча походил по кабинету, [потом] остановился против нас и начал разговор: “Наши войска на Западном фронте ведут очень тяжелые оборонительные бои, а на Украине полный разгром… Украинцы вообще плохо себя ведут, многие сдаются в плен, население приветствует германские войска“.
Небольшая пауза, несколько шагов по кабинету туда и обратно. Сталин снова остановился возле нас и продолжал: “Гитлер начал крупное наступление на Москву. Я вынужден забирать войска с Дальнего Востока. Прошу вас понять и войти в наше положение“.
По моей спине побежал мороз, а на лбу выступил холодный пот… “Речь уже идет не только о потере Москвы, а может быть, и гибели государства…“
Он разложил свои бумаги на столе и, показывая пальцем на сведения о наличных войсках нашего фронта, обращаясь к Апанасенко, начал перечислять номера танковых и механизированных дивизий, артиллерийских полков и других особо важных соединений и частей, которые Апанасенко должен немедленно отгрузить в Москву»[506].
Борков вспоминает, что затем Сталин спросил Апанасенко, сколько у того противотанковых пушек, и, получив ответ, сказал: «Грузи и эти орудия к отправке!» И тут Апанасенко отскочил от стола и закричал: «…Ты что делаешь?!! А если японец нападет, чем буду защищать Дальний Восток?.. Снимай с должности, расстреливай, орудий не отдам!» Сталин сказал: «Успокойся, успокойся, товарищ Апанасенко! Стоит ли так волноваться из-за этих пушек? Оставьте их себе»[507].
Один из генералов вспоминает, что Сталин предупредил их: «Вы должны сделать все, чтобы не дать японцам никакого повода для вступления в войну и открыть против нас второй фронт. Если вы спровоцируете войну на Дальнем Востоке, мы отдадим вас под трибунал. Всего хорошего!»
14 октября немцы прорвали линию обороны советских войск у Можайска, всего в 120 километрах к северо-западу от Москвы. Это означало, что Москву почти взяли в тиски. 16 октября Москву охватил ужас. Московскую милицию отправили на фронт. Город замер: на улицах не было автобусов, троллейбусов, не работал метрополитен. Толпы охваченных паникой людей – семьи с пожитками и багажом – стремились оставить город, в воздухе пахло гарью от сжигаемых в учреждениях документов[508].
8 октября в Россию прибыли первые 48 истребителей «Кертис» «Р-40», полностью собранные и готовые к вылету. 13 октября Рузвельт телеграфировал Сталину, что через два дня из Соединенных Штатов будут отправлены 166 танков, через десять дней – 200 самолетов, 5 500 грузовиков – до конца месяца. Признаком охватившего Москву хаоса стала утеря из российского архива этой телеграммы. Пропала также следующая телеграмма Рузвельта от 25 октября, в которой сообщалось, что Россия окончательно и безоговорочно включена в программу ленд-лиза.
Учитывая неопределенность ситуации и приближение германских войск, 15 октября Сталин отдал приказ об эвакуации города.
Всем членам правительства, в том числе и Молотову, назначенному заместителем главы правительства, всему дипломатическому корпусу было приказано отправиться в Куйбышев, расположенный в месте слияния рек Самара и Волга в 950 километрах от столицы. Генштабу предстояло эвакуироваться в другой город на Волге. Научно-исследовательским институтам и театрам следовало отправиться в еще более отдаленные районы страны. Все важные объекты в Москве были заминированы, а архивы отправлены в Куйбышев.
Библиотеку и личные документы Сталина упаковали и отправили в Куйбышев. Его железнодорожный вагон и самолет «DC-3» находились в полной готовности. Дипломатам, которым сказали, что Молотов и Сталин присоединятся к ним, было приказано отправиться спецпоездом в Куйбышев. Вместе с другими москвичами, занимавшими ответственные посты, дипломаты вскоре после полуночи в полной темноте, освещаемые только вспышками от зенитных орудий, разместились в вагонах поезда. Шел сильный дождь со снегом. Переезд занял пять дней. В обстановке такого хаоса пассажиры питались только тем, что смогли взять с собой. Немцы едва не захватили поезд, но в самый последний момент были отброшены контратакой русской кавалерии. Артиллерийским огнем оказалось разрушено рельсовое полотно, его восстановили, но на это ушло много времени. В поезде находилась и вся труппа Большого театра, а также композиторы Арам Хачатурян и Дмитрий Шостакович. Все благополучно перенесли эту поездку, пополняя в пути запасы продуктов во время остановок на деревенских станциях и в колхозах.
В тот тяжелый день прибыли первые сибирские части из дивизии Белобородова и сразу же заняли позиции на главных подступах к Москве. Вслед за ними прибыли части морской пехоты и армейские дивизии. После их прибытия Сталин передумал покидать Москву и приказал всем наркомам – всем, кроме Молотова, который убыл в Куйбышев, – остаться с ним.
Генерал А. П. Белобородов, командир дальневосточной стрелковой дивизии, позднее описал в своих мемуарах эту стремительную передислокацию в Москву, чтобы прибыть туда вовремя: «Железнодорожники открыли нам «зеленую улицу». На узловых станциях мы стояли не более пяти-семи минут. Отцепят один паровоз, прицепят другой, заправленный водой и углем, – и снова вперед! Точный график, жесткий контроль. В результате все тридцать шесть эшелонов дивизии пересекли страну с востока на запад со скоростью курьерских поездов. Последний эшелон вышел из-под Владивостока 17 октября»[509].
30 октября Рузвельт сообщил Сталину по телеграфу, что он распорядился об оказании Советскому Союзу помощи самым непосредственным и эффективным образом:
«Я одобрил все списки военного снаряжения и вооружения и отдал распоряжение, чтобы сырьевые материалы были предоставлены по мере возможности и как можно скорее. Я дал распоряжение начать поставки немедленно и продолжать производить их в возможно наибольшем объеме.
Чтобы избежать финансовых затруднений, я отдал распоряжение о немедленном проведении мероприятий, при которых поставки могут производиться согласно закону о передаче вооружения взаймы или в аренду на сумму до одного миллиарда долларов.
Я предлагаю, если Советское Правительство это одобрит, чтобы Соединенные Штаты не взыскивали процентов с задолженности, которая может возникнуть у Советского Правительства и которая вытекает из этих поставок, и чтобы платежи по этой задолженности начались только спустя пять лет после окончания войны и производились в течение десяти лет после истечения этого пятилетнего периода»[510].
Такая телеграмма, зашифрованная по соображениям безопасности, была отправлена Штейнгардту в Куйбышев, который 2 ноября передал ее Вышинскому, тоже в Куйбышеве. На следующий день Вышинский отправил Сталину по телеграфу зашифрованную версию послания (полностью соответствующую тексту оригинала). На следующий день Сталин отправил Рузвельту ответную телеграмму с выражением чувства признательности и благодарности, которая заканчивалась словами: «Что касается выраженного Вами, г-н Президент, пожелания, чтобы между Вами и мною был бы незамедлительно установлен личный непосредственный контакт… то я с удовольствием присоединяюсь к этому Вашему пожеланию и готов со своей стороны сделать все возможное для осуществления этого»[511].
К этому времени Москва была в таком отчаянном положении, что Сталин хотел разместить столь долгожданные новости (вместе с фотографиями) на первых полосах советских газет, но Штейнгардт был вынужден остановить его. Он сказал Вышинскому: «Это может быть рискованно. Рузвельт принял решение предоставить СССР кредит в один миллиард долларов без ведома Конгресса»[512].
Штейнгардт находился на грани нервного срыва. 3 ноября он пишет Хэллу о «переутомлении и физическом напряжении… усугубленном крайне неприемлемыми условиями жизни… военной ситуацией… У меня сломалась половина коренного зуба»[513]. Он пишет, что убежден: захват Москвы – лишь дело времени. Молотов уехал в Москву. «До падения Москвы, которая может еще некоторое время продержаться, вряд ли они [Молотов и Сталин] приедут в Куйбышев». Далее он пишет, что, конечно, будет до конца выполнять свою работу, пока его не освободят от должности. Двумя днями позже он получает ответ на свою просьбу: утешительную телеграмму от Рузвельта о том, что его заменят «кем-нибудь, кто в полной мере и детально знаком с проблемами промышленного производства в Америке и поставок в Россию»[514].
6 и 7 ноября были днями официального советского праздника. В 1941 году в эти дни отмечалась двадцать четвертая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Германская армия находилась в 50 километрах от Москвы. 6 ноября Сталин решил в пропагандистских целях провести торжественное заседание Моссовета, посвященное годовщине революции, для политработников и депутатов Моссовета, но провести в вестибюле станции метро «Маяковская», известной своими красивыми конструкциями из алюминия. В конце вестибюля соорудили возвышение для членов Политбюро. У одной из платформ стоял поезд с открытыми дверьми, откуда выносили и раздавали бутерброды и прохладительные напитки.
Сталин произнес волнующую речь о просчетах Германии: «Они рассчитывали прежде всего на то, что серьезно надеялись создать всеобщую коалицию против СССР, вовлечь Великобританию и США в эту коалицию, предварительно запугав правящие круги этих стран призраком революции… СССР не только не оказался изолированным, а, наоборот, приобрел новых союзников в лице Великобритании, США и других стран, оккупированных немцами… Неудачи Красной армии не только не ослабили, а, наоборот, еще больше укрепили союз рабочих и крестьян»[515]. Затем Сталин остановился на причинах военных поражений. И здесь он выступил за открытие «второго фронта»: «В настоящее время на европейском континенте не существует каких-либо армий Великобритании или Соединенных Штатов Америки… Обстановка теперь такова, что наша страна ведет освободительную войну одна… Но не может быть сомнения в том, что появление “второго фронта“ на континенте Европы – и он безусловно должен появиться в ближайшее время [бурные аплодисменты], – существенно облегчит положение нашей армии». Сталин также привел цифры потерь советской стороны: 350 000 убитых и 378 000 пропавших без вести с момента начала боевых действий. Сталин знал, что эти цифры далеки, очень далеки от правды.
На следующий день, вопреки советам своего окружения, посчитавшего затею слишком опасной (по свидетельству генерала Волкогонова, когда Сталин выступил с этим предложением, Молотов и Берия подумали, что они ослышались), Сталин принял решение провести в ознаменование праздника традиционный парад на Красной площади, то есть поступить так, как если бы Москва не находилась на осадном положении. И приказал создать над городом защитный «зонт» силами истребительной авиации. На случай же, если во время парада все же произойдет авианалет, Сталин приказал убитых и раненых «быстро убрать, чтобы не прерывать парада»[516]. Он приказал также, чтобы кинооператоры сняли марширующие войска, чтобы каждый увидел эти кадры жизнеспособной Красной армии и понял, что уверения фюрера в ее полном разгроме являются бессовестной ложью. К счастью, в этот день был сильный снегопад, предотвративший малейшие попытки германских бомбардировщиков сорвать военный парад.
Это событие стало символом русской стойкости и храбрости. Вместе с членами Политбюро Сталин стоял на трибуне Мавзолея и следил, как генералы гарцевали на белых конях, как проходили колонны танков «Т-34» и колонны пехоты. Он выступил с получасовой речью и воодушевил всех своей уверенностью в победе. Его слова транслировались по радио на весь Советский Союз. Он произносил слова своим низким, чуть глуховатым голосом, очень медленно, с паузами, как это часто делал.
Андрей Сахаров, которому тогда было двадцать лет и который позднее стал знаменит своим участием в создании русской атомной бомбы, вспоминал, что, хотя он прекрасно понимал, что это была тщательно подготовленная речь, она произвела на него сильное впечатление, как и на всех, кто ее услышал[517]. A корреспондент агентства «Оверсиз пресс» никогда не забудет своего впечатления от слов полковника Красной армии: «Теперь война будет выиграна», – когда они слушали это выступление из громкоговорителя на железнодорожной станции к востоку от Москвы[518].
– Откуда вы знаете? – спросил корреспондент, которого звали Ральф Паркер.
– Вот по этому лицу, – ответил полковник, указав на рабочего средних лет, который замер на месте, услышав голос Сталина. «Я видел, как на этом лице появилась улыбка, как этот человек снял фуражку и быстро прижал к своим щекам, по которым уже потекли слезы».
«Все вокруг него, – отмечает Паркер, – стояли, прикованные к месту голосом своего вождя и обратив свои вдохновенные лица в сторону Москвы, откуда доносился этот голос».
Сталин начал свою речь с необычного упоминания огромного вклада женщин в борьбу против врага (в колхозах женщины составляли 90 процентов всех работающих, на заводах – 60 процентов):
«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков!..
Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался…
Подпавшие под иго немецких захватчиков порабощенные народы Европы смотрят на вас как на своих освободителей… Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая»[519].
Проходившие маршем по Красной площади солдаты и заняли свои позиции на фронте.
К 16 ноября германские войска форсировали реку Лама у входа в канал Москвы. 24 ноября пал город Клин, расположенный в 85 километрах к северо-западу от Москвы. 28 ноября другие германские соединения, наступавшие на юг, находились уже примерно в 32 километрах от Кремля. С юга наступала армия генерала Гейнца Гудериана.
К началу ноября германские солдаты могли наблюдать в полевые бинокли верхушки самых высоких строений в Москве.
23 ноября Вышинский заявил послу Криппсу, что пришло время направить британских экспертов на Кавказ для оказания помощи в демонтаже нефтедобывающего оборудования[520]. Затем произошли два события. Температура упала до минус 18 градусов, что не повлекло за собой проблем для одетых в теплое обмундирование красноармейцев, но стало катастрофой для легко одетых солдат вермахта, которых уверяли, что война завершится еще до наступления зимы. Спустя несколько дней советские лыжные подразделения начали атаковать германские тылы. А 5 декабря сибирские дивизии под командованием Жукова перешли в контрнаступление. Стремительное продвижение германских войск захлебнулось.
К 6 декабря немцев вытеснили из Клина, Ясной Поляны (200 километров к югу от Москвы) и из других ключевых позиций. 13 декабря газета «Правда» писала: «Враг ранен, но не уничтожен». 18 декабря Сталин обсудил с сэром Стаффордом Криппсом серьезный упадок боевого духа среди германских солдат на фронте и выразил уверенность в том, что у Германии уже не осталось резервов[521].
* * *
7 декабря в Вашингтоне выдался необычно теплый день для этого времени года. Ни Рузвельт, ни бóльшая часть его администрации, ни Объединенный комитет начальников штабов не был готов к нападению японцев на Перл-Харбор. В последние недели появилась информация, что японцы собираются где-то нанести удар. Накануне вечером Рузвельту показали карту Индокитая с карандашными пометками приближающихся к Малайскому полуострову японских кораблей, что заставило его и высшее военное командование предположить, что нападение следует ожидать в этом регионе[522]. Рузвельт узнал новость о нападении от Фрэнка Нокса, министра ВМС, позвонившего ему в 13:47. Рузвельт немедленно связался с Хэллом и Стимсоном и сообщил им эту новость. Чуть позже он позвонил Дэвису, который воскликнул: «Слава богу!»[523] Эти два слова услышал Максим Литвинов, который только что прибыл в Вашингтон в качестве нового советского посла на смену непопулярному Константину Уманскому и вместе с женой обедал с Дэвисом. Позднее Литвинов скажет, что Рузвельт, как и все его окружение, были довольны, что их вовлекли в войну. Дэвис вспоминал потом слова президента: «Это ужасно, но это было предопределено»[524].
Дэвис писал, что Литвинов сначала не был рад, что Америка вступает в войну, поскольку беспокоился, что это помешает бесперебойным поставкам в Советский Союз американских товаров и оружия.
В тот вечер Рузвельт собрал свою администрацию в Овальном кабинете. «Он начал, – писал Стимсон, – тонко ощущая исторический момент, с упоминания того, что сегодняшнее совещание является самым важным с 1861 года»[525]. После совещания Перкинс записал: «Несмотря на весь ужас, что война пришла и к нам, он держался удивительно спокойно. Было похоже, что благодаря этому событию он перестал терзаться нравственными проблемами»[526].
За несколько недель до этого, 7 декабря, в Белый дом были приглашены на ужин известный журналист Эдвард Р. Мэрроу и его жена Дженет. Они приехали и узнали о нападении японцев и о том, что Рузвельт проводит совещание за совещанием и не может прервать работу ради застолья, что вместо этого их ждет легкий ужин из яичницы и пудинга, который обычно Элеонора Рузвельт организовывала в воскресные вечера, чем они и поужинали. Дженет вскоре уехала домой, а Мэрроу остался в ожидании президента. Около полуночи Мэрроу был, наконец, вознагражден за свое терпение, он увидел Рузвельта, покидавшего Овальный кабинет измученным, рассерженным и восклицающим: «Наши самолеты уничтожены на земле!»[527] Рузвельт заказал пива и сэндвичи. Когда они ели, президент кричал Мэрроу, стуча по столу: «На земле! Ты понимаешь? НА ЗЕМЛЕ!»
Америка была в большей степени готова к войне, чем кто-либо мог подумать. Рузвельт развернул широкую кампанию по строительству боевых кораблей для ВМС. Пока имелись в наличии 17 линкоров, еще 15 находились на стадии строительства, четыре из которых планировалось ввести в строй к концу 1942 года. ВМС располагали семью авианосцами, еще 11 находились на стадии строительства, хотя спуск на воду должен состояться только в 1944 году. В строю находились 18 тяжелых крейсеров, еще восемь строились и должны были быть введены в строй в 1943 году. На вооружении ВМС находились 19 легких крейсеров, еще 40 строились, первые из которых должны были выйти с верфи к концу года. Имелись 172 эскадренных миноносца, 192 находились на этапе постройки. На вооружении стояли 113 подводных лодок, еще 73 строились, одна из которых была почти готова. Строительство 27 подводных лодок планировалось завершить в 1942 году, 24 – в 1943 году, остальных – позднее[528].
Японское нападение на Перл-Харбор вынудило Рузвельта как можно скорее провести обсуждение планов войны с участием Китая, СССР, Британии и Америки. Первое послание Рузвельта Сталину после нападения японцев следует воспринимать именно в этом контексте. Надо заметить, что такое послание в большей мере предназначалось для Чан Кайши, чем для Сталина. Рузвельт объяснил Стимсону, что он очень хотел бы провести конференцию с представителями союзных правительств в Вашингтоне к концу декабря и с этой целью уже отправил такие телеграммы Чан Кайши, Черчиллю и Сталину.
8 декабря Чан Кайши объявил войну Японии, Германии и Италии. Затем он попросил советского посла в Китае Александра Панюшкина, чтобы СССР присоединился к Китаю и объявил войну Японии. У него были основания надеяться, что это скоро случится. Как говорилось в телеграмме Чан Кайши, отправленной в Вашингтон его министру иностранных дел Сун Цзывэню, «главный советский военный советник выразил свое личное мнение… что объявление Советским Союзом войны против Японии является лишь вопросом времени и чистой формальности»[529]. Сун Цзывэнь передал эту информацию Уэллсу. Через четыре дня после нападения на Перл-Харбор, 11 декабря, Литвинов встретился с Хэллом и сказал ему, что этого шага не планируется. «Развивая эту тему», он сообщил Хэллу, что «сегодня получил окончательное решение своего правительства, которое не содержит положений о готовности в настоящее время сотрудничать с США в дальневосточной зоне влияния Японии. Правительство СССР сосредоточено на полномасштабных боевых операциях против Германии, а участие вместе с США в военных действиях на Дальнем Востоке будет предполагать ответное нападение Японии»[530].
В ходе этой беседы Хэлл сообщил Литвинову неверные сведения, хотя в первый раз, но и, без сомнения, в последний, что Япония собирается вторгнуться в Россию: «У меня теперь есть сведения… из которых следует, что Япония, несмотря на условия русско-японского договора о соблюдении нейтралитета, сейчас находится под сильнейшим давлением со стороны Германии, требующей напасть на Россию и на другие страны, воюющие против Германии». По свидетельству Хэлла, Литвинов уклонился от обсуждения этой темы. Тогда Хэлл попробовал воздействовать на Литвинова туманной угрозой: «Если Россия воздержится от сотрудничества с нами на Дальнем Востоке в то время, когда мы продолжаем оказывать ей поддержку, представляете, какой поток критики здесь обрушится на нас за то, что мы помогаем России».
Вот послание Рузвельта Сталину от 14 декабря:
«Первое: я предлагаю генералиссимусу Чан Кайши созвать немедленно в Чунцине конференцию в составе китайского, советского, британского, голландского и американского представителей. Эта группа должна бы собраться не позднее 17 декабря и доложить результаты своим правительствам совершенно конфиденциально к субботе, 20 декабря. Это должно дать нам предварительное представление об общей проблеме под углом зрения Чунцина.
Второе: я прошу британцев собрать в Сингапуре военно-морскую конференцию…
Третье: я был бы очень рад, если бы Вы лично переговорили с американским, британским и китайским послами в Москве и сообщили мне Ваши предложения по всему вопросу к субботе, 20 декабря.
Четвертое: в течение ближайшей недели я подвергну обсуждению те же вопросы со здешними британскими миссиями и сообщу Вам о положении, как оно представляется отсюда»[531].
В телеграмме Сталину Литвинов направил свои пояснения к этому посланию:
«Только что меня пригласил Рузвельт и вручил мне послание для немедленной отправки… В начале беседы со мной президент сказал, что Чан Кайши намерен сделать Чунцин центром управления операциями союзных сил, и ему хотелось бы, чтобы Рузвельт определенным образом удовлетворил его, внеся такое предложение; однако далее [во время беседы] он сказал, что придает большое значение конференции, которую предлагает провести. Мне показалось, что Рузвельту хотелось бы в определенной степени пойти навстречу общественному мнению, которое настаивает на совместных боевых действиях союзников и критикует его за то, что он раньше не привлек нас к участию в конференции по тихоокеанским событиям… В ответ на мои возражения, что на конференции, по всей вероятности, будут обсуждаться проблемы войны с Японией… Рузвельт ответил, что он относится к этому с пониманием и что нашему представителю в Чунцине, безусловно, будет нецелесообразно официально участвовать в работе конференции… Возможно, Рузвельту хотелось бы вовлечь нас в действия против Японии, хотя бы в косвенной форме и на словах; по всей вероятности, это – вся и единственная цель его предложений»[532] (курсив авт.).
Датированное 14 декабря послание Рузвельта было передано только на следующий день в 16:20.
Сталин ответил вежливым, но несколько озадачивающим посланием, в котором говорилось, что он получил телеграмму Рузвельта только 16 декабря, и в котором он сообщал: «В связи с тем, что в Вашем послании не были указаны цели конференций в Чунцине и Москве и ввиду того, что до открытия конференций остался всего один день, я полагал возможным выяснить вопрос о целях конференций и возможность отложения конференций на некоторое время при встрече с г-ном Иденом, который только что прибыл в Москву… Однако, как выяснилось, г-н Иден также не информирован по этому вопросу»[533].
Рузвельт отказался от идеи созыва конференции, и телеграмма Черчиллю так и не была отправлена. Попытки вовлечь Сталина в войну против Японии на какое-то время прекратились. А Черчилль в любом случае планировал посетить Белый дом в течение недели.
Сталин послал Чан Кайши дружескую телеграмму несколькими днями раньше, в которой приносил свои извинения за неучастие России в войне с Японией, объясняя это тем, что «Россия сегодня несет на себе основную тяжесть в войне с Германией… В таких обстоятельствах Советский Союз сегодня не должен отвлекать свои силы на Дальний Восток… Поэтому я прошу Вас не настаивать, чтобы Советская Россия немедленно объявила войну Японии»[534].
Однако затем он добавил: «Советская Россия должна будет воевать с Японией в случае, если Япония определенно нарушит пакт о нейтралитете. Мы готовимся на случай такой ситуации, но для подготовки потребуется время».
Госдепартамент получил копию этой телеграммы 16 декабря. Читая ее, Уэллс так разволновался, что немедленно позвонил Рузвельту и зачитал ему текст по телефону. Вот так, экспромтом, Сталин намекнул Рузвельту, что хоть и не теперь, но при определенных обстоятельствах можно ожидать, что Россия вступит в войну против Японии.
* * *
Вступление Америки в войну оказало на Сталина благотворное влияние, во всяком случае на некоторое время: его первой реакцией была вера в то, что Америка теперь сотрет в порошок и Германию, и Японию в течение нескольких месяцев. Его внезапного оптимизма не поколебало даже то, что акваторию порта Архангельск начали сковывать льды.
Десять дней спустя после нападения на Перл-Харбор во время вечерней встречи с Иденом и Криппсом Сталин пребывал в прекрасном настроении и много шутил. Не только потому, что Америка вступила в войну, но и в связи с тем, что наступление вермахта было остановлено. Он уже думал о защите интересов послевоенной России, о том, как добиться подписания от собеседников документов, устанавливающих послевоенные границы. Он впервые обдумывал планы по защите России от агрессий в будущем. Это означало, что нужна была достаточно сильная Польша, чтобы послужить щитом от очередной германской агрессии. Хотя Иден и Криппс не могли согласиться с таким предложением и ничего не было подписано, все они – присутствовали также Майский и Молотов – завершили ужин шампанским, обилием холодных закусок и икрой. По словам Криппса, Сталин налегал на икру, «которую ел в огромном количестве… После завершения официальной беседы мы долго болтали о всякой ерунде, много смеялись и подтрунивали друг над другом». Во время беседы Сталин «был сильно воодушевлен положением на советско-германском фронте, а также своей оценкой ситуации вокруг Японии. Он считал, что война с Германией и Японией продлится не дольше шести месяцев»[535] (курсив авт.).
Глава 9 Рузвельт, Сталин и «второй фронт»
Открытие «второго фронта» стало бы единственным важнейшим шагом, сделав который Америка могла бы кардинально помочь России, и было единственным спорным моментом во взаимоотношениях между Рузвельтом и Сталиным в первые годы войны. У Сталина это было почти навязчивой идеей, первым, о чем он просил Черчилля и Рузвельта в начале войны, когда немецкая армия была на подступах к Москве. Ведь открытие «второго фронта» заставило бы Гитлера отвести свои войска из России.
Военные круги США энергично поддержали такой план: идея «второго фронта» овладела Эйзенхауэром с самого начала, поскольку, по его убеждению, ввод войск непосредственно на территорию Германии явился бы самой эффективной военной стратегией. В январе 1942 года, будучи еще скромным полковником Управления оперативного планирования в штабе армии, Эйзенхауэр от своего имени заметил в письменной форме: «Нам следует двинуться в Европу и вступить в войну»[536]. Маршалл согласился, и они приступили к планированию операции. Вскоре после этого Маршалл представил Эйзенхауэра к званию бригадного генерала и назначил его руководителем Управления оперативного планирования. К 28 февраля Эйзенхауэр завершил работу над планом вторжения через Ла-Манш и представил его Маршаллу. Планом было предусмотрено, что для высадки войск на севере Франции между Кале и Гавром, в самом узком месте пролива, осенью 1943 года потребуются сорок восемь дивизий и пять тысяч восемьсот боевых самолетов для прикрытия десанта с воздуха. Кроме того, план предусматривал, что, возможно, осенью 1942 года потребуется ограниченное вторжение во Францию (операция под кодовым названием «Кувалда») для создания плацдарма на берегу пролива, которое весной 1943 года должно было обеспечить успех полномасштабного вторжения войск союзников на континент. Непосредственной целью операции было «отвлечь значительные силы»[537] немецких войск от России. Операции следовало «разработать и представить русским таким образом, чтобы они признали важность оказываемой им поддержки». Этот план был принят, поскольку показался вполне разумным.
Стимсон, занимавший должность военного министра, назвал план самым верным способом переориентировать в 1942 году гитлеровские войска в России на запад и самой эффективной мерой для окончательного разгрома фюрера. Стимсон вел долгие беседы с Рузвельтом о развитии событий и важности вторжения через Ла-Манш. Россию спасет «мощное наступление через Британию во Францию с предшествующими авианалетами», как писал Стимсон в своем дневнике в начале марта. Но это предполагало концентрацию и размещение войск США в Великобритании и привлечение английской армии и английской авиации к операции вторжения. Все могло получиться только в том случае, если англичане твердо поддержат такую операцию, успех зависел от сотрудничества с Великобританией.
31 марта 1942 года, четыре месяца спустя после Перл-Харбора, Франклин Рузвельт решил, что пришло время для ввода плана в действие. Он набросал черновик телеграммы Сталину, в которой приглашал Молотова в Вашингтон для обсуждения вопроса, «связанного с использованием наших вооруженных сил таким образом, чтобы облегчить критическое положение на вашем западном фронте. Этой цели я придаю огромное значение… Время имеет большое значение»[538]. Однако Рузвельт умышленно избежал упоминания слов «второй фронт» – вероятно, по той причине, что все еще не получил обещания Великобритании поддержать этот план. И, что еще важнее, он не отправил это послание, решив пока с этим не спешить. Он пригласил к себе министров Стимсона и Нокса, генералов Маршалла и Арнольда, адмирала Кинга, а также Гарри Гопкинса, чтобы еще раз обсудить с ними план предстоящей войны. Результат порадовал президента: все единодушно высказались за то, что вторжение через Ла-Манш было бы самым мудрым решением и что Британии следует стать неотъемлемой частью плана вторжения.
Вдохновленный единодушной поддержкой своих советников, Рузвельт отправил премьер-министру телеграмму следующего содержания: «Народ Вашей страны и народ моей страны требуют организации фронта, чтобы ослабить германское давление на Россию. И наши народы достаточно умны, чтобы видеть, что русские убивают больше немцев и уничтожают больше германской военной техники, чем мы с вами вместе взятые»[539].
В те дни он решил отправить Маршалла и Гарри Гопкинса в Лондон, чтобы донести непосредственно до Черчилля, Идена и британского Генерального штаба (которые, по сведениям Рузвельта, все еще проявляли нерешительность) идею о настоятельной необходимости осуществления планов вторжения. В отличие от своих робких лидеров британский народ поддержал идею вторжения через Ла-Манш. В конце марта с требованием открытия «второго фронта» на Трафальгарскую площадь в Лондоне вышли двадцать тысяч демонстрантов. Заголовок в газете «Санди экспресс» призывал: «Нанесем удар в Европе! Прямо сейчас!»[540]
Маршалл и Гопкинс прибыли в Лондон 8 апреля и сразу же начали переговоры с Черчиллем и членами кабинета министров военного времени. На следующий день Гопкинс телеграфировал Рузвельту, что встречался с Черчиллем не один раз, а дважды и что его реакция была «доброжелательной. Сложилось впечатление, что перспектива достичь официальной договоренности внушает надежду»[541].
Прошли еще сутки. Очередная телеграмма от Гопкинса гласила: «Переговоры с первыми лицами ВМС и начальниками штабов Великобритании проходят вполне удовлетворительно». Это обнадеживало, но пока еще было далеко от заявления о готовности оказать поддержку. Тем не менее утром 11 апреля Рузвельт отправил Сталину телеграмму с приглашением Молотова в Вашингтон. Ее доставили Максиму Литвинову в полдень. Следует упомянуть: насколько известно, когда ситуация требовала неординарных действий, по выражению лица Франклина Рузвельта редко удавалось понять, что именно его заботило в данный момент.
Поскольку в телеграмме президента не содержалось полной конкретики и было неясно, что именно он имел в виду, Сталину потребовалась дополнительная информация. 14 апреля посол Литвинов посетил Белый дом, рассчитывая получить такие сведения.
В тот же день, в 22:00, Маршалл и Гопкинс встретились в Лондоне на Даунинг-стрит с Черчиллем и членами британского Комитета обороны для более детального обсуждения плана вторжения с форсированием Ла-Манша. Американцам показалось, что британцы, наконец, начинают уступать. На берегах пролива у Гавра и Булони были выбраны места вероятного десантирования. Самым ранним сроком вероятного вторжения определили 1 апреля 1943 года. По всему было видно, что кабинет министров Великобритании военного времени твердо поддержал планы вторжения. Черчилль писал о рассмотрении «предложения первостепенной важности»: «У меня нет никаких сомнений и колебаний в необходимости принять этот план… Мы абсолютно единодушны по основным аспектам плана»[542].
На следующий день Гопкинс сообщил по телеграфу эту новость президенту: «После длительных переговоров накануне вечером между Комитетом обороны, начальниками штабов, руководством ВМС, Маршаллом и мной британское правительство согласилось с нашим главным предложением»[543].
Маршалл сообщил своему непосредственному начальнику, военному министру Стимсону: «Британское правительство теперь намерено немедленно и самым энергичным образом проводить необходимую подготовительную работу для осуществления главной операции»[544]. Гопкинс и Маршалл ликовали.
Премьер-министр Канады Макензи Кинг в эти дни нанес визит в Белый дом. Элеонора Рузвельт писала о своем муже: «У него не было близких друзей»[545]. Но Кинг на самом деле являлся таким близким другом для президента. Рузвельт делился со старым другом Кингом своими соображениями, объяснял ему мотивы тех или иных своих поступков и, по сути дела, откровенничал с ним, что было несвойственно для президента. Кинг был на семь лет старше Рузвельта, и когда Франклин был еще старшекурсником Гарварда, уже имел степень доктора философии и преподавал в этом университете. Как это ни странно, но Рузвельт чувствовал себя комфортно, только общаясь с морскими офицерами и общественными деятелями. Вероятно, поэтому все члены личного штаба президента являлись офицерами ВМС. Гопкинс, Перкинс и сама Элеонора Рузвельт находили время для общественной деятельности, как и Кинг: он работал вместе с Джейн Адамс в «Халл-хаусе». Франклин Делано Рузвельт считал его проницательным наблюдателем и доброжелательным слушателем. В Вашингтоне Кинг находился в качестве члена Тихоокеанского военного совета, заседание которого состоялось в тот же день. После обеда Рузвельт пригласил Кинга вместе с другими членами Совета подняться к нему для беседы в Овальный кабинет. Как он обычно поступал при общении с гостями, Рузвельт, сидя на большом кожаном диване, пригласил Кинга сесть рядом для послеобеденной беседы. Он начал, как писал Кинг в своем дневнике, с того, что тема беседы является «совершенно секретной», как и заявление президента на заседании Тихоокеанского военного совета, на котором он ранее сообщил, что направил в Лондон Гопкинса и Маршалла добиться от Англии решительных действий, которые помогут ослабить давление на русских посредством создания «второго фронта».
Теперь, как писал Кинг в своем дневнике, Рузвельт «положил руку на пустой участок дивана между нами и сказал: «Вчера вечером я получил известие о том, что достигнуто положительное решение. И таким положительным решением является договоренность между англичанами и американцами в самом скором времени начать наступление против немцев… Если Россию ждет поражение в войне, такое наступление следует начать прежде, чем оно случится»[546].
По словам Кинга, президент «явно испытывал большое облегчение» после получения вечером такого важного известия. Наряду с этим Кинг также отметил, что Рузвельт слишком преувеличивал численность британских войск. Он думал, что Англия располагает потенциалом где-то около сотни дивизий, хотя, по последним данным, которые имелись у Кинга, их число было значительно меньше: не более 16–20 дивизий.
Ответ Сталина пришел через пять дней, 20 апреля: «Разрешите поблагодарить Вас за послание, которое я на днях получил в Москве. Советское Правительство согласно, что необходимо устроить встречу В. М. Молотова с Вами для обмена мнениями по вопросу об организации «второго фронта» в Европе в ближайшее время… Само собой понятно, что Молотов побудет также и в Лондоне»[547].
Первостепенной целью Сталина на послевоенный период была задача превратить Польшу в сильное и независимое государство между Германией и Советским Союзом, поскольку Сталин был убежден в неизбежности германского нападения на Россию и в будущем. С осени 1941 года Сталин оказывал на Черчилля и Идена постоянное давление, добиваясь подписания договора о признании границ России с вхождением в ее состав балтийских государств, определении восточных границ Польши по «линии Керзона» и передаче полякам германской территории, примыкавшей к западным районам Польши. Ранее, в тяжелые дни декабря 1941 года, Сталин в течение двух суток пытался уговорить сэра Стаффорда Криппса, находившегося в Москве британского посла, заключить секретный договор, признающий Россию в границах 1941 года с включением в ее состав балтийских государств и признанием новой границы с Финляндией. Когда Криппс объяснил ему, что для Британии сейчас невозможно вступать в любые подобные договоренности, Криппсу показалось, что Сталин, «в конечном итоге, так или иначе»[548] отказался от такой идеи. Но Криппс ошибся. В марте, не выдержав давления со стороны Сталина, Черчилль был вынужден сообщить Сталину, что уже написал Рузвельту, «настоятельно призывая его одобрить подписание нами договора с Вами о границах».
Рузвельт отказался. Он посчитал такой договор ужасной ошибкой, фактическим отказом от принципов Атлантической хартии, провозглашающей самоопределение, которые объединяют многие неравноправные угнетенные народы. Он знал, что Черчилль начинает проявлять уступчивость русским требованиям и в угоду Сталину фактически начал обсуждать послевоенное устройство Европы с находящимися в Лондоне правительствами в изгнании. Еще в июле прошлого года Рузвельт просил Черчилля сделать «всеобъемлющее заявление… разъясняющее, что не предусматривается никаких обязательств на послевоенный период в отношении территорий, населений или экономик в мирное время»[549]. Черчилль проигнорировал эту просьбу. В возможности заключения такого договора Рузвельт увидел не только измену принципам Атлантической хартии, но и вообще плохой политический ход. Вспомнив о том, как серьезно помешали президенту Вильсону данные им в Версале обязательства, участником которых он фактически не являлся, Рузвельт предпочел, чтобы ему не связывали руки.
Рузвельт не стал снова обсуждать эту тему с Черчиллем и предпочел воздействовать на него дипломатическими средствами. Он поручил Самнеру Уэллсу, весьма корректному и элегантному заместителю госсекретаря, сделать категоричное заявление Эдуарду Вуду, которого всегда именовали лордом Галифаксом. Этот сухопарый, высокий, очень светский и более чем элегантный бывший вице-король Индии в то время занимал пост британского посла в Америке. Галифакс, являвшийся хорошим другом королевы, в свое время снискал недобрую славу, назвав Геринга «привлекательным», а Геббельса – «симпатичным»[550]. Он также отстаивал концепцию (приводя Рузвельта в ужас) о необходимости в послевоенный период обеспечивать при помощи Германии баланс сил с Россией. Рузвельт объяснил Уэллсу, что именно он должен сказать. Уэллс, живший в большом особняке в пригороде Вашингтона Дюпон-Серкл и проводивший выходные дни в другом большом особняке неогеоргианского стиля из сорока девяти комнат на высоком холме над рекой Потомак в штате Мэриленд, был самым подходящим человеком, чтобы осадить британского посла. В феврале он объявил Вуду, что у него есть специальное указание президента передать Галифаксу, что Рузвельт прочитал все его документы «и отозвался о них только одним словом: “провинциализм“»[551]. Столь оскорбительный отзыв в адрес лощеного дипломата-аристократа ошеломил Галифакса. Уэллс выдержал паузу, чтобы дать Галифаксу время прийти в себя, и продолжил, подчеркнув, что Рузвельт считает секретный договор, признающий Советский Союз в границах 1941 года, «не той проблемой, которую стоит обсуждать в настоящее время». Затем, окончательно добивая собеседника, Уэллс добавил, что президент полагает «лично обсудить… непосредственно со Сталиным» вопрос о том, какой будет структура обеспечения безопасности, обоснованно соотносимая с Советским Союзом.
Черчилль намеревался подписать договор о границах, поскольку он никогда не доверял Сталину. Премьер-министр всегда считал в глубине души, что Сталин мог повернуться лицом к союзным державам только с целью перехитрить их, а затем мог снова объединиться с Гитлером. (У Сталина были аналогичные опасения в отношении Черчилля – что тот вступит в переговоры с Гитлером.) Неохотное согласие Черчилля с требованием Сталина об установлении границ в этом случае можно считать своего рода подкупом, на который он счел необходимым пойти, чтобы удержать Сталина на своей стороне.
С другой стороны, Франклин Делано Рузвельт, рассматривая вероятность объединения Сталина с Гитлером на фоне крайне жестоких действий немецкой армии в Советском Союзе и экстраординарных заявлений Гитлера в течение ряда лет о своих планах в отношении славянских народов, считал ее весьма сомнительной. Президент был уверен, что у Сталина есть веские основания полагаться на него. Ведь, кроме всего прочего, Рузвельт был американским президентом, который в свое время осознал необходимость признания Советской России, чего Ленин добивался с момента прихода к власти, и Рузвельт это сделал, несмотря на все проблемы, возникшие для него впоследствии. Вполне определенным свидетельством отношения Сталина к президенту явились традиционно лестные для Рузвельта публикации в советской прессе, полностью контролируемой Сталиным. 30 января, в день шестидесятилетия Рузвельта, газета «Известия» опубликовала посвященную ему статью, во многом льстивую и приукрашенную, в которой содержались неподдельно доброжелательные высказывания Сталина в его адрес, сделанные в интервью советского лидера Г. Дж. Уэллсу еще в 1934 году. Сталин говорил тогда о выдающихся личных качествах президента, особо отметив его инициативность, твердость убеждений и решительность. Сталин назвал Рузвельта выдающимся лидером капиталистического мира.
Объясняя Черчиллю свои действия в отношении Сталина, Рузвельт незадолго до отправки в Лондон Гопкинса и Маршалла послал премьер-министру свои тщательно продуманные соображения на этот счет: «Знаю, что Вы не сочтете меня излишне откровенным, если я скажу Вам, что я лично скорее могу договориться со Сталиным, чем с кем-либо из Вашего Министерства иностранных дел или моего Госдепартамента. Сталин не выносит всех Ваших высокопоставленных коллег. Он с большей симпатией относится ко мне, и я надеюсь, что так будет и впредь»[552].
Рузвельт был уверен, что Сталин будет и впредь полагаться на Америку и лично на него в своих усилиях спасти Россию. Более того, он полагал, что сама мысль о том, что Сталин может капитулировать, была абсурдной. Германская армия уже захватила тысячи квадратных километров территории России; немецкие ВВС и ВМС топили корабли союзников с важным грузом оружия, продовольствия и одежды; немецкие солдаты убивали русских в ужасающих количествах. Но Сталин не мог капитулировать, поскольку Гитлер уничтожал русскую культуру и намеревался полностью истребить русский народ. Как было известно, немцы сгоняли миллионы пленных красноармейцев на открытые площадки, оставляя их умирать от голода и непогоды. Захватив города и деревни, немецкие солдаты сознательно уродовали и уничтожали сокровища русской культуры. И Сталину это было хорошо известно.
Сталин однажды уже вступал в сделку с Гитлером. Рузвельт был убежден, что он не совершит такой ошибки вновь.
С другой стороны, Рузвельт также знал, что у Сталина были веские причины не полагаться на Черчилля. Президент не верил, что уступки требованиям Сталина повысили бы доверие Сталина к премьер-министру. Как он сказал в марте министру финансов Генри Моргентау, «англичане не спешат выполнять своих обещаний русским… Единственная причина наших хороших отношений с русскими заключается в том, что мы до сих пор неукоснительно выполняем наши обещания»[553].
Но, безусловно, недоверие Сталина к Черчиллю объяснялось не только этим. Британский премьер был заклятым врагом большевизма. Он вошел в историю своими злобными выпадами в адрес не только Советского Союза, но и лично Сталина. «На огромной территории исчезает цивилизация, и на развалинах городов посреди гор трупов их жертв большевики скачут и беснуются, подобно отвратительным бабуинам»[554], – это только один из целого ряда подобных комментариев. Цитировали и оценки Черчиллем советских руководителей, которых он именовал «быдлом, вырвавшимся из трущоб и сточных канав Восточной Европы»[555]. Сталина он называл «бездушным столпом, коварным и плохо информированным»[556]. Теперь премьер-министр предпочитал не высказывать на публике своих антибольшевистских взглядов, но его позиция оставалась неизменной. Первой репликой Черчилля своему секретарю Джону Колвиллу после вторжения немцев в Россию были слова: «Если бы Гитлер вторгся в ад, я по меньшей мере благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин»[557].
Перед поездкой Молотова в Вашингтон Сталин направил его в Лондон для подготовки договора о границах, рассчитывая на то, что Рузвельт будет вынужден признать его как свершившийся факт. В связи с этим через два дня после отправки телеграммы Рузвельту Сталин сообщил Черчиллю, что перед прибытием в Вашингтон Молотов сделает остановку в Лондоне. Получив известие о программе поездки Молотова, Рузвельт и Хэлл разработали план действий по блокированию попытки советского министра иностранных дел подписать такой договор. Рузвельт предложил британскому МИДу компромисс: литовцы, латыши, эстонцы и финны, не желающие жить в России, должны иметь право покинуть свои страны вместе со своим имуществом. Когда Молотов прибыл в Лондон, Энтони Иден ознакомил его с этой идеей. Однако Молотов отверг ее.
Затем Рузвельт и Хэлл телеграфировали послу США в Лондоне Джону Уинанту (очень респектабельному человеку, лицом весьма похожему на Линкольна), который в то время был главой Международной организации труда и в этом качестве был хорошо известен в Советском Союзе, что в случае подписания договора о границах «мы будем готовы выступить с отдельным заявлением, четко поясняющим, что мы не подпишемся под его основными положениями и принципами… Мы не видим какой-либо иной линии поведения, какой бы могли логически следовать». Вечером 24 мая на встрече в советском посольстве Уинант информировал об этом Молотова, который, «внимательно выслушав, сказал, что позиция президента по этому вопросу заслуживает серьезного внимания»[558].
В результате Молотов покинул Лондон с неподписанным договором о союзе между Советским Союзом и Великобританией: в нем отсутствовало даже упоминание о государственных границах.
Молотов прибыл в Вашингтон в пятницу 29 мая. Из-за плохой погоды его вылет из Лондона был отложен на день и еще на полдня – вылет из Исландии. Войдя в воздушное пространство США, советские пилоты либо не знали о необходимости идентификации самолета, либо не сознавали важности этой процедуры: даже совершая полет на советском бомбардировщике, они не выходили на связь по радио вплоть до приближения к столице. Как писал потом руководитель службы безопасности президента Рейли, неопознанный самолет «крайне нас встревожил, когда двигался на юг в направлении Вашингтона… Русские никого не оповестили, даже находясь над Филадельфией»[559].
К моменту приземления самолета Молотова на авиабазе ВВС США Боллинг-Филд принадлежность самолета удалось установить, Хэлл с Литвиновым уже находились в аэропорту и готовились встретить гостя. Молотова немедленно усадили в лимузин, который доставил его в Белый дом, и в 16:00 он вошел в кабинет, где его ждали президент, Гопкинс, Литвинов и Хэлл. Подали чай. Позднее Молотов сообщит Сталину, что встреча ограничилась беседой с Рузвельтом, на которой присутствовал Хэлл.
Перелет дался Молотову нелегко, за чаем он чувствовал себя весьма неловко, так как у него не было даже возможности переодеться или привести себя в порядок. «Прямо с аэродрома, – жаловался он Сталину, – меня отправили на машине на встречу с Рузвельтом»[560]. Таким он и прибыл в Белый дом, «взлохмаченным и неумытым». Буфетчик Белого дома Алонсо Филдс напишет в своих воспоминаниях, что глаза Молотова «рыскали по сторонам, они сверкали, как у лисицы, которая выжидает момент, чтобы броситься на добычу»[561]. Присутствие Литвинова на его первой встрече с Рузвельтом стало еще одной причиной неловкости Молотова: эти двое не слишком ладили друг с другом. Гопкинс сразу заметил напряжение во взаимоотношениях между двумя русскими. Литвинову «явно не нравились идеи Молотова, хотя тот был его начальником», как заметил Гопкинс, который и сам заставил Молотова почувствовать себя неуютно. Молотову, похоже, нечасто приходилось выезжать за пределы Советского Союза. По свидетельству слуги, в обязанности которого входила распаковка багажа, в сумке Молотова находилась большая буханка черного хлеба, круг колбасы и пистолет[562].
Рузвельт не знал, чего ему ждать от Молотова, как он признался позднее Дейзи Сакли. Он еще подумал тогда, что в общении могут возникнуть трудности, когда ему сказали, что Молотов «не слишком приятен и никогда не улыбается»[563].
Первая встреча с Молотовым началась, и президенту очень мешала непривычная форма общения, вызванная необходимостью ожидать перевода каждого высказывания. Свою лепту в дискомфорт вносили переводчики, которые время от времени переставали переводить и вступали между собой в дискуссии по поводу перевода тех или иных нюансов речи. Гопкинс отмечал: «Сломать лед было довольно трудно, хотя было непохоже, что мешал дефицит сердечности или приятности в общении со стороны господина Молотова»[564]. Рузвельт редко прибегал к услугам переводчиков: он великолепно владел и французским, и немецким, и одной из причин, по которой ему легко было найти общий язык с Литвиновым, было то, что Литвинов говорил по-английски. К тому же изначально чопорный и вежливый Молотов был совсем непохож на бойкого и динамичного Литвинова[565].
Русским переводчиком был Владимир Павлов, которого Молотов привез с собой и который вскоре станет часто общаться с американцами. Павлову было всего двадцать семь лет, но он был одаренным лингвистом и работал в окружении Молотова уже три года. В последующем он станет личным переводчиком Сталина и побывает на конференциях в Тегеране и Ялте. Переводчиком с американской стороны был Сэмюел Х. Кросс, декан факультета русского языка Гарвардского университета. К услугам Кросса больше никогда не прибегали, так как через несколько недель после отъезда Молотова он слишком много выпил за ужином, поехал в Кембридж и в компании друзей развлекал их содержанием переговоров в Белом доме[566].
На следующий день Рузвельт позвонил Дейзи и сказал ей, что Молотов – «приехавший в столицу важный начальник из провинции, который не владеет никакими языками, кроме монгольского».
Во время чаепития Молотов зондировал почву в контексте обязательств президента вступить в войну в Европе во время войны с Японией: считает ли он по-прежнему Гитлера главным противником? Рузвельт подтвердил это и упомянул свои «неоднократные» заявления о том, что Америка продолжит защищать свои интересы на Тихом океане до тех пор, пока с Гитлером не будет покончено. «Это будет непросто осуществить, но такое решение принято»[567], – пояснил он.
Президент поинтересовался обращением нацистов с советскими военнопленными, подчеркнув, что Советский Союз и Германия могли бы соблюдать принципы Женевской конвенции. Однако, как писал Гопкинс, «не надо слишком много знать о России или Германии, чтобы понять, что нет ни малейших шансов на то, чтобы Россия или Германия разрешили Международному Красному Кресту реально проинспектировать их лагеря для заключенных». Молотов сказал, что с точки зрения пропаганды было бы ошибкой распространять информацию об ужасных условиях содержания русских заключенных; двадцать шесть заключенных недавно бежали из норвежского лагеря для пленных и рассказали о голоде и побоях, практикуемых немцами[568]. (Действительно, уровень смертности среди пленных красноармейцев превышал 50 процентов, а в первые месяцы войны был значительно выше.)
После короткого перерыва и прогулки с Максимом Литвиновым, который, как было решено, не будет участвовать в продолжении переговоров (как и Хэлл), Молотов, Гопкинс и президент с переводчиками в 19:40 собрались в кабинете на коктейли, которые готовил лично президент. Затем был ужин, после чего беседа продолжилась, затянувшись до позднего вечера.
Смешивая коктейли, Рузвельт обратился к своей любимой теме: его идее о послевоенном устройстве мира для обеспечения всеобщего мира. Он объяснил Молотову, что безопасность будет обеспечивать организация, состоящая из четырех «полицейских»: Соединенных Штатов, Советского Союза, Британии и Китая, и только этим странам будет разрешено иметь вооружения. Другие государства смогут присоединиться к этим четырем после того, как время покажет, что они заслуживают такого доверия. Такая организация будет иметь полномочия на проведение инспекций, и, «если какое-либо государство будет представлять угрозу миру, против него будет введена блокада, а затем, если оно продолжит свои агрессивные действия, то будет применена сила»[569]. Рузвельт сказал, что его замыслы носят предварительный характер и он хочет, чтобы Сталин высказался по этому поводу.
Молотов ответил, что это станет «тяжелым ударом» для Польши и Турции, не говоря уже о Франции, если им изначально будет отказано в праве иметь вооружения. Не окажутся ли они в этом случае беззащитными?
Рузвельт не стал продолжать дискуссию о разоружении государств. Ему пришлось бы сказать, что при всем определении, кто будет, а кто не будет иметь вооружения, реализация такого плана так или иначе привела бы к сокращению советских вооружений. Его план послевоенного ограничения вооружений включал идею о наличии четырех «полицейских государств». «Если вы не можете победить дьявола, присоединитесь к нему, – сказал он Макензи Кингу через полгода после визита Молотова, имея в виду Сталина. – Россия станет очень сильной. Поэтому, если и надо думать о каких-то планах, так это о планах разоружения»[570].
Молотов заявил, что хочет выяснить, известно ли Рузвельту, что в Лондоне переговоры о границах не состоялись. Рузвельт подтвердил, что ему это известно. И добавил, что он «рад, что проблема границ не упоминалась… Сейчас пока не время».
Похоже, президент считал естественным такое положением дел, когда Черчилль и Сталин оба подчинились его воле.
Во время ужина Молотов начал довольно удачно излагать свои аргументы в пользу открытия «второго фронта». Он представил следующие доводы: безусловно, в интересах союзников отвлечь немецкие войска от России, пока Россия еще сильна, поскольку, если они смогут отвлечь сорок немецких дивизий, Красная армия будет способна нанести решающий удар и тем самым приблизить окончание войны. А в этом, подчеркнул Молотов, заинтересованы все наши страны.
Рузвельт заявил, что не существует никаких проблем с людскими ресурсами и военной техникой, есть лишь проблема с доставкой войск, и прежде всего – с десантными судами.
Молотов задал вопрос об общественном мнении Америки в отношении его страны. Рузвельт ответил, что большинство населения относится к Советскому Союзу «намного дружественнее», чем Конгресс.
После ужина Рузвельт перенес беседу в свой кабинет наверху, что обычно делал, принимая важных гостей, и попросил Молотова сесть рядом с ним на диван. Президент был бы очень огорчен (или, быть может, наоборот, долго смеялся бы), если бы имел возможность прочитать, как Молотов описал их беседу после ужина на диване (судя по всему, она не понравилась Молотову). «После ужина состоялась довольно длительная и бесплодная беседа», – говорилось в адресованной Сталину телеграмме. Молотов отметил, что президент пытался заставить его признать, что он принимал Молотова лучше, чем Черчилль: «Рузвельт спросил меня, принимал ли меня Черчилль и как он это делал, намекая на непринужденность и искренность общения с ним, Рузвельтом. Я ответил, что я очень доволен гостеприимством Рузвельта, как, впрочем, и Черчилля, который просидел со мной два вечера почти до двух часов ночи».
Во время беседы Рузвельт заверил Молотова, что он уже приказал своим генералам начать подготовку к главной операции вторжения через Ла-Манш, назначенной на 1943 год. Заметив, что его генералы не слишком поддерживают этот план, президент упомянул о готовности в 1942 году понести потери, организовав десантирование во Франции от шести до десяти дивизий: «Необходимо пойти на такие жертвы, чтобы помочь СССР в 1942 году. Возможно, нам придется пережить второй Дюнкерк и потерять 100 000–120 000 человек»[571].
Молотов ответил, что десантирования от шести до десяти дивизий будет недостаточно. Он упомянул о жестоких боях, которые предстоит вести Красной армии летом нынешнего года.
Затем Рузвельт вернулся к своей идее послевоенного устройства мира, заметив, что намерен начать после войны процесс разоружения с целью гарантировать мир по меньшей мере на двадцать пять лет вперед.
Послевоенное устройство мира заботило и Сталина, именно об этом свидетельствуют его энергичные усилия по заключению с Великобританией договора, определяющего послевоенные границы Советского Союза. А теперь Сталину предстояло узнать из докладов Молотова, что Рузвельт по-прежнему настроен на создание организации, которой предстоит обеспечить длительный мир. Это означало, что президент рассчитывает на то, что Сталин не только поддержит его идею послевоенного мира, но и поможет ему осуществить ее. По сути дела, Рузвельт предложил Сталину партнерство в послевоенный период и почти признался: «Послушайте, я хочу, чтобы вы помогли мне править миром».
Каждый вечер Молотов отправлял Сталину отчет о проведенных в течение дня беседах. Для этого он специально взял с собой из Москвы небольшую группу секретарей. Сталину передавались высказывания и идеи Рузвельта. В ответных телеграммах Сталина содержалось указание соглашаться с президентом:
«Соображения Рузвельта насчет охраны мира после войны совершенно правильны. Не может быть сомнения, что без создания объединенной вооруженной силы Англии, США, СССР, способной предупредить агрессию, невозможно сохранить мир в будущем. Хорошо бы сюда включить Китай. Что касается Польши, Турции и других государств, думаю, мы вполне справимся и без них, потому что военной мощи трех-четырех государств будет совершенно достаточно. Передай Рузвельту, что ты снесся с Москвой, обдумал этот вопрос и пришел к выводу, что Рузвельт совершенно прав и его позиция получит полную поддержку со стороны Советского правительства.
СТАЛИН»[572]
Комнаты Молотова и Гопкинса находились на противоположных сторонах коридора. Хотя беседа с Рузвельтом затянулась почти до полуночи, после ее завершения Гопкинс нанес Молотову визит. Он хотел уговорить Молотова на предстоящей встрече с президентом, генералом Маршаллом и адмиралом Кингом привести самые убедительные доводы в необходимости открытия «второго фронта». Он настоятельно советовал Молотову обрисовать положение на фронте в самых черных красках, потому что военные «не видят острой необходимости в открытии “второго фронта“… Мрачная картина положения советской стороны заставит американских генералов осознать всю серьезность ситуации»[573]. Он хотел, чтобы Молотов развеял все надежды Объединенного комитета начальников штабов на то, что Советский Союз сможет выстоять и без «второго фронта» и самостоятельно справится с ордами Гитлера. Гопкинс также сказал Молотову, что будет «весьма полезно», если он встретится с президентом за полчаса до начала совещания и расскажет ему о серьезности положения, в котором оказалась его страна. (Это последнее навело Молотова на мысль, что президента не так уж воодушевляли обнародованные планы, как могло показаться.)
Положение Советского Союза действительно ухудшалось. На советско-немецком фронте было сосредоточено 217 дивизий и двадцать бригад противника. Враг занял Харьков и Керчь. Вот-вот должен был пасть Севастополь, осада которого продолжалась уже семь месяцев (он будет захвачен немцами 7 июля). На Северо-Западном фронте вермахт взял в кольцо Вторую ударную армию. Сталинград был в осаде. (В августе Гитлер, убежденный в скором захвате Сталинграда, провел совещание для обсуждения связанных с этим городом военных вопросов, которые возникнут после его захвата, «который предполагается уже через неделю»[574].)
Ленинград находился в критической ситуации вот уже восьмой месяц. На Крымском фронте было убито, ранено и взято в плен 278 000 человек. Общее число боевых потерь советской стороны за одиннадцать месяцев войны превысило 2 миллиона человек. И Молотову не нужно было ничего преувеличивать, достаточно было лишь описать истинное положение дел на тот момент.
На следующее утро, в субботу, Молотов выразил желание встретиться с Элеонорой Рузвельт, и его проводили в ее гостиную. Они обсудили (переводил Павлов), как писала Элеонора Рузвельт, «социальные реформы в его стране и в моей»[575]. (Она обратила внимание на то, что Молотов часто начинал говорить, не дослушав до конца перевод.)
Затем, следуя совету Гопкинса, Молотов встретился один на один с президентом. В одиннадцать часов прибыли Гопкинс, генерал Маршалл и адмирал Кинг, и началось обсуждение вопроса, касавшегося открытия «второго фронта», теперь уже на вполне серьезной основе. Помня совет Гопкинса, Молотов долго описывал критическую важность быстрого вмешательства в войну Британии и Америки, предупредив, что, если Красная армия не сможет выстоять в войне, «мощь Гитлера неизмеримо возрастет, поскольку в его распоряжении окажется не только больше войск, но также продовольственные и природные ресурсы Украины и нефтяные скважины Кавказа»[576]. Он особо подчеркнул, что, если Великобритания и Америка откроют «второй фронт» и отвлекут на него сорок немецких дивизий, «с войной будет покончено уже в 1942 году»[577]. Если же открытие «второго фронта» отложить до 1943 года, выиграть войну будет еще более сложно, чем в 1942 году.
Он попросил прямо ответить на вопрос о позиции США относительно «второго фронта».
– Можем ли мы сказать господину Сталину, что мы готовимся открыть «второй фронт»? – спросил Рузвельт генерала Маршалла.
– Да, – ответил тот[578].
После этого Рузвельт поручил Молотову передать Сталину следующее заявление: «Мы ожидаем открытия “второго фронта“ в нынешнем году».
Вслед за этим важным заявлением Рузвельт остановился на вопросах послевоенного устройства и конкретно на своих идеях создания международного совета по опеке для управления бывшими колониальными владениями, контроль над которыми со стороны слабых государств будет утрачен. Он заявил, что хотел бы, чтобы в этой программе принял участие и Сталин. Он также сообщил Молотову плохие новости о том, что для подготовки в Великобритании сил для открытия «второго фронта» возникнет необходимость сократить поставки по ленд-лизу и что Сталину придется согласиться со снижением ранее обговоренного общего тоннажа поставок: «Корабли не смогут находиться в двух местах одновременно»[579].
После беседы для Молотова был организован легкий обед. Среди присутствующих находился сенатор Том Коннели, председатель Сенатского комитета по иностранным делам, и Сол Блум, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Их присутствие отражало постоянное стремление Рузвельта привлекать членов Конгресса к решению вопросов внешней политики и обеспечивать поддержку своему курсу с их стороны.
В какой-то момент Рузвельт спросил Молотова, что он думает о Гитлере, поскольку тот относительно недавно (по сравнению с кем-либо) имел с ним встречи.
Поездка Молотова в Берлин в середине ноября 1940 года для встречи с Гитлером стала настоящей сенсацией, однако Рузвельту и Хэллу было хорошо известно, что Молотов настоял на своем и отказался поддержать планы Гитлера о расчленении Британской империи. Было известно также, что Гитлер и Риббентроп прилагали все усилия к тому, чтобы этот визит Молотова состоялся раньше (непосредственно перед президентскими выборами в США, а не после них), поскольку надеялись, что переговоры Молотова и Гитлера могут напугать американцев и привести к поражению Рузвельта на выборах[580]. Понимая это, Сталин отложил поездку Молотова.
Отвечая на вопрос, Молотов сказал: «Гитлер явно старается создать хорошее впечатление о себе. Однако он [Молотов] считает, что, кроме Гитлера и Риббентропа, в мире вряд ли найдется пара политиков, с которыми было бы еще неприятнее иметь дело»[581]. Демонстрируя хорошую осведомленность, Рузвельт обронил, что у Риббентропа есть свой бизнес по производству шампанских вин, на что Молотов ответил: «Не сомневаюсь, что Риббентроп преуспевает в нем больше, чем в дипломатии».
После обеда Молотов и президент направились в холл, где Рузвельт тепло приветствовал членов экипажа бомбардировщика, на борту которого прибыл Молотов, а также его секретариат. Он вручил Молотову свой большой портрет в великолепной раме, на которой фиолетовыми чернилами им было начертано: «Моему другу Вячеславу Молотову от Франклина Рузвельта, 30 мая 1942 года». Молотову также был передан список товаров, которые будут подготовлены для Советского Союза по ленд-лизу, общим объемом восемь тысяч тонн. При этом было обозначено, что в связи с подготовкой в Великобритании контингента войск и вооружений для предстоящего вторжения через Ла-Манш будет поставлено только четыре тысячи тонн.
Днем в воскресенье, 31 мая, после встречи Рузвельта с Маршаллом, Кингом и Гопкинсом последний набросал черновик телеграммы от Рузвельта Черчиллю. Ключевая фраза там была следующая: «Поэтому я более чем когда-либо стремлюсь к тому, чтобы операция “Болеро“, формирование сил вторжения и переброска личного состава, военной техники и необходимых запасов и имущества на территорию Великобритании начались в августе и продолжались до тех пор, пока позволят погодные условия»[582].
По вопросу поставок из США Сталин телеграфировал Молотову: «постарайтесь добиться от Президента следующего:
1. Формирование ежемесячно одного конвоя судов в сопровождении кораблями ВМС США из портов Америки непосредственно в Архангельск.
2. Ежемесячная поставка 50 бомбардировщиков «В-25» по воздуху через Африку для доставки нам в Басру или Тегеран.
3. Ежемесячная поставка 150 бомбардировщиков “Бостон-3“ в порты Персидского залива для их сборки в пункте прибытия.
4. Ежемесячная поставка 3000 грузовиков в порты Персидского залива для их сборки в пункте прибытия»[583].
Молотов передал этот документ Рузвельту утром в понедельник (без упоминания Сталина). Во время этой встречи Рузвельт воспользовался случаем снова вернуться к теме устройства послевоенного мира. Он сказал Молотову, что у него появилась новая идея: «Передайте господину Сталину, что вместо того, чтобы заботиться о начислении процентов на авансирование расходов военного времени, всем членам Объединенных Наций следует только разработать план долгосрочного возврата капиталов акционерам». Это должно было успокоить Сталина.
Президент также сказал Молотову, что он уже разработал идеи о разоружении Германии и Японии и обсудил функции четырех держав как гарантов окончательного мира, однако пока опустил один пункт: как поступить с множеством островов и колониальных владений во всем мире, которые «следует для их собственной безопасности отторгнуть от слабых государств… Г-н Сталин мог бы с выгодой для России рассмотреть возможность учреждения определенной формы международной опеки над такими островами и владениями».
Молотов ответил, что Сталин полностью согласен с идеями президента. Затем Рузвельт обсудил тему отказа от мандатной системы, по которой малые острова передавались под контроль различных государств, включая Японию и Германию. Но при этом подчеркнул, что Британия и Франция «не должны иметь каких-либо подконтрольных территорий»[584]. Что же касается долгосрочной перспективы, то Франклин Рузвельт сказал, что такие острова следует отдать под контроль международного комитета, состоящего из трех-пяти стран-членов. Затем президент перешел к обсуждению будущего колониальных владений, в частности, Индокитая (Вьетнама), Сиама (Таиланда), малайских государств и Голландской Вест-Индии. По его мнению, такие владения следует подготовить к самоуправлению для «заметного роста национального самосознания… и, таким образом, европейские государства не смогут рассчитывать на длительное сохранение этих территорий в качестве колоний»[585]. В ответ на это Молотов «выразил уверенность в том, что предложения президента получат практическое воплощение». Демонстрируя многогранность своей натуры, Рузвельт затем предупредил Молотова, что вынужден вскоре завершить беседу, поскольку приглашен герцогом и герцогиней Виндзорскими на ланч в 12:00. В это время герцог был генерал-губернатором Багамских островов: в 1941 году королевская семья направила его на Багамы, подальше от фашистских лидеров Европы, которые добивались его расположения. Правитель чернокожих жителей Багам был классическим примером властителя колониального типа, который при этом, несмотря ни на что, был очень популярен в определенных кругах Америки. Несколько странно, что Рузвельт сообщил Молотову о своем нестандартном решении пообщаться с герцогом. Как и многим американцам, несмотря на все свои демократические воззрения, Рузвельту нравилось общаться с королевскими особами.
Перед уходом Рузвельт подвел итог обсуждению планов открытия «второго фронта» и перешел к уточненному списку вооружений, оборудования и снаряжения, ожидаемых Советским Союзом. Теперь этот список был урезан наполовину в связи с необходимостью формировать экспедиционный контингент и создавать запасы вооружения на территории Великобритании для «второго фронта». Он еще раз произнес: «Мы ожидаем открытия “второго фронта“ в 1942 году, – и добавил: – С прибытием каждого очередного судна в Великобританию мы будем приближать момент открытия “второго фронта“»[586].
Состоялось обсуждение пресс-релиза, который будет опубликован в Вашингтоне и Москве после возвращения Молотова. У собеседников возник спор по поводу ключевой фразы: «В ходе неофициальных переговоров было достигнуто полное взаимопонимание в отношении неотложных задач, связанных с открытием в Европе “второго фронта“ в 1942 году». Генерал Маршалл говорил Гопкинсу, что, по его мнению, формулировка слишком определенна, и настаивал на том, чтобы исключить из нее указание конкретной даты – 1942 год. «Я обратил внимание президента на эту конкретную дату, – посетовал Гопкинс, – но он, тем не менее, пожелал оставить ее».
Сталин с нетерпением ждал завершения переговоров Молотова с Рузвельтом и его военным штабом. Очень осмотрительный и педантичный в делах, Молотов постоянно сообщал Сталину новости, которые полагал самыми существенными, но Сталин хотел узнать, какие конкретно документы по ленд-лизу и по «второму фронту» предполагается подписать. 3 июня он отправил Молотову раздраженную телеграмму следующего содержания:
«1. Инстанция [Сталин] не удовлетворена лаконизмом и недоговоренностью во всех Ваших сообщениях. Вы сообщаете нам о переговорах с Рузвельтом и Черчиллем только то, что сами полагаете важным, и опускаете все остальное. Между тем Инстанции хотелось бы знать все: что Вы считаете важным и что считаете несущественным.
2. Это относится и к проекту коммюнике. Вы не сообщили нам, чей это проект… Нам остается только гадать из-за Вашего умолчания.
3. Мы полагаем целесообразным иметь два проекта коммюнике – один по переговорам в Британии, другой – по переговорам в США.
4. В дальнейшем считаем абсолютно необходимым, чтобы, кроме прочего, в обоих коммюнике упоминалась тема “второго фронта“ в Европе и достижение полного взаимопонимания по этому вопросу»[587].
4 июня Молотов передал по телеграфу текст коммюнике, который он вместе с Рузвельтом составил накануне:
«В ходе неофициальных переговоров было достигнуто полное взаимопонимание в отношении неотложных задач, связанных с открытием в Европе “второго фронта“ в 1942 году. Кроме того, обсуждались мероприятия, связанные с увеличением и расширением поставок Соединенными Штатами самолетов, танков и других видов вооружения для Советского Союза. Также обсуждались фундаментальные проблемы сотрудничества Советского Союза и Соединенных Штатов в охране мира и безопасности свободолюбивых народов в послевоенное время. Обе стороны с удовлетворением заявляют о единстве своих позиций по всем этим вопросам»[588].
Из следующих телеграмм Сталина видно, что он, наконец, был удовлетворен отчетами Молотова и, что еще важнее, поверил, что американские войска окажутся на советской территории уже в текущем году. Сталин телеграфировал Молотову:
«Мы принимаем предложение Рузвельта по сокращению нашей заявки по тоннажу и ограничиваемся поставками, главным образом, вооружений и промышленного оборудования… По всей вероятности, это сокращение необходимо США и Британии для высвобождения тоннажа для доставки войск в Западную Европу для открытия “второго фронта“»[589].
Из телеграммы Сталина Литвинову после отъезда Молотова следует, что ему было хорошо известно о том, что британцы в лучшем случае относятся без энтузиазма к этой инициативе:
«Вам следует информировать Рузвельта о согласии Советского правительства на сокращение нашей заявки по тоннажу… и дополнительно сообщить ему, что Советское правительство делает это, чтобы облегчить для США отправку войск в Западную Европу для открытия там “второго фронта“ в 1942 году в соответствии с вашим коммюнике, согласованным между Молотовым и Рузвельтом. По нашему мнению, это может поторопить британцев согласиться с открытием “второго фронта“ в этом году»[590].
Реакция Рузвельта на визит Молотова была показательной. Он писал Черчиллю, что это было «настоящим успехом. Нам удалось наладить наши личные взаимоотношения… Он потеплел даже больше, чем я ожидал»[591]. Президент говорил Дейзи, что, хотя его и предупреждали, что он найдет Молотова «замороженным», перед президентом был «улыбчивый и очень живой человек»[592]. Однако, размышляя о Молотове шесть месяцев спустя, в беседе с Макензи Кингом он назвал его «империалистом», что было явно отрицательной характеристикой в глазах Рузвельта.
Гопкинс тоже считал визит успешным. Вскоре после отъезда Молотова из Вашингтона он писал послу Джону Уинанту с пометкой, что это не только его мнение, но и мнение президента: «Я уверен, что мы, наконец, заделали еще одну брешь между нами и Россией… Это было нужно, чтобы обеспечить реальный мир на планете. Мы просто не можем организовать мир только своими силами и силами британцев без привлечения русских в качестве равноправных партнеров. Безусловно, я учитываю и китайцев. Дни установленного белыми людьми миропорядка сочтены. Человечество просто не собирается терпеть его дальше, да и, пока я жив, вряд ли я смогу понять, почему они должны это терпеть»[593].
* * *
Молотов вернулся в Москву через Лондон. За время его пребывания в Лондоне был, наконец, подписан союзный договор между Советским Союзом и Великобританией (без упоминания государственных границ). Черчилль предусмотрительно вручил Молотову памятную записку об открытии «второго фронта» в 1942 году: «Британия не может “дать обещание, но полагает важным и целесообразным“, чтобы планируемое на август или сентябрь вторжение войск на континент имело место»[594]. Памятная записка завершалась словами, что в 1943 году Британия внесет максимум усилий в операцию вторжения.
В Советском Союзе освещение поездки Молотова и заключенных им договоров с Великобританией и США по русским стандартам было «триумфальным». В редакционной статье газеты «Правда» подчеркивалось: «По всей стране прокатилась волна бесчисленных митингов рабочих, колхозников, интеллигенции, солдат, офицеров и политработников Красной армии, которые выражали глубокую уверенность в том, что укрепление этих связей между членами “Большой тройки“ ускорит приближение окончательной победы… 1942 год должен стать годом окончательного разгрома врага. Наши советские люди с огромным воодушевлением встретили полное взаимопонимание в отношении неотложных задач по открытию “второго фронта“ в 1942 году».
Состоявшаяся вскоре после этого сессия Верховного Совета была первой с начала войны. В зале заседаний собрались тысяча двести депутатов, многие в национальных костюмах. Столик перед каждым депутатом был оснащен микрофоном акустической системы. Присутствовали все члены Государственного Комитета Обороны, каждый из которых занимал ответственный пост в правительстве. Молотов выступил с докладом о договоре с Великобританией, который «во вражеском лагере… вызвал растерянность и злобное шипение», и о договоре об открытии «второго фронта», что «отражено в англо-советском и американо-советском коммюнике идентичного содержания… В обоих коммюнике утверждается, что в ходе переговоров “было достигнуто полное взаимопонимание в отношении неотложных задач, связанных с открытием в Европе «второго фронта» в 1942 году“».
Вслед за Молотовым выступил Жданов, друг Сталина и член Политбюро, депутат от Ленинграда, который говорил о «неотложных задачах по открытию “второго фронта“ в Европе в 1942 году… Гитлер и его кровавая клика будут сокрушены в 1942 году».
Работа сессии транслировалась правительственной радиостанцией на весь Советский Союз.
На следующий день газета «Правда» опубликовала строки, написанные знаменитым советским писателем Ильей Эренбургом: «Французские детишки уже вглядываются в туманные морские дали и шепчут: “А вон корабль“. И этот корабль называется “Второй фронт“».
«Правда» рассказала, как рабочие всего Советского Союза узнали о новых могучих союзниках России.
Во время своих бесед с Рузвельтом Молотов несколько раз повторил, что «второй фронт» – вопрос скорее политический, нежели военный. Однажды он пошел еще дальше, заявив: «Хотя проблема “второго фронта“ является как военной, так и политической, все же в первую очередь она носит политический характер». Затем он добавил: «Если вы отложите свое решение, то в конечном итоге возьмете на себя всю тяжесть войны»[595].
Однако сразу по возвращении в Москву Молотов отправил Рузвельту довольно прямолинейное письмо: «Я испытываю чувство глубокого удовлетворения в связи с достижением полного взаимопонимания в отношении неотложных задач, связанных с открытием в Европе “второго фронта“ в 1942 году для ускорения разгрома гитлеровской Германии, а также в связи с планами сотрудничества наших стран в послевоенный период в интересах всех свободолюбивых народов»[596].
Много позднее Молотов заявит, что в действительности он никогда не верил, что «второй фронт» вот-вот откроется: «Я сохранял хладнокровие и сознавал, что для них такая операция была совершенно невозможной. Но наши требования были политически необходимы… Я не сомневался, что Сталин тоже был уверен, что они не осуществят этого»[597].
К тому времени Сталин знал из многих источников, что Рузвельт обещал открыть «второй фронт», а Черчилль – нет. Об этом Рузвельт говорил Молотову, а Майский недвусмысленно сообщал Сталину, что президент был за «скорейшее, насколько это возможно, открытие “второго фронта“, но Черчилль упорно сопротивлялся»[598]. В течение лета 1942 года планы, казалось, были близки к осуществлению, ожидалась переброска воинских контингентов на территорию Великобритании. Вести о том, что у Советской России теперь есть союзники, несомненно, стали для русских, оказавшихся в тяжелом положении, психологической поддержкой, и для всех было очевидно, что ожидание «второго фронта» не позволит Гитлеру отправить дополнительные войска на русский фронт.
В апреле премьер-министр и его штаб фактически приняли решение о том, что осуществить данные планы невозможно, но своим союзникам они об этом не сообщили. Некоторые англичане из властных структур испытывали неловкость из-за такой, мягко говоря, неискренности. Генерал-майор Гастингс Исмей, начальник личного штаба британского министра обороны, был среди тех, кто считал большой ошибкой вводить в заблуждение Маршалла и Гопкинса: «Наши американские друзья благополучно возвратились домой под ложным впечатлением, что мы обещали принять участие в обеих операциях – “Раундап“ и “Кувалда“… Когда мы были вынуждены сказать им после тщательного изучения плана “Кувалда“, что мы абсолютно против, они решили, что мы нарушаем данное им обещание… Я думаю, что нам следовало быть честнее, намного честнее, чем мы есть, и прямо сказать: “Откровенно говоря, мы боимся, что нам это просто будет не по силам“»[599].
Самым сильным желанием Франклина Делано Рузвельта в 1942 году было направить американских парней сражаться против Гитлера. В конце концов он согласился с операцией вторжения во французскую Северную Африку под кодовым названием «Факел». Эту операцию он счел перспективной. Она вовлекала американские войска в войну против Гитлера уже в 1942 году. Она была обусловлена политической необходимостью выполнить обещания президента американскому народу и Сталину. «Если мы окончательно и определенно отказываемся от операции “Кувалда“, я хочу, чтобы вы продумали сложившееся сейчас положение в мире и определили другое место для отправки войск США на войну в 1942 году»[600], – писал президент Гопкинсу и Маршаллу.
Рузвельт продолжал оказывать нажим.
В июле он снова направил в Лондон Гопкинса, Маршалла и Кинга для очередной попытки определиться с планами по открытию «второго фронта». Когда они сообщили, что британцы все еще сопротивляются, он написал им:
«Гопкинсу, Маршаллу и Кингу.
Ваши сообщения от 22 июля не слишком удивили меня, и я согласен, что вынужденной уступчивости со стороны наших друзей нам все равно было бы недостаточно.
Поэтому я повторяю свое указание, что следует разработать некоторые другие планы наступательных операций для американских вооруженных сил в 1942 году»[601].
Члены правительства и другие люди, следившие за тем, как президент обдумывает свои решения, часто критиковали Рузвельта за нерешительность. В лучшем случае о нем говорили, что у него на обдумывание и принятие решений уходит слишком много времени. Сейчас президент продолжал упорно не соглашаться с рекомендациями Объединенного комитета начальников штабов и своего военного министра и настаивал, что в 1942 году американским войскам все же придется воевать с Германией, если не во Франции, то в Северной Африке. Он также отвергал предложения адмирала Кинга и других, предлагавших прежде всего покончить с Японией, оставляя пока Советский Союз один на один с Гитлером. Они призывали направить больше войск и вооружений на Тихоокеанский театр военных действий, чтобы сосредоточить военную мощь США на войне с Японией.
Военный министр Генри Стимсон сначала был против, но, в конце концов, согласился с предложением о проведении операции «Факел», осознав правоту Рузвельта: вступление Вооруженных сил США в войну против Гитлера имело важное значение и с моральной точки зрения. Однако в своем дневнике он выразил раздражение и обеспокоенность в связи с выбором места боевых действий: «Возможно, это не приведет к немедленной катастрофе… Но мы можем там надолго застрять, как это уже случилось с британцами в Галлиполи»[602].
Решение по операции «Факел» было принято в июле. 13 августа был оформлен приказ Эйзенхауэру начать операцию с подготовкой наступления к западу от Восьмой британской армии, в то время проводившей перегруппировку своих сил на линии фронта в районе Эль-Аламейна.
Эйзенхауэр пришел в ярость. День получения такого приказа он назвал «самым черным днем в истории»[603]. Он считал, что с точки зрения стратегии вторжение в Африку будет пустой и к тому же опасной потерей времени. Маршалл тоже счел это безрассудной затеей. Маршалл настаивал на том, что было бы «гораздо безопаснее», в случае если британцы не решатся на вторжение в Европу через Ла-Манш, «добиться реальных успехов на Тихом океане»[604]. Как писал Стимсон, этот аргумент «президент отверг категорически». Даже по прошествии времени решение Рузвельта продолжало раздражать Маршалла, который писал: «Увы, лидер демократической страны предпочел не считаться с мнением других. И дело тут не в словах, которые он произносит, а в образе мыслей»[605].
Британцы одержали верх: открытие «второго фронта» было отложено. Вторжение во французскую Северную Африку стало совместной англо-американской военной операцией. Однако кое в чем Рузвельту удалось добиться своего: стремясь увидеть американских парней атакующими немецкие войска, он приказал, чтобы в первой волне десанта на африканский берег принимали участие только американские солдаты. Первыми нанести удар по врагу на побережье должны были американцы. И он великолепно обосновал Черчиллю этот свой приказ: «Французы окажут нам куда меньше сопротивления, чем британцам… Я твердо уверен, что самые первые атаки должны осуществиться исключительно американскими сухопутными войсками»[606].
В операции участвовали шестьдесят пять тысяч человек, примерно половину из них составляли американцы, половину англичане. Рузвельт был прав в оценке общественного мнения: весть о первом сражении американцев с немецкой армией была повсюду встречена с восторгом, и это событие отмечалось в стране в течение многих лет.
Стимсон посчитал, что успех операции объясняется исключительно тем, что Рузвельту просто везло. В книге «На службе в мирное и военное время», написанной им совместно с Макджорджем Банди, обращают на себя внимание следующие строки: «Стимсон всегда считал “Факел“ самой удачной операцией союзных войск во время войны, но он был внутренне готов допустить правоту тех, кто считал, что она может и не завершиться успехом. Президент развеял его сомнения»[607].
Рузвельту было хорошо известно, что американцы громко выражали свое недовольство тем, что их парни до сих пор не сражаются с гитлеровской армией. Приближались выборы в Конгресс, назначенные на 3 ноября. Как политик, он понимал, что выиграет голоса в поддержку своей администрации, если население узнает о солдатах США, штурмующих берега французской Северной Африки. Электорат, который лишь год назад активно выступал против войны, теперь был полон энтузиазма направить американских солдат сражаться против монстра Гитлера, чтобы поддержать Россию. «Прошу вас, – говорил президент генералу Маршаллу, – сделать это до дня выборов»[608]. Но высадку американского десанта не удалось осуществить до воскресенья 8 ноября. В результате демократам пришлось смириться с потерей мест в Конгрессе: республиканцам досталось десять мест в Сенате и сорок семь в Палате представителей.
Сталин был искренне разочарован отсутствием «второго фронта» и с большим трудом сдерживал свои чувства. 3 октября, отвечая на вопросы корреспондента «Ассошиэйтед пресс» в Москве Генри Кэссиди, он заявил: «Помощь союзников Советскому Союзу пока еще малоэффективна. Для расширения и улучшения этой помощи требуется лишь одно: полное и своевременное выполнение союзниками их обязательств». Эти слова Сталина стали заголовками в мировой прессе. «Сталин сказал, что помощь союзников «малоэффективна»; «СТАЛИН ГОВОРИТ, ЧТО СОЮЗНИКИ МАЛО ПОМОГАЮТ» – так звучал заголовок в «Нью-Йорк таймс» двумя днями позже.
Однако в следующем месяце он, тем не менее, упомянул об операции «Факел», сразу же отметив, что она нацелена на поддержку России в ее тяжелом положении. В своей большой речь на праздновании 7 ноября годовщины революции он показал себя не только государственным деятелем, но и человеком, способным оценить сотрудничество с Великобританией и Соединенными Штатами: «В своих стремлениях захватить нефть и Москву германские стратеги потерпели неудачу, – сказал он под шквал аплодисментов. – Их летние планы провалились… Англо-советско-американская коалиция имеет все шансы, чтобы победить, и она победит»[609].
Его спросили об открытии «второго фронта». «Да, он будет, – ответил Сталин, – рано или поздно, потому что для наших союзников это не менее важно, чем для нас».
Поверенный в делах Лой Хендерсон, который обычно не проявлял склонности упоминать признаки русского сотрудничества и признавать американское, сообщал из Москвы, что эта речь «представляет собой очередной шаг в направлении более тесного сотрудничества между Советским Союзом и его союзниками. Я верю и уже получил подтверждения, что советские руководители истолковывают речь как указание проявлять больше дружелюбия к Соединенным Штатам и Британии»[610].
Он был прав, именно это и имел в виду Сталин. Он хотел, чтобы его союзники и его враги в полной мере поняли, насколько он этим доволен. Несколькими днями позже он подробно ответил на вопросы корреспондента ««Ассошиэйтед пресс» Кэссиди:
«Уважаемый г-н Кэссиди!
Отвечаю на Ваши вопросы, переданные мне 12 ноября.
1. Как Советская сторона оценивает кампанию союзников в Африке? Ответ: Советская сторона оценивает эту кампанию как выдающийся факт большой важности, демонстрирующий растущую мощь вооруженных сил союзников и открывающий перспективу распада итало-немецкой коалиции в ближайшее время.
Кампания в Африке лишний раз опровергает скептиков, утверждающих, что англо-американские руководители неспособны организовать серьезную военную кампанию. Не может быть сомнения, что только первоклассные организаторы могли осуществить такие серьезные военные операции, как успешные десантные операции через океан»[611].
Глава 10 Планирование послевоенного мира
Франклин Делано Рузвельт испытал чувство горечи, когда в 1919 году Сенат США проголосовал против участия США в работе в Лиге Наций. Рузвельт никогда не сомневался в том, что гарантией всеобщего мира явится организация, членами которой станут все государства планеты. Во время президентской предвыборной кампании 1920 года Джеймса М. Кокса, который трижды избирался губернатором штата Огайо, Рузвельт в качестве кандидата в вице-президенты выступил с речами свыше восьмисот раз, всегда подчеркивая насущную необходимость Лиги Наций. Для него это было «главной темой обсуждения в ходе кампании» и «практической необходимостью»[612]. С растущим чувством разочарования он наблюдал, как президент Вильсон становится все более беспомощным политиком, при котором Америка оказывалась в изоляции. Рузвельт был убежден, что миру на планете никогда не будут угрожать какие-либо потрясения, если государства объединит общая ответственность за сохранение мира. Позднее он назовет Лигу Наций «первым могучим общественным институтом для поддержания мира»[613]. Однако, изучив устав Лиги, Рузвельт пришел к пониманию того, что многие его положения следует пересмотреть. В 1923 году он представил свой проект мироустройства Эдварду Боку, редактору «Семейного журнала для женщин», который учредил Американскую премию мира. Рузвельт назвал организацию, о которой он мечтал, «Сообществом Наций». Работу Сообщества должен был направлять исполнительный комитет, в составе которого в качестве постоянных членов планировались США, Великобритания, Франция, Италия и Япония. Предусматривалось также формирование международного судебного органа. Никаких комментариев по данному вопросу не последовало, поскольку Элеонора Рузвельт стала одним из судей, и он был вынужден аннулировать свое участие.
Когда в 1939 году мир снова начал распадаться, мысли Франклина Рузвельта вновь обратились к необходимости создания мирового правительства. Он поручил Хэллу и Госдепартаменту подготовить проект такой международной организации.
Ответственным за этот проект президент назначил заместителя госсекретаря Самнера Уэллса, который в свое время реорганизовал отдел Госдепартамента по восточноевропейским делам, занимавший резко антисоветскую позицию. Под руководством Рузвельта Уэллс сформировал небольшую и довольно разношерстную группу из числа сотрудников Госдепартамента и внештатных экспертов, обладавших специальными знаниями в сфере международных отношений. Этой группе предстояло начать разработку основных принципов и структуры будущей послевоенной организации. По словам Уэллса, «президент горячо одобрил необходимость безотлагательно начать такую подготовительную работу»[614]. В течение нескольких месяцев члены этой группы встречались по субботам в кабинете Уэллса еще с одним чиновником Госдепартамента, Лео Пасвольским, руководителем отдела специальных исследований и специальным помощником государственного секретаря. О работе группы Уэллс «часто» докладывал президенту, а президент вносил свои «поправки» организационного характера.
К тому времени, когда Рузвельт в 1942 году создал в Белом доме «Штабную комнату», в его сознании прочно осели четыре основных принципа послевоенного мироустройства: первый – он собирался контролировать такую международную структуру; второй – комплекс необходимых мероприятий будет включать создание каких-либо организаций, в которые войдет каждое государство; третий – внутри этой структуры четыре влиятельные союзные державы будут обеспечивать единство остальных государств мира; четвертый – этими влиятельными державами станут не только Великобритания, Россия и Америка, столь глубоко вовлеченные в войну, но и Китай, который своим участием нарушит принцип полного превосходства белой расы. Опираясь на основные контуры своего личного плана устройства мира, Рузвельт задумался и о том, как отстоять этот план, чтобы он не превратился в предмет бесконечных обсуждений или абстрактного теоретизирования, что, несомненно, привлечет излишнее внимание, в том числе со стороны его противников. Он придумал весьма интересный и одновременно весьма простой способ свести к минимуму вероятность того, что кто-то посторонний сможет узнать о его замыслах: он создал «Штабную комнату», самое секретное и самое охраняемое помещение Белого дома, откуда отправлялись телеграммы руководителям трех держав и куда поступали телеграммы от них. Это была запретная зона даже для членов его администрации, начальников штабов и сенаторов, кроме тех, кто получал специальное приглашение. Никто из посторонних ничего не знал о «Штабной комнате», ее функциях и о том, что находится в ней. Получить разрешение на доступ в нее было невероятно трудно. Абсолютно закрытая для несанкционированного доступа, круглосуточно охраняемая полицейским Белого дома в форме[615], «Штабная комната» находилась на цокольном этаже прямо напротив семейного лифта рядом с кабинетом врача Белого дома. На внутренней стороне входной двери в комнату красовалось изображение трех обезьян, под каждой – типографская подпись, под которой кем-то карандашом добавлены слова, придуманные явно Рузвельтом. По свидетельству дежурного офицера «Штабной комнаты», однажды вечером Рузвельт в беседе с Генри Стимсоном внес свои комментарии по поводу этих подписей[616]. Под изображением первой обезьяны с широко открытыми глазами была подпись: «Вижу всё», – а под ней карандашом: «Кое-что». Подпись под второй обезьяной, приложившей ладонь к уху, гласила: «Слышу всё», – и приписка карандашом: «Чуть-чуть». Третья обезьяна зажимает рукой рот, подпись: «Ничего не скажу», – и под ней карандашом: «Немного».
Но это была только верхушка айсберга. Президент хотел быть уверенным, что никто (а это значило, что никто даже из высшего командования США) не знает, каковы его взаимоотношения с Черчиллем, Сталиным и Чан Кайши, а также о его планах дальнейшего развития этих отношений. Все исходящие и входящие телеграммы шифровались и дешифровались в «Штабной комнате», а доставлялись армейскими офицерами или же офицерами ВМС. Чтобы никто из руководителей служб не имел полной информации о внешней политике США, президент придумал новую уловку: каждая телеграмма, которую он отправлял кому-либо из лидеров стран-союзниц, должна была передаваться связистами ВМС после шифрования в их ведомстве, а каждая телеграмма, адресованная президенту, должна была проходить через каналы военного министерства. Таким образом, военный министр Стимсон и министр ВМС Нокс могли видеть только половину корреспонденции, а Хэлл не видел вообще ничего. Возможно, что Хэлл видел те телеграммы, которые Рузвельт или его ближайшие соратники (Гопкинс и адмирал Лихи, занявший после своего возвращения из Виши в конце весны 1942 года должность руководителя личного штаба президента) сочли нужным показать Хэллу.
Единственным местом, где можно было увидеть документацию и корреспонденцию во всей их полноте, были сейфы, в которых они хранились.
Все четыре стены комнаты заполнили карты и схемы, на пластиковое покрытие которых стеклографом наносились пометки и значки с обозначением союзных войск и войск противника, постоянно обновляемые после появления курьеров из военного министерства и штаба ВМС с последними вестями с театров боевых действий. Булавками разного цвета и формы в зависимости от типа военного корабля обозначались позиции кораблей в океане: синим цветом – американские корабли, оранжевым – японские, красным – британские, а итальянские и германские – серым и черным соответственно. Чтобы можно было подойти к картам и схемам поближе, все столы, стулья и сейфы с документами группировались в центре комнаты. В центре стоял и небольшой круглый обеденный стол, за которым Рузвельт время от времени угощал своих гостей.
Неограниченный доступ в «Штабную комнату» предоставлялся редко и являлся тщательно охраняемой привилегией. Гопкинс и Лихи были единственными, кто имел на это право. Нокс, которого однажды не пустили в комнату, возмущенно апеллировал к президенту, который тут же упрекнул его в слабом управлении личным составом ВМС, но так и не внес в список лиц, имеющих право неограниченного доступа[617]. На круглосуточном дежурстве находились офицеры-шифровальщики, три армейских оперативных дежурных офицера и три оперативных дежурных офицера ВМС. Никто из сотрудников администрации и представителей Объединенного комитета начальников штабов в «Штабную комнату» свободного доступа не имел, за исключением особых обстоятельств, какими были, например, совещания в этой комнате. Во время отъезда Рузвельта вся корреспонденция ему и от него проходила через «Штабную комнату». Чуть ли не маниакальная озабоченность Рузвельта соблюдением секретности объясняется его опасением возможного сопротивления проводимой им политике и возникновения оппозиции ей. Он считал: нет информации – не будет и оппозиции. Никто в правительстве, располагая только односторонней информацией, не мог бы возражать его грандиозным планам устройства мира. Такой порядок он однажды объяснил персоналу «Штабной комнаты» следующим образом: «Армия и военно-морские силы будут неохотно делиться со «Штабной комнатой» своей самой секретной информацией, если «политиканам» будет позволено всюду совать свой нос»[618]. Это побудило персонал почувствовать себя наделенным особым доверием и особой ответственностью.
Обычно после полудня Рузвельт появлялся в «Штабной комнате», чтобы узнать новости с фронтов и просмотреть поступившую корреспонденцию. Затем, хотя никто не знал, что он нуждался в строго регулярных медицинских процедурах, Рузвельт перемещался в своем кресле-каталке в соседний кабинет и усаживался в кабинете врача в зубоврачебное кресло, где получал процедуры по терапии пазух носа и массаж парализованных ног.
В 1943 году президент Рузвельт с целью ознакомления человечества со своим видением послевоенного мира выбрал «Сатердей ивнинг пост», самый популярный в стране журнал. Обложки четырех номеров этого номера журнала украсили четыре репродукции картин Нормана Рокуэлла, по одной на каждую из «четырех свобод» Франклина Делано Рузвельта. Эти номера журнала имели шумный успех, и цель публикации была, безусловно, достигнута. Вскоре после этого Рузвельт решил, что «Сатердей ивнинг пост» может стать прекрасным средством для пропаганды и популяризации идеи Объединенных Наций. Он дал интервью Форресту Дэвису, журналисту, пользующемуся мировой известностью, который выступил с поддержкой Кларенса Дэрроу в знаменитом «обезьяньем» процессе и публиковал самые острые репортажи о похищении ребенка Линдберга. Статья Дэвиса под заголовком «Концептуальный проект Рузвельта по устройству мира» была опубликована 10 апреля 1943 года.
Дэвис описал идеи Рузвельта о том, как будущие Объединенные Нации будут контролировать такие потенциально опасные государства, как, например, Германия. На первом этапе, если страна не прекратит подготовку к войне, будут приняты меры карантинного характера с закрытием границ и доступа рельсовому, воздушному, речному и наземному транспорту с блокировкой всех коммуникаций: радиосвязи, телефонной связи, телеграфа и почты. С приостановкой импорта продуктов питания и отменой исполнения иностранных контрактов экономика страны будет парализована. Операции с иностранной валютой прекратятся, страна окажется в изоляции. На втором этапе, если подготовка к войне не будет прекращена, Объединенные Нации объявят о том, что стратегические центры этой страны «будут подвергнуты бомбардировке до полного их разрушения».
Рузвельт публиковал свою жесткую концепцию с единственной целью: продемонстрировать свою готовность к практическим действиям. Дэвис объяснил это следующим образом: «Он сосредоточился на силе, на разрешении проблем средствами силовой политики в отличие от того, что некоторые умники называют “политикой доброй воли“». Дэвис добавил: «К тому же он глубоко сознает, что человечество не должно снова подвергать себя катастрофе масштаба Версальского договора в течение одного поколения».
Дэвис также писал, что Рузвельт не боялся распространения коммунизма, но относится к этому вопросу достаточно деликатно, чтобы не спровоцировать каких-либо осложнений: «Он склонен верить, что революционные настроения 1917 года могли истощиться в ходе этой войны и что будущее (совсем как это было после Наполеоновских войн) на многие годы будет посвящено восстановлению, социальной стабильности и сохранению всеобщего мира».
В заключение Дэвис бросил на стол козырную карту: «При существующем положении дел контуры послевоенного мира будут зависеть скорее от Сталина, чем от Рузвельта или британских руководителей. Слишком мало оснований полагать, что президенту удастся увидеть тот мир, который он стремится построить».
Вполне возможно, что Рузвельт дал это интервью с единственной целью довести эту идею до Сталина.
При всей жесткости этой концепции идея Рузвельта по созданию международной организации, контролируемой Великобританией, Россией, Америкой и Китаем и связанной в его сознании с обеспечением всеобщего мира, заключалась для президента в том, чтобы после окончания войны Соединенные Штаты могли ограничиться самой малочисленной армией. Это в значительной степени повлияло на его планы по созданию Пентагона, гигантского военного комплекса, строительство которого в 1941 году еще находилось на стадии проектирования. Президент сам имел задатки незаурядного архитектора и лично разработал проекты некоторых зданий, в том числе двух особняков в его наследственном имении в Гайд-парке, почты в Райнбеке (штат Нью-Йорк) и военно-морского госпиталя в городе Бетесда (штат Мэриленд). Однажды его осенила идея, что Пентагон должен иметь форму огромного куба, полностью или почти лишенного окон, с искусственным освещением и принудительной вентиляцией. (Стимсон по этому поводу обеспокоенно писал в своем дневнике: «Я самым категорическим образом откажусь работать в здании такого типа».[619])
Радикальная позиция Рузвельта по этому вопросу основывалась на том, что после победы в войне и создания миротворческих сил Объединенных Наций вооруженные силы Америки можно будет сократить до такой степени, что офицерам Объединенного комитета начальников штабов и вспомогательному персоналу будет просто ни к чему такое огромное новое здание. Не имеющий окон и хорошо проветриваемый Пентагон станет, таким образом, хранилищем для документации всех вооруженных сил страны. Заметим, что эта идея президента датируется еще 1941 годом. Он ожидал возражений: «Военное министерство, несомненно, откажется уступить здание Пентагона, но оно будет слишком велико для них, если нам удастся достичь длительного мира»[620]. Рузвельт был готов настаивать на своей идее. «После окончания войны все архивы вооруженных сил следует разместить в здании Пентагона», – говорил он директору Административно-бюджетного управления при президенте Гарольду Смиту накануне Ялтинской конференции.
Перспектива включения Китая в состав стран-миротворцев была обоснована простой логикой. Размышляя о будущем, президент был убежден, что равноправное участие в Объединенных Нациях азиатской страны необходимо не только с точки зрения представительства, но и для гарантии выживания этой международной организации. Поэтому он настаивал на включении Китая в состав «международных полицейских», несмотря на то что тот в это время вел войну с японскими оккупантами и был расколот гражданской войной. Рузвельт считал (что было достаточно нетипично для руководителей его поколения), что белая раса не должна править миром и что по своей природе она вовсе не превосходит другие расы. В этой связи он видел в Китае страну, которая временно занимает место на скамейке запасных, хотя абсолютно ни в чем не уступает любой белой нации. Рузвельт мог видеть в Китае своего рода противовес России в контексте географического положения и численности населения: обе эти страны разделяла самая длинная в мире государственная граница. Во времена Рузвельта население Советского Союза составляло 165 миллионов человек, США – только 130 миллионов, но по сравнению с населением Китая СССР и США являлись карликами.
Президент попросил Уэллса сообщить лорду Галифаксу, что его позиция была глубоко «провинциальна», так как Галифакс, как и Черчилль, думал только о Европе. Они оба видели только в Германии противовес России. По убеждению Рузвельта, Китай, как и Америка, в послевоенном мире сможет сдерживать мощь России. Он только никому не распространялся об этом. В конце концов, он поделился этим с Макензи Кингом, мудрым и осмотрительным премьер-министром Канады, доверявшим свои тайны только дневнику. Однажды вечером в 1942 году после ужина в Белом доме президент отвел Кинга наверх в свой кабинет и открылся ему. Позднее Кинг записал в своем дневнике: «Президент сказал, что ему хотелось бы сейчас обсудить вопрос о разоружении и о вовлечении в это дело Сталина. Он подчеркнул, что это крайне необходимо»[621]. Далее Кинг пишет: Франклин «спросил меня, помню ли я слова сенатора Уотсона: “Если вы не способны одолеть дьявола, составьте ему компанию“. Он сказал, что Россия станет очень сильной державой. Если нам сейчас и надо заняться чем-то серьезным, так это подумать о планах разоружения». Позднее в этот вечер Кинг записал в своем дневнике, что Рузвельт снова повторил слова Уотсона: «Если вы не способны одолеть его, составьте ему компанию», – а затем продолжил: «Совершенно ясно, что ни США, ни Британия, ни Китай не смогут одолеть Россию. Поэтому надо добиваться, чтобы все работали в одной упряжке». Потом он подчеркнул конфиденциальный характер этой беседы и добавил: «Ради бога, никому не проболтайся об этом».
Идея президента США заключалась в том, чтобы четыре «международных полицейских» не только поддерживали мир на планете, действуя совместно, но и чтобы каждое такое государство-полицейский в силу обстоятельств контролировалось бы тремя другими государствами-полицейскими. Необходимость работать в одной упряжке, скажем так, позволила бы контролировать Россию, а подключение Китая препятствовало бы выходу России из-под контроля.
Доктрина безоговорочной капитуляции стала другим аспектом концепции Рузвельта в плане обустройства мира. Она также решала определенные проблемы. Что важнее всего, безоговорочная капитуляция не предусматривала проведение мирной конференции – такая конференция была бы просто не нужна. Это стало важным аргументом для Рузвельта, которого всегда раздражали результаты Версальского мира. Он не видел никакой необходимости вести переговоры о мире, считая, что без всякой мирной конференции он сможет обеспечить контроль над международной ситуацией. Он полагал, что все условия будут формулироваться в контексте капитуляции всех «стран оси».
Такая концепция пользовалась в Вашингтоне большой популярностью. В конце мая 1942 года влиятельный подкомитет Госдепартамента, возглавляемый Норманом Дэвисом, другом Хэлла и Рузвельта, рекомендовал президенту: «Исходя из того, что победа Объединенных Наций будет окончательной, вражеские государства, возможно, за исключением Италии, должны будут согласиться не на прекращение военных действий, а на безоговорочную капитуляцию»[622].
К концу декабря к этой позиции присоединился и Объединенный комитет начальников штабов, рекомендовавший президенту обратиться ко всем «странам оси» с таким заявлением: «Представители Объединенного комитета начальников штабов выдвигают условие, что Германии, Японии, Италии и их сателлитам не будет предложено прекращение военных действий до тех пор, пока их вооруженные силы не согласятся на “безоговорочную капитуляцию“»[623]. В начале января президент Рузвельт заявил Объединенному комитету начальников штабов, что отныне условие безоговорочной капитуляции станет основой политики союзных государств. Сделав на это упор, Рузвельт отказался что-либо разъяснять, конкретизировать либо иным образом обосновывать свою позицию. Как он писал Хэллу в служебной записке, какие-либо дефиниции были бы бесполезными, поскольку «совершенно неважно, какие мы произнесем слова по этому поводу, важно лишь одно: что мы требуем капитуляции»[624]. Узнав в начале декабря 1942 года от Макензи Кинга о том, что Черчилль настроен на созыв мирной конференции, Рузвельт закрыл лицо руками, покачал головой, «а затем сказал… что он ничего не знает о планах проведения какой бы то ни было мирной конференции, поскольку, насколько ему известно, предстоит полная капитуляция противника»[625]. Он добавил: «Возможно, нам следует провести в различное время ряд небольших конференций для обсуждения разного рода мер, которые исключат что-либо, напоминающее Версальскую конференцию».
Безоговорочная капитуляция полностью согласовывалась с намерениями Рузвельта добиться такого положения, чтобы после этой войны не повторились ошибки Первой мировой. Народ Германии должен был знать, что их армия разбита. Ни один немец не должен был произнести слов, какие произнес Герберт Рихтер, процитированные Лоуренсом Рисом в своей книге «Нацисты. Предостережение истории»: «Мы вовсе не чувствуем себя побежденными. Не чувствуют себя побежденными и наши войска на линии фронта, и вообще непонятно, откуда так быстро взялось это прекращение военных действий и почему мы должны столь поспешно оставить свои позиции, хотя все еще занимаем вражескую территорию»[626].
Рузвельт объявил о требовании безоговорочной капитуляции на проведенной совместно с Черчиллем пресс-конференции в Касабланке 24 января 1943 года. Такое заявление президента США, по словам Черчилля, очень удивило его, хотя британский премьер уже был готов по существу с ним согласиться. Предполагалось, что в то время Рузвельт хотел тем самым заверить Сталина, который чувствовал серьезное сопротивление вермахта, что Америка и Британия готовятся положить решительный конец войне. Идея безоговорочной капитуляции была весьма популярна в Соединенных Штатах. Опрос общественного мнения показал, что за нее выступал 81 процент: большинство американцев верили, что Германия может снова развязать войну.
Рузвельт всегда цитировал своего героя, генерала Улисса С. Гранта, чьи слова вдохновляли президента при проведении своей политики. В данном случае речь шла о плане, достаточно великодушном, но принуждающем врага сдаться без всяких условий. Версаль не должен был повториться, теперь все решать будут только победители. Рузвельт вспоминал слова Гранта генералу войск Конфедерации Симону Бакнеру после захвата Форт-Донельсона 16 февраля 1862 года: «Никаких условий, кроме безоговорочной и немедленной капитуляции, не может быть принято». Грант придерживался этой позиции в течение всей войны, не изменив ее и по отношению к генералу Ли. Рузвельт никогда не чурался некоторого приукрашивания какой-нибудь истории, чтобы сделать ее выразительнее и интереснее. С течением времени это стало проявляться и в отношении личности Гранта. Вот как он объяснял Хэллу позицию Гранта относительно безоговорочной капитуляции: «Сдача генерала Ли Гранту – самое яркое тому подтверждение. Ли хотел договориться об условиях капитуляции, но Грант сказал ему, что он может рассчитывать на его (Гранта) справедливость и беспристрастность. И Ли капитулировал. После этого Ли сразу же поднял вопрос о лошадях офицеров Конфедерации, бóльшая часть которых была их личной собственностью, на что Грант ответил, что они могут взять своих лошадей домой, поскольку в них возникнет потребность во время весенних полевых работ»[627].
Стремясь унять страхи тех, кто боялся, что с наступлением мира придет и возмездие, Рузвельт 12 февраля выступил по радио с речью, в которой более полно изложил свою позицию: «Тем, кто в панике стремится избежать ответственности за свои преступления, мы говорим – все Объединенные Нации говорят, – что единственные условия, которые мы готовы обсуждать с любым правительством “стран оси“ или с какой-либо группировкой “стран оси“, – это условия, объявленные в Касабланке: “Безоговорочная капитуляция“. Следуя этому нашему непреклонному принципу, мы не намерены причинить какой-либо вред народам “стран оси“. Но мы намерены привлечь к ответственности и к наказанию варваров, стоявших у руководства этими странами, сообразно степени вины каждого из них перед человечеством».
В марте 1943 года во время обеденной встречи в кабинете президента с Иденом, Хэллом и Гопкинсом Рузвельт подтвердил этот принцип. Гопкинс вспоминал: «Он не хотел никакого перемирия после разгрома нацистов; он считал, что мы должны настаивать на полной капитуляции без каких-либо обязательств перед противником, без обсуждения того, что мы должны и чего не должны делать после капитуляции противника»[628].
По мере продолжения войны на Рузвельта оказывали давление Хэлл и другие, настаивая, чтобы президент смягчил свою позицию относительно безоговорочной капитуляции. Они мотивировали это тем, что слишком жесткая формулировка его заявления вынуждала государства-сателлиты продолжать боевые действия. Аналогичную позицию через Молотова выразил и Сталин. Посла Гарримана попросили точно разъяснить термин безоговорочной капитуляции, исходя из того, что неопределенность пугает людей и удерживает страны-сателлиты от капитуляции. Однако Рузвельт отказался что-либо объяснять и конкретизировать. Когда Хэлл попытался надавить на него, он ответил ему 17 января 1944 года в письменной форме:
«Откровенно говоря, мне не нравится идея переговоров для конкретизации термина “безоговорочная капитуляция“. Россия, Британия и Соединенные Штаты договорились не заключать никаких сепаратных договоров о перемирии, и в каждой ситуации нам следует оставаться верными своей собственной позиции по этому вопросу без консультаций друг с другом. Думаю, в каждом случае нам следует придерживаться своей собственной позиции по этому вопросу.
Народу Германии следует внимательно отнестись к моим словам, произнесенным в канун Рождества. В сущности, нам и в голову не приходит мысль об уничтожении народа Германии… разумеется, при условии, что они откажутся от своей нынешней философии завоевания мира… О чем бы мы сейчас ни договорились, слова можно изменить или переосмыслить, как только какая-либо страна изъявит готовность капитулировать»[629].
Сталин понял позицию Франклина Делано Рузвельта и 10 июня 1944 года по собственной инициативе дипломатично заявил Гарриману: «…Во всем, что касается капитуляции Германии, у нас нет разногласий»[630].
В июне 1944 года Рузвельт согласился внести коррективы в свою позицию, но только применительно к странам-сателлитам. Поскольку Молотов и Сталин умаляли значение пропаганды безоговорочной капитуляции для принуждения стран-сателлитов к капитуляции, Рузвельт согласился, что термин «безоговорочная капитуляция» можно изъять из пропаганды, нацеленной на указанные страны. Следовало учитывать, что стране-сателлиту предстояло порвать союз с Германией и дальше сражаться бок о бок с союзными армиями, включая Красную армию, а потом возмещать СССР причиненный ущерб и репатриировать советских военнопленных и военнопленных союзных армий.
Были и те, кто считал, что требование Рузвельтом безоговорочной капитуляции затянет войну, поскольку такая перспектива напугает немцев. Возможно, оно и в самом деле могло затянуть ее. Рузвельт допускал такой вариант. И все же он настаивал на своем, поскольку был уверен, что эта мера позволит избежать войн в будущем.
– Некоторые мои добросердечные и высоконравственные оппоненты идеи безоговорочной капитуляции полагают, что если мы изменим эту формулировку, Германия сможет капитулировать гораздо раньше… то есть они считают этот термин слишком жестким и слишком грубым[631], – сказал он одному из журналистов в Гонолулу в 1944 году.
– Условие безоговорочной капитуляции остается в силе? – спросил журналист.
– Да. Практически все немцы отрицают тот факт, что они проиграли прошлую войну, но теперь им предстоит признать это, – ответил президент.
* * *
Между тем у Сталина было совершенно иное представление о послевоенном мире. Он мыслил менее возвышенными категориями, чем американский президент, и его беспокоило исключительно место России в мире. Он был уверен, что, хотя страны Европы, в конце концов, проникнутся идеями коммунизма (поскольку он представляет более совершенную экономическую систему, и капитализм, в конечном итоге, был обречен), но на это уйдет немало времени, двадцать или тридцать лет. Поэтому следует обеспечить мирное развитие событий, пока этот процесс не достигнет желаемой цели. Единственным инструментом ускорения этого (неизбежного) процесса должна была стать пропаганда, силовое решение не годилось: слишком неравны были силы. Он заявил газетному издателю Рою Говарду: «Мы, марксисты, считаем, что революция произойдет и в других странах. Но произойдет она только тогда, когда это найдут возможным или нужным революционеры этих стран. Экспорт революции – это чепуха. Каждая страна, если она этого захочет, сама произведет свою революцию, а ежели не захочет, то революции не будет»[632]. (Он был убежден, что, например, Германия – совершенно неподходящая страна для коммунизма: по этому поводу широко известно высказывание Сталина, что коммунизм «так же идет Германии, как корове седло»[633].)
Сталин твердо верил, что сможет превратить Советский Союз в общество, которое будет превосходить Запад. Согласно учению Маркса и Энгельса, банкиры и промышленники капиталистических стран избавляются от конкурентов, препятствуют технологическим обновлениям, поэтому их деятельность неэффективна. Социализм более эффективен и развивается лучше. Убеждения Сталина опирались на то, что он ликвидировал в Советском Союзе безработицу, обеспечил продовольствием, жильем, образованием и здравоохранением тех, кто раньше имел все это на минимальном уровне либо не имел вовсе. Сталин реорганизовал советское общество сверху донизу. Его пятилетние планы давали ошеломляющие результаты, хотя и дорогой ценой, которую в те годы еще не осознавали. Выполнение этих планов достигалось гигантским трудом и крайне жесткими мерами, как считал Джозеф И. Дэвис[634]. Сталин превратил Советский Союз из отсталой страны в признанное всеми индустриальное государство. Коллективизация крестьянских хозяйств, повлекшая за собой уничтожение и депортацию миллионов крестьян, а также фактическое истребление кулаков, завершила процесс окончательного преобразования России. В 1928 году Советский Союз выплавлял 4,3 миллиона тонн стали, а в 1938 году эта цифра увеличилась до более 18 миллионов. Годовое производство грузовых автомобилей выросло с 700 до 182 000[635]. То есть за какие-то десять лет Советская Россия превратилась из аграрной страны в индустриальное общество. Так что у Сталина были все основания верить, что его экономическая модель стала практическим подтверждением учения Маркса и Энгельса.
Однако война разрушила его страну, которую надо было восстанавливать. А для этого Сталину был необходим длительный мир. Кроме всего прочего, он теперь нуждался в партнерах.
История России – это история нашествий. Когда по стране в начале столетия прокатилась гражданская война, Сталин принимал участие в сражениях с германскими, английскими и польскими интервентами. И теперь, во второй раз за последние два десятилетия, Германия вновь воевала с Россией.
В 1905 году Сталину было всего 26 лет, когда Россия потерпела унизительное поражение в Цусимском сражении в Японском море, крупнейшем морском сражении в истории. С той поры Япония стала вновь представлять угрозу для России.
Сталин увлекался историей, особенно историей России. Об этом свидетельствовала его огромная библиотека, насчитывавшая более двадцати тысяч книг, в большинстве своем посвященных истории и политической теории, и на страницах всех этих книг можно было увидеть пометки, сделанные рукой Сталина. Эти пометки и подчеркивания ключевых фраз выдают его преклонение перед Марксом и Лениным. Тома о Наполеоновских войнах, история Греции Виппера, «Франко-германская война 1870–1871» фон Мольтке и другие книги по истории войн между Германией, Англией и Россией, а также работы о российских царях все были густо испещрены пометками.
Целью Сталина было обезопасить Россию от вторжений на поколения вперед.
Беседуя в октябре 1941 года с Гарриманом и Бивербруком под грохот германской артиллерии в пригородах Москвы, Сталин предложил постоянный военный альянс с Британией, которого он добивался еще двумя годами раньше и который сохранился бы и на послевоенные годы. Кроме того, он хотел обсудить тему послевоенных границ. Когда Бивербрук отмахнулся от этой идеи, подчеркнув, что сначала хорошо бы одержать победу в войне, Сталин, несомненно, вспомнил о своей неудачной попытке в 1939 году заключить союз с Британией, чтобы остановить Гитлера, особенно потому, что Галифакс все еще входил в правительство Черчилля. Сталин стремился, чтобы результаты его переговоров с Гарриманом и Бивербруком были официально зафиксированы в виде письменного соглашения, чего не ожидали и к чему совершенно были не готовы ни Бивербрук, ни Гарриман. Гарриман говорил, что он почувствовал себя весьма «неловко» и начал излагать свою позицию по Атлантической хартии, которая представляла собой программу сохранения мира. На тот момент несомненным результатом их беседы было лишь одно: Сталин был уверен, что Гитлер будет разбит.
Чего не удалось осознать ни тогда, ни позднее, так это всей глубины стремления Сталина, чтобы Британия, Америка и Россия остались друзьями и в послевоенном мире. Он хотел быть уверенным, что после окончания войны Советский Союз не будет бесцеремонно отстранен от решения мировых проблем. Ведь именно русские в январе 1942 года предложили в Лондоне сформировать некий орган, который в дальнейшем получит название Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций (ЮНРРА). Иными словами, именно Сталин стал человеком, благодаря которому эта идея нашла практическое воплощение. Идея Советского Союза (набиравшая силу по мере отступления русских войск под натиском вермахта) заключалась в создании организации, которая под международным контролем, располагая международным персоналом и действуя под международным руководством, взяла бы на себя функции оказания помощи странам, «которые особенно сильно пострадали от гитлеровской агрессии». Это предложение советской стороны предусматривало условие «равноправия» всех государств, а также формирование секретариата из четырех или пяти представителей, включая Британию и Советский Союз, и исполнение организационных функций двумя или тремя другими представителями. При этом все решения должны были приниматься путем единогласия. К 1943 году концепция Рузвельта о четырех «международных полицейских, или «полицейских государствах», в качестве всеобщего полновластного органа в послевоенном мире уже была принята Россией – в виде соответствующей руководящей группы (ЮНРРА). ЮНРРА была сформирована в Вашингтоне на встрече представителей четырех держав: Максима Литвинова от Советского Союза, лорда Галифакса от Британии, китайского посла Вэй Таоминя и Дина Ачесона от США. Кабинет Дина Ачесона, который второй срок занимал должность помощника госсекретаря в администрации Рузвельта, примыкал к кабинету Хэлла в юго-западной стороне старого Дома правительства. О том, что идея создания ЮНРРА принадлежала русским, все благополучно забыли.
Первое совещание представителей четырех держав в рамках ЮНРРА состоялось 11 января 1943 года, на нем обсуждались вопросы административного и политического планирования. Узкая советская трактовка, предусматривающая оказание помощи только странам, пострадавшим от гитлеровской агрессии, была расширена до концепции Атлантической хартии. По свидетельству Ачесона, главный спор был спровоцирован советской позицией в отношении того, что все решения ЮНРРА должны приниматься единогласно. Литвинов выступал за неукоснительное соблюдение этого принципа, и с его уходом данный вопрос оставался нерешенным вплоть до сентября, когда, наконец, было достигнуто согласие в отношении того, что решения должны приниматься большинством голосов. Это стало одной из первых советских уступок политике Соединенных Штатов. По этому поводу Ачесон с удовлетворением писал: «В конечном итоге мы втроем смогли добиться большего на переговорах с СССР, чем многие из наших последователей впоследствии. Подчеркну: смогли добиться не столько благодаря нашему умению, сколько в результате желания Советов обеспечить получение помощи»[636]. Под давлением коллег Галифакс и Ачесон согласились с тем, что, хотя генеральным директором этой организации будет американец, его заместителями станут представители России и Китая.
ЮНРРА начала функционировать под руководством Герберта Лемана, бывшего губернатора штата Нью-Йорк, о чем Рузвельт объявил буквально накануне своего убытия на Тегеранскую конференцию. К середине мая большинство крупных и мелких проблем было решено и был разработан проект договора о создании ЮНРРА, приемлемого для каждого из четырех государств-участников.
Сталин приспосабливался к пожеланиям Рузвельта и по другим вопросам. Он весьма серьезно изменил свое отношение к религии. Теперь он не препятствовал посещению русскими церковной службы и восстановил систему церковных епархий, что стало огромной переменой в жизни русских людей. На Рождество в 1943 году, когда впервые за многие годы церкви открылись для рождественских богослужений, в пятидесяти церквях Москвы собралось столько народу, что невозможно было пробиться. В Богоявленском соборе, в котором патриарх Сергий служил рождественскую молитву, было так тесно, что многим не удавалось даже поднять руку, чтобы перекреститься. А когда Кэтлин Гарриман на Пасху посетила церковь старообрядцев в Москве, та была так забита верующими, что Кэтлин написала сестре: «Я не могла даже пошевелить рукой»[637]. Если раньше советский премьер был недоступен, то теперь он стал общаться с представителями администрации Рузвельта: послом Джозефом И. Дэвисом, Корделлом Хэллом, Уэнделлом Уилки, послом Херли, послом Гарриманом. Он отвечал на вопросы западных журналистов. Он устраивал приемы и для Уинстона Черчилля, когда тот приезжал в Москву.
Сталин, который и в самом деле руководствовался заботой о будущем России, стал вдруг по русским стандартам удивительно открытым для новых союзников. Он, как и Рузвельт, всегда смотрел далеко вперед. В конце весны 1943 года он отозвал в Москву советских дипломатов, обладавших самыми глубокими знаниями о союзниках (США и Великобритании) для составления проекта послевоенного устройства мира. Литвинов должен был приехать к концу мая, а Майского в середине августа известили о том, что он назначается заместителем наркома иностранных дел. В качестве председателя правительственной комиссии по репарациям ему предстояло разработать пакет требований, которые будут предъявлены Германии после окончания войны. Новости об отзыве дипломатов породили волну слухов, охвативших все три столицы, о том, что внезапные замены послов вызваны недовольством Сталина в отношении союзников (пресса и другие дипломаты в Москве тут же объяснили отзыв послов ухудшением отношений внутри «Большой тройки»; сообщалось даже, что Громыко якобы предрек «некий крутой поворот в советской внешней политике»). Чтобы как-то нейтрализовать эти опасные слухи, Сталин предпринял беспрецедентный шаг с целью заверить Рузвельта, что ни один из таких слухов не имеет под собой никаких оснований, а эти перемены объясняются лишь необходимостью поддержки текущего внешнеполитического курса. В своем отчете президенту посол Уильям Стэндли писал: «Сталин сообщил мне лично, что хочет держать под рукой тех, кто хорошо осведомлен о ситуации в Лондоне и Вашингтоне»[638]. Стэндли также сообщил, что Молотов тоже говорил ему: отзыв дипломатов объяснялся необходимостью посоветоваться с ними, поскольку советское руководство испытывало дефицит информации.
Замена послов изменила ситуацию. Молотов был менее разговорчивым человеком и относился к новым союзникам России гораздо циничнее Сталина. Литвинов, назначенный в 1930 году наркомом иностранных дел, был всегда настроен против Гитлера. При нем СССР заключил в 1934 году договор с Францией и вступил в Лигу Наций. Это дало повод Молотову вести интриги против Литвинова вплоть до 1939 года, когда он сменил Литвинова на посту наркома, и случилось это только потому, что Сталин решил изменить советскую внешнюю политику и начать тесное сотрудничество с Гитлером. Сталину было известно о расхождениях в позициях Молотова и Литвинова в отношении стран Запада. Поэтому только когда президент Рузвельт предложил Советскому Союзу обширную помощь по ленд-лизу (после начала операции «Барбаросса» в 1941 года), Литвинов вновь обрел статус дипломата и стал новым послом в США.
Молотов на посту наркома иностранных дел постоянно ограничивал доступ Сталина к информации, поступающей от послов. Он хотел, чтобы Сталин обращался за такой информацией лично к нему. Особенные ограничения ввел Молотов для Литвинова, который был проамерикански настроен, чувствовал себя значительно более комфортно в общении с американцами и поддерживал с ними хорошие отношения, в том числе с Джозефом И. Дэвисом и Дином Ачесоном, с которыми (как и с другими) общался по-дружески. (7 декабря Литвинов, только что прибывший в США, завтракал вместе с Джозефом И. Дэвисом, когда тому позвонил президент Рузвельт и сообщил, что японцы бомбили Перл-Харбор. Литвинов именно в этот день прибыл в Соединенные Штаты для исполнения своих обязанностей посла Советского Союза[639].)
В мае 1943 года, готовясь к возвращению в Россию, Литвинов нанес прощальный визит Самнеру Уэллсу и попросил его в этот раз не вести протокол их беседы (заметим, что Уэллс проигнорировал эту просьбу и в подробностях зафиксировал содержание беседы, которая приводится ниже). В свете того факта, что Сталин отзывал его домой для оказания содействия в разработке планов на будущее, любопытно ознакомиться с полуправдами Литвинова, его лживыми заявлениями и ревнивыми бреднями, поскольку они позволяют заглянуть в душу этого дипломата. Конечно же, он, как и любой другой человек в его положении, вынужден был с большой неохотой покидать Вашингтон, средоточие силы и благополучной жизни, чтобы вернуться в находившуюся на военном положении Москву. Он и Ачесон успели подружиться, а их жен – англичанку Айви Лоу Литвинову и Элис Стэнли Ачесон – сблизило увлечение живописью. Обе пары так часто обедали вместе, что сидевшая рядом с Ачесоном Айви Литвинова время от времени просила своего соседа поискать своей длинной ногой под столом ее туфли, которые она имела обыкновение сбрасывать с ног во время обеда.
Во время своего прощального визита Литвинов сказал Уэллсу, что «его преемник на посту наркома иностранных дел [Молотов] убрал из наркомата всех специалистов, имевших опыт работы за границей и хорошо знающих Соединенные Штаты либо западные демократии»[640]. Литвинов сообщил, что решил отправиться домой, чтобы попытаться посоветовать Сталину прислушиваться к его мнению. Он пожаловался, что сейчас никто не считается с его рекомендациями, и он сильно сомневался, чтобы Сталину хотя бы докладывали о них: «Он совершенно лишен достоверной информации, касающейся политики и планов даже его собственного правительства… Его правительство даже запрещает ему появляться на публике либо выступать с речами». Литвинов сказал, что, когда он прибудет в Москву, он попытается объяснить Сталину роль, которую играет общественное мнение в демократической стране: он хочет убедить Сталина, что общественное мнение стало решающим фактором в формировании политики правительством США.
(В Тегеране Сталин услышал из собственных уст Рузвельта оценку важности фактора общественного мнения в политике, когда они обсуждали будущее Польши и Прибалтийских государств.)
Литвинов сказал Уэллсу, что, по его глубокому убеждению, мир на планете зависит «очень во многом от взаимопонимания и сотрудничества между Советским Союзом и Соединенными Штатами… Он был убежден, что без этого немыслима никакая международная организация и вообще будет сомнительно поддержание мира на земле».
Затем Литвинов продемонстрировал свое понимание менталитета своей страны и сообщил Уэллсу несколько обнадеживающих новостей. В ответ на заявление Уэллса, что «все страны – члены Объединенных Наций должны предоставить своим народам права на свободу самовыражения, на свободу собраний, на свободу вероисповедания и на свободу информации», Литвинов сказал, что он «уверен, его правительство будет в полной мере согласно с учреждением основных принципов такого рода».
Новым послом в Соединенных Штатах был назначен Андрей Громыко. Это был способный, молодой (тридцати трех лет) человек, прекрасно владевший английским языком, который вполне подходил для этой должности. За глаза его называли «каменной маской» за совершенно непроницаемое выражение лица, но, если верить Ачесону, Громыко только казался бесстрастным человеком, на самом деле ему были присущи сарказм и тонкое чувство юмора, «которые он проявлял, когда считал это нужным»[641].
Литвинов понимал международную политику стран Запада так глубоко, как ее не могли понимать ни Сталин, ни Молотов. Молотов и Сталин верили (Громыко назвал это «линией партии»), что французы и британцы в то роковое лето 1939 года только притворялись, что хотят достичь соглашения с Советским Союзом, а их фактической целью было спровоцировать Гитлера на войну против СССР[642]. Литвинов, напротив, не верил, что у них были такие злонамеренные планы, и открыто говорил об этом, чем вызвал к себе подозрения в глазах Молотова и Сталина. В основе всей политики Молотова лежало глубокое убеждение, что британцам доверять нельзя, об этом он часто говорил Сталину.
У Литвинова были все основания ожидать наихудшего по возвращении в Россию. Однако вскоре он обнаружил, что его положение остается прочным. Фактически после возвращения он стал даже более влиятельной личностью. Несомненно, этому способствовала одна мелочь, которая содержалась в докладе Громыко Сталину после встречи с президентом Рузвельтом в июле: общаясь с новым советским послом, президент как бы между прочим поинтересовался, «как там Литвинов», на что Громыко ответил, что «с Литвиновым все хорошо»[643].
Свои соображения по поводу внешней политики Литвинов отразил по прибытии в Москву в памятной записке, датированной 2 июня. С ней ознакомились Сталин и Молотов, причем последний внес в эту памятную записку множество пометок и подчеркиваний. Соображения Литвинова достаточно интересны, чтобы обратить на них внимание.
«Я пришел к заключению, что Франклин Делано Рузвельт абсолютно убежден в необходимости открытия “второго фронта“ в самые короткие сроки… Однако, по всей вероятности, он постепенно отходит от этого убеждения под влиянием своих военных советников, и особенно под влиянием Черчилля»[644], – писал Литвинов.
В той же памятной записке Литвинов излагает свой план дальнейших действий для Советского Союза: «Если мы хотим устранить существующее недопонимание и подготовить условия для взаимного сотрудничества, тогда напрашивается принятие следующих мер и средств для решения проблемы:
1. Создать в Вашингтоне орган, обеспечивающий постоянные военно-политические контакты с президентом и военным министерством.
2. Приступить к обсуждению послевоенных проблем в печати и среди широких слоев населения.
3. Создать для нашего посла условия, при которых он имел бы возможность непосредственно выступать перед общественностью Америки…
4. Обсуждать одновременно с Лондоном и Вашингтоном возникающие политические проблемы»[645].
Сталин внимательно следил за действиями Рузвельта. После принятия Рузвельтом и Черчиллем примерно в то же время на конференции «Трайдент» в Вашингтоне решения в очередной раз отложить открытие «второго фронта» Сталин направил Рузвельту сердитое послание, в котором выразил свой протест. Но полученное 11 июня президентом послание было не таким уж сердитым, каким оно могло быть: Сталин отредактировал и существенно смягчил его. До правки текст послания выглядел следующим образом: «Теперь без каких-либо консультаций и уведомлений Вами вместе с г. Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу». Сталин убрал слова «без каких-либо консультаций» и добавил дату: «Теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с г. Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу»[646].
В августе Сталин снова отредактировал текст послания Рузвельту, в очередной раз смягчив риторику. До правки послание начиналось со слов: «Поскольку правительства Британии и Америки в очередной раз отложили открытие второго фронта в текущем году, наша армия вынуждена до предела напрягать свои силы». Сталин убрал эту фразу, и начало послания обрело совсем другую тональность: «Только теперь, по возвращении с фронта, я могу ответить Вам на Ваше последнее послание от 16 июля»[647]. Далее в сообщении описывалось мощное летнее наступление германских войск, а затем говорилось: «Мне приходится в настоящее время несколько отойти от других вопросов и других моих обязанностей», чтобы руководить войсковыми операциями на фронте. Затем Сталин подчеркнул, что он тоже считает, что им необходимо уладить главные проблемы: «Встречу ответственных представителей обоих государств я считаю безусловно целесообразной».
Через месяц после отзыва Литвинова Майскому позвонил Молотов и сообщил, что ему тоже следует прибыть в Москву, поскольку он назначается заместителем наркома иностранных дел. Эти события (сначала отзыв Вышинского, затем Майского, смягчение тона посланий Рузвельту с удалением замечания об острой потребности во «втором фронте», сделанные рукой Сталина, а также его предложение о необходимости встречи «ответственных представителей», под которыми явно имелись в виду министры иностранных дел трех держав) свидетельствуют о новом восприятии Сталиным своих союзников, особенно Рузвельта. Несомненно, он прочитал памятную записку Литвинова. Она помогла Сталину уяснить, что с ним считался не только президент Соединенных Штатов, но и премьер-министр Великобритании, который все эти годы (как казалось) относился к нему пренебрежительно.
Стало очевидно, что Сталин захотел более тесного сотрудничества с союзными державами. Он написал Франклину Рузвельту, что трем государствам следует создать военно-политическую комиссию «для рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами, отпадающими от Германии»[648].
Сталин всегда восхищался Америкой и даже испытывал в отношении нее безотчетную любовь. Об этом писал и Эмиль Людвиг, известный германский писатель, взявший интервью у Сталина в 1931 году:
ЛЮДВИГ: Я наблюдаю в Советском Союзе исключительное уважение ко всему американскому, я бы сказал даже, преклонение перед всем американским.
СТАЛИН: Вы преувеличиваете. У нас нет никакого особого уважения ко всему американскому. Но мы уважаем американскую деловитость во всем – в промышленности, в технике, в литературе, в жизни. Никогда мы не забываем о том, что США – капиталистическая страна. Но среди американцев много здоровых людей в духовном и физическом отношении, здоровых по всему своему подходу к работе, к делу. Этой деловитости, этой простоте мы и сочувствуем. Несмотря на то что Америка – высокоразвитая капиталистическая страна, там нравы в промышленности, навыки в производстве содержат нечто от демократизма, чего нельзя сказать о старых европейских капиталистических странах, где все еще живет дух барства феодальной аристократии[649].
Когда Людвиг спросил его, чем объясняется положительное отношение к Германии (это было до прихода Гитлера к власти), Сталин, похоже, затруднился с ответом, что именно восхищает его в Германии, сказав: «Она дала миру таких людей, как Маркс и Энгельс. Достаточно констатировать этот факт, именно как факт».
Можно убедиться в том, что к лету 1943 года Сталин уже представлял себе будущий мир и место в нем России как мировой державы. Он готовил страну к выходу на мировую арену и произвел серьезные изменения: он буквально разодел тех русских представителей, которых мог видеть мир (солдат и дипломатов), позволил (хотя и с большой неохотой) религии занять свое место в социальной структуре государства, учредил военные академии для обучения будущих командиров Красной армии и, сознавая необходимость иметь влиятельного друга, писал Рузвельту, что им следовало бы работать совместно в различных комиссиях.
Литвинов получил должность председателя специальной Комиссии по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства Народного комиссариата иностранных дел СССР, Майский стал председателем специальной Межсоюзной комиссии по репарациям, а Андрей Громыко стал фактически главой советской делегации в Думбартон-Оксе, где определялись устав и основные контуры будущих Объединенных Наций.
Подчиненными Литвинова в этой комиссии были помощник наркома иностранных дел Соломон Абрамович Лозовский, Дмитрий Мануильский и три эксперта по вопросам внешней политики, среди которых был знаменитый историк Евгений Тарле.
Черчилль в то время также размышлял о будущем и месте Британии в послевоенном мире. Было общеизвестно, насколько Черчилль беспокоился о будущем Балкан и о сохранении Британской империи. Именно тогда Гарриман, который координировал в Лондоне операции по ленд-лизу, сообщил Черчиллю о решении Рузвельта провести эксклюзивную встречу со Сталиным. Черчилль был категорически против: он опасался утраты своих особых взаимоотношений с американским президентом. Напрасно Гарриман часами убеждал британского премьера, что в их общих интересах будет, если Рузвельту удастся вызвать Сталина на откровенный разговор, помочь ему смотреть на вещи шире и в конечном итоге сделать советского лидера более сговорчивым.
По словам Гарримана, Черчилль считал, что в любом случае они продолжат переговоры в выходные дни, 26 и 27 июля, в его летней резиденции Чекерс и что «неослабевающее давление Сталина, требующего открытия “второго фронта“ в 1943 году, объясняется его планами на Балканах. Что может быть лучше способа удержать западных союзников от высадки на Балканах, чем погрузить их в длительные и дорогостоящие боевые действия в Западной Европе?»[650] Черчилль опасался встречи Рузвельта и Сталина без его участия и даже сказал в связи с этим: «Я не склонен недооценивать пользу, которую вражеская пропаганда извлечет из встречи глав Советской России и Соединенных Штатов… У многих она вызовет недоумение, да и встревожит тоже многих»[651].
Действительно, именно Сталин был инициатором встречи с Рузвельтом наедине. Он должен был чувствовать, что такая встреча встревожит Черчилля, которому от нее не будет никакой пользы. Он протестовал против встречи руководителей США и СССР один на один.
Глава 11 Проблемы и решения
В течение многих лет Сталин пытался предотвратить нападение Германии, как и нападение Японии, другого злейшего врага России, одержавшего над ней победу в 1905 году. Весной 1941 года, буквально за два месяца до начала операции «Барбаросса», Сталину удалось добиться блестящих результатов на переговорах. Обстановка была более чем серьезная. Армия Гитлера была на марше, Белград только что капитулировал, а министр иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуока в те дни находился в Москве. Япония вела подготовку к войне с Соединенными Штатами, поэтому хотела получить гарантии, что Сталин не вторгнется в Маньчжурию, и Мацуока стремился заключить договор с Советским Союзом. Министры иностранных дел Мацуока и Молотов урегулировали последние детали документа и 13 апреля поставили свои подписи под Договором о нейтралитете между СССР и Японией. Подписание этого договора до такой степени расслабило Сталина, что он даже потерял присущий ему самоконтроль: его видели пьяным. После подписания договора он и Мацуока пили всю ночь и продолжили с наступлением утра. В 6:00 их двоих видели на Ярославском вокзале, когда они рука об руку брели нетвердой походкой к поезду, на котором японскому министру предстояло отбыть. Очевидцы слышали, как, усаживая Мацуоку в вагон поезда, Сталин с блаженной улыбкой произнес: «Мы наведем порядок в Европе и в Азии!»[652] Он оставался на перроне, пока уходящий поезд не скрылся из виду.
В ноябре 1943 года в Тегеране Сталин говорил Рузвельту, который приветствовал это заявление: «Когда Германия будет окончательно разбита, станет возможным направить в Сибирь необходимое пополнение, и тогда у нас будет возможность общими усилиями разгромить Японию». Это неожиданное предложение объясняется следующим образом: после того как Гитлер нарушил свой пакт с Россией, вторгнувшись на ее территорию через два месяца после его заключения, Сталин вполне допускал, что и Япония может коварно нарушить все условия и начать агрессию, особенно если увидит слабеющий Советский Союз. Сталин довел эти соображения до сведения Рузвельта через Аверелла Гарримана, который хотя и не был тогда послом, но в августе 1942 года находился в Москве. Сталин попросил Аверелла Гарримана передать Рузвельту, что разгром Японии имеет важное значение: «В конечном итоге она [Россия] вступит в войну… Япония является историческим врагом России, и ее окончательный разгром очень важен для интересов России»[653]. Опираясь на это заявление и на документы Тегеранской конференции, военное руководство США подготовило план совместных с СССР боевых действий против Японии, и оставалось только дождаться подходящего случая, чтобы ознакомить с ними Сталина. Такой момент наступил: Рузвельт представил ему подготовленный Объединенным комитетом начальников штабов план боевых операций против Японии, предусматривающий совместное наступление вооруженных сил СССР и США: «Для приближения окончания войны, по нашему мнению, представляется крайне важным сразу же после начала войны между СССР и Японией осуществление бомбардировок Японии с аэродромов вашего Приморского края, поскольку это позволит нам уничтожить военные и промышленные центры Японии»[654]. США планировали наносить удары четырехмоторными бомбардировщиками числом от ста до тысячи самолетов в зависимости от ресурсных возможностей аэродромов в Приморском крае. Сталин изучил документ и согласился на совершение скоординированных наступательных операций силами двух государств. В дальнейшем никакие детали этого плана не обсуждались, речь шла лишь о будущих действиях.
Молотов довел это до сведения Гарримана, который к тому времени уже постоянно находился в Москве, получив назначение в качестве нового посла. Необходимо отметить, что и он, и Сталин в равной мере тревожились, что японцам станет известно об этом плане совместных действий.
Гарриман пытался противиться этому назначению. Еще в 1941 году Рузвельт уговаривал его занять этот пост, заменив Штейнгардта, но Гарриман отказался, убедив президента, что для Рузвельта будет гораздо полезнее использовать его в качестве посла по особым поручениям: «Я видел, до какой степени ограничена жизнь иностранных дипломатов в Москве, их буквально держат за забором»[655]. Но назначенный тогда послом адмирал Стендли явно не справлялся с работой, и Рузвельт снова стал уговаривать Гарримана, который с большой неохотой вынужден был согласиться.
26 декабря Гарриман впервые сообщил президенту весьма важные новости из Москвы. Молотов нервно известил Гарримана («читая по бумажке, которую он предпочел не показывать мне»[656]), что «Советское правительство готово начать сотрудничество в войне в Тихоокеанской зоне».
«Я ответил, что Вас, конечно, порадует известие о том, что Советское правительство готово начать сотрудничество в отношении войны в Тихоокеанской зоне… Молотов перебил меня, заявив, что Сталин выразился на этот счет абсолютно недвусмысленно».
Нервозность Молотова объяснялась его опасениями, что данное решение станет известно японцам: их мощная Квантунская армия, как всегда, была развернута на границе и могла напасть в любое время. Это было бы серьезным осложнением: оказалась бы перерезана Транссибирская магистраль, связывавшая Россию с Приморским краем на самой ее восточной оконечности всего в нескольких километрах от маньчжурской границы.
В феврале 1944 года Сталин несколько раз встречался с Гарриманом, чтобы определить, что конкретно он имел в виду под советским участием в Тихоокеанской зоне. Во время первой такой встречи он сказал Гарриману «в категоричной форме», что Советский Союз обеспечит базирование на Дальнем Востоке трем сотням американских тяжелых бомбардировщиков[657]. Когда Гарриман сообщил ему, что генерал Арнольд предполагал разместить там до тысячи бомбардировщиков, Сталин ответил: «Тогда нам придется строить новые аэродромы. Посмотрим, возможно ли это».
«Когда сопротивление немцев на западе начнет ослабевать, дивизии будут переброшены на Дальний Восток… Сразу же после этого Советское правительство перестанет опасаться японских провокаций и сможет даже само спровоцировать японцев. Однако сейчас мы еще пока слабы, чтобы пойти на это»[658]. Сталин сказал, что ГКО начал переоснащение советских ВВС и что на Дальний Восток планируется перебросить четыре армейских корпуса в составе двадцати – двадцати двух дивизий.
Сталин также сообщил, что недавно встречи с ним (через одного советского офицера) добивался начальник японского Генерального штаба, который стремился убедить его в том, что немцы ничего не значат для японцев. Сталин заявил, что он отказался от встречи с ним, добавив: «Пусть идет ко всем чертям!»[659] Он также хотел довести до сведения Рузвельта полученную им информацию о том, что японцы якобы эвакуируют заводы и технику в Маньчжурию и Японию для строительства новой внутренней линии обороны островов, что означает, что в случае наступления союзных сил они не собираются защищать внешний периметр страны и Индонезию.
Вскоре после дня «Д», дня высадки союзнических войск в Европе, Рузвельт попросил Гарримана вновь уточнить у Сталина о его конкретных планах вступления в войну с Японией. Когда Гарриман встретился со Сталиным 10 июня, он сообщил советскому лидеру, что президент «хочет узнать, когда Сталин будет готов начать секретные переговоры по использованию американских ВВС на советских базах Дальнего Востока, а также хочет скоординировать планы военно-морских операций»[660]. Сталин ответил, что, по его мнению, Россия будет играть более активную роль в этой войне «и будет участвовать в совместных боевых операциях на суше, на море и в воздухе», что он уже обсудил все эти вопросы с командующим ВВС на Дальнем Востоке, что в районе между Владивостоком и Советской Гаванью имеются двенадцать аэродромов, способных принимать четырехмоторные бомбардировщики, шесть или семь из которых Соединенные Штаты смогут использовать для своих самолетов. Сталин подчеркнул, как всегда при обсуждении темы участия в войне против Японии, что необходима исключительная степень секретности, чтобы японцы не помешали советским морским перевозкам в Тихом океане, позволяющим «вполне законным образом» накапливать во Владивостоке грузы, включая горючее. Далее Сталин спросил о возможности получения нескольких сотен четырехмоторных самолетов. «Президент, – сказал Гарриман, – ничего так страстно не желает, как совместных воздушных операций США и СССР против японцев». Президент надеется, добавил Гарриман, что переговоры между военным руководством США и СССР о подготовке к совместным действиям начнутся немедленно. «Нельзя терять время: чем раньше начнутся переговоры, тем успешнее они будут», – ответил Сталин. Он поинтересовался здоровьем Рузвельта. Гарриман сообщил, что у президента, как всегда зимой, проблемы с гайморитом, но, «что касается нынешнего состояния здоровья президента, я сказал, что оно отличное, что президент полон сил и энергии».
В августе Франклин Делано Рузвельт написал Сталину, настаивая на сотрудничестве в войне в Тихоокеанской зоне, «когда Вы будете готовы действовать… Ничто иное из того, что мы можем сделать в настоящее время, не могло бы принести большей помощи для быстрейшего завершения войны на Тихом океане»[661]. Сталин ответил: «Получил Ваше послание по вопросам Тихого океана. Мне понятно значение, которое Вы придаете этим вопросам… Я уверен вместе с тем, что Вы хорошо представляете, насколько наши силы сейчас напряжены, чтобы обеспечить успех развернувшейся борьбы в Европе. Все это позволяет надеяться, что недалеко то время, когда мы добьемся решения нашей неотложной задачи и сможем заняться другими вопросами»[662].
В сентябре Сталин, не получая от Рузвельта более конкретной информации о войне на Тихоокеанском театре, по сообщениям Гарримана, встревожился: собираются ли Соединенные Штаты допустить советское участие в боевых действиях. «Сталин интересовался, – телеграфировал Гарриман, – хотим ли мы поставить Японию на колени без русской поддержки или же Вы все еще надеетесь на русское участие, предложенное в Тегеране… каковы планы разгрома Японии и, в частности, какое участие в этих планах союзники отводят России»[663]. Сталин «очень хотел узнать конкретно, какую роль в этой войне мы намерены отвести России. Он всячески подтверждал свою готовность и желание сотрудничать, но не желал вступления в войну без особого приглашения».
15 и 16 октября 1944 года в Кремле проходили встречи представителей военного командования США, России и Великобритании, на которых обсуждались начальные действия против Японии. Присутствовали: молодой и способный генерал Алексей Антонов, начальник оперативного управления Генштаба, генерал Шевченко, начальник штаба Дальневосточного фронта, генерал Дин, начальник военной миссии США в Москве, Гарриман и британские генералы Брук и Исмей, приглашенные для информации и оказания содействия. (Черчилль в это время тоже приехал в Москву, чтобы информировать Сталина о последних решениях союзников. К этому моменту между ним и Сталиным удалось достичь определенного согласия по вопросу боевых операций в Румынии, Болгарии и Греции.) Сталин заявил присутствующим генералам, что «через три месяца будет можно накопить достаточные ресурсы для обеспечения поддержки советских вооруженных сил [на Дальнем Востоке] в течение полутора– двух месяцев. Этого будет достаточно для нанесения решительного удара по Японии»[664].
На какое-то время мысли Сталина обратились к печальным страницам истории России. Он неожиданно для всех сказал: «Между 1904 и 1944 годами нет ничего общего. В 1904 году Россия была одинока, и японцы могли позволить себе все, чего хотели. Но Россия больше не одинока». Никому и в голову не пришло даже упоминать о войне 1904 года, которая закончилась так неудачно для России. В то время Сталину было двадцать шесть лет, и исход той войны, несомненно, произвел на него неизгладимое впечатление. Война завершилась в мае 1905 года чудовищным Цусимским сражением в Японском море. В этом сражении, которое справедливо считается самым страшным в истории морских боев, японский флот в течение нескольких часов потопил, захватил и вывел из строя весь русский флот (двенадцать броненосцев, семь крейсеров, пять миноносцев и три транспортных корабля), потеряв лишь три малых миноносца. Россия была вынуждена подписать условия унизительного Портсмутского договора, согласно которому Япония получила южную половину острова Сахалин, контроль над железнодорожной системой, которую Россия построила в Маньчжурии, а также Порт-Артур и Далянь, незамерзающие порты на Ляодунском полуострове.
Затем Сталин быстро вернулся к обсуждаемой теме. Он снова повторил, что операции против Японии Россия начнет через «три или несколько месяцев» после разгрома Германии, добавив, что он полагает ту войну непродолжительной, поэтому трехмесячное обеспечение для шестидесяти дивизий должно быть достаточным.
На следующий день Сталин сказал, что до тех пор, пока на очередной встрече с Рузвельтом они не достигнут совместного соглашения по войне с Японией, этот вопрос должен изучаться с военной и политической точек зрения. Затем группа приступила к работе. Генерал Дин представил общую стратегию США. Он сказал, что Америка располагает самыми крупными и самыми мощными бомбардировщиками в мире и что для их обслуживания будут нужны аэродромы в Приморском крае, чтобы обеспечить нанесение по Японии разрушительных ударов.
По словам Сталина, Советский Союз имел самую крупную армию в мире, но эта армия будет нуждаться в продовольствии, вооружении, боеприпасах и тыловой поддержке. В контексте предстоящей войны с Японией Сталин рассчитал потребности в продовольствии, горючем и транспортной технике для армии численностью 1,5 миллиона человек. Предполагалось поставить для нее три тысячи танков, семьдесят пять тысяч единиц транспортных средств и пять тысяч самолетов. Все поставки должны были быть завершены к 30 июня 1945 года.
Он пояснил, что на первом этапе боевых действий будет необходимо бомбить Японию с аэродромов Владивостока и Приморского края. Однако гораздо «целесообразнее будет наносить удары по северным районам Японии из Комсомольска и с Сахалина». Истребительную авиацию следовало использовать для защиты Транссибирской магистрали. Безусловно, японцы будут на первых этапах войны наносить по ней удары с воздуха, но по мере продвижения советских войск в южном направлении необходимость обеспечения прикрытия железной дороги будет уменьшаться.
Затем Сталин перешел к подробному обсуждению советской военной стратегии, начав с ее «слабого места» в случае упредительного нападения Японии (что сильно беспокоило Молотова), и обрисовал общие планы мощной наступательной операции для окружения и уничтожения японской военной группировки в Маньчжурии. Он говорил без бумажки и даже без пауз на обдумывание того, что сказать дальше.
Сталин спросил генерала Дина, какие меры, по мнению начальников штабов, следует принять советской стороне. Дин ответил следующим образом:
1. Обезопасить Транссибирскую магистраль, Владивосток и Комсомольск.
2. Сформировать стратегическую группировку советско-американских ВВС.
3. Провести операции по уничтожению японских войск в Маньчжурии.
4. Одновременно обезопасить морские коммуникации в Тихом океане, по которым продолжаются поставки, и открыть доступ к порту Владивосток.
Отвечая на вопрос Сталина, генерал Дин сказал, что наземные операции советских войск предполагаются только в Маньчжурии.
На это Сталин ответил: «Мы не можем ограничиться Маньчжурским регионом. Конечно, мы будем наносить фронтальные удары в Маньчжурии с разных направлений. Но, чтобы достичь реальных результатов, мы должны провести наступательные операции и с флангов: ударить по Калгану и Пекину… Основная задача для нас – не допустить ухода японцев из Китая в Маньчжурию… Что касается других задач, поставленных генералом Дином, у меня нет возражений». Было очевидно, что Сталин опасался отвода японских войск из Китая к маньчжурской границе, если не будет нанесен удар по Пекину. Точно так же американцы опасались отвода японских войск от маньчжурской границы в Японию, если Красная армия не помешает им в этом.
Отвечая на вопрос Дина, Сталин показал на карте, каким образом войска будут наступать с флангов через Улан-Батор и Калган, следуя «старым монгольским маршрутом».
«А что насчет Курильских островов? – спросил Гарриман. – Что Вы думаете по поводу вероятности занятия Северных Курил американскими войсками для защиты маршрута поставок?» Маршал ответил, что было бы весьма полезно усилить позиции на море, а затем оккупировать северокорейские порты сухопутными и военно-морскими силами СССР. Он добавил, что японцы, вероятно, попытаются нанести первые удары по Владивостоку и Петропавловску для вывода из строя расположенных там аэродромов.
Гарриман сообщил о подготовке плана морских операций для захвата северной трети Курильских островов. Поскольку эти острова, которые сейчас являлись японской территорией, в XIX столетии принадлежали России, сама идея, что они будут отторгнуты от Японии и снова станут российскими владениями, была благоприятно воспринята Сталиным.
Генерал Дин сообщил, что в планах боевых действий предусматривается вторжение на территорию Японии уже к концу 1945 года, и задал волновавший всех вопрос: «На какую стратегию русские намерены в большей степени ориентироваться: на действия сухопутных войск или на стратегические бомбардировки?» Сталин ответил: «И то и другое одновременно… Американцы отрежут японские гарнизоны на южных островах, а советские войска изолируют японские сухопутные силы в Китае». Сталин вновь предупредил о строгой секретности этих планов, чтобы не допустить реализации японцами «превентивной авантюры».
На вопрос Гарримана о сроках поставок бомбардировщиков Сталин ответил, что аэродромы и технические средства будут готовы примерно через две недели и он хочет, чтобы в первую партию вошли от десяти до двадцати таких боевых машин.
На карте Сталин показал планируемое наступление Красной армии, которое начнется из района озера Байкал, пройдет через территорию Внешней и Внутренней Монголии к Калгану, Пекину и Тяньцзиню и таким образом отрежет японскую группировку в Китае и Маньчжурии. Было очевидно, что он был доволен тем, что ход обсуждения шел в выгодном для него направлении. Завершая переговоры, он подчеркнул, что решены «грандиозные задачи… Мы должны перебить хребет японцам».
Стороны договорились, что генерал Дин и генерал Антонов обсудят планы со своими коллегами из ВМС.
14 декабря у Гарримана была очередная продолжительная встреча со Сталиным. Они обсудили общие вопросы поставок американских материальных средств на Дальний Восток и предстоящую встречу (где бы она ни состоялась) Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. Гарриман сообщил Сталину, что в американские планы входит подготовка к поставкам в Петропавловск, который станет важной базой для военно-морских и военно-воздушных операций, и что этот вопрос еще предстоит обсудить их военным представителям. (Гарриман сообщил Рузвельту, что встреча со Сталиным «в целом подтвердила их ожидания. Я заверил его, что Вы и ОКНШ заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное касательно поставок. Я подчеркнул необходимость детального планирования… Он дал мне свои гарантии, что поручит Генштабу немедленно приступить к обсуждению этого»[665].)
В Тегеране Рузвельт упомянул только о том, что незамерзающий порт Далянь, возможно, следует возвратить России, прекрасно сознавая, что это далеко не все, что может попросить Сталин в обмен на советское участие в войне на Тихоокеанском театре. Теперь следовало поторговаться. Гарриману было поручено встретиться со Сталиным и договориться о цене участия СССР, сказать ему, что президент США «хотел бы узнать, какие именно затронутые им политические вопросы нуждаются в прояснении в связи со вступлением СССР в войну против Японии». Гарриман обратился к Сталину с таким вопросом в кабинете советского руководителя. Сталин ушел в соседнюю комнату, вернулся с картой в руках и сказал, что Южный Сахалин и Курильские острова должны быть возвращены России и что Россия хотела бы арендовать порт Далянь и Порт-Артур. Помимо этого, сказал Сталин, он желает «снова» арендовать магистраль КВЖД в Маньчжурии от порта Далянь до Харбина, идущую к северо-западу к станции Маньчжурия и к востоку на Владивосток. Гарриман сообщал, что Сталин был удовлетворен беседой, «особо заверив меня, что у него нет намерений препятствовать полновластию Китая в Маньчжурии», и добавив, что он лично заинтересован и в сохранении независимости Внешней Монголии. Сталин коснулся будущего территорий, которые Россия уступила Японии по договору 1905 года, и Курильских островов, ранее принадлежавших России.
Обсуждая планы будущих авианалетов силами бомбардировщиков, Антонов и Сталин заранее предупредили, что самолеты США в любом случае не должны появиться на аэродромах Приморского края и Камчатки раньше, чем за десять дней до начала боевых действий. Однако 17 декабря генерал Антонов вдруг заявил: «После тщательных расчетов мы решили, что советским вооруженным силам потребуются все военно-воздушные и военно-морские базы в Приморском крае, поэтому американские ВВС и ВМС не смогут действовать с этих баз». Такие изменения планов Гарриман счел для себя личным оскорблением и очередным примером самоуправства Сталина. 29 декабря он телеграфировал президенту Рузвельту: «Справедливости ради стоит отметить, что почти все наши требования и пожелания отвергались без долгих слов и каких-либо объяснений. Не могу сказать, чтобы с нашей военной миссией обращались так, как следует вести себя с союзниками… Они очень упрямы и самоуверенны»[666]. Однако в то же самое время, продолжает Гарриман, Антонов сообщил ему, что Соединенные Штаты могут использовать Камчатку и даже начать топографическую съемку полуострова. И снова не последовало никаких объяснений (обычная советская практика), однако у Рузвельта были поистине энциклопедические знания в области географии. (Однажды во время конференции по военным вопросам он буквально потряс своими знаниями заместителя премьер-министра Новой Зеландии Уолтера Нэша, предложившего американским войскам занять небольшой остров у берегов Новой Зеландии. На это Рузвельт тогда ответил: «Нет, не этот остров, для наших целей лучше подойдет соседний остров, который называется Мангарева». Нэш ответил, что впервые слышит о таком острове. Рузвельт изумился: «Да это же остров в архипелаге Туамоту, в почтовой зоне острова Таити. Мне хорошо это известно, ведь я коллекционирую почтовые марки»[667].)
В отличие от Гарримана президенту следовало бы знать, что Приморский край находится слишком близко к Японии, образуя фактически восточную границу Маньчжурии. Поэтому здесь было бы трудно сохранить в тайне активность вооруженных сил США: внезапное изменение плана объясняется, скорее всего, сильным опасением советской стороны, что, обнаружив американское присутствие в этом регионе, японцы могут напасть еще до того, как Красная армия будет достаточно оснащена и способна отразить такое нападение. Генерал Кертис Лемей использовал Марианские острова для базирования «Б-29», которые нанесли сокрушительные бомбовые удары по Токио. Хотя Камчатка расположена существенно ближе к Японии, задействование аэродромов на полуострове было не принципиальным.
Гарриман остался явно недоволен, тем не менее он признавал: «Мои личные взаимоотношения с маршалом Сталиным, господином Молотовым и другими сотрудниками МИДа достаточно дружеские».
* * *
Франклин Делано Рузвельт предпочел в последующем отказаться от двух обязательств, данных им Советскому Союзу, достаточно актуальных для русских, которым всегда, даже в более благоприятных ситуациях, было свойственно с подозрением относиться ко всем иностранцам и не доверять им. Равным образом в обоих случаях проявилась американская паранойя в отношении русских, хотя и лучше скрываемая.
В ноябре 1943 года президент Рузвельт и военное министерство поручили бригадному генералу Доновану, легендарному руководителю Управления стратегических служб США (УСС), сформировать в Москве разведывательную миссию УСС в ответ на создание в Вашингтоне миссии связи советской разведки. Такие органы должны были упростить решение проблем, которые могли возникнуть в ходе совместных боевых операций. Британия уже произвела обмен с Россией такими миссиями: в Лондоне находились четыре офицера НКВД, в Москве – персонал британского Управления специальных операций. Такие структуры, впрочем, не предполагали обмена какими-либо особо секретными материалами.
Сначала Донован встретился с Молотовым, который одобрительно относился к разведдеятельности УСС. Донован и Молотов в сопровождении генерала Дина проследовали в наркомат иностранных дел, затем в штаб НКВД. Там американцев встретил генерал-лейтенант Павел Фитин, руководитель внешней разведки НКВД, тридцатишестилетний голубоглазый блондин (как отозвался о нем генерал Дин) с обворожительной улыбкой, и генерал-майор Александр Осипов, который руководил отделом, курирующим диверсионные операции во вражеских странах[668]. Облик Осипова сразу вызывал в памяти зловещую фигуру Бориса Карлоффа[669]. Донован очаровал русских красочными описаниями малогабаритных радиопередатчиков, пластиковой взрывчатки и другого специального шпионского оснащения, разработанного в УСС, и рассказал о технологии внедрения агентуры УСС на вражеской территории. Донован поведал также о курсах подготовки и обучения американских агентов. Генерал Дин заметил, что Фитину понравилась идея обмена разведывательными данными. Он заявил, что было бы желательно информировать Соединенные Штаты о том, какие диверсии готовят советские агенты на важнейших промышленных объектах Германии и на железных дорогах. И наоборот: получать такую информацию об операциях американской агентуры. Правда, потом Фитин, помрачнев, спросил Донована, приехал ли тот в Советский Союз «с единственной целью предложить сотрудничество или у него есть какие-то другие намерения»[670]. «Я не смог удержаться от улыбки при этом очередном свидетельстве советской подозрительности», – писал генерал Дин (не ведая о том, что его собственная страна отличалась еще большей подозрительностью). Донован спокойно ответил Фитину, что у него не было и нет никаких других намерений.
Их взаимоотношения коренным образом изменились после заключения соглашения об обмене персоналом. Раньше, когда Дину приходилось иметь дело с Фитиным, он был вынужден сначала звонить его помощнику и договариваться с ним о назначении встречи с Фитиным, на что уходили часы, а порой и дни, прежде чем ему удавалось поговорить с Фитиным. Но после встречи с Донованом Фитин дал Дину номер своего прямого телефона и номер телефона Осипова. «Это были первые полученные мною в России номера русских телефонов, и у меня возникло ощущение, что я одержал грандиозную победу»[671], – писал позднее Дин. Впервые Фитин и Осипов приняли приглашение пообедать в американском посольстве. К 5 января все четверо договорились о количественном и персональном составе обмена специалистами: полковнику Джону Хаскелу с небольшой группой помощников предстояло прибыть в Москву в качестве представителей Донована; полковник А. Г. Грауэр с помощниками будут представлять Фитина и Осипова в Вашингтоне.
Руководители шпионских служб завершили обсуждение деталей обмена сотрудниками, по словам Донована Гарриману, следующим образом:
«Я договорился с правительственными учреждениями, курирующими разведывательную и диверсионную деятельность, о нижеследующем:
1. Советская сторона учредит в Вашингтоне координационный центр связи с УСС, а я согласился сформировать соответствующий орган в Москве, которому предстояло информировать посла и военную миссию, а также согласился назначить полковника Джона Хаскела главным представителем.
2. Было достигнуто соглашение об обмене разведывательными данными.
3. Была достигнута договоренность о взаимных расследованиях и обмене специальными техническими средствами и оборудованием.
4. Могли быть согласованы совместные операции на театрах военных действий»[672].
Доновану была известна обеспокоенность определенных кругов США, особенно ОКНШ, тем, что принятые решения откроют советским шпионам доступ к американским секретам. Он постарался рассеять такие подозрения. В марте он направил адмиралу Лихи, который, как знал Донован, всегда настороженно воспринимал советские инициативы и без особого восторга относился к такого рода новациям, хорошо аргументированную памятную записку:
«В беседе со мной генеральный прокурор предположил, что в нашей стране может сложиться впечатление, будто мы делаем это с целью пригласить ОГПУ в Америку. В этой связи я уже ответил на Ваш вопрос по поводу размещения здесь «Амторгом»[673] своих офисов [в Нью-Йорке обосновались две с половиной тысячи сотрудников «Амторга» и столько же – в Вашингтоне.]… Поэтому сомнительным кажется аргумент, что еще 4–5 человек, официально назначенных сотрудничать с УСС по вопросам наших совместных операций против общего врага, значительно расширят шпионскую работу… Впервые у нас появилась возможность выяснить, как наш самый сильный союзник осуществляет в этой войне свои тайные операции… Знать, как ваш союзник осуществляет диверсионную деятельность, так же важно, как знать, как это делает ваш противник»[674].
В середине марта Гарриману пришла ошеломляющая новость: Рузвельт отозвал этот проект. В телеграмме, над содержанием которой президент явно долго работал (правка рукой президента выделена курсивом), содержались указания отменить обмен и уведомить об этом решении Молотова. Рузвельт излагал свою мысль в свойственной ему туманной манере, зная о том, что Сталина много раз информировали об антисоветских настроениях в Соединенных Штатах:
«Представленный вопрос был тщательно изучен, и мы считаем, что на данный момент он неосуществим.
Прошу информировать Сталина маршала, когда у Вас появится такая возможность, что сугубо по внутриполитическим мотивам, которые он поймет, было бы нецелесообразно прямо сейчас обмениваться такими миссиями. Время для этого явно неподходящее»[675].
Гарриман отправил Рузвельту длинную телеграмму в попытке изменить решение президента по этому вопросу:
«Советское согласие с этой идеей, возможно, даже более выгодно для нас, поскольку оно стало первым ощутимым свидетельством духа сотрудничества, который был озвучен на конференциях в Москве и Тегеране.
Мы были сердечно приняты Молотовым… Нас уведомили о том, что после изучения предложения Донована об обмене миссиями оно было принято… Советская миссия в составе полковника Грауэра вместе с ассистентами и их женами готова отправиться в Вашингтон…
За последние два с половиной года мы безуспешно пытались проникнуть в советские источники информации и создать основу для обмена и взаимного доверия. Впервые нам удалось получить доступ к одной из разведывательных служб… Но, если мы теперь захлопнем входную дверь этой службы советского правительства, я уверен, что это неблагоприятным образом повлияет на наши отношения с советским правительством и по другим направлениям сотрудничества»[676].
Дж. Эдгар Гувер, глава ФБР, прослышал об этом проекте и, как всегда, увидел во всех русских опасных шпионов, встревожив этим Рузвельта. Гувер предупредил президента, что, если тот не отменит проект обмена и об этом узнает американская общественность, «возникнет нежелательная реакция в обществе»[677]. С учетом категорического возражения Гувера и потенциальной угрозы о нежелательном уведомлении общественности в год президентских выборов данная идея была похоронена. (Гувер видел коммунистов повсюду; несколько лет спустя он предупреждал Трумэна, что его госсекретарь Дин Ачесон является руководителем коммунистической ячейки.) На доводы Гарримана президент ответил телеграммой: «В своих решениях я руководствовался прежде всего внутренней политической ситуацией»[678]. И добавил, что «может» оказаться полезным, если Гарриман еще раз акцентирует внимание Сталина на том, что обмен миссиями «приходится отложить с учетом текущей ситуации».
Дж. Эдгар Гувер негативно отозвался и о другом проекте. В Тегеране Рузвельт попросил Сталина содействовать улучшению радиосвязи между двумя столицами, позволив установить в Москве американскую радиостанцию и русскую радиостанцию в Вашингтоне. Из-за атмосферных и технических проблем на прохождение телеграмм между Москвой и Вашингтоном уходили не часы, а дни. Британия уже установила радиостанции, обеспечивающие двустороннюю связь, в столицах ряда государств. Генерал Дин, сотрудничавший со штабом Красной армии, через несколько месяцев после Тегерана занимался установкой в Москве американской радиостанции, на что у него ушли весь декабрь и январь. А в марте военное министерство неожиданно известило его о том, что согласно законам США иностранным правительствам не может быть предоставлена привилегия пользоваться американскими радиостанциями. Это стало таким огромным регрессом в сотрудничестве и в личных взаимоотношениях, что Гарриман на этом основании предложил Рузвельту для разрешения возникшей проблемы воспользоваться полномочиями, предоставляемыми президенту на время войны, и сохранить данный проект на весь период боевых действий.
Он указал, насколько важна связь для реализации планов союзников (ВВС были уже готовы направить на три советских аэродрома около тысячи человек для эксплуатации и обслуживания бомбардировщиков США, которым предстояло совершать челночные бомбардировки противника). Но такие идеи традиционно вызывали раздражение Дж. Эдгара Гувера, подверженного паранойе видеть везде и во всем коммунистических заговорщиков. Глава ФБР называл идеи сотрудничества с СССР «чрезвычайно опасными и крайне нежелательными»[679]. 15 марта Рузвельт приказал Гарриману отменить принятое ранее решение, поскольку военное командование США (которое, между прочим, в течение всех этих месяцев активно продвигало идею улучшения связи) внезапно обнаружило, что имеющихся коммуникаций на данное время вполне достаточно и «Объединенный комитет начальников штабов придерживается мнения, что развертывание советской радиостанции в Вашингтоне и американской в Москве на данный момент не является необходимым. Поэтому прошу в дальнейшем снять с обсуждения тему установки в Вашингтоне советской радиостанции»[680].
Поскольку связь между странами была несовершенной, ненадежной и нуждалась в существенном улучшении, генерал Дин предложил русским установить в Алжире радиорелейную станцию, что могло улучшить ситуацию. Но Молотов и Сталин с раздражением отвергли такое предложение. Молотов заявил: уж если по американским законам в Вашингтоне нельзя установить советскую радиостанцию, то «советское правительство не намерено рассматривать никакую другую альтернативу»[681].
Генерал Дин продолжал оказывать на Молотова давление, настаивая на том, что ретранслятор в Алжире является жизнеспособной альтернативой, которая, несомненно, улучшит радиосвязь. При этом и Дин, и Молотов осознавали: что-то следует предпринять. В штабе Красной армии понимали, что релейная станция в Алжире может стать хоть каким-то улучшением коммуникации, и тоже пытались убедить в этом Молотова, а главное – Сталина.
Неужели американская паранойя воспрепятствует реализации даже этого проекта? Гарриман не переставал засыпать Рузвельта телеграммами с подобными вопросами. Президент отвечал Гарриману в свойственной для него манере: «Что касается радиосвязи между СССР и Соединенными Штатами… то я полагаю, что этот вопрос все еще обсуждается». И от руки добавил: «И продвигается в направлении положительного решения»[682].
Позднее Гарриман узнал, что возражения Эдгара Гувера, как и начальника ОКНШ адмирала Лихи, аргументировались опасением: если станет известно, что президент санкционировал открытие в Вашингтоне советской радиостанции, его политические противники и ультраправая пресса тут же объявят Рузвельта коммунистом. В этом таилась замаскированная угроза: если президент пойдет дальше, Гувер может информировать широкий круг изоляционистов, ассоциацию «Америка превыше всего» и многочисленных американцев, напуганных коммунизмом, о том, что президент разрешил установку советской радиостанции в Вашингтоне, и в результате Рузвельт может проиграть очередные выборы.
* * *
Сталин вполне мог не слишком заботиться о прочности своих отношений с Рузвельтом, как и отношения с советским лидером могли не слишком волновать американского президента. Теперь, после провала проектов обмена секретными агентами и установки радиостанций в обеих столицах, когда Рузвельт вдруг изменил свою позицию и отступил назад, Сталин сказал: «Президент – мой друг, и мы всегда поймем друг друга»[683]. Эта ремарка, о которой в июле сообщили Рузвельту, по всей вероятности, побудила президента на приеме в Белом доме в августе высказаться следующим образом о Сталине перед делегатами конференции в Думбартон-Оксе: «В Тегеране мы с маршалом смогли хорошо узнать друг друга. Мы хорошо ладили. Мы сломали лед, если он вообще когда-то существовал, и с тех пор ни о каком льде в наших отношениях не может быть и речи»[684].
К весне 1944 года Красная армия освободила более двух третей оккупированной советской территории. В первомайской речи Сталина особо подчеркивалась важность военного альянса: «Нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге… Мы должны вызволить из немецкой неволи наших братьев поляков, чехословаков и другие союзные с нами народы Западной Европы… Такую задачу можно решить лишь на основе совместных усилий Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Северной Америки, путем совместных ударов с востока – силами наших войск и с запада – силами войск наших союзников»[685].
По поводу Рузвельта Сталин в беседе с Милованом Джиласом накануне дня «Д» произнес слова (которые потом широко комментировались в прессе), что американский президент никогда не запустит руку в ваш карман, чтобы украсть копейку, а Черчилль на это способен. Обычно эти слова истолковывались неверно, поскольку были вырваны из контекста длинного критического заявления в адрес Черчилля. Сталин говорил о Великобритании и заявил: «У них [англичан] нет большей радости, чем нагадить своим союзникам, – и в первой мировой войне они постоянно подводили и русских, и французов. А Черчилль? Черчилль, он такой, что, если не побережешься, он у тебя копейку из кармана утянет. Да, копейку из твоего кармана! Ей-богу, копейку из кармана! А Рузвельт? Рузвельт не такой – он засовывает руку только за кусками покрупнее. А Черчилль? Черчилль – и за копейкой!»[686] Потом он заговорил о коварстве англичан.
Высадка войск союзников в Нормандии произошла 6 июня. Три миллиона солдат, двадцать американских дивизий, четырнадцать британских, три канадских, одна польская и одна французская атаковали берег Нормандии, переброшенные туда огромной армадой транспортных кораблей, какой еще не знала история. На следующий день Сталин телеграфировал Рузвельту, сообщив, что Красная армия будет действовать, как было обещано: «Летнее наступление советских войск… начнется к середине июня… Общее наступление советских войск будет развертываться этапами путем последовательного ввода армий в наступательные операции… Обязуюсь своевременно информировать Вас о ходе наступательных операций»[687]. Примерно в то же время Сталин сказал Гарриману: «Ну, теперь нас ничто не остановит»[688].
Сталин не выступал с публичными заявлениями в течение первой недели, когда американские и британские войска громили оборону немцев на французском побережье. Наконец, 13 июня он заявил в газете «Правда» о действиях союзников следующее: «Подводя итоги семидневных боев освободительных войск союзников по вторжению в Северную Францию, можно без колебаний сказать, что широкое форсирование Ла-Манша и массовая высадка десантных войск союзников на севере Франции удались полностью. Это, несомненно, блестящий успех наших союзников. Нельзя не признать, что история войн не знает другого подобного предприятия по широте замысла, грандиозности масштабов и мастерству выполнения»[689].
21 июня Сталин более подробно информировал президента Рузвельта о главном наступлении русских войск, которым предстояло сковать германские дивизии, обещая: «Не позднее чем через неделю начнется второй тур летнего наступления советских войск. В этом наступлении будет принимать участие 130 дивизий, включая и бронетанковые дивизии… Надеюсь, что наше наступление окажет существенную поддержку операциям союзных войск во Франции и в Италии»[690].
Несколько дней спустя в посольстве США была показана первая кинохроника вторжения, которую смогли увидеть два советских маршала и две сотни высокопоставленных офицеров. «Интерес был огромным». 4 июля Молотов прибыл на обед в американское посольство, и это было впервые, чтобы нарком обедал в иностранном дипломатическом учреждении.
* * *
С точки зрения президента США, самым важным заявлением, которое он отправил Сталину, стало послание от 23 февраля 1944 года по поводу послевоенного международного финансового сотрудничества и «возможного» созыва финансовой конференции в рамках Объединенных Наций. Международная финансовая нестабильность стала главным результатом двух мировых войн и «Великой депрессии».
Американские планы по созданию Банка реконструкции и развития и Стабилизационного фонда Объединенных Наций начали разрабатываться уже через неделю после нападения на Перл-Харбор. Занимавший тогда должность министра финансов Моргентау попросил Гарри Декстера Уайта взять на себя эту работу и разработать планы создания международных инструментов в сфере кредитно-денежной политики. Уайт, специальный помощник Моргентау, которому предстояло стать инициатором международного договора, установил на следующий год более или менее постоянные контакты со своим британским коллегой Джоном Мейнардом Кейнсом, советником британского министерства финансов, который тогда тоже работал над проектами послевоенных организаций экономического сотрудничества, но исключительно в контексте защиты интересов Британской империи. Все они (Моргентау, Уайт и Кейнс) стремились сделать свою работу публичной и получить поддержку со стороны иностранных правительств еще весной 1943 года. Рузвельт, который никогда не спешил раскрывать карты, не выслушав аргументы своих противников (в данном случае имеются в виду изоляционисты), в данном случае остановил Моргентау, заявив ему, что «пока слишком рано… Мы еще не начали побеждать в этой войне»[691].
После утечек информации, касающейся этого проекта (из множества бесед и памятных записок, направленных заинтересованным правительствам), сохранение секретности стало в принципе невозможным. Проект Уайта в конце апреля 1943 года был направлен министрам финансов союзных правительств, с том числе правительству Советского Союза. К этому времени идея уже широко обсуждалась и получила одобрение. Журнал «Форчун» опубликовал важную статью в поддержку послевоенного международного финансового сотрудничества между странами. Громыко заверил Моргентау, что Советский Союз «коренным образом заинтересован» в принятии предложений по созданию фонда и банка. В декабре Уайт вручил два экземпляра «окончательной версии» чернового наброска договора о создании банка секретарю советского посольства Владимиру Базыкину, заметив, что аналогичный документ направлен также Британии, Китаю и Канаде. При этом Уайт намекнул советскому дипломату, что президенту будет нелегко заручиться согласием Конгресса по этому проекту. В январе 1944 года первые русские технические специалисты в сфере кредитно-денежных отношений (для работы в Международном валютном фонде необходимы были технические знания) наконец прибыли в Вашингтон.
В своем послании Сталину президент США просил его принять участие в совещании по организации послевоенного международного экономического сотрудничества. Совещание должно было состояться через месяц. Через три недели Сталин ответил согласием: «Считаю вполне рациональным создание в настоящее время аппарата Объединенных Наций для разработки этих вопросов»[692].
Сталин обладал великолепным пониманием экономических теорий. Еще в начале 1941 года на совещании советских экономистов[693] Сталин спросил их: «Что является главной целью планирования?»[694] Совещание было созвано с целью обновления официальной советской экономической теории. На этом совещании Сталин высказал свои замечания по поводу недавно вышедших из печати советских учебников, объясняющих экономическую теорию коммунистической партии. Из протоколов совещания видно, что Сталин проанализировал представленные ему официальными экономистами проекты двух научных трудов в этой сфере. Главные его замечания в адрес авторов книг коснулись необходимости выражать свои мысли ясно, просто и без преувеличений. В качестве примера Сталин сказал: «Плановая экономика не наша прихоть, она насущно необходима, иначе все рухнет. Мы разрушили такие буржуазные барометры, как рынок и торговля, помогавшие буржуазии справляться с диспропорциями», и заменили их «плановой экономикой, которая необходима нам как хлеб… Главная задача планирования – обеспечить независимость социалистической экономики. Это абсолютно самая важная задача».
В ходе этой встречи с экономистами (тема не предусматривала обсуждения процессов за пределами Советского Союза) Сталин проявил способность глубоко анализировать и обосновывать свои убеждения и, как следует из протокола, неожиданно и резко менял тему обсуждения, упомянув вдруг в положительном контексте Франклина Делано Рузвельта: «В этом кабинете я принимал Уэллса [британского писателя Герберта Уэллса], и он говорил мне, что не хочет, чтобы у власти были рабочие или капиталисты. Он хотел, чтобы государством управляли инженеры. Он говорил, что поддерживает Рузвельта, которого хорошо знает и уважает как честного человека, проявляющего заботу о рабочем классе. Рабочие отвергают идеи классового примирения с мелкой буржуазией». Затем Сталин вернулся к теме совещания и потребовал, чтобы экономисты выражали свои теории более простым и ясным языком и разъясняли взаимосвязь социализма с капитализмом, напомнив им: «Не надо забывать, что мы вышли из капиталистического общества».
Мир, который позволил бы России спокойно заняться восстановлением своей экономики, то есть период экономической стабильности, виделся Сталину достижимым, если Рузвельт останется на своем посту. Сталин подавал сигналы, что Россия должна участвовать в планировании нового устройства мира. Он не только согласился принять участие в конференции, но и пригласил посетить Советскую Россию Эрика Джонстона, самого рьяного проповедника капитализма и президента Торговой палаты США. В феврале газета «Правда» с явным одобрением цитировала Джонстона, заявившего, что американские бизнесмены хотят продавать и экспортировать товары и услуги, «а не идеологические и политические концепции». Сталин как будто поддержал Джонстона: примерно в то же время главный российский экономический журнал «Основы марксизма»[695] опубликовал статью, которая официально понизила градус осуждения капитализма, открывая тем самым дорогу к конкуренции между социалистической и капиталистической экономиками, приемлемой с идеологической точки зрения.
В плане Уайта были разделы, которые не устраивали ни британцев, ни русских, но Рузвельт со свойственным ему ощущением духа времени сознавал, что конференция по финансовым проблемам должна собраться этим летом и что ее участники смогут в ходе встреч успешно сгладить все существующие между ними разногласия. Чтобы конференция стала плодотворной и появился шанс создать в мире новый экономический порядок, Моргентау счел необходимым, чтобы Британия и Россия подписали совместное заявление. Сначала Сталин отнесся к этому без особого интереса. После ознакомления с предварительной документацией он нашел вопросы недостаточно подготовленными. Он хотел, чтобы в документ было внесено положение об определении Россией в одностороннем порядке золотого содержания рубля, и не согласился с требованиями Уайта относительно размера внесения Советским Союзом платежей золотом в Международный валютный фонд. Было похоже, что Советский Союз не был намерен подписывать совместное заявление. Встревоженный Моргентау обратился к Громыко в Вашингтоне и к Гарриману в Москве с просьбой убедить Сталина согласиться, хотя бы для вида (позднее он назвал этот шаг «огромным риском»), советуя Гарриману сказать Сталину, что Британия уже подписалась под проектом, поступив столь неожиданно, по всей видимости, для спасения будущей конференции. Сталин согласился. Молотов попросил Гарримана приехать к нему в наркомат в 23:30 и при встрече прочитал ему следующее: «Правительство СССР еще не завершило в полном объеме изучение основных положений документа. Однако, если правительству Соединенных Штатов необходимо заручиться голосом СССР для обеспечения должного эффекта во внешнем мире, советское правительство соглашается дать указания своим экспертам выразить согласие с проектом г-на Моргентау»[696].
Моргентау был искренне удовлетворен и докладывал Рузвельту: «Вчера я созвонился с Гарриманом в Москве и с Громыко у нас и оказал на них давление, на какое только был способен, чтобы они добились от русских согласия с нами… Я подумал, что Вас больше всего устроит, если советское правительство примет решение согласиться с нами хотя бы с целью “произвести должное впечатление на остальной мир“. Другими словами, они хотели бы выглядеть в глазах остального мира нашими единомышленниками»[697]. По этому поводу Моргентау в беседе с Гарри Декстером Уайтом заметил: «Англии и России придется принять решения по двум жизненно важным для них вопросам… 1) намерена ли Россия начать сотрудничество с остальным миром в международной сфере, чего никогда не делала прежде; и 2) намерена ли Англия сотрудничать с Объединенными Нациями или собирается и далее заигрывать со своими доминионами? Сейчас обеим этим странам придется принимать решения, и… я не намерен принимать от них какие-либо иные слова, кроме “да“ или “нет“[698]. Вероятно, обе страны дали согласие, понимая, что проект министра финансов Генри Моргентау предусматривал не столько гегемонию Соединенных Штатов, сколько оказание помощи всем странам после войны для того, чтобы снова встать на ноги, развиваться и расти, используя механизмы торговли и капиталовложений.
21 апреля «Совместное заявление экспертов Объединенных и Присоединившихся Наций об учреждении Международного валютного фонда» было, наконец, готово. Моргентау сообщил президенту Рузвельту, что 1 мая он разошлет приглашения начать 10 мая неформальное обсуждение проекта документа и созовет первую сессию в конце мая. «Отлично. Теперь у вас есть полномочия двигаться дальше»[699], – ответил президент.
В качестве места проведения конференции был выбран отель «Маунт Вашингтон», располагающий 350 комфортабельными номерами и построенный в виде замка в стиле испанского Ренессанса в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гемпшир. Это было прохладное, доступное и всем известное здание. Рузвельт одобрил проект приглашения, список американских делегатов конференции и ее название: «Монетарная и финансовая конференция при Организации Объединенных Наций». «Все хорошо, – отметил президент. – Вы заслужили медаль, Генри»[700].
Рузвельт созвал конференцию, для участия в которой сорок четыре государства направили свои делегации.
Отель, который был закрыт последние три года, был описан одним из участников как смесь роскоши, хаоса и бестолковости. Участники обнаружили, что окна в их номерах не всегда открываются или закрываются, а краны часто бывали неисправны. Но дни стояли теплые, по вечерам было прохладно, кормили хорошо, а тянувшаяся по всей длине отеля веранда была удобной для общения и бесед. В американскую делегацию входили: Генри Моргентау (председатель), Гарри Декстер Уайт, президент Первого национального банка в Чикаго, Дин Ачесон из Госдепартамента, председатель Федеральной резервной системы, профессор экономики Вассар и для выражения поддержки мероприятия Конгрессом – два конгрессмена и два сенатора.
С самого начала стало очевидным: хотя это и не «проявилось» в форме переговоров (поскольку это трудно было осуществить в конференции с участием такого количества стран, каждая из которых имела свои интересы), большинство членов американской делегации считало, что «России не нужен был Фонд даже с учетом того, что страна была разрушена и масштаб ее человеческих потерь поражал… У нее замкнутая система государственной торговли и государственной промышленности»[701].
«Но Фонду нужна Россия», – возразил Уайт. Член делегации сенатор Чарльз Тоби согласился с ним: «Россия должна войти в систему мировой конкуренции».
В советскую делегацию входили: М. С. Степанов, заместитель наркома внешней торговли и глава делегации; заместитель наркома финансов; начальник Кредитно-денежного управления Наркомата финансов; доктор экономических наук и глава Финансового управления Наркомата внешней торговли.
Несмотря на многие расхождения в позициях, советские делегаты в нерабочие часы вели себя очень дружелюбно. Они дважды сыграли в волейбол с американскими делегатами и оба раза выиграли. Русские также охотно общались с другими делегатами в ночном клубе отеля «Бреттон-Вудс», в котором никто из них не отказывался от выпивки и случая спеть хором песни.
Члены советской делегации возражали против квоты, выделенной для их страны в будущем Международном валютном фонде, на том основании, что торговля России с Америкой неизмеримо возрастет в послевоенное время. Они рассчитывали на квоту в Фонде в размере 10 процентов, что дало бы России 10 процентов голосов, но им сказали, что им будет выделено 800 миллионов долларов США, что составляет менее десяти процентов. Степанов по этому поводу заявил: «Предложенная формула рассчитывалась по прежним экономическим показателям, как, например, объем внешней торговли. Но поскольку есть уверенность в том, что объемы внешней торговли всех стран, в частности Советского Союза и Соединенных Штатов, вырастут, то и рассчитывать квоты следует, основываясь на будущих перспективах, а не на прежней статистике»[702]. Затем Степанов прибег к своему главному аргументу: советская квота должна быть равна британской.
Он также отметил, что Советский Союз полагает, что оккупированным или разрушенным немцами странам следует сократить размер их взноса в Международный фонд в золотом исчислении.
Американская делегация предложила Степанову квоту в размере 1,2 миллиарда долларов, предупредив, что дальнейших уступок в этом вопросе не будет.
Степанов ответил, что он только попросил сократить на 25 процентов размер первоначального взноса золотом и не может «что-либо решать… без согласия Москвы». Он настаивал на том, что для русских расходы на восстановление хозяйства будут «особенно тяжелы» и страна не сможет себе позволить, как предлагает Моргентау, внести 1,2 миллиарда долларов. Он мог согласиться только на 900-миллионный взнос России в банк. Не имея полномочий на изменение квоты, он телеграфировал в Москву с просьбой дать ему соответствующие указания на этот счет.
Позиция России вызвала всеобщую озабоченность. 14 июля газета «Нью-Йорк таймс» писала по этому поводу: «В ожидании ответа из Москвы по поводу взноса России золотом в будущий Международный фонд, активы которого составят 8 500 000 000 долларов США, работа Монетарной и финансовой конференции при Организации Объединенных Наций застопорилась». Прошло еще несколько дней.
Тем временем Эрик Джонстон находился в Москве на устроенном Сталиным пышном приеме в честь высоких гостей. Ему разрешили совершить поездки по Советскому Союзу в те районы, где с 1926 года не доводилось побывать ни одному американцу. Джонстону также была оказана честь иметь длительную «беседу» с советским премьером. Чтобы продемонстрировать всем странам, что Россия предполагает стать ответственным членом послевоенного мира, момент был выбран исключительно удачно. Газета «Нью-Йорк таймс» под заголовком «Глава Торговой палаты говорит, что Сталин намерен приступить к строительству страны и ее торговли» цитировала слова Джонстона, у которого возникло «ощущение очевидной необходимости долгого периода мирной жизни… поскольку Россия должна восстановиться после ужасной, разрушительной войны»[703]. Получить такую поддержку Джонстона, президента Торговой палаты, организации, представляющей крупнейший ресурс капитала в мире, – что могло быть ценнее этого?
Тем временем в Бреттон-Вудсе все ждали ответа из Москвы на запрос России о размере взноса в Фонд. Наконец, Кремлю дали понять, что дело может закончиться настоящим кризисом. Гарриман получил указания встретиться с наркомом финансов и заявить ему, что, если Россия не даст немедленного ответа, Моргентау будет вынужден выступить с окончательным отчетом без советского участия в проекте[704]. По-видимому, Сталин осознал возникшую проблему. Уже через три часа после встречи Гарримана с наркомом финансов Молотов телеграфировал Степанову подробные указания. Прошел еще примерно час до начала заключительной сессии. В Нью-Гемпшире было семь вечера, когда Степанов позвонил Моргентау и сказал ему: «Ответ такой: я рад согласиться с вашим предложением… повысить нашу квоту… до одного миллиарда двухсот миллионов долларов»[705].
Это было гигантским шагом вперед и очередным примером влияния Рузвельта на Сталина. С включением в проект Советского Союза конференция завершилась достижением согласия всех без исключения сорока четырех государств учредить Международный валютный фонд для стабилизации послевоенной финансовой системы, стимулирования внешней торговли и предотвращения экономического соперничества, способного угрожать миру на планете. Во всех газетных отчетах цитировались слова Степанова, заявившего, что его страна «очень сильно стремилась сотрудничать с другими странами Объединенных Наций по послевоенным проблемам и понимала, что это будет особенно необходимо для целого ряда стабильных финансовых систем в послевоенный период»[706].
На следующий день Моргентау восторженно доложил президенту о том, что согласие Молотова повысить квоту отражало желание России «в полной мере сотрудничать с Соединенными Штатами. Дин Ачесон только что заявил, что это событие почти фантастично… и имеет огромное политическое значение»[707]. Кейнс в своем письме другу пошел еще дальше: «Русские хотят оттепели и сотрудничества».
* * *
Накануне закрытия конференции полковник Клаус фон Штауффенберг предпринял попытку покушения на Адольфа Гитлера в резиденции Гитлера в Растенбурге. Штауффенберг установил небольшой портфель с бомбой внутри, рассчитанной на детонацию с десятиминутной задержкой, под столом для совещаний в кабинете Гитлера и покинул здание. Бомба взорвалась, погибли четыре офицера, но Гитлеру удалось уцелеть, он лишь получил ожоги руки и ноги (была опалена также его одежда). Штауффенберг был арестован и расстрелян, а его сообщники выявлены и повешены. Глава УСС генерал Донован знал о заговорщиках из группы Штауффенберга, поскольку они входили в контакт с УСС, рассчитывая на его поддержку. Если бы покушение завершилось успехом, по мнению Донована, за этим последовало бы восстание германского подполья. От этой группы к руководителю УСС поступали разъяснения, что они настроены категорически против Советского Союза и были убеждены, что для Германии было бы лучше всего договориться о мире, но без участия России. Донован приходил к Рузвельту и просил его оказать поддержку заговорщикам через УСС. Президент ответил ему: «Если мы начнем убивать глав государств, один Бог знает, чем это может кончиться. Если немцы устранят Гитлера, это их дело, но УСС не следует ничего предпринимать для этого»[708]. Президент добавил: «Соединенные Штаты не предпримут никаких действий без предварительных консультаций с СССР».
* * *
В июле Сталин вновь поступил в соответствии с пожеланиями Рузвельта. Начав пропагандистскую кампанию внутри страны и за рубежом, Сталин создал Совет по делам религий для связи между правительством и всеми религиозными течениями, за исключением Русской православной церкви, которая уже была реабилитирована. Это стало завершающим шагом в процессе реабилитации религий в России. Католической церкви разрешили восстановить храмы, закупить печатные прессы и совершать службы. Вновь открылись закрытые после 1917 года духовные семинарии. Престижная Московская духовная академия, которая располагалась в монастыре XVII века, первая воспользовалась благами нового закона, а Армяно-Григорианская церковь уже готовилась открыть семинарию в окрестностях Еревана. Известно было, что новый совет рассматривал возможность открыть в Узбекской республике школу мулл для мусульманского населения. В Москве под штаб-квартиру Совета по делам религий отвели большое каменное здание, ворота которого украсила черная доска с золотыми буквами, обозначающими название учреждения. Это вовсе не означало, что Сталин вдруг поменял свои убеждения (коммунисту, желающему сделать карьеру, приходится быть атеистом). Такой шаг был сделан, чтобы заставить народ снова испытать чувство благодарности к своему вождю и произвести впечатление на остальной мир своим духовным перерождением.
Рузвельт никак не прокомментировал это окончательное ослабление ограничений против религии, как и сделанные Сталиным до этого послабления в отношении религиозной практики. Разве что президент в очередной раз вздохнул с облегчением.
Лето продолжалось, и подходили к концу последние приготовления к конференции в Думбартон-Оксе, где четырем «полицейским государствам Рузвельта» (Америке, Британии, России и Китаю) предстояло встретиться и обсудить формирование общемировой системы безопасности. Думбартон-Окс представлял собой сооружение начала XIX века и когда-то являлся домом сенатора и вице-президента США Джона К. Кэлхуна. Потом он был перестроен Робертом Вудсом Блиссом, профессиональным дипломатом, в изящный кирпичный дворец в стиле Джорджтауна. Сооружение располагалось в центре необычного сада площадью шестнадцать акров, оформленного Беатрис Фарран, с мощеными дорожками, заросшими лилиями прудами с перекинутыми мостиками и изумительными цветниками. Большим вкусом был отмечен и интерьер здания с просторным музыкальным залом в стиле Возрождения, в котором 21 августа собрались делегаты из Америки, Британии и России. Они уселись вокруг стола для совещаний U-образной формы, положив перед собой большие блокноты и карандаши, готовые обсуждать контуры послевоенной миротворческой организации. Советский посол Андрей Громыко, поддерживаемый группой экспертов в области международного права, возглавлял советскую делегацию. Главой делегации Британии был Александр Кадоган, постоянный заместитель министра иностранных дел; заместитель госсекретаря США Эдвард Р. Стеттиниус возглавлял американскую делегацию. К огорчению присутствующих, из-за постоянных опасений русских спровоцировать Японию китайская делегация не могла присутствовать до отъезда русской делегации.
Прибывший вместе с российской делегацией Громыко совершил изнурительный пятидневный перелет через Сибирь, советский Дальний Восток, оттуда на Аляску, затем через Канаду в Соединенные Штаты. Однажды вылет пришлось надолго отложить из-за ураганного ветра, с остановкой в крошечном поселке Уэлькаль на Чукотке, на самом краю Берингова моря. Когда делегация, наконец, прибыла в Национальный аэропорт, их встречали Стеттиниус с американской делегацией и члены британской делегации во главе с Кадоганом. Несмотря на все пережитое во время перелета, Громыко с большим оптимизмом воспринял проведение конференции – по русским стандартам, почти восторженно. Сам факт, что конференция состоится, очень воодушевлял советского дипломата. Он писал Сталину: «Есть все основания верить, что США будут заинтересованы в сохранении мира… Только в этом контексте мы можем истолковать готовность США принять активное участие в организации международного мира и безопасности»[709]. Позднее он писал: «Наш подход был ясен. Мы решили создать такую организацию, и мы решили, что она должна быть эффективной»[710].
Поскольку основным принципом Рузвельта было формирование четырех «стран-полицейских» в качестве самой мощной международной силы для обуздания стран-нарушителей, что уже обсуждалось со Сталиным и Молотовым, когда последний посетил Вашингтон в июне 1942 года (в октябре 1943 года эта идея была согласована на Московской конференции, а затем снова обсуждалась со Сталиным в Тегеране), то для русских тут не было ничего нового, концепция была хорошо знакома каждому из них и в полной мере считалась достаточно важной и британцами, и русскими.
Окончательный документ, представленный на конференции в Думбартон-Оксе, стал итогом пятилетней напряженной работы президента Рузвельта и Госдепартамента США. Четыре «полицейских государства» стали теперь четырьмя постоянными членами Совета Безопасности, в состав которого вошли одиннадцать стран. Постоянные члены, действуя совместно, сформировали Военно-штабной комитет Организации Объединенных Наций, ответственный за все меры военного принуждения в рамках Организации Объединенных Наций. Были учреждены Генеральная Ассамблея, в которую входили все государства – члены организации, Международный суд, Совет по экономическим и социальным вопросам, Секретариат Организации Объединенных Наций и различные подкомитеты организации.
После дискуссии, проведенной по инициативе Громыко, Франция согласилась стать пятым постоянным членом Совета Безопасности. Как писал Стивен Шлезингер, автор книги «Акт создания: основание Организации Объединенных Наций», Рузвельт выступал за включение в Совет Безопасности в качестве постоянного члена Бразилии, крупнейшей страны Южной Америки, которая высказала такое желание. Однако Стеттиниус при поддержке директора Комитета по решению послевоенных проблем Лео Пасвольского смогли уговорить президента отказаться от этой идеи.
Сталин дал Громыко указание бороться за право абсолютного вето в Совете Безопасности. Громыко вспоминал, что у него тогда была сложная ситуация: «Работа шла чрезвычайно напряженно»[711]. Три державы пришли к соглашению, что голосование необходимо для блокирования любых военных акций, направленных против одного из постоянных членов, даже если этот член является агрессором. Но от Громыко Москва требовала, чтобы тот добивался абсолютного вето: чтобы любая общемировая проблема, обсуждения которой не желал один из членов, не могла бы даже обсуждаться. Это было неприемлемо для Британии и Соединенных Штатов, поскольку означало, что в этом случае любой из постоянных членов получал возможность контролировать повестку дня Совета Безопасности, то есть обретал функцию цензора. По свидетельству Громыко, советская позиция основывалась на опасении, что капиталистические страны смогут совместно оказывать давление на Советский Союз, единственного социалистического члена Совета Безопасности, а он даже не сможет этому противодействовать.
Не имея возможности выхода из этой тупиковой ситуации и понимая, что единодушие по вопросу применения права вето должно быть принципом Совета Безопасности, Хэлл и Стеттиниус приняли решение пригласить Громыко на завтрак к президенту Рузвельту: вдруг президент сможет как-то повлиять на изменение позиции российского дипломата. Завтрак с президентом всегда считался проявлением исключительного дружелюбия со стороны президента США. Стеттиниус спросил Громыко, не желает ли он обсудить эту проблему во время завтрака с президентом. Громыко ответил согласием. Встреча Громыко и Рузвельта состоялась на следующее утро, 8 сентября, с участием Стеттиниуса.
Франклин Делано Рузвельт сразу же приступил к делу. Он провел встречу таким образом, что не только объяснил Громыко позицию США по рассматриваемому вопросу, но и попытался создать у советского дипломата впечатление, что он «на его стороне», позволив гостю присутствовать даже при даче указаний заместителю госсекретаря. Он начал с изложения Громыко своих планов на грядущую встречу с Черчиллем в Квебеке, выразил надежду на проведение в самое ближайшее время очередной конференции руководителей трех держав, а также свое удовлетворение положением на фронтах Советского Союза и союзных сил. Затем он зачитал телеграмму из Китая от генерала Пэта Херли, процитировавшего слова Молотова о том, что Советский Союз не заинтересован в китайских коммунистах, которые, по своей сути, и вовсе не коммунисты, с чем Рузвельт согласился, заметив, что и сам не считал их никем, кроме как аграриями.
Президент, которому обычно была свойственна манера говорить много и быстро, начинал излагать свои мысли медленно и взвешенно, когда приближался к самой сути беседы. Такая манера обезоруживала многих, но всегда беспокоила Стеттиниуса. «Президент, наконец, сменил тему и заговорил о Думбартон-Оксе»[712], – писал он. Громыко ранее в беседе с Кадоганом и Стеттиниусом возражал против создания Совета ООН по экономическим и социальным вопросам, объясняя позицию советского правительства интересами безопасности. Россия опасалась, что предлагаемая структура будет тратить свою энергию на посторонние проблемы. Громыко выступал также за создание международных ВВС постоянной готовности, которые могли бы немедленно справиться с нарушителями. Теперь он заметил, что, поскольку Соединенные Штаты против такой позиции, его страна отзывает это предложение. Но Громыко «достаточно ясно дал понять», что хотя СССР и идет на уступки в этих вопросах, он не может поступить так в отношении права вето.
Затем Рузвельт в попытках переубедить Громыко в отношении права вето приступил к изложению своих главных аргументов. Сначала он придал проблеме сугубо личностный характер: «Традиционно в нашей стране мужья и жены во время семейных конфликтов никогда не оказывают давления друг на друга, не принимают единоличных решений, и у них всегда есть возможность изложить свои доводы». Затем президент ненадолго коснулся истории, подчеркнув, что американские принципы равноправия перед законом заложены еще отцами-основателями государства. Потом он осторожно намекнул на то, что принятие советского предложения создало бы ему серьезные проблемы в отношениях с Сенатом, а закончил речь словами, что, по его мнению, «вопрос о создании сил быстрого реагирования» в Сенате мог бы получить поддержку. Ничто не помогало. Громыко объяснил президенту: «Мы знаем, что не можем отступить от нашей позиции, совсем как наши войска знали, что они не могут отступить на восток от Волги»[713]. Однако он очень вежливо реагировал на реплики Рузвельта, и, по словам Стеттиниуса, это была беседа, «по результатам которой он мог ясно объяснить своему народу нашу позицию».
«Сочтет ли Громыко полезным для дела отправить послание Сталину?» – спросил Стеттиниус, по которому было видно, что он должным образом подготовился к такому повороту дела. Он уже держал в руках проект телеграммы Рузвельта Сталину, где говорилось о трудности разрешения вопроса о голосовании с упором на то, что традиционно американские партии не имеют права снимать с обсуждения то или иное предложение, что международная организация, которая нарушит этот принцип, просто не получит поддержки. По его мнению, так же отнесутся к этому вопросу менее крупные государства. Стеттиниус зачитал текст этой телеграммы.
Рузвельт сказал, что ему нравится текст послания, но он хочет, чтобы в текст было включено его сравнение с конфликтом между мужем и женой, после чего послание было «передано мисс Талли [секретарь президента] для отправки»[714].
Затем, завершая обсуждение и скорее в интересах Громыко, чем Стеттиниуса, Франклин Рузвельт заявил порой свойственным ему властным и категоричным тоном, что вопрос должен быть разрешен к концу следующей недели: «Я хочу, чтобы к этому моменту документ был подписан, и желаю услышать от вас доклад о достижении большого успеха в этом вопросе. Это мой приказ вам».
При этих словах президента, как писал Стеттиниус: «Громыко начал ерзать в кресле, как, впрочем, и я сам».
Несмотря на разногласия по основным вопросам, Громыко все еще чувствовал доброжелательное отношение президента Рузвельта, чувствовал, что тот ищет пути устранения возникших трудностей для достижения согласия. Ему даже казалось, что президент мог согласиться с советской трактовкой права вето, поскольку считал, что решения по всем вопросам, рассматриваемым Советом Безопасности, «кроме процедурных вопросов», должны приниматься единогласно. Однако в процедурные вопросы входило и утверждение повестки дня, а это означало, что любая страна сможет заблокировать любой пункт повестки. Никто не знал, что с этим делать. Десять дней спустя Громыко сказал Стеттиниусу: «Россия никогда не отступит от своей позиции, которую занимает по вопросу о голосовании в Совете Безопасности».
Много позднее Громыко вспоминал, с каким уважением и дружелюбием Франклин Делано Рузвельт относился к продвигаемому им проекту ООН: «Поскольку президент был заинтересован найти средства урегулирования всех проблем, я надеялся, что поиск договоренности завершится успехом»[715].
Завтрак с президентом оказал большое впечатление на Громыко. Советский образ мыслей, который сформировался в результате вторжений со стороны Польши и Германии, был направлен исключительно на предотвращение будущих агрессий. Как результат – русские в первую очередь обращали внимание на то, что Громыко называл международной организацией для обеспечения не мира, но безопасности. Игнорируя социально-экономические вопросы, русские просто считали их отвлекающими от решения главных задач. Однако примечательно, что на следующий день после завтрака с президентом Громыко вдруг согласился на формирование Совета по экономическим и социальным вопросам, а в порядке ответной любезности Стеттиниус и Кадоган согласились восстановить снятое предложение Громыко, на рассмотрении которого он ранее настаивал.
Обсуждение деталей оказалось тяжким трудом: к полуночи удалось согласовать после долгих споров только название организации. В своей книге «Памятное», опубликованной в 1989 году[716], для описания виллы Думбартон-Окс Громыко употребляет термин «уютный», довольно устаревшее слово. («Три делегации встречались в уютном доме в Думбартон-Оксе»[717].) Это слово применительно к огромному и элегантному дворцу выглядит действительно странно. По всей вероятности, таким образом нашла свое эмоциональное отражение атмосфера, в которой проходили беседы автора книги с Стеттиниусом, Кадоганом и Рузвельтом. Совершенно очевидно, что Громыко, работая над деталями плана, направленного на поддержание мира на планете и наказание агрессоров, впервые тогда ощутил, что является частью сплоченной команды, и ему было приятно сознавать, что, как он пишет в книге, «все участники должны прийти к согласию».
Но в Думбартон-Оксе все еще тикала мощная бомба замедленного действия, которую даже старались не трогать ни президент, ни Громыко. Речь идет о требовании Сталина, которое Громыко озвучил в первый день переговоров, 21 августа, и к которому он обещал больше никогда не возвращаться: Сталин хотел, чтобы все шестнадцать советских республик, каждая из которых получила права суверенного государства лишь годом ранее, стали членами Генеральной Ассамблеи. Стеттиниус немедленно поставил об этом в известность президента. Ответ Рузвельта был краток: «О боже!» Президент поручил Стеттиниусу сообщить Громыко в частном порядке, что никогда не согласится на это. Через тот же канал связи Рузвельт известил Сталина, что обсуждение этого вопроса на конференции поставит под удар весь ход переговоров. Президент решил не загонять Сталина в угол и заявил, что этот вопрос будет рассмотрен позднее после формирования организации: «Ассамблея имела бы к этому времени все полномочия для принятия решения»[718]. Сталин, который тоже не хотел срыва переговоров, да и всего проекта Рузвельта, согласился отложить решение этого вопроса: «Я надеюсь еще иметь случай объяснить Вам политическую важность этого вопроса, поставленного советской делегацией в Думбартон-Оксе»[719].
На предстоящей встрече со Сталиным Франклин Рузвельт хотел отговорить его от идеи шестнадцати голосов СССР в ООН, однако Стеттиниус настолько опасался, что известие об этом советском требовании обрушит дальнейшие переговоры по обсуждению состава всемирной организации и конкретных аспектов ее деятельности, что сознательно опустил это требование при публикации стенограммы конференции, распространяемой среди делегатов. Такая информация появилась только во втором выпуске стенограммы, который Стеттиниус предпочел никому не раздавать, а запер в своем сейфе.
Вскоре после завтрака Сталин отправил президенту США телеграмму, наполненную размышлениями:
«Я также надеюсь, что эти важные переговоры могут закончиться успешно. Это может иметь серьезное значение для дальнейшего укрепления сотрудничества наших стран и для всего дела будущего мира и безопасности… Первоначальное американское предложение о том, чтобы была установлена особая процедура голосования в случае спора, в котором непосредственно замешан один или несколько членов Совета, имеющих статус постоянного члена, мне представляется правильным… Среди этих держав нет места для взаимных подозрений… Я надеюсь, что Вы поймете серьезность высказанных здесь соображений и что мы найдем согласованное решение и в данном вопросе»[720].
Готовя советских граждан к реалиям будущей мирной жизни, советские газеты широко освещали переговоры в Думбартон-Оксе, публикуя важные разделы проектов договоров, подчеркивая «почти исключительную»[721] необходимость согласия и единства великих держав, ответственных за поддержание мира. Советская пресса отражала и новое осознание Россией своей роли в мире. Упоминались такие темы, как послевоенное управление колониями и будущий статус Кильского канала. Советских граждан готовили к будущему, в котором их страна займет подобающее ей место за столом мирных переговоров.
В то же время Сталин и российская общественность были серьезно обеспокоены тем, что Рузвельт может проиграть ноябрьские выборы. Русские продолжали солидаризоваться с американским президентом и призывать к его переизбранию. Как говорил Сталин Гарриману, «президента следует переизбрать. Дьюи не чета ему, да и ни один здравомыслящий американец не захочет менять главу правительства в разгар войны. Даже сравнивать нельзя Дьюи и президента. Дьюи – грубый и невежественный человек, а президент – первоклассный политик международного масштаба. Уверен, что президент будет переизбран».
Только с целью увериться, что отдельные разногласия в их позициях не сорвут планов по созданию всемирной организации до их встречи (которая не могла состояться раньше дня инаугурации Рузвельта в январе), президент попросил Гарримана посоветовать Сталину, даже если тот продолжает настаивать на предложенной им процедуре голосования, чтобы он «не спешил говорить “нет“, а оставил этот вопрос открытым для дальнейшего обсуждения»[722].
Несмотря на разногласия по вопросу вето, Сталин был необычайно рад перспективе установления мира планируемой новой мировой организацией. В своей речи 6 ноября, посвященной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, он прямо говорил об этом:
«Какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии, а если война все же возникнет, – задушить ее в самом начале?.. Кроме полного разоружения агрессивных наций, существует лишь одно средство: создать специальную организацию защиты мира и обеспечения безопасности из представителей миролюбивых наций, дать в распоряжение руководящего органа этой организации минимально необходимое количество вооруженных сил, потребное для предотвращения агрессии, и обязать эту организацию применить без промедления эти вооруженные силы… Это не должно быть повторением печальной памяти Лиги Наций, которая не имела ни прав, ни средств для предотвращения агрессии. Это будет новая, специальная, полномочная международная организация, имеющая в своем распоряжении все необходимое для того, чтобы защитить мир и предотвратить новую агрессию».
Далее он заявил о важности сотрудничества между державами:
«Можно ли рассчитывать на то, что действия этой международной организации будут достаточно эффективными? Они будут эффективными, если великие державы, вынесшие на своих плечах главную тяжесть войны против гитлеровской Германии, будут действовать и впредь в духе единодушия и согласия. Они не будут эффективными, если будет нарушено это необходимое условие»[723].
Поскольку приближались рождественские праздники, Рузвельт попросил Сталина встретиться с офицером из штаба Эйзенхауэра для координации усилий Красной армии на Восточном фронте и действий союзных армий на Западном фронте, обещая обеспечить «полную секретность». Армии Эйзенхауэра в то время вели бои с контратакующими дивизиями Гитлера, это было сражение в Арденнах, последняя контратака фашистской Германии, в то время как Красная армия форсировала Вислу и быстро продвигалась в направлении Берлина. Сталин отозвался без промедления: «Разумеется, я согласен с Вашим предложением, так же как согласен встретиться с офицером от ген. Эйзенхауэра и устроить с ним обмен информацией»[724].
* * *
Рузвельт решил встретить Новый год с шампанским, полученным от Сталина. В верхнем кабинете Белого дома собралась небольшая компания из друзей и членов семьи, включая детей и внуков президента. С «большим воодушевлением»[725] открыли первую бутылку и разлили по бокалам игристый напиток, изготовленный, согласно прилагаемой записке, на родине Сталина, в Грузинской республике.
Потом был шок, поскольку шампанское никому не понравилось, оно было «слишком сладким», «ужасным на вкус», и его было «совершенно невозможно пить». Но наступила полночь, делать было нечего, и все подняли бокалы под бой часов. Затем все присутствующие, в том числе президент Соединенных Штатов, подняли тост за «дядюшку Джо».
Глава 12 Новое оружие: атомная бомба
В 1930-е годы деление атома будоражило умы физиков всей Европы. Западные научные журналы публиковали сотни статей о расщеплении атома. Затем русские ученые обратили внимание на то, что эти публикации внезапно прекратились. В начале 1940-х годов они заметили, что огромное число английских и американских физиков и инженеров необъяснимым образом исчезли из своих научных лабораторий, комитетов, университетских кафедр и научных институтов, словно провалившись в какую-то бездонную «черную дыру», что, в конце концов, побудило озадаченную советскую разведку заняться весьма серьезным, но никому тогда не известным проектом «Энормоз»[726]. К тому же русским ученым намекнули, что западные правительства ведут работы над термоядерной реакцией, скрывая эту деятельность. Такие намеки отразила статья блестящего физика-ядерщика, двадцатидвухлетнего Георгия Флерова, опубликованная в соавторстве с другим советским физиком под заголовком «Спонтанное деление ядер урана» в журнале «Доклады Академии наук СССР». На эту публикацию вообще не было никакой реакции – ни одного письма, ни одного комментария. Кроме того, русские физики-ядерщики обратили внимание на то, что с июня 1940 года все научные журналы западных стран перестали даже упоминать о расщеплении атома. Как это ни парадоксально, но западные ученые окружили свои работы непроницаемой завесой секретности, чтобы не допустить разработки такой бомбы в Германии, – образ Гитлера с таким оружием в руках леденил кровь, а результат применения атомной бомбы рисовал в воображении такой же ужас, как красное знамя, которое развевается над всей планетой. Глава НКВД Берия поспешно приказал своим шпионам установить, где именно ученые-ядерщики ведут эти работы и чем конкретно они занимаются. Вскоре русских ученых-ядерщиков проинформировали о том, что Соединенные Штаты создают атомную бомбу. Советские ученые тоже работали в этой волнующей всех области расщепления атома, хотя американцы и не подозревали этого. Русский ученый-ядерщик Игорь Васильевич Курчатов, возглавлявший группу ученых, в 1939 году подводил к завершению работу над созданием циклотрона. В ноябре 1940 года на конференции физиков-ядерщиков в Москве он представил отчет о возможности получения цепных ядерных реакций. К июню 1941 года циклотрон Курчатова был готов для использования. Его собирались запустить именно в тот день, на рассвете которого началось вторжение гитлеровских войск. Страна оказалась перед угрозой гибели, поэтому проект циклотрона был закрыт, а физики переключились на проекты, которые теперь для страны оказались более жизненно необходимыми.
Флеров, самый молодой в плеяде русских ученых, несмотря на начавшуюся войну, в одиночку пытался добиться возобновления работ по ядерным исследованиям. Он писал письма авторитетным советским физикам-ядерщикам, настаивая на возобновлении исследований. Получив очередной категорический отказ, он обратился непосредственно к Сталину, предупреждая его о том, что другие страны уже ведут разработку ядерной бомбы, и настоятельно советовал возобновить такие работы в СССР: «Это письмо последнее, после чего я складываю оружие и жду, когда удастся решить задачу в Германии, Англии или США. Результаты будут настолько огромны, что будет не до того, кто виноват в том, что у нас в Союзе забросили эту работу»[727].
Флеров написал это письмо в апреле 1942 года. На следующий месяц Сталин созвал совещание ведущих советских ученых, чтобы выслушать их рекомендации. В совещании приняли участие: Абрам Федорович Иоффе, основатель Ленинградского физико-технического института; Виталий Григорьевич Хлопин, председатель Комитета по урановой проблеме при Президиуме Академии наук СССР; Петр Капица, ученик британского ученого новозеландского происхождения Эрнста Резерфорда, получивший затем, в 1978 году, Нобелевскую премию; Владимир Вернадский, основатель ленинградского Радиевого института. Как пишет Ричард Родс, автор книги «Темное солнце. Создание водородной бомбы», ученые единодушно подтвердили важность создания такой бомбы для Советского Союза. После раздумий Сталин произнес: «Надо делать»[728]. Но с практической реализацией пришлось подождать. Вести с фронта весной 1942 года приходили очень плохие. Вермахт брал страну в железные клещи. Вот-вот должен был пасть Сталинград, Ленинград переживал блокаду, его жители умирали от голода. Время для разработки научных проектов было самое неподходящее.
2 декабря 1942 года лауреат Нобелевской премии Энрико Ферми, американец итальянского происхождения, впервые получил в Чикаго цепную ядерную реакцию. Примерно через восемь недель об этом стало известно советским ученым, информация была немедленно доложена Сталину. Возможно, впервые с начала войны положение на фронте стало обнадеживающим: 11 февраля 1943 года после капитуляции фельдмаршала Фридриха Паулюса в Сталинграде Сталин приказал сформировать комитет по использованию атомной энергии в военных целях. Директором «уранового проекта» (как его стали называть) в 1943 году поставили Курчатова. Многие авторитетные ученые возражали против его назначения, ему тогда было лишь сорок лет. Но руководителю «Манхэттенского проекта», за развитием которого напряженно следила русская разведка, Роберту Оппенгеймеру, под чьим началом работали Энрико Ферми и Нильс Бор, было и того меньше – только тридцать восемь.
Поскольку все причастные к работе над атомным оружием в России понимали, насколько они отстают от западных коллег, Лаврентий Берия активизировал деятельность советской разведывательной агентуры в США и Великобритании. Курчатов и его коллеги крайне нуждались в последних данных, касающихся цепной реакции, и «довольно часто посещали» Берию в его кабинете на третьем этаже Лубянки, чтобы ознакомиться с поступающими туда данными разведки[729]. Опираясь на полученную от Берии информацию, к марту 1943 года Курчатов уже знал о местоположении семи важнейших ядерных исследовательских центров США и имена 26 ведущих ученых, работавших в этой области. К июлю советской разведке удалось похитить и доставить Берии 286 секретных документов по ядерным исследованиям. Курчатов приступил к созданию небольшого уранграфитового реактора, хотя не мог обеспечить существенного прогресса в этом направлении из-за дефицита графита и урана.
В октябре 1943 года Советский Союз попытался завербовать выдающегося датского физика-ядерщика Нильса Бора, когда тот находился в Лондоне. Ранее Бор занимал должность директора Института теоретической физики в Копенгагене, а в 1922 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике за работу по изучению строения атома. Узнав о том, что немцы намерены загнать всех евреев в Дании в лагеря, британские агенты спрятали Бора в пустом бомбовом люке бомбардировщика «Москито», в котором обычно доставляли дипломатическую почту, и тайно вывезли ученого из Стокгольма в Лондон. Вскоре после прибытия Нильса Бора в британскую столицу сотрудник советского посольства передал ему письмо от ведущего советского физика Петра Капицы, в котором говорилось следующее: «Я хочу, чтобы Вы знали, что Вам будут рады в Советском Союзе, где будет сделано все, чтобы дать убежище Вам и Вашей семье, где сейчас мы имеем все необходимые условия для научной работы»[730]. Бор проигнорировал это письмо, хотя и не сообщил о нем ни американским, ни британским властям.
В феврале 1944 года Берия назначил легендарного куратора зарубежной шпионской сети Павла Судоплатова начальником новой самостоятельной структуры НКВД – отдела «С», отвечавшего за сбор, использование и доведение до нужных адресатов разведданных, касавшихся атомной проблематики. С этого момента никаких проблем с финансированием не возникало: всем сотрудникам отдела «С», как и группе физиков-ядерщиков, были предоставлены особые продовольственные пайки, медицинское обслуживание на высшем уровне, прекрасные квартиры, дачи и специальные карточки для приобретения товаров в спецмагазинах.
Однако ядерные исследования в Советском Союзе оставались на весьма низком уровне. В 1944 году команда Курчатова, работавшая в главной лаборатории, насчитывала лишь шестьдесят пять специалистов[731]. Урана катастрофически не хватало: только весной 1945 года советские физики-ядерщики впервые получат в свое распоряжение крупную партию урана (340 килограммов), захваченную в качестве трофея в германской научной лаборатории в Вене.
* * *
В Соединенных Штатах Рузвельта встревожило письмо Альберта Эйнштейна, в котором тот подчеркнул исключительную важность научных исследований по разработке атомной бомбы: шел еще только 1939 год. Инициатором такого письма стал Лео Силард, американский физик-ядерщик венгерского происхождения, ранее работавший с Эйнштейном в Германии. Именно Силарду принадлежит идея обратить внимание президента Рузвельта на важность для США создания атомного оружия. Силард написал это письмо вместе с другим американским физиком и математиком венгерского происхождения, Юджином Вигнером, занимавшим тогда должность профессора Принстонского университета, в то тревожное лето 1939 года, когда Сталин еще колебался, с кем заключить союз: с Британией или с Германией. В письме говорилось о реальной угрозе получения Гитлером атомной бомбы в результате успешной работы германских ученых в области ядерных исследований. Чтобы Рузвельт наверняка прочел это письмо, Силард попросил подписать его Эйнштейна, самого знаменитого в мире ученого. В начале августа Силард с отпечатанной на машинке окончательной версией письма в кармане, никогда в жизни не сидевший за рулем автомобиля, попросил своего приятеля Эдварда Теллера, американского физика-ядерщика венгерского происхождения, отвезти его на машине в Пеконик, Лонг-Айленд, где в то время жил Эйнштейн, чтобы получить его подпись. По словам Теллера, Эйнштейн с большим вниманием прочитал письмо и поставил под ним свою подпись. При этом сказал, что впервые ядерная энергия будет использована напрямую вместо непрямого использования через процессы на Солнце[732]. Передать письмо президенту Силард попросил Александра Сакса, друга Рузвельта и известного экономиста. Из-за осложнения международной обстановки Сакс смог попасть на прием к президенту только 11 октября, когда Рузвельт написал Калинину о необходимости проявления Советским Союзом сдержанности по отношению к Финляндии. В этот судьбоносный день Сакс, стремясь подчеркнуть всю критичность ситуации, зачитал письмо президенту. В письме, в частности, говорилось:
«Некоторые недавние работы Э. Ферми и Л. Силарда, которые были сообщены мне в рукописи, заставляют меня ожидать, что уран может быть в ближайшем будущем превращен в новый важный источник энергии.
…Может оказаться возможным получение цепной ядерной реакции в крупном массиве урана с выделением огромной энергии и гигантских объемов радиоактивных частиц. Теперь почти очевидно, что этого можно достичь в ближайшее время.
Этот новый феномен может также привести к созданию ядерных бомб»[733].
Сакс вспоминал, что к письму он добавил и собственные опасения: «Мощная ядерная цепная реакция… может быть получена в самом ближайшем будущем… Одна-единственная бомба такого типа [тогда еще слишком тяжелая, чтобы доставить ее на борту самолета], доставленная на корабле и взорванная в порту, способна полностью разрушить весь порт и часть прилегающей к нему территории». Рузвельт ответил: «Алекс, умоляю, только не говори мне, что нацисты завтра не оставят от нас камня на камне»[734]. Сакс захотел убедиться в том, что Рузвельт понял необходимость принятия немедленных мер, и на следующее утро снова явился к президенту. Рузвельт встретил его вопросом: «Ну, какая блестящая идея у тебя на этот раз?»[735] Тогда Сакс (он написал об этом позднее в своих воспоминаниях, изданных в 1950 году) рассказал президенту историю о том, как Роберт Фултон посоветовал Наполеону построить флотилию пароходов для переброски войск к берегам Англии, но Наполеон поднял изобретателя на смех. Сакс вспоминает, что возникла пауза, после которой Рузвельт попросил слугу принести бутылку раритетного коньяка «Наполеон», откупорить принесенную бутылку и наполнить им бокалы. После того как они чокнулись, Рузвельт сказал Саксу, что намерен действовать немедленно. Он передал письмо Эйнштейна Эдвину «Па» Уотсону, своему военному советнику, сопроводив это репликой, которая прозвучала как приказ: «Надо действовать». Десять дней спустя, 21 октября, в субботу, состоялась встреча с целью обсуждения и запуска предстоящего проекта. Во встрече приняли участие Лео Силард, Юджин Вигнер (позднее получивший Нобелевскую премию за работу в проекте), Эдвард Теллер, работавший в США выдающийся физик-ядерщик, все физики венгерского происхождения, покинувшие родину после вторжения Гитлера, а также представители армейского командования и командования ВМС. Вскоре после этого, продолжая побуждать Рузвельта к активным действиям, Силард, Эйнштейн и Сакс сообщили президенту, что, если он не предпримет своевременных действий, Силард «в деталях»[736] опубликует технологию цепной реакции урана. В ответ на это Рузвельт утвердил план «систематической мобилизации на войну американских ученых»[737]. Работы над созданием в Америке атомной бомбы начались.
Узнав о том, что работы по расщеплению атомного ядра ведутся и в Великобритании, Рузвельт написал Черчиллю, предложив работать совместно, «чтобы обеспечить координацию исследований или даже их совместное проведение»[738]. Он дал указание Вэнивару Бушу, инженеру и изобретателю, совмещавшему множество обязанностей: профессора Массачусетского технологического института, президента Института науки Карнеги, директора Бюро научных исследований и развития, – подготовить проект письма с предложением «начать обсуждение вопроса [с Великобританией] на высшем уровне»[739].
В октябре 1941 года комитету, отвечавшему за этот проект, было присвоено кодовое наименование «Секция-1». Впоследствии при упоминании проекта создания атомной бомбы, с легкой руки военного министра Стимсона, чаще стали говорить просто: “S-1” (по иронии судьбы совсем на советский манер). В состав комитета входили Вэнивар Буш, Джеймс Конант, сорокавосьмилетний президент Гарварда и известный химик, а также Стимсон и генерал Маршалл.
В сентябре 1942 года бригадный генерал Лесли Р. Гровс, отвечавший за военное строительство (он только что закончил курировать строительство здания Пентагона), получил назначение на пост военного руководителя атомного проекта, важность которого к тому моменту Рузвельт полностью осознал. В марте 1942 года он сообщил Бушу, что программу следует продвигать «не только в контексте развития работ, но и с учетом времени. Это еще важнее»[740]. В декабре 1942 года научным руководителем проекта был назначен Оппенгеймер.
«Манхэттенский проект», осуществляемый иностранными и американскими учеными, инженерами и математиками под контролем Буша и Симпсона, был гигантским по масштабу и с самого начала пестовался президентом как предназначенный для получения оружия, которым Америка определенно должна обладать. В самый активный период исследовательских работ в проекте участвовали 120 000 человек, было построено и эксплуатировалось 37 объектов, общая стоимость проекта составила свыше 2 миллиардов долларов США. Успешному продвижению работ способствовали талант и опыт ученых-эмигрантов, большей частью евреев, которых Гитлер вынудил эмигрировать: Ханса Бете, Эдварда Теллера, Энрико Ферми, Джеймса Франка, Юджина Вигнера и Силарда. Никто из них не думал о том, что Советский Союз может представлять ядерную угрозу, такой угрозой считались разработки ядерного устройства нацистами, волновавшие всех ученых, которым в ночных кошмарах являлся Гитлер с ядерной бомбой в руках.
Огромное различие в успехах американцев и русских объясняется финансовыми и человеческими ресурсами. У Америки было вдоволь и того и другого. Россия же не могла этим похвастать и по этой причине существенно отставала от Америки, которая двигалась вперед семимильными шагами.
* * *
С самых первых дней, сознавая, что придется как-то решить эту проблему, Франклин Рузвельт ломал голову, когда (да и стоит ли) сообщить Советскому Союзу об атомной бомбе – с учетом потенциального риска такого информирования. Об этом он говорил со многими: Генри Стимсоном, Маккензи Кингом, Вэниваром Бушем, Феликсом Франкфуртером, Нильсом Бором и Черчиллем.
Степенный, седовласый, похожий на уважаемого всеми профессора, Нильс Бор с неизменной трубкой в зубах уехал из Англии в Соединенные Штаты и стал консультантом «Манхэттенского проекта». Бор был убежден, что для предотвращения чудовищной гонки вооружений и вероятности атомной катастрофы знаниями о бомбе следует поделиться. Судья Верховного суда США Феликс Франкфуртер, бывший преподаватель юридической школы Гарварда (Оливер Уэнделл Холмс и Луис Брандайс доверяли ему подбор сотрудников канцелярии Верховного суда) и хороший друг президента, однажды встретился с Бором за чашкой чая в посольстве Дании в Вашингтоне. После беседы с Бором Франкфуртер стал горячим сторонником этой концепции ученого. Франкфуртер был очень близок к Рузвельту, пожалуй, он был единственным человеком, который (кроме Черчилля) в общении с Рузвельтом называл его не «господин президент», а просто Фрэнк. Когда он говорил, Рузвельт внимательно слушал. 13 марта 1944 года за ланчем в Белом доме они долго обсуждали тему атомной бомбы. Предчувствие, что она может стать для человечества либо величайшим благом, либо величайшей трагедией, занимало умы их обоих. Франкфуртер рассказал президенту о мнении Бора. Позднее он писал: «Мы провели вместе около полутора часов и практически все время обсуждали эту тему. Он говорил, что все это “пугает его до смерти“ и что ему крайне нужна чья-либо помощь, чтобы во всем этом разобраться»[741].
После услышанного от Франкфуртера президент, даже не поговорив с Бором, вдруг принял решение отправить Бора в Лондон для встречи с Черчиллем. Более того, он попросил Франкфуртера «передать нашим друзьям в Лондоне, что президент крайне озабочен обеспечением мер безопасности в отношении X». Затем он попросил Франкфуртера организовать его встречу с Бором. Конечно, для Рузвельта было как-то нетипично решить послать Бора для встречи с Черчиллем, даже не поговорив об этом с Бором. Но это был период, когда у президента начались серьезные проблемы со здоровьем. Он страдал от кашля, его мучили сильные головные боли, бессонница, обострение гайморита и, по выражению встревоженной Дейзи Сакли, всякие другие «боли и страдания». Своему пресс-секретарю Биллу Хассету он говорил, что чувствует себя «словно в аду»[742]. В конце концов, не выдержав всего этого, дочь президента Анна потребовала от его личного врача Росса Макинтайра поместить ее отца в госпиталь ВМС в Бетесде для полного обследования. 27 марта президента осмотрел и обследовал начальник отделения кардиологии этого госпиталя капитан-лейтенант Говард Дж. Брюэнн, который поставил диагноз: президент близок к коллапсу, поскольку страдает сердечной недостаточностью левого желудочка, гипертонией, острым бронхитом, и у него увеличенное сердце. Он назначил пациенту низкокалорийную диету для снижения веса и велел сократить число выкуриваемых сигарет с двадцати до десяти в день (Рузвельт писал по этому поводу Гопкинсу: «Слава богу, у них в эти дни такой мерзкий вкус»[743]), а количество спиртного – до полутора коктейлей в сутки. Доктор также прописал ему настой наперстянки, сон исключительно на специальной больничной кровати с приподнятыми головой и торсом для облегчения дыхания. Брюэнн посещал президента каждое утро, измерял кровяное давление и следил за его состоянием. Скорее из-за того, что Рузвельта продолжала волновать поездка Бора, врач категорически запретил ему заниматься государственными и общественными делами. Короче говоря, он резко сократил деловой график президента до такой степени, что его пациент вынужден был даже обедать в постели. И Рузвельт начал выздоравливать. Как говорил Брюэнн, за десять дней легкие очистились от жидкости, сердце обрело нормальные размеры, а кашель прекратился. В начале апреля президент на несколько недель уехал в Хобко-Барони, в имение Бернарда Баруха площадью двадцать три тысячи акров, чтобы хорошенько отдохнуть. По прибытии он едва успел пораньше поужинать, чтобы лечь спать, как вдруг его одиночество нарушила целая компания друзей и родственников (среди них были его жена, Дейзи Сакли и Люси Резерфорд). Ко времени возвращения к работе он чувствовал себя уже совершенно здоровым.
Вскоре после этого Бор был уже в Лондоне, куда его направил президент США для встречи с Черчиллем. В Лондон с ним приехал его сын Оге, тоже физик-ядерщик. Их встреча с премьер-министром в резиденции на Даунинг-стрит, 10 стала настоящим кошмаром. «Это было ужасно. Он отчитал нас, как двух провинившихся школьников»[744], – вспоминал Оге. Не удовлетворившись нападками на Боров, Черчилль упрекнул своего друга и научного консультанта лорда Червелла за организованную им встречу с Борами: «Мне не понравился человек, которого ты привел ко мне, он же весь зарос, как дикарь…»[745] Странное поведение Черчилля можно объяснить, видимо, тем, что он стремился любой ценой сохранить в тайне от Советского Союза проект «Тьюб эллоуз», или «Трубный сплав» (британское кодовое название ядерного проекта). По его мнению, отныне и навсегда атомная бомба должна была служить для защиты интересов Великобритании. Он был бы счастлив, если бы у Сталина вообще никогда не появилось такой бомбы.
В июле 1944 года Бор направил президенту США пространную памятную записку, в которой рассказал, в частности, и о том, как в свой прежний приезд в Лондон он получил приглашение от Капицы переехать в Россию для участия в научных исследованиях[746]. Это встревожило Рузвельта: он понял, что Советский Союз тоже работает над термоядерными реакциями. В памятной записке Бора также отмечалось, что после разгрома Германии «в руках Советского Союза окажутся колоссальные ресурсы для полномасштабного развертывания работ», что добавило президенту аргументов в пользу сотрудничества, которое предотвратит «фатальное соперничество».
Рузвельт обсудил памятную записку с Франкфуртером. 26 августа он принял Бора с сыном в Белом доме, и разговор с ними продолжался полтора часа. Оге вспоминал:
«Рузвельт согласился, что следует попытаться найти подход к Советскому Союзу… По его мнению, Сталин был реалистом, чтобы понять важность таких кардинальных прорывов в науке и технике… Он упомянул также о том, что наслышан о наших переговорах с Черчиллем в Лондоне, и добавил, что Черчиллю свойственно так вести себя при первом знакомстве. Однако Рузвельт заметил, что и он, и Черчилль всегда стараются достичь согласия и что он уверен, что Черчилль, в конце концов, согласится с его точкой зрения по этому вопросу. Он обсудит с Черчиллем все проблемы на предстоящей встрече и надеется вскоре после этого снова встретиться с моим отцом»[747].
Бор из всех ученых самым энергичным образом выступал за то, чтобы поделиться с Советским Союзом результатами научных изысканий в этой области, полагая это наиболее благоразумным шагом. Сначала шли споры между учеными и военными, вовлеченными в «Манхэттенский проект», о необходимости (позиция ученых) или опасности (позиция военных) информирования СССР и предоставления ему научных материалов. Важной составляющей любого решения являлся точный расчет, как долго Америка еще будет опережать Советский Союз в этих разработках. Если атомную бомбу удастся в течение нескольких лет держать в абсолютной тайне, как полагали военные (кроме генерала Маршалла), тогда не возникнет никакой необходимости извещать об этом СССР. Но если не удастся, а в этом были уверены все ученые, то неизбежна гонка вооружений. А секретность в любом случае будет палкой о двух концах. Она сможет легко превратить друга во врага: если ядерного паритета можно легко достичь в течение нескольких лет, то в случае сохранения секретности у партнера неизбежно возникнет чувство раздражения и недоверия – разве это разумно? Из всех политиков, причастных к разработке атомной бомбы, самая категоричная позиция была у Черчилля, который однажды написал: «Даже за шесть месяцев может случиться что угодно, если раскрыть все карты России»[748]. Все ученые, кто был убежден, что атомная бомба перестанет быть секретом быстрее, чем считают генералы, выступали за обмен научными материалами. Генерал Гровс, ведущий инженер проекта, по свидетельству всех, кому доводилось с ним работать, совершенно уверенный в своих решениях человек, скоро выступит с крайней позиции, заявив, что только Америка способна быстро создать атомную бомбу, у какой-либо другой страны на это уйдет десять лет.
Вопрос продолжал оставаться на стадии обсуждения, и тут произошло нечто такое, от чего у некоторых возникло опасное стремление нажать все кнопки в военном мышлении американцев (но до этого, слава богу, не дошло): Правительственная закупочная комиссия Советского Союза по ленд-лизу по просьбе Курчатова вдруг запросила восемь тонн уранового ангидрида и восемь тонн солей урана. Генерал Гровс, абсолютно убежденный, что американцы могут что угодно создать быстрее и лучше других на планете и что Америка так или иначе обведет Советы вокруг пальца в атомных исследованиях, решил удовлетворить заявку. Как пишет Майкл Гордин в своей книге «Багровое облако на рассвете», он сделал это на том основании, что русские не знают о работах в Америке над созданием бомбы, а вот если отклонить заявку, это может навести их на подозрения. Он предоставил им полтонны солей урана и тонну металлического необогащенного урана. Это обвело русских вокруг пальца не больше, чем неупоминание с 1940 года в научных журналах о термоядерной реакции. В сентябре 1944 года президент изменил свое мнение по поводу того, кому следует знать о работах над созданием бомбы. Осенью этого года в Квебеке его в очередной раз охватили колебания и сомнения: он изменил свою позицию как в отношении будущего Германии, так и по дате запланированной мирной конференции с Черчиллем и Сталиным. Все три ранее принятых решения: по обмену научными данными, демонтажу технической базы Германии и грядущей мирной конференции – были отменены.
В Квебеке президент встретился с Черчиллем в «Цитадели», крепости, которая была резиденцией генерал-губернатора Канады. Эта встреча, как и в Думбартон-Оксе, несколько сняла возникшее ранее напряжение в отношениях. В Квебек приехал Генри Моргентау, представивший свою программу «превращения Германии в страну преимущественно сельскохозяйственную и пасторальную по своему характеру»[749]. Шесть недель назад были опубликованы фотографии страшного концлагеря Майданек в Люблине (Польша) с изображениями складов с мешками золотых коронок и зубных протезов, игрушек, обуви, одежды и других личных вещей уничтоженных узников, подлежащие отправке в Германию. Эти фотографии потрясали всех и вызывали чувство глубокого отвращения к немцам. 15 сентября президент США поставил свою подпись под документом Моргентау о «пасторальной Германии», предусматривающим демонтаж всей промышленности Германии. (Так же поступил и Черчилль, который сначала был против этой идеи, но потом пересмотрел свою точку зрения.) Однако затем, когда эта программа была обнародована, стало ясно, что до реализации идеи дело не дойдет. Рузвельт вовремя изменил свою позицию и отрекся от нее, притворившись, что он с самого начала был против этой программы. (Позднее он говорил Стимсону, что его ввели в заблуждение, и это взбесило Стимсона, поскольку тот хорошо знал, что это неправда. В своем дневнике Стимсон написал об этом: «Он говорил об этом документе как о чем-то, подсунутом ему в Квебеке, и что он никогда бы не поддержал такой идеи. Я достал из кармана экземпляр документа и молча показал его собственную подпись под текстом документа. Тогда он заявил, что совершил большую ошибку, и признался в этом с неподдельной искренностью»[750].)
Вторично президент США изменил свою позицию тоже в Квебеке. Надо было определить сроки предстоящей мирной конференции, в которой собирался принять участие и Сталин. Рузвельт отмел идею о встрече в феврале, как планировалось до этого, и перенес ее на 30 октября (то есть она должна была состояться через шесть недель). По сути дела, это было своего рода пробным шаром, а не четко сформулированным решением, которое, тем не менее, отражало умонастроения Франклина Рузвельта и его опасения, что он может проиграть в ноябре президентские выборы. Он поделился своей обеспокоенностью с премьер-министром Макензи Кингом: «Мы не сможем заставить наших людей зарегистрироваться на избирательных участках, не сможем повлиять на то, как они проголосуют»[751], – а в некоторых штатах, где у президента было много сторонников среди солдат, их вообще могли не допустить до выборов. Поэтому Рузвельт решил (как он признавался в этом Черчиллю, Идену и Кингу), что международную мирную конференцию разумнее будет провести в конце октября, за семь дней до президентских выборов. Он спросил их, каково их мнение: если конференция состоится до выборов, получит ли он больше голосов среди избирателей? Все трое ответили: нет, это ужасная идея. Рузвельт пытался переубедить их, заявив: идея заключается в том, чтобы «продемонстрировать, что не теряется время». Черчилль, Иден и Кинг возражали: это только введет в заблуждение американский народ, оппоненты Рузвельта обязательно найдут слабые места в планах президента, у избирателей будет больше причин голосовать за него, чтобы он осуществил свою миролюбивую политику на будущей конференции. В конечном итоге они одержали победу, и Рузвельт уступил.
По завершении конференции в Квебеке Франклин Рузвельт и его команда, включая адмирала Лихи и доктора Брюэнна, который ежедневно виделся с президентом и следил за состоянием его здоровья, 16 сентября в шесть часов вечера заняли места в вагоне президента «Фердинанд Магеллан», а на следующее утро, в девять часов, прибыли в Гайд-парк. Утром 18 сентября, также поездом, туда приехал и Черчилль вместе со своим секретарем Мэриан Холмс.
Весь американский генералитет с большой тревогой относился к каждому приезду Черчилля в Америку: он постоянно вмешивался в их планы и выступал с пламенными речами против вторжения союзников на континент через Ла-Манш. Представители ОКНШ и Стимсон всегда вспоминали, как Черчилль еще в 1942 году пытался отговорить Рузвельта от плана вторжения через пролив в 1943 году. Стимсон в целом крайне неприязненно относился к британскому премьеру, хотя доверял свое раздражение только дневнику. Всегда вежливый на публике, Стимсон изливал свои чувства в частных беседах: когда весной 1943 года Черчилль начал оказывать давление на Рузвельта, настаивая на дальнейшей отсрочке вторжения в Европу, Стимсон не без сарказма записал в дневнике: «Вчера вечером прибыл Черчилль с большой группой военных, у которых на лицах было написано, что они готовы сразиться с нами и сделать так, чтобы все пошло как хочет премьер». Стимсон и представители ОКНШ, в конце концов, смогли отучить Черчилля от подобной манеры общения, но сейчас, 18 сентября 1944 года в Гайд-парке, Франклину Делано Рузвельту пришлось в третий раз за неделю изменить свою позицию, а Черчилль на какое-то время снова одержал верх в вопросе об атомной бомбе. (Гопкинс тоже был в Гайд-парке, как вспоминал его биограф Роберт Шервуд, но его «полностью изолировали» от обсуждения ядерного проекта.)
Президент США и британский премьер провели весь день вместе, и оба поставили подписи под неожиданным для всех меморандумом, в котором говорилось, что работы над атомной бомбой следует оставить тайной их двоих. Текст производил впечатление, что его автором является исключительно Черчилль – в тексте не было ничего, с чем Рузвельт мог бы согласиться раньше или впоследствии касательно проблемы атомной бомбы: «Предложение о том, что мир следует информировать о проекте «Тьюб эллойз» [английское кодовое название проекта создания атомной бомбы] с перспективой заключения международного договора о соответствующем контроле и применении, не принимается. Этот вопрос следует и далее держать в строжайшей секретности; но, когда бомба будет окончательно готова, после хорошо продуманной оценки ситуации она может быть применена против японцев, которых следует предупредить, что такая бомбардировка будет предпринята повторно до полной их капитуляции»[752].
Черчиллю даже удалось убедить американского президента (во всяком случае на тот момент) в том, что Бор – опасный сторонник коммунистов, судя по тому, что в меморандуме муссировалась информация от Бора о том, что русские пытались завербовать его для работы над их ядерным проектом, что вообще-то следовало истолковать в пользу благонадежности Бора. Однако в меморандуме говорилось: «Следует провести дознание и навести справки о деятельности профессора Бора, а также предпринять необходимые меры с целью гарантирования, что он не допустит утечки информации, особенно в интересах русских».
Президент Рузвельт со всей положенной ему по рангу помпой расставался с Черчиллем после завершения переговоров. Они вместе проследовали в автомобиле до железнодорожной станции Пафкипси, автомобиль со всех сторон окружали машины, битком набитые телохранителями и с агентами секретной службы на подножках. По словам секретаря Черчилля, это являло собой «жуткое зрелище»[753]. Премьер-министр выглядел безмерно довольным прошедшими переговорами и завершил рабочий день восторженной телеграммой австралийскому премьеру: «Эта конференция стала торжеством дружбы и единства»[754]. На следующий день он отплыл в Англию на борту лайнера «Куин Мэри».
Историки никогда не узнают, что произошло, никогда не узнают, как и почему Черчиллю удалось одержать верх. Самое правдоподобное объяснение этому заключается в том, что рядом с Рузвельтом не было никого, кто мог бы отговорить его от поспешного подписания такого документа и еще раз подумать, не стоит ли принять противоположное решение по этому вопросу. Соглашаясь во всем с Черчиллем, он рисковал оказаться в той же ситуации, когда подписал программу Моргентау, превращающую Германию в пасторальное государство. Тем не менее подписанный им меморандум вовсе не обязывал президента к чему-то такому, чего он не мог бы потом отменить. Кто-то из сотрудников слышал, как Рузвельт после одной из его последних встреч с Черчиллем пожаловался: «Да, я устал! Устанешь, когда пять лет повозишь в тачке Уинстона на крутую гору»[755].
Надо сказать, что президенту сначала не очень хотелось подписывать этот меморандум. Четыре дня спустя на совещании в Белом доме с Вэниваром Бушем и лордом Червеллом он долго и взволнованно обсуждал с ними будущее атомной бомбы, зная, что оба они считают сохранение секретности серьезной ошибкой. Он даже поделился с ними сомнениями по поводу применения бомбы против японцев при любых обстоятельствах, задавшись непростым вопросом: «Значит ли, что это средство действительно следует применить против японцев или же достаточно использовать его в качестве угрозы и посмотреть, насколько она будет действенна для этой страны»[756]. Возможно, Рузвельт предпочел не открывать сразу все свои карты, вероятно также, что ему понадобилось средство, чтобы обезоружить тех, кто выступал против идеи совместного контроля над бомбой с другими государствами. Спустя двенадцать дней Буш с помощью Джеймса Конанта подготовил докладную записку, содержание которой почти полностью дезавуировало идеи меморандума. В документе, который со всей очевидностью преследовал именно эту цель, Буш и Конант с полным единодушием выражали свое неприятие всей бестолковости такого рода действий, под чем оба и подписались. Документ был направлен Стимсону, который, будучи военным министром, являлся их непосредственным начальником и общим куратором «Манхэттенского проекта». Докладная записка была озаглавлена с предельной точностью: «Относительно подхода в будущем к международному решению вопроса, касающегося атомных бомб».
После описания и анализа в пунктах 1 и 2 состояния атомной мощи Соединенных Штатов и ее военного потенциала следовало:
«Пункт 3. Временный характер нынешнего преимущества Соединенных Штатов и Великобритании.
…Для любого государства, обладающего хорошими техническими и научными ресурсами, будет возможно достичь нашего нынешнего уровня уже через три– четыре года. Поэтому для Соединенных Штатов и Великобритании было бы верхом глупости полагать, что они навсегда сохранят превосходство в новом оружии…
Пункт 4. Невозможность сохранения секретности в послевоенный период.
К реализации проекта необходимо привлекать огромное количество технических специалистов. С учетом этого фактора сведения о различных аспектах проекта получат широкое распространение. Кроме того, все основные факты были известны физикам еще до начала работ. Кто-то посторонний, несомненно, догадается, что происходит что-то чрезвычайно важное… Принимая это во внимание, настоятельно рекомендуем запланировать полное разглашение истории разработки проекта и всего остального, кроме технологии производства и конкретной информации военного характера, сразу же после того, как будет продемонстрирована первая бомба…
Пункт 5. Опасность частичной секретности и международной гонки вооружений.
…Для Соединенных Штатов и Великобритании будет крайне опасно пытаться сохранять в полной секретности дальнейшие работы в этой области по военному применению. Если на это пойти, Россия, несомненно, таким же образом засекретит свои изыскания в этом направлении».
В пункте 6 было указано, как следует осуществлять международный обмен информацией.
Буш и Конант полностью отвергли принцип секретности, аргументируя это тем, что подобная политика явится для США самой опасной: они предложили свободный обмен научными материалами под эгидой международной организации, которая еще находилась на этапе создания.
Естественно, эта докладная записка, как и приведенные в ней рекомендации, произвели впечатление на Стимсона: теперь у него в руках был документ, составленный для него руководителями «Манхэттенского проекта», из которого было очевидно, что от секретности толку не будет. Утром 30 декабря он и генерал Гровс встретились с президентом Рузвельтом, чтобы сообщить последние новости о работе над проектом. Гровс доложил президенту, что взрывная мощность первой бомбы, по всем расчетам, составит десять тысяч тонн в тротиловом эквиваленте и что сама бомба «должна быть готова где-то к 1 августа 1945 года»[757]. Это означало, что проект дошел до решающей стадии, теперь следовало принимать решения. На следующий день, в воскресенье, Стимсон был единственным, кого Рузвельт в полдень принял в Овальном кабинете и с кем имел часовую беседу по итогам работы за прошедший год. Стимсон писал в своем дневнике, что после доклада президенту об успехах Эйзенхауэра в сражении в Арденнах он изложил тому свое мнение о будущей деятельности комитета «S-1» и о Советском Союзе. Стимсон писал, что убеждал Рузвельта проинформировать советское руководство, пусть не прямо сейчас, и что Рузвельт посчитал это хорошей идеей:
«Я изложил ему свои соображения о будущей деятельности комитета “S-1” в связи с Советским Союзом и сообщил, что мне известно о внимании русской разведки к нашей работе, но они пока не располагают конкретными данными. Затем я высказал ему свою тревогу по поводу возможных последствий сохранения этих работ в тайне от русских даже в настоящее время, хотя считаю важным не посвящать их в проект до тех пор, пока у нас не будет уверенности, что наша откровенность будет полезной и для нас самих. Я сказал, что у меня нет иллюзий по поводу возможности постоянного сохранения этих секретов. Однако я не считал необходимым делиться информацией с Россией прямо сейчас. Он сказал, что готов согласиться со мной (курсив авт.)»[758].
Заявление Стимсона было достаточно эмоциональным. В 1944 году отношения между Соединенными Штатами и Россией не во всем были гладкими, судя по докладам Гарримана из Москвы. Стимсон же предлагал целевое решение проблемы. Месяц за месяцем он все больше убеждал президента, что Россию следует подключить к работам в рамках международного атомного проекта. В то же время ни Стимсону, ни президенту не приходила в голову мысль просто передать русским такие сведения. Они желали добиться за это от Сталина определенных уступок, они хотели получить возможность оказать на него давление, чтобы подчинить его стандартам союзников. Именно это и подразумевалось под понятием «настоящей взаимной пользы».
К тому времени Франклин Рузвельт должен был осознать, что Черчилль практически остался в одиночестве, даже среди своего окружения, в своем упорстве ни в коем случае не передавать русским сведения об атомном проекте. Британский посол в Соединенных Штатах лорд Галифакс, который в довоенное время выступал с резкими антисоветскими заявлениями, теперь примкнул к тем, кто предлагал поделиться атомными секретами с СССР. Такую же позицию занял сэр Джон Андерсон, министр финансов кабинета Черчилля, ученый, ответственный за британский атомный проект. Андерсон предлагал уведомить русских после назначения дня первого испытания бомбы. В своей памятной записке в марте 1944 года он писал: «Будет достаточно в ближайшем будущем сообщить русским о самом факте, что мы ожидаем в конкретную дату получить это сокрушительное оружие, и пригласить их сотрудничать с нами в подготовке структуры международного контроля»[759]. Лорд Червелл, физик и еще один научный консультант Черчилля, также высказался в пользу информирования русских о бомбе. Да и у всех разумных людей такая позиция получила поддержку.
Президент привлек Стеттиниуса к дискуссиям по атомной бомбе вскоре после назначения его государственным секретарем. Как это зачастую и случалось, разговор состоялся в кабинете Рузвельта, напоминавшем корабль. Хотя Рузвельт держал Хэлла в полном неведении о бомбе, Стеттиниусу он почти без промедления сообщил, что «настало время и Государственному департаменту подключиться к ситуации с атомным проектом»[760]. Стеттиниус мгновенно включился в работу, стал отслеживать активность советской шпионской сети в Соединенных Штатах, которая, как он быстро узнал, была такой впечатляющей, что он, как и Стимсон, теперь понимал: «русские определенно располагают какими-то сведениями о том, что происходит».
Перед выездом в Ялту Рузвельт уже до такой степени настроил себя на то, чтобы поделиться с Советским Союзом информацией об атомной бомбе, что во время конференции он попробовал убедить Черчилля, что время для этого уже пришло. И не только потому, что его ближайшие советники рекомендовали ему поступить так: Рузвельту уже было хорошо известно, что Сталин не только знал о «Манхэттенском проекте», но и добивался, чтобы советская разведка активизировала деятельность в этом направлении. На второй день конференции Стеттиниус сообщил президенту, что ядерная гонка уже началась, что на этом направлении действуют 125 советских шпионов и что следует подготовиться к обсуждению этой темы со Сталиным, так как «он может спросить об этом»[761]. (Фактически Стеттиниус вместе с Маршаллом старался сформулировать, что именно президент должен рассказать Сталину о бомбе[762].) Кроме того, как доложил Стеттиниус Рузвельту, возникла новая угроза утечки важной информации к русским агентам: в Монреале над проектом атомной бомбы работал некий французский ученый, который был замечен в симпатиях к Советскому Союзу.
Как результат – вскоре после этого Франклин Рузвельт шокировал Черчилля (это был его способ подготовить того к неизбежному). Президент сообщил Черчиллю, что, по его убеждению, настало время посвятить Сталина в атомные секреты «на том основании, что де Голль, если он узнает об этом, конечно же, постарается нас перехитрить и поведет двойную игру с Россией»[763]. Естественно, услышав такое, Черчилль пришел в бешенство.
Сразу же после окончания конференции Вэнивар Буш вновь сообщил Стимсону, что он хотел бы поделиться с Советским Союзом данными о ядерных исследованиях. После этого Стимсон заявил Харви Банди, своему помощнику по атомному проекту (который, как и Стимсон, был членом йельского клуба «Череп и кости»): «Буш пришел в такой восторг, когда получил сегодня утром известие о соглашении по вопросу проведения конференции в Ялте, что буквально рвется проявить великодушие к русским в этом вопросе»[764]. Стимсон согласился с Бушем, что это неплохая идея, но посоветовал немного подождать, чтобы специально использовать ее в качестве козырной карты на переговорах, и не «выносить этот вопрос на конференцию до тех пор, пока русские не проявят явную готовность согласиться на взаимовыгодное соглашение». Вопрос состоял не в том, говорить ли об этом Сталину, – вопрос заключался в том, чтобы использовать эти научные данные в наиболее подходящий момент и самым плодотворным образом.
У Буша возникла другая идея, и спустя два дня он пришел к Стимсону, чтобы обсудить ее с военным министром[765]. Он предложил объединить усилия государств в проведении всех научных исследований и организации взаимного обмена всеми данными, которые могут представлять интерес для применения в военных целях, чтобы удержать другие государства от разработки тайных планов создания секретных вооружений в послевоенное время. Симпсону такая идея показалась интересной по отношению к русским, но он опять посоветовал подождать с этим, поскольку прежде всего надо завершить ту работу, которая велась на данном этапе: «Было бы неразумно делать это, прежде чем мы увидим, что Россия готова встать на путь либерализации в обмен на материалы по проекту комитета “S-1”».
Тема атомной бомбы волновала военного министра и в контексте его служебной ответственности, и как нравственная проблема, поскольку именно он непосредственно отвечал за все, что касалось проекта. К марту Стимсону доложили, что в разработке бомбы достигнут определенный прогресс, все шло по графику. К этому времени Германия уже находилась на грани полного разгрома, Советская армия и армии союзников уже вторглись в глубь страны, и руководство США рассчитывало, что к лету будет объявлено о победе. Стало необходимо как можно скорее принять решения сразу по нескольким вопросам: какой объект в Японии подвергнуть бомбардировке, надо ли заранее предупреждать Японию об этом и как поступать с русскими. И это было для Стимсона тяжким бременем.
В понедельник 5 марта Стимсон снова обсуждал это с Банди: «Нам предстоит принять очень важные решения. Скоро мы просто не сможем откладывать их на потом… Несомненно, это самое важное из того, что мне приходилось делать с тех пор, как я занял кабинет военного министра, поскольку это касается вопросов, которые даже намного серьезнее, чем курс нынешнего правительства»[766]. Как поступить с Россией, что делать с бомбой – эти вопросы продолжали занимать министра до конца понедельника. Поскольку генерал Маршалл уже начал собираться домой (их кабинеты находились рядом и соединялись дверью), Стимсон, как он записал в своем дневнике, решил «посоветоваться с ним на эту тему. Генерал – один из немногих, кто знал об этом, и я хотел услышать его мнение по поводу возможного решения всех этих проблем».
Премьер-министр Канады Макензи Кинг, давний, еще по учебе в Гарварде, друг президента Рузвельта, посетил Белый дом 9 марта. Прибыв пополудни, он сразу же направился в Овальный кабинет, где застал Элеонору за чашкой чая. При появлении президента Кинг подошел к нему и поцеловал его в щеку. («Он специально повернулся ко мне боком для этого».) Кинг не видел Рузвельта с сентября, со времени отъезда из Квебека, и его первым впечатлением было, что президент «выглядит намного старше», его лицо «сильно похудело», но ему тут же объяснили, что президент намеренно сбрасывает лишний вес. Поскольку общение затянулось, тревоги Кинга по поводу здоровья президента постепенно развеялись, он увидел, что президент прекрасно себя чувствует. После запоздалого и неофициального обеда с Элеонорой и Анной Беттигер в небольшой семейной столовой Рузвельт пригласил Кинга вернуться с ним в Овальный кабинет. Они беседовали несколько часов. Кинг сидел в кресле напротив сидящего на кожаном диване президента. «Когда я взглянул на часы, выяснилось, что мы непрерывно разговаривали с половины девятого вечера до двадцати минут двенадцатого, хотя мне казалось, что еще нет и десяти. Президент сказал, что не чувствует себя усталым. Беседа доставляла ему удовольствие»[767], – написал Кинг в своем дневнике. Он был посвящен в тему атомных исследований, поскольку Канада являлась главным поставщиком урана. В середине беседы Кинг спросил об атомной бомбе. «Когда я спросил о некоем оружии, которое может быть применено, – написал Кинг в дневнике уже поздно ночью, – он ответил, что, по его мнению, все работы закончатся к августу и что главная сложность заключается только в понимании, как именно применить полученный материал в отношении конкретной страны». Далее Кинг пишет, что задал очередной вопрос на эту тему, на который Рузвельт ответил, что, «как он полагал, русские уже вели работы в этой области и что-то знали о происходящем. Он считал, что настало время рассказать им, насколько далеко продвинулись работы над проектом. Черчилль категорически возражал против этого. Черчилль уже обдумывает вопрос о коммерческом использовании проекта в будущем (курсив авт.). Я сказал ему, что, как мне кажется, если русские обнаружат позднее, что определенные вещи тщательно скрывались от них, это может обернуться бедой».
Шесть дней спустя, 15 марта, всего за месяц до кончины, Франклин Делано Рузвельт в последний раз говорил о необходимости уведомить Сталина о существовании атомной бомбы. Разговор президента со Стимсоном проходил во время затянувшегося ланча на третьем этаже Белого дома в небольшой светлой комнате на южной стороне здания. Рузвельт выразил Стимсону свою обеспокоенность в связи с вероятностью, что весь проект создания атомной бомбы может провалиться. Президент сказал, что ужасно разнервничался из-за только что дошедших до него слухов, что он якобы «продал пшик» (намек на огромные средства, брошенные на разработку бомбы) – бомба может не получиться! Стимсон разубеждал президента (ему было известно о таких слухах, распространяемых плохо информированными людьми), отмечая, что проектом занимаются четыре лауреата Нобелевской премии «и что практически все остальные – выдающиеся физики». О неудаче не может быть и речи, говорил Стимсон, который уже давно смог вникнуть во все проблемы, связанные с бомбой. («Работы подошли к завершению, и результаты очень интересны и достаточно серьезны»[768].) Далее Стимсон писал:
«Я рассказал ему о двух научных подходах к проблеме будущего контроля над этим проектом в послевоенный период в случае успешного завершения работ, один из которых – секретный контроль над проектом, предпринимаемый теми, кто контролирует его сейчас, второй – международный контроль, который основывается на снятии ограничений в отношении как научных данных, так и доступа к ним. Я сказал ему, что все эти решения надо принять еще до первого применения такого оружия и что ему следует быть готовым сообщить об этом американцам сразу же после того, как это произойдет. Он согласился с этим». (курсив авт.)
24 марта в кабинете Белого дома президент встретился со своим спичрайтером Робертом Шервудом: ему было необходимо сделать вставки в тексты двух предстоящих выступлений – на годовщине дня рождения Джефферсона 13 апреля и, несколько позднее, на открытии конференции в Сан-Франциско. Он попросил Шервуда найти для него цитату из Джефферсона на тему роли науки, чтобы вставить ее в речь, написанную ко дню рождения Джефферсона. Было очевидно, что его продолжала очень сильно волновать проблема атомной бомбы. Через неделю Франклин Делано Рузвельт отправился в Уорм-Спрингс. А спустя еще две недели президент Соединенных Штатов скончался. Ни у кого нет ни малейших сомнений в том, какой именно путь выбрал бы Рузвельт, останься он в живых. Международный контроль, основанный на обеспечении свободного доступа, был практически главной идеей Рузвельта, ведь целью всей его жизни являлось создание влиятельной международной организации. Его план послевоенного ограничения вооружений с самого начала опирался на принцип равенства четырех «международных полицейских». Он всегда стремился избежать каких-либо сговоров за спиной Сталина и сохранения в тайне от него сведений, касающихся атомной бомбы. Это поставило бы Советский Союз в положение второсортного государства, к чему стремился Черчилль, но не Рузвельт. Он хотел держать Сталина поближе к себе, обеспечить Советскому Союзу достойное место в содружестве наций, а не вытеснять его оттуда. Самые влиятельные члены британского кабинета министров, включая лорда Червелла, как и самые влиятельные американские представители, вовлеченные в атомный проект, выступали за совместный с Советским Союзом контроль как единственную возможность предотвратить гонку вооружений. Многие историки утверждают, что, поскольку Франклин Рузвельт так и не рассказал Сталину о бомбе, значит, он возражал против этого. Но президенту всегда было свойственно тянуть с принятием решения по важным вопросам до последней минуты. Ему всегда нравилось постоянно прокручивать в голове различные варианты решения, на которые могли повлиять самые свежие новости по волнующему его вопросу. По этой причине ближнему окружению президента он был известен своей крайней неторопливостью. Он думал, что у него впереди еще масса времени, он не считал, что ему следует торопиться с принятием решения. Он, вероятно, думал, что время для принятия решения еще не наступило. Что касается атомной бомбы, то Рузвельт полагал, что впереди у него еще месяцы, чтобы все окончательно взвесить. К несчастью, у него их не было.
Глава 13 Ялта
Друг президента США и его спичрайтер Сэм Розенман позднее отмечал: после того как наконец удалось согласовать со Сталиным решения о времени и месте проведения заключительной конференции, Франклин Рузвельт выглядел так, словно сбросил со своих плеч непосильный груз[769]. Казалось, президент снова набирается сил и теперь уже с энтузиазмом воспринимает предстоящую поездку, что не часто с ним случалось в последнее время. Для всех, кто хорошо знал Рузвельта, причина была очевидна: он надеялся, что результатом конференции станет достижение его самой заветной мечты – рождение международной организации, которая будет иметь власть для удержания государств в пределах их собственных границ. Если это удастся, он войдет в историю как руководитель и единственный архитектор мирового правительства. Возможно, он не думал об этом в таких пафосных терминах, это не было свойственно Рузвельту. Гораздо важнее для него было создать инструмент, который положит конец мировым войнам. А еще это означало бы, что он добился успеха там, где потерпел поражение Вильсон.
Местом проведения конференции по решению Сталина стала Ялта в Крыму. Крым, который находился очень далеко от Америки, из-за чего президенту пришлось совершить весьма дальнюю поездку, был выбран Сталиным не случайно – он никуда не поехал бы дальше советского побережья Черного моря, а без участия Сталина не могло быть речи о создании Объединенных Наций, как и об успешном строительстве послевоенного мира. Черчилль был готов поехать куда угодно, хотя к Ялте относился скептически и даже заявил Гарри Гопкинсу: «Даже если бы мы десять лет убили на поиски места для конференции, мы не смогли бы придумать места хуже этого»[770].
С другой стороны, Гарриман сообщил президенту, что два офицера ВМС США уже посетили Ялту и доложили ему, что город «по русским стандартам удивительно привлекательный и чистый. Зима там мягкая, средняя температура в январе и феврале не опускается ниже 4 градусов»[771]. 15 декабря Гарриман также сообщил Рузвельту, что информация о состоянии здоровья Сталина представляется объективной и что Сталин надеется на встречу с президентом США вскоре после его инаугурации. Тем не менее 19 декабря Рузвельт, не имевший сведений о начавшейся в ноябре масштабной подготовке Ялты к конференции, поручил Гарриману еще раз предложить встретиться Сталину где-нибудь на средиземноморском побережье, например в Таормине. Сталин ответил, что он не только глава государства, но и Верховный главнокомандующий советскими вооруженными силами и должен постоянно находиться в контакте со своим штабом, и в Крыму это было возможно. Таким образом, место конференции окончательно осталось за Ялтой, которая находилась почти в полутора тысячах километров от Москвы и чуть ли не в десятке тысяч километров от Вашингтона.
Франклин Делано Рузвельт умел блестяще манипулировать людьми. Он инстинктивно чувствовал, как заставить Сталина и Черчилля работать вместе. Свой подход к этим двум лидерам он лучше всего сформулировал в беседе с Черчиллем: в нащупывании путей к взаимопониманию с советским лидером премьер-министру следует проявлять терпимость, чтобы оставлять у Сталина ощущение, что последнее слово будет за ним. Этим правилом, кстати, руководствовался и сам президент США. Он аргументировал это следующим образом: «Нам всем следует договариваться… чтобы полностью принять СССР в качестве равноправного члена объединения великих держав, связанных общей целью – предотвратить очередную мировую войну. Мы должны иметь возможность достичь такой цели путем урегулирования наших противоречий через компромисс всех причастных сторон, и это поможет в течение нескольких лет преодолевать трудности, пока ребенок не научится ходить»[772]. Рузвельт великолепно разбирался в людях. Каким-то внутренним чутьем он пробуждал в собеседнике чувство реальности, а затем умело к нему апеллировал. Умея нащупать у человека глубинные мотивы, которыми он руководствовался, при достижении взаимопонимания он мог направить его образ мыслей в нужное русло, чтобы добиться решения, которое устраивало обоих.
Президент отправлялся на встречу с двумя лидерами, один из которых держал под своим контролем черное и азиатское население, а другой замахивался на установление контроля над народами, живущими вдоль бескрайних западных границ его государства. Рузвельт официально известил Черчилля о своих намерениях относительно будущего Британской империи: еще 1 января 1942 года ему удалось заставить Черчилля разрешить Индии поставить свою подпись под Декларацией Объединенных Наций, что наделило Индию статусом доминиона. Летом того же года он проделал большую работу, чтобы подписанием Атлантической хартии содействовать независимости (вселив большие надежды на это) Гамбии, Индокитая, Сингапура, Египта, Бирмы, Кении, Южной Африки и Малайи, некогда основных владений Британии и Франции. Но возможности Рузвельта были ограниченными, и, общаясь с Черчиллем, он мог только убеждать. Без риска нарушить дружеские отношения максимум, что он мог сделать, – это сказать Черчиллю о том, что президент США хочет, чтобы Британия начала освобождать свои колонии. Но война подходила к концу, и теперь важнее было не допустить захвата Сталиным Польши. Теперь весь мир внимательно следил не за Англией, а за Советским Союзом. Рузвельту предстояло заступиться за права одного из самых многострадальных государств мира – Польши. Чтобы обеспечить этой стране и всем остальным государствам мирное будущее, чтобы создать сильную международную организацию, достаточно влиятельную, чтобы удержать авторитарные режимы от попыток захватить другие страны, Рузвельту предстояло дать понять Сталину, как тому следовало вести себя. То обстоятельство, что поляки все время ссорились между собой (по меньшей мере, со времен Екатерины Великой), означало, что требовалось надавить на Сталина, чтобы тот позволил полякам самим выбрать своих новых лидеров, что было всего сложнее.
* * *
Рузвельт не питал особых иллюзий в отношении кого-либо из партнеров по альянсу. Но именно с ними ему предстояло создать новый прекрасный мир, в центре которого будет возвышаться мощная миротворческая организация – ООН. Он знал, как и многие другие, даже в то время, что Сталин виновен в «массовых убийствах тысяч невинных людей»[773]. Об этом он много говорил в феврале 1940 года на конференции американской молодежи в Белом доме. Знал он и о том, что в середине войны были представлены доказательства убийства в СССР группы польских офицеров, попавших в советский плен, а также о последующих попытках скрыть это преступление. Но сейчас он отодвинул в сторону факты истории. Рузвельт прекрасно сознавал также серьезные недостатки Черчилля. История жестко обошлась со Сталиным, но была благосклонна к Черчиллю: премьер-министр был талантливым писателем, и дошедшая до нас его версия истории так ослепляла блеском ее изложения, что мы не видели всей аморальности действий самого Черчилля. Для президента США Черчилль являлся даже неким подобием Сталина. За четыре месяца до Ялты, в октябре, Черчилль встречался со Сталиным в Кремле и цинично предлагал ему договориться, какую из балканских стран каждый из них хотел бы контролировать. На листе бумаги Черчилль обозначил свое предложение: оставить Сталину 90 процентов контроля над Румынией, а Британии – 90 процентов контроля над Грецией, Югославию же разделить на сферы влияния. Сталин вернул этот лист Черчиллю, никак его не прокомментировав, и предложил ему сохранить этот документ. Такая попытка заключить грязную сделку привела Рузвельта в крайнее негодование, и он решил активнее заниматься созданием международной организации, при которой такие сделки стали бы немыслимы.
Рузвельт всегда был противником колониализма и прав сильных держав управлять слабыми государствами. К тому же он хорошо знал о расистских убеждениях Черчилля, ярого приверженца колониальных империй. Президент был сторонником принципа: ни одно государство не имеет права устанавливать контроль над другим государством. Уже в первый год своего президентства он лишил США права вмешиваться во внутренние дела государств Южной Америки и вскоре рекомендовал ввести самоуправление в Пуэрто-Рико. Он убедил конгресс принять закон о предоставлении независимости Филиппинам по истечении переходного десятилетнего периода, отрешиться от права США контролировать панамскую территорию и вмешиваться в дела Кубы, а также приказал контингенту морской пехоты США покинуть территорию Гаити.
Он поступал так, потому что был убежден, что колониализм не только порочен в нравственном отношении из-за того, что народы колоний всегда изначально подвергались порабощению, унижению и постоянной эксплуатации, но и сама колониальная система угрожает сохранению мира на планете. (Об истинной сути британского колониализма он знал из первых рук – от своего деда Делано и прадеда Делано, которые занимались морской торговлей и еще в 1841 году в Гонконге видели жестокость британцев, приводившую их в ужас: «Я искренне желаю, чтобы китайцы, наконец, за все отплатили Джону Буллю и он понес бы заслуженное наказание»[774], – писал его прадед в своем дневнике, который хранился в доме президента как семейная реликвия.) Колониальные империи не могли быть оправданы не только с нравственных позиций, но и, по мнению президента, потому, что всегда опирались на насилие, их колонии служили источником ресурсов для пополнения вооруженных сил государства, провоцируя дальнейшие войны. Поскольку Британия являлась крупнейшей в мире колониальной державой, даже дружба не смогла бы надолго удержать Рузвельта от разрыва отношений с ее лидером, хотя в те времена он оставался другом премьер-министра.
Еще во время первого визита Черчилля в Белый дом президент США начал свою битву с британским премьером, добиваясь ослабления влияния Британии на жемчужину в ее короне – Индию. И он тут же натолкнулся на ожесточенное сопротивление. Как писал Черчилль, «моя реакция была столь жесткой и продолжительной, что он никогда больше не заводил разговор на эту тему»[775]. Но Рузвельт не сдался, он просто изменил тактику. Он действительно дружил с Черчиллем, их связывала история, национальные корни и расовая общность. Однако Черчилль был расистом и всегда проявлял жесткость в отношении народов британских колоний, как Сталин – в отношении славянских народов. И Рузвельт хорошо это знал, но пытался не вмешиваться. Расизм Черчилля проявился, прежде всего, в том, что сначала он был категорически против наделения Китая статусом четвертого «полицейского» государства. Давний врач Черчилля вспоминал: «Для президента США Китай означает страну с населением четыреста миллионов человек, которые завтра вольются в семью равноправных народов мира. Но Уинстона волнует только цвет их кожи»[776]. После принятия Атлантической хартии Черчилль выступал с речью в Палате общин, где объяснял, что он и президент договорились о праве наций на самоопределение, но это никак не касается британской политики в Индии и других частях империи. Свое кредо Черчилль излагал так: «Причина апологетики англосаксонского превосходства заключается в том, что мы на самом деле стоим выше других, у нас общая национальная культура, которая складывалась в Англии в течение столетий, и она доведена до совершенства нашим государственным устройством»[777].
В своей книге по истории войны «Петля судьбы» Черчилль писал: «Никакая часть населения мира не была так успешно защищена от ужасов мировой войны, как народы Индостана [Индии]»[778]. Большее лицемерие невозможно было и вообразить себе. Британское правление в Индии было столь же жестоким, как и правление Сталина в России. Черчилль заявил, что Индия вступает в войну против Японии, даже не посчитав нужным обсудить этот шаг с представителями индийской администрации. В ноябре 1941 года Черчилль применил в Бенгалии тактику выжженной земли, позднее названную «порядком проведения воспретительных действий». Солдатам приказали захватить весь рис, какой только могли найти, и семенной фонд, а также разобрать элеваторы и амбары с зерном. Это делалось с единственной целью: чтобы японцам, если они рискнут вторгнуться в Индию, не досталось ни крошки продовольствия. Солдаты реквизировали весь служебный и общественный транспорт, все суда и лодки, даже баркасы бенгальских рыбаков, все велосипеды, в том числе те, на которых люди ездили на работу. С утратой запасов риса и без транспорта, который мог бы пригодиться для поисков пищи, бенгальцы стали умирать от голода в нарастающих масштабах. Голод в Бенгалии не коснулся солдат-индусов британской армии, во множестве рекрутированных империей. Их хорошо кормили, но не вооружали: Черчилль опасался, что они могут обратить оружие против англичан.
Рузвельт пытался вмешаться, оправдывая свои действия необходимостью переброски по железной дороге через Индию в Ассам у бирманской границы американских солдат и боевой техники для блокирования коммуникаций, ведущих к Бирме и Китаю. Президент мотивировал такую необходимость постоянной угрозой вторжения японцев через границу с Бирмой и тем, что индусам необходимо предоставить права и обращаться с ними как с равными, чтобы они имели возможность дать достойный отпор японским интервентам в случае вторжения. В начале 1942 года он направил в Дели полковника Луиса Джонсона, бывшего помощника военного министра, в качестве личного представителя президента США. Джонсону предстояло попытаться убедить вице-короля предоставить индусам некоторое право распоряжаться собственной жизнью и пообещать статус доминиона сразу после окончания войны, надеясь, что это поможет индусам помириться с британцами. Одновременно с отправкой миссии Джонсона в Индию Рузвельт написал Черчиллю письмо, предлагая свое решение, продуманное в духе традиций англо-американской истории: сформировать орган, «который можно будет назвать временным правительством, возглавляемым небольшой представительной группой в составе выходцев из различных каст, представителей различных профессий, религий и географических районов. Эту группу можно было бы признать в качестве переходного правительства доминиона»[779]. Франклин Рузвельт поручил Гопкинсу, который находился в Лондоне для координации военных планов США и Британии, обсудить эти идеи с Черчиллем, что Гопкинс и сделал. Однако, по словам Гопкинса, беседа с британским премьером, которая проходила в течение уик-энда в Чекерсе, завершилась полным крахом. Только услышав о миссии Джонсона, Черчилль, словно обезумев, впал в неистовство. Позднее Гопкинс описывал Стимсону: «Когда он узнал, с какой целью президент послал Джонсона в Индию… поток грязной ругани изливался на меня почти два часа подряд, хотя была уже вторая половина ночи. Сцена была весьма колоритной»[780].
Черчилль, который сражался в Индии в качестве младшего офицера королевской кавалерии, позже называл индусов «самыми жалкими и мерзкими созданиями на земле… опасными паразитами»[781]. Вице-король в этой стране правил железной рукой: была введена жесткая цензура, людей арестовывали безо всякого ордера, сажали в тюрьмы без суда, индусам ограничили доступ к образованию, гражданской службе и работе на промышленных предприятиях.
16 октября 1942 года на Бенгалию обрушился мощный циклон, наводнение затопило поля, разрушило дома и лишило людей элементарных средств к существованию. Даже в такой ситуации британская политика не изменилась: население по-прежнему не получало риса, хотя его партии регулярно перевозились из Бенгалии на Цейлон. В результате 13 процентов населения этого региона постигла голодная смерть. Поскольку индусам не разрешалось выезжать за границу, и у них не было доступа к международным средствам связи (телефону или телеграфу), а их руководители сидели в тюрьме, у бенгальцев не было возможности даже известить мир о своем бедственном положении.
После наводнения Рузвельт вместо Джонсона послал в Индию в качестве своего личного представителя Уильяма Филлипса, самого опытного дипломата из Госдепартамента и руководителя подразделения Управления стратегических служб США в Лондоне. Филлипсу была поручена та же миссия: «добиваться предоставления свободы всем угнетенным народам в самые короткие сроки»[782]. К приезду Филлипса в конце 1942 года огромные массы индусов во главе с Махатмой Ганди и Джавахарлалом Неру восстали, доведенные до отчаяния произволом британцев. В ответ на это вице-король расстрелял десять тысяч повстанцев, а девяносто тысяч бросил в тюрьмы. В тюрьме оказались двадцать пять тысяч членов партии «Индийский национальный конгресс» вместе с Неру и Ганди, которых лишили прав переписки и общения. Филлипс запросил разрешение на встречу с ними, но получил отказ. Узнав о том, что Неру в тюрьме объявил голодовку, Черчилль презрительно буркнул: «Мы не возражаем, если он умрет с голоду, раз он этого хочет… Он – это абсолютное зло, он ненавидит нас всеми фибрами души»[783].
А вот как он отозвался о Ганди: «Меня мутит при виде господина Ганди, этого мятежного адвоката из “Миддл-Темпла“[784], который теперь изображает из себя столь модного на Востоке факира, шагающего полуголым по ступеням дворца вице-короля, чтобы потребовать на равных вести переговоры с представителем британской короны»[785].
Черчилль заявил, что столкновения были вызваны распрями между индусами и мусульманами, что не являлось правдой. На самом деле, как это бывало и в прошлом, британская политика держалась на поощрении вражды между этими двумя группами населения. «Меня вовсе не привлекает перспектива единой Индии, которая укажет нам на дверь»[786], – признавался Черчилль.
Месяцем позже, 11 ноября 1942 года, Черчилль произнес свою знаменитую фразу: «Я стал первым министром короля не для того, чтобы председательствовать на церемонии распада Британской империи»[787]. Министр по делам Индии Лео Эмери вспоминал: на следующий день Черчилль «находился буквально в состоянии исступленной ярости при одной только мысли об унижении, которое ему придется испытать в случае изгнания британцев из Индии самым звероподобным народом на земле, после немцев, конечно… Черчилль знает о проблемах Индии ровно столько же, сколько Георг III знал о проблемах американских колоний». Причина заключалась не в недостатке кораблей и запасов продовольствия или утаивании информации, причина заключалась в том, что Черчилль не желал решать эту проблему. К исходу зимы положение в стране только ухудшилось. Губернатор Бенгалии сообщал британским властям: «Бенгалия стремительно приближается к голодной смерти»[788]. Забеспокоился даже вице-король, страстный приверженец политики Черчилля, давно оторванный от реальной жизни в гигантском дворце и постоянно хвастающийся своим огромным тронным залом округлой формы с куполом и банкетным залом на 140 человек, в котором по обыкновению прислуживали ряды лакеев в малиново-золотых ливреях. (После посещения дворца принц Уэльский сказал вице-королю: «Именно так должна проявляться королевская власть»[789].) Встревоженный вице-король в конце октября 1943 года телеграфировал премьер-министру: «Голод в Бенгалии – одно из величайших бедствий, которые только выпадали на долю народа под британским правлением, и я опасаюсь за нашу репутацию в этой стране»[790]. Черчилль не обратил на эту телеграмму никакого внимания. В своем докладе президенту США Филлипс не стал преуменьшать масштабов бедствия: «Многие сельские районы Бенгалии лишены продовольствия, деревенские жители уходят в города, чтобы там умереть от голода. Сообщают, что в Калькутте на улицах лежит столько тел умерших от голода, что живущие там европейцы открыто обращаются к муниципальным властям, требуя принять более действенные меры для уборки трупов с улиц»[791].
Вести о разрастании бедствия стали доходить и до британской общественности. Архиепископ Кентерберийский призвал к совершению ежедневных молебнов за умирающих от голода в Индии. Палата общин единогласно проголосовала за отправку продовольствия голодающим. Однако Черчилль оставался непреклонным. Он приостановил исполнение решения палаты и резко заметил, что ему «безразлично, что палата думает по этому поводу»[792]. Эмери обратился к кабинету военного времени Великобритании с просьбой направить голодающим продовольствие. Однако кабинет возглавлял Черчилль, и Эмери получил отказ. Макензи Кинг и Рузвельт предлагали послать продовольствие в Индию – им тоже ответили отказом. Как писал Хэлл в своих «Мемуарах», делая вид, что все обстояло нормально и одновременно пытаясь сказать правду, «мы предприняли усилия, чтобы послать часть наших избыточных запасов риса из Западного полушария в Индию. Однако британские представители в Объединенном совете по продовольствию в Вашингтоне настаивали на том, чтобы обязанность по снабжению Индии продуктами питания оставалась за Британией, и нам пришлось с этим согласиться»[793]. Позиции Черчилля не смягчились даже с течением времени. В июле 1944 года вице-король Арчибальд Уэйвелл докладывал: «Уинстон прислал мне раздражительную телеграмму, спрашивая, почему Ганди все еще не умер»[794]. Осенью 1944 года, уже в Квебеке, Черчилль открыто заявил Рузвельту и Макензи Кингу, что голод «случился из-за того, что народ сам попрятал продукты с целью спекуляции»[795]. Спустя шесть недель Черчилль, по свидетельству министра по делам Индии, начал свою речь на совещании кабинета военного времени следующими словами: «В порядке преамбулы об индусах, которые плодятся как кролики, а нам обходятся в миллион в день, ничего не делая для войны»[796].
Вспоминая разговор об Индии за ужином через несколько недель после Ялтинской конференции, личный секретарь Черчилля Джон Колвилл записал в своем дневнике: «Премьер заявил, что индусы – гнилая раса, которая спасается своим безудержным размножением от полной гибели, коей, впрочем, они заслуживают. Он бы желал, чтобы Берт Харрис [сэр Артур Харрис, маршал ВВС] послал несколько лишних бомбардировщиков для их уничтожения»[797]. По новейшим данным, в Индии от голода погибли как минимум миллион человек, но, возможно, и все три миллиона[798].
В своих поездках на конференции в Касабланке и Тегеране Франклину Рузвельту довелось побывать в Гамбии, Французском Марокко, Египте и на Мальте и побеседовать с местными руководителями (там, где ему это удалось). Даже первое знакомство с условиями жизни в этих странах усилило его стремление приблизить конец колониальных империй. «“Большая четверка“ (мы сами, Британия, Китай и Советский Союз) будет отвечать за мир на планете… Эти державы возьмут на себя задачу обеспечения образования, повышения уровня жизни и состояния здоровья всех отсталых, угнетенных колониальных территорий. А когда эти территории получат шанс на развитие, им должна быть предоставлена возможность получить независимость… Если этого не сделать, мы должны осознавать, что стоим на пороге новых войн»[799].
Ситуация в британском протекторате Гамбии на африканском побережье особенно обеспокоила президента США: «Мне в жизни не довелось видеть ничего ужаснее… Коренное население отстало от нас на пять тысяч лет… Британцы там хозяйничают уже целых двести лет, и на каждом вложенном в Гамбию долларе они зарабатывают десять»[800].
По просьбе Рузвельта Филлипс возвратился в Соединенные Штаты в апреле 1943 года и кратко описал президенту ситуацию в Индии: «Я сказал, что вся Индия смотрит на него с надеждой и что мое затянувшееся пребывание в Индии может подорвать престиж президента, если в действиях британцев так ничего и не изменится. Он согласился с этим»[801], – записал Филлипс в своем дневнике.
* * *
На фоне этих мрачных раздумий президента о преступлениях колонизаторов в том же месяце Филлипс доложил ему (о чем Рузвельт уже знал, хотя дошедшие до него сведения были противоречивы) о страшном преступлении Сталина в Катыни.
При отступлении немцев весной 1943 года правительство нацистской Германии объявило по радио, что немецкие солдаты обнаружили в Катынском лесу близ Смоленска массовое захоронение десятков тысяч польских офицеров. Все жертвы были убиты выстрелом из пистолета в затылок. Немцы заявили, что это дело рук русских в 1940 году. Это было серьезным обвинением. Массовые убийства были совершены из-за того, что НКВД (и лично Сталин) был убежден, что офицеры, «сливки» польской армии, настроенные враждебно к СССР, являлись потенциально опасными для Советского Союза, поскольку, ослепленные ненавистью к России, в 1939 году они якобы стремились к союзу с Гитлером. Польское правительство в изгнании в Лондоне неоднократно запрашивало Кремль о судьбе этих офицеров, захваченных в плен Красной армией, обратив внимание на то, что письма польских офицеров семьям из плена перестали поступать после марта 1940 года. Ни на один из запросов польского премьера Владислава Сикорского Сталин предпочел не отвечать. В декабре 1941 года Сикорский в очередной раз сделал запрос о судьбе польских офицеров и потребовал от имени правительства Польши провести расследование под эгидой Международного Красного Креста, на который Кремль не смог бы оказать своего влияния. Но когда Сталин ужесточил свои контакты с польским правительством, Сикорский временно отозвал свое требование провести расследование. Сталин решил уклониться от всех предъявляемых ему обвинений одним махом и 21 апреля отправил Рузвельту письмо следующего содержания:
«Поведение Польского правительства в отношении СССР в последнее время Советское правительство считает совершенно ненормальным, нарушающим все правила и нормы во взаимоотношениях двух союзных государств.
Враждебная Советскому Союзу клеветническая кампания, начатая немецкими фашистами по поводу ими же убитых польских офицеров в районе Смоленска, на оккупированной германскими войсками территории, была сразу же подхвачена правительством г. Сикорского и всячески разжигается польской официальной печатью. Правительство г. Сикорского не только не дало отпора подлой фашистской клевете на СССР, но даже не сочло нужным обратиться к Советскому правительству с какими-либо вопросами или за разъяснениями по этому поводу.
Гитлеровские власти, совершив чудовищное преступление над польскими офицерами, разыгрывают следственную комедию, в инсценировке которой они использовали некоторых подобранных ими же самими польских профашистских элементов из оккупированной Польши, где все находится под пятой Гитлера и где честный поляк не может открыто сказать свое слово»[802].
Рузвельт, который в свое время предоставил Сталину кредит доверия, в результате оказался единственным, кто был встревожен политическими последствиями разрыва Советским Союзом отношений с польским правительством:
«Я вполне понимаю сложность Вашего положения, но в то же самое время я надеюсь, что Вы сможете в существующей обстановке найти путь для того, чтобы определить свои действия не как полный разрыв дипломатических отношений между Советским Союзом и Польшей, а как временное прекращение переговоров с польским правительством, находящимся в изгнании в Лондоне.
Я не могу поверить, что Сикорский в какой бы то ни было степени сотрудничал с гитлеровскими гангстерами. С моей точки зрения, однако, он сделал глупую ошибку, поставив именно этот вопрос перед Международным Красным Крестом. Кроме того, я склонен думать, что премьер-министр Черчилль изыщет пути для того, чтобы убедить польское правительство в Лондоне действовать в будущем более осмысленно»[803].
Советское правительство развернуло лихорадочную кампанию по дезинформации с целью сокрытия своих преступлений. Были выкопаны тысячи тел, к трупам были подложены фальшивые улики, после чего советская сторона пригласила для инспектирования захоронения группу американских и британских журналистов, включая Кэтлин Гарриман, дочь Аверелла Гарримана, которая жила и работала вместе с отцом в «Спасо-хаусе». К месту инспекции группу доставили специальным поездом, который Кэтлин Гарриман сочла «роскошным». По описаниям Кэтлин, захоронение к приезду гостей было тщательно подготовлено. Она пишет, что сразу по прибытии на место «мы начали переходить от могилы к могиле. Нам пришлось увидеть многие тысячи тел или частей тел, находящихся на разных стадиях разложения, но запах стоял невыносимый. Некоторые из тел были выкопаны немцами весной 43-го года, после чего они впервые обнародовали свою версию этой истории… Самым убедительным свидетельством было то, что каждый поляк был убит единственным выстрелом в затылок. У некоторых тел руки были связаны за спиной, типичный почерк немцев… Немцы утверждают, что поляков убили русские еще в 40-м году, а русские уверяют, что поляки оставались живыми до осени 41-го… Хотя видно, что немцы обшаривали карманы поляков, все же остались некоторые написанные от руки документы. При мне нашли одно письмо, датированное летом 41 года, которое конкретно посчитали уликой»[804].
Поверив русской версии, Гарриман телеграфировал свои выводы президенту:
«Доказательства, которые в значительной мере обосновывают русскую версию, приводятся следующие: 1. Подавляющее большинство эксгумированных тел составляют рядовые, а не офицеры, как заявляли немцы. 2. Расстрелы производились методично, каждая из жертв убита одним выстрелом в основание черепа. 3. Обнаруженные письма датированы периодом с ноября 1940-го по июнь 1941 года. 4. Имеются свидетельства неудачной попытки эвакуировать поляков, когда немцы прорвались к Смоленску, и поляков, которые строили для русских и немцев дороги в течение 1941 года»[805].
* * *
Русские часто называли Ялту «Каусом Крыма» в честь ультрамодного и очаровательного портового городка на острове Уайт у западного побережья Англии, излюбленного места развлечений, отдыха и встреч русских царей и королевы Виктории. Расположенная на полуострове северного побережья Черного моря, Ялта имеет защищенную гавань и растянута вдоль береговой линии с ее заснеженными горными вершинами, зелеными холмами, пляжами и ласковым морем. После революции построенные царями и великими князьями дворцы и виллы превратились в санатории и дома отдыха. Красоты городу прибавляли виноградники, великолепные кипарисы и непередаваемой прелести ландшафты на склонах гор. Теперь гавань, луга и дороги уже носили следы разрушения и упадка. Немцы разграбили и разрушили Крым, насколько на это у них хватило времени перед поспешным отступлением. Бóльшая часть зданий была серьезно повреждена артиллерийским огнем, другие стояли с заколоченными наглухо окнами.
Подготовка Ялты к конференции стала поистине героической задачей. До войны город населяли 2 250 жителей. Теперь в Ялте оставалось только 234 жителя, а неповрежденными – только девятнадцать зданий. Остальные к моменту отступления немецкой армии в 1944 году выглядели пустыми коробками без крыш. Ливадийский дворец, место проведения конференции, и дворец Юсупова, который Сталин выбрал для своей резиденции, чудом сохранились только потому, что у немцев не было времени взорвать их. Но окна были выбиты, стены стояли в выбоинах от осколков и пуль, полы, системы водоснабжения и отопления были разрушены, а мебель вообще отсутствовала. Перед Берией и НКВД была поставлена задача обеспечить гигантский объем работ по восстановлению дорог, ведущих к Ялте, а также в пределах города, отреставрировать, отремонтировать и меблировать резиденции. Как и все проекты сталинской эры, задача выполнялась энергично и вполне успешно. Целая армия рабочих была брошена на устранение повреждений в зданиях и придания им первоначального облика. Другая армия дорожных рабочих ремонтировала дороги. По словам одного из бригадиров, рабочий день начинался в пять часов утра и длился до полуночи, после чего проводилась летучка, на которой подводились итоги выполненных работ и ставились задачи на следующий день. Рабочие бригады трудились по две недели с полной нагрузкой, затем, когда люди изматывались, им давали время на восстановление сил, после чего они заступали на новую двухнедельную смену. Из Москвы доставили постельное белье, фарфоровую, столовую и кухонную посуду, собранную из разных государственных либо частных источников. Для одного только Ливадийского дворца было доставлено полторы тысячи ящиков с материалами. В каждом из дворцов были смонтированы кухни, прачечные, ванные комнаты и телефонные станции, а также по два автономных электрогенератора. Если чего-то не хватало, такие вещи принудительно забирали из оставшихся населенных домов в пределах досягаемости автотранспорта. Из московских гостиниц позаимствовали персонал, мебель, тарелки, фарфор, кухонное оборудование и постельное белье.
По статусу Рузвельт был «первым среди равных», и Сталин, понимая это, предоставил ему в качестве резиденции Ливадийский дворец – пятидесятикомнатное величественное сооружение в стиле Ренессанса, построенное последним русским царем Николаем. Именно в этом дворце должна была проходить конференция. Потакавший своим слабостям, Николай ознаменовал свое царствование постройкой этого летнего дворца, который возводили тысяча триста рабочих с апреля 1910-го по сентябрь 1911 года, когда строительство было завершено. Дворец был оснащен по последнему слову техники того времени: в нем было центральное отопление, электрическое освещение и лифт. А поскольку царская семья любила понежиться в морской воде, она специальными насосами подавалась в ванные комнаты. Вокруг дворца разбили обширный красивый парк с километрами аллей из кипариса, кедра, тиса и лавра, окаймлявших парк со стороны гор и нисходивших к морю и пляжу. Царю, царице, их четырем дочерям и страдавшему гемофилией сыну лишь четыре раза довелось побывать в этом очаровательном дворце. В последующем царя вынудили отречься от престола, а вскоре после этого он был казнен вместе со всей семьей. Говорили, что в опасениях покушения на свою жизнь царю в Ливадийском дворце приходилось каждую ночь спать в разных комнатах. Президент говорил репортерам, что царю иногда приходилось менять спальни даже посреди ночи. По свидетельству лорда Морана, врача Черчилля, Сталин сказал с ухмылкой, что если кому-то нужно было утром срочно найти царя, то прежде всего он направлялся в ванную комнату[806].
Инаугурация Рузвельта на четвертый срок президентских полномочий состоялась 20 января, в субботу. Она проходила не в Капитолии, как обычно, а в крытой галерее Белого дома с южной стороны здания. На церемонии присутствовала относительно небольшая группа гостей из двух тысяч человек, собравшихся на южной лужайке. Ввиду военного времени по соображениям безопасности церемония была сокращена, наземный и воздушный парады были отменены. Президент сказал Гарриману, что собирается ехать в Ялту по возможности сразу после инаугурации. Молотов, который опасался, что Ялта не будет еще готова в назначенный срок, подумывал о том, чтобы назначить начало конференции на 10 февраля, поэтому советовал президенту не торопиться. Когда первые американцы прибыли в Ливадийский дворец, румынские военнопленные еще устанавливали в здании канализационные блоки и дверные ручки, а в парке приводили в порядок дорожки и ряды кустарников.
Позаботиться надо было не только об удобствах для Рузвельта, но и об удовлетворении его особых нужд. Президенту должно было быть комфортно в его инвалидном кресле в любом из трех дворцов, где должны были проходить встречи или ужины. Там, где находились лестницы, устанавливались специальные пандусы. (Замена лестниц пандусами была обычной операцией перед приездом президента куда-либо. Такие пандусы, в частности, перед Квебекской конференцией специально установили в «Цитадели».) Ряд мер требовалось принять и для обслуживания Рузвельта, ведь, помимо аккредитованного армейского, военно-морского и дипломатического персонала, обеспечивающего потребности мероприятия, за комфорт и безопасность президента отвечали еще тридцать человек: восемь слуг, шестнадцать агентов секретной службы и шесть сотрудников Белого дома.
Ливадийский дворец, который тоже называли «Белым домом», потому что его стены были сложены из белого гранита, теперь по распоряжению адмирала К. Олсона, отвечавшего за обеспечение потребностей американской делегации, закамуфлировали в коричневый и розовый цвет[807]. Рузвельту предоставили апартаменты на первом этаже, это были комнаты, в которых случалось останавливаться Николаю и его сыну Алексею. В распоряжение президента США были выделены спальня, кабинет, столовая и ванная (ванная, являвшаяся большой редкостью для Ливадийского дворца, была построена специально для этих апартаментов). Работы провели, не жалея никаких средств. Стены спальни над декоративной рейкой с тремя обращенными к морю огромными окнами от потолка до пола были обшиты желтым атласом, а кабинет был отделан красным бархатом. Стены в столовой были облицованы панелями из каштанового дерева, а потолок представлял собой сложную конструкцию из древесины грецкого ореха. Столовая прежде являлась царской бильярдной комнатой в английском стиле XVI века с окнами, выходившими во дворик, и чудом сохранилась в своем первозданном виде. Над камином красовался орнаментный узор царя Николая, а за спинкой кресла Рузвельта на стене висела картина с изображением зимнего пейзажа. Когда подготовка апартаментов президента завершилась, русские узнали, что ему хотелось бы, чтобы стены выкрасили в цвет морской волны, и они заново перекрасили его ванную комнату в голубой цвет. Затем, каждый раз сомневаясь, правильно ли выбран оттенок, перекрашивали ванную еще три раза. По той же причине, беспокоясь о точности цветовой композиции (Кэтлин Гарриман писала домой: «Советы никак не могут решить, какого именно цвета восточный ковер будет выглядеть лучше всего»[808]), восточные ковры в апартаментах меняли четыре раза, для чего каждый раз приходилось переставлять всю мебель.
Комната Гопкинса соседствовала с президентскими апартаментами. Гопкинс чувствовал себя настолько больным, что покидал комнату только для участия в пленарных заседаниях. Несмотря на это, Рузвельт не упускал возможности обратиться к Гопкинсу за советом. (Отчаявшись уложить Гопкинса в корабельный лазарет на борту корабля ВМС США «Катоктин», доктор Макинтайр попытался хотя бы ограничить ему выход за пределы спальни. По свидетельству Стеттиниуса, врач настаивал на ограничении кофе, сигарет, на поразительно скромном питании, на приеме обезболивающих лекарств и на полном покое. Врач Черчилля лорд Моран писал, что Гопкинс выглядел намного хуже президента: «Физически он уже только наполовину в нашем мире, он стал похож на призрака»[809].) Анна Беттигер и Кэтлин Гарриман также занимали комнату рядом с президентской. Кэтлин наконец удалось встретиться с Рузвельтом, и он, как она писала своей сестре, «совершенно очарователен, прост в разговоре, с тонким чувством юмора. Он в прекрасной форме»[810]. (Кэтлин Гарриман дала нам классический пример гибкости человеческой памяти. После смерти президента, когда близкие говорили, что он был тяжело болен уже на ялтинской встрече, у Кэтлин возникнет новое неожиданное воспоминание. «Я пришла в ужас, насколько плохо он выглядел!»[811] – вспомнит она в 1987 году.) Эдвард Р. Стеттиниус, которого Рузвельт в декабре назначил госсекретарем вместо ушедшего в отставку по болезни Хэлла, был одним из тех, кому повезло тоже устроиться на первом этаже дворца в двухкомнатном номере, из которого можно было любоваться видом на море. Все остальные (а в состав делегации США входили сорок три человека) расположились на втором этаже. Генералу Маршаллу отвели царские покои наверху, а адмиралу Кингу – соседнюю комнату, спальню императрицы. Остальной военный персонал расположили более компактно: шесть генерал-майоров – в одной комнате, двенадцать бригадных генералов и десять полковников – в другой. Тяжелое положение было с ванными комнатами: одна на тридцать человек. В этих комнатах разложили брезентовые ведра и кувшины. Персонал Госдепартамента тоже с трудом втиснули в комнаты. К этому времени Рузвельту удалось наладить прочные и доверительные взаимоотношения с Государственным департаментом. В отличие от сложных отношений с Хэллом, страдавшим болезненным самолюбием, Рузвельт легко находил общий язык со Стеттиниусом, который всегда неукоснительно исполнял все его указания и к тому же был неплохим администратором. По этой причине в Ялту поехал Стеттиниус, а не Хэлл, который после Тегерана был фактически отстранен от дел. Постоянные рабочие контакты между Госдепартаментом и президентом поддерживал Чарльз Болен, выполнявший также функции переводчика. Среди опытных специалистов, которых президент взял с собой в Ялту, были: Г. Фримен Мэтьюс, директор европейского отдела Госдепартамента, и Элджер Хисс, заместитель директора бюро специальных политических мероприятий Госдепартамента, возглавлявший административную группу США в Думбартон-Оксе. Позднее он был обвинен в нарушении присяги и даче ложных показаний по делу о шпионаже в пользу России.
Рузвельт, с его тонким чувством истории и увлечением архитектурой, по достоинству оценил прекрасный дворец, в котором он провел много времени. Он расположился в последнем дворце, построенном глуповатым монархом, который, если бы остался в живых, был бы лишь на четырнадцать лет старше него. А ему предстояло сосредоточить все свои усилия на том, чтобы направить человечество на путь без эксцессов, беззакония и крови прошлого.
Для обеспечения высокоскоростной двусторонней связи между Ялтой и Вашингтоном войска связи США установили линии связи от Ливадийского дворца до штабного корабля ВМС США «Катоктин», стоявшего на якоре в Севастополе, протянув наземные коммуникации длиной более восьмидесяти километров. Чтобы президент всегда имел под рукой свежие сводки с фронта, на стене его апартаментов вывесили большую карту.
Когда кто-нибудь из американцев открывал дверь, чтобы выйти наружу, вдруг буквально ниоткуда появлялись трое одинаково одетых в длинные темно-синие пальто и поношенные черные кепки сотрудников НКВД. Немало было и одетых в серую с синим униформу офицеров безопасности, которые отличались безупречным телосложением.
Юсуповский дворец, который выбрал для себя Сталин в Кореизе, стоял на холме над морем между Ливадийским и Воронцовским дворцами, примерно в двадцати минутах езды в каждую сторону. Дворец располагался под крутой горой с заснеженной вершиной и по своим размерам был меньше двух других дворцов. У него была уникальная в своем роде история. Останавливаясь здесь, Сталин, революционер до мозга костей, должен был испытывать особое чувство удовлетворенности. Дело в том, что до революции этот дворец принадлежал князю Феликсу Юсупову, который в начале двадцатого столетия славился не только своим сказочным богатством, но и тем, что был типичным представителем дореволюционного порочного правящего класса, который, в конечном итоге, и привел Россию к гибели. По иронии судьбы Сталин и Юсупов в одно и то же время жили в Санкт-Петербурге, хотя между ними была глубокая пропасть. Сталин, тогда скрывавшийся от охранки революционер, тайно занимался распространением первых номеров газеты «Правда», в то время как Юсупов, который был моложе Сталина на девять лет, дерзкий, очень красивый кутила и весельчак с гомосексуальными наклонностями, не вылезал из самых роскошных клубов и дорогих ресторанов Санкт-Петербурга, надевал изысканные платья своей матери, украшая их ее драгоценностями (поэтому за князем постоянно охотились фотографы в жажде сенсаций, периодически появлявшихся в местных журналах). Между тем этот балагур и весельчак стал убийцей Григория Распутина, знахаря, лечившего молитвами и наложением рук и имевшего такое влияние на царя Николая и царицу Александру, что его убийца заслужил неувядающую мировую известность. Юсупов заманил Распутина в свой дворец в Санкт-Петербурге, угостил его чаем с пирожными и мадерой, напичканными цианидом. Но, судя по всему, он неверно рассчитал дозировку, и Распутин остался жив. Тогда князь достал пистолет, выстрелил в Распутина, потом завернул его тело в грубую парусину, погрузил в автомобиль, проехал на Петровский остров и там сбросил тело с моста в Мойку. Сосланный царем за это деяние Юсупов, имевший много денег и собственности, уехал жить в Париж. Благодаря этому он был в числе счастливчиков из кругов высшего русского дворянства, которым повезло попасть за пределы страны до того, как Российская империя оказалась на краю гибели в результате революционных потрясений.
В Юсуповском дворце квартировали немецкие солдаты, которые перед отступлением разрушили все, что успели. Перед конференцией пришлось заново обшивать стены дубовыми панелями, перестилать полы, завозить мебель и перестраивать кухни. Любопытнее всего, что Сталин во время пребывания в этом дворце пользовался только боковой дверью, игнорируя парадный вход во дворец. Комнаты для себя он выбрал рядом с этой боковой дверью, в одной из них он спал, другая служила ему кабинетом. Комнаты Сталина меблировали по привычным советским стандартам, в строгом и безвкусном стиле: практичная кровать с деревянными спинками цвета меда, неброское постельное белье, простой письменный стол и книжный шкаф. Может быть, Сталин чувствовал себя не слишком комфортно в этих больших комнатах. Возможно, это было показным напоминанием его окружению о том, что большевизм покончил с излишествами, свойственными дореволюционной России. А возможно, он чувствовал себя в большей безопасности, проживая в двух небольших комнатах, – об этом можно только догадываться. Сталин явно тревожился о своей личной безопасности: по соседству с ним находилась только комната Берии. В отличие от апартаментов Сталина спальня и кабинет Молотова сохранились в своем первозданном виде. В кабинете стоял рояль, а с балкона Молотов (в отличие от Сталина) мог наслаждаться живописным морским пейзажем. Сталин имел возможность просматривать выпуски фронтовой кинохроники и постоянно быть в курсе новостей с фронта. Для этого бильярдную комнату на цокольном этаже переоборудовали в кинозал с огромным экраном на одной стене и прорезями для кинопроекторов – на другой. Единственным помещением, которое по площади было сравнимо с залами других дворцов, являлся обеденный зал длиной пятнадцать метров и высотой потолка чуть ли не восемь метров. В нем обращало на себя внимание огромное окно в форме полумесяца, разбитое стекло в котором было срочно заменено перед конференцией. Здесь Сталин давал обеды. Повара, официанты, вся столовая фарфоровая и стеклянная посуда, столовое серебро и кухонная утварь были привезены из московских ресторанов «Метрополь» и «Националь».
Черчилль расположился в Воронцовском дворце, тоже достаточно роскошном здании, построенном частично в шотландском, частично в мавританском стиле по проекту английского архитектора. Здание неплохо сохранилось, у немцев просто не было времени его разрушить. Дворец украшали величественные башни, готические окна, великолепные просторные залы, круговая панорама с видом на море, а на другой стороне – с видом на суровый гранитный пик горы Святого Петра[812]. Шесть свирепых мраморных львов охраняли широкую каменную лестницу, ведущую от входа во дворец к расположенным ниже террасам и к морю. Бросались в глаза замысловатые потолки из дуба и обшитые деревянными панелями стены многих комнат, а в Голубой гостиной когда-то давали концерт Рахманинов и Шаляпин. Огромная спальня Черчилля на первом этаже с окнами от пола до потолка смотрела на море. Как и в Ливадийском дворце, ванных комнат здесь было недостаточно: на весь дворец – всего две ванны и две умывальные раковины с холодной водой. Воронцовский дворец отстоял дальше всех зданий от Ливадийского дворца, он находился в получасе езды на автомобиле по асфальтированной дороге, но с множеством крутых поворотов.
Поскольку ответственность за реконструкцию и весь персонал была возложена на НКВД, помещения дворцов тщательно прослушивались, как и автомобили, которые предоставлялись советской стороной. Сталин просматривал материалы прослушивания разговоров. В отличие от Тегерана он теперь не запрашивал выдержки из стенограмм бесед – вероятно, потому что материалов, которыми заваливал его Берия, вполне хватало. Весь американский персонал был предупрежден: все их разговоры прослушиваются русскими, а все комнаты напичканы микрофонами. Ни у кого не было никаких сомнений, что таким же образом русские следили и за английской делегацией.
Об уровне внимания, стремлении оставить гостя довольным и о всеведении слежки свидетельствует один любопытный эпизод. Дочь Черчилля Сара Оливер, офицер Женской вспомогательной службы ВВС, однажды сказала кому-то, что лимонный сок улучшает вкус икры. Вскоре после этого в саду Воронцовского дворца под окнами столовой появилось лимонное дерево, усыпанное спелыми плодами.
Элегантно одетый персонал, который обслуживал участников конференции днем, разительно отличался от групп уборщиков, работающих в ночное время, когда все гости уже спали. Одетые в поношенную одежду, они натирали паркетные полы, прижав тряпку босой ногой к паркету, а женщины подметали мусор вениками.
Вдоль берега стояла шеренга русских и американских боевых кораблей. При подготовке к конференции Берия приказал НКВД провести зачистку территории. Позднее он докладывал: выявлены и арестованы сотни шпионов, конфискованы тысячи единиц огнестрельного оружия, в том числе свыше семисот автоматов и пулеметов. Во время конференции Ялту охраняли четыре полка НКВД.
* * *
К концу января все, кто наблюдал за действиями трех глав государств, поняли: что-то происходит. Гопкинс уехал из Рима, и никто не знал, куда именно. Президент 30 января отсутствовал на собственном дне рождения. Черчилль и Иден вообще бесследно исчезли. Органы НКВД, узнав через свою агентуру, что немцы пытаются точно определить место предстоящей встречи трех глав государств, приказали организовать постоянное патрулирование зоны Крыма силами восьми советских дивизий ВВС из состава Черноморского флота до самого отъезда участников конференции.
В день отъезда Рузвельта в Ялту из Вашингтона, когда он завершал последние приготовления в дорогу, его стриг Джон Мэйз, степенный и очень любезный чернокожий человек, еще со времен президента Тафта совмещавший обязанности официального дворецкого Белого дома и парикмахера. Сидя в кресле парикмахера, Рузвельт обсуждал последние касавшиеся Ялты вопросы с Джеймсом Бирнсом, директором Службы мобилизации и реконверсии. Президент попросил Бернса съездить в Ялту, чтобы представить данные по торговле и по экономическим вопросам, которые «наверняка будут подняты»[813] на конференции. Ранее Рузвельт предупредил Моргентау, что «финансистам» в Ялте делать нечего, поскольку президент не собирался касаться темы предоставления России долгосрочного кредита. То, что он обратился с соответствующей просьбой к Бирнсу, означало, что президент изменил свое решение.
22 января в 22:00 Франклин Делано Рузвельт был доставлен на железнодорожную платформу, принадлежавшую Бюро по выпуску денежных знаков и ценных бумаг, где его ждал бронированный персональный вагон «Фердинанд Магеллан» с пуленепробиваемыми окнами толщиной 7,5 сантиметра. В 23:00 президент уже был в постели. Эта платформа была обычным местом посадки президента в вагон: во-первых, она специально охранялась, во-вторых, была вровень с полом железнодорожного вагона, и президент мог самостоятельно переместиться в своем инвалидном кресле из автомобиля прямо в вагон. Президентские апартаменты в «Магеллане» состояли из спальни, ванной комнаты с душем, еще трех дополнительных спален, столовой, кухни и гостиной. (Туалетные комнаты были во всех вагонах поезда, но душевая кабина была только здесь.) В состав поезда входили: вагон связи с дизель-генератором и радиостанцией, с помощью которой Рузвельт, используя специальные коды, поддерживал связь со своей «Штабной комнатой», четыре спальных вагона, вагон-столовая и вагон-салон для остальных пассажиров. Кроме Бирнса, президента сопровождали его дочь Анна, адмирал Лихи, Росс Макинтайр, адмирал Уилсон Браун, генерал Па Уотсон, доктор Брюэнн, Эдвард Дж. Флинн, видный функционер и бывший лидер Демократической партии, и его пресс-секретарь Стив Эрли. (Флинна в состав делегации включили в последний момент, так как Рузвельт рассчитывал, что присутствие Флинна в Ялте повысит его престиж и что после конференции тот посетит Москву и папу римского и обеспечит улучшение отношений между Римской католической церковью и Россией.) Группа филиппинских поваров из «Шангри-Ла», президентского имения в Мэриленде, которым предстояло кормить президента в Ялте, располагалась в одном из спальных вагонов. Гопкинс и Стеттиниус ожидали Рузвельта на Мальте. Как только президент уснул, поезд, которому уступали дорогу все прочие поезда (интервал между «Магелланом» и любым иным поездом должен был составлять не менее двадцати минут, в противном случае другой поезд просто отгоняли на запасной путь), начал движение вперед с предельной скоростью 64 километра в час. Были приняты все меры безопасности: вооруженная охрана наблюдала, как поезд проходит под эстакадами, над кульвертами, стрелками и пересечениями с другими магистралями. Участки, где рельсы шли параллельно и близко к шоссейным дорогам, патрулировались моторизованными подразделениями. В Ньюпорт-Ньюс, штат Виргиния, «Магеллан» прибыл точно по графику еще до рассвета. В порту президента ждал «Куинси», новый быстроходный тяжелый крейсер, получивший боевое крещение в Нормандии при высадке десанта. До восхода солнца крейсеру предстояло сняться с якоря и отправиться в путь с президентом США и сопровождающими его лицами на борту.
Рузвельт признавался Дейзи, что его очень беспокоило, не будет ли конференция слишком утомительной для него («он опасался, что она его измотает, что ему придется находиться в постоянном напряжении, особенно при беседах с “Дядюшкой Джо“ и У.С.Ч.»[814]), но в это плавание на борту корабля он отправился с большим удовольствием. Когда президент поднялся на борт, он сказал Дейзи, что «ему хотелось бы попасть в лифт, подняться до своей каюты на верхней палубе, позавтракать, а потом появиться на палубе подышать морским воздухом». А дальше произошло следующее: «Как писал сам Франклин Рузвельт, мы поднялись на борт и позавтракали, а когда вышли на палубу, корабль был уже далеко от берега»[815].
Вечером первого дня Рузвельт сидел с Анной на палубе, наблюдая проплывающий вдали берег Виргинии. Будучи уверенным в сдержанности Анны в беседах и хорошо зная, как она скрывала от Элеоноры его многочисленные встречи с Люси Резерфорд, с которой он обещал Элеоноре больше никогда не встречаться, Рузвельт показал дочери место, где обычно жила семья Люси. «Вон там расположена их плантация»[816], – заметил он.
Ежедневные морские воздушные ванны, почти полный штиль на море, утренний сон («надо еще вздремнуть после завтрака»[817]), послеобеденный сон (Анна потом напишет, что президент «все спит и спит»[818]), совместные ланчи и обеды в каюте президента, затем просмотр кинофильмов и десятичасовой ночной сон (как он говорил Стеттиниусу) – вот и все, что мог позволить себе Рузвельт на корабле. Удалось избежать неприятных сюрпризов: дважды на кораблях сопровождения посчитали, что засекли сигналы подводных лодок противника, но оба раза тревога оказывалась ложной. Уильям Ригдон рассказывал, что в день своего рождения, 30 января, президент «от души смеялся», когда пять соперничавших между собой групп на борту «Куинси» испекли и преподнесли ему пять праздничных тортов. Ригдон говорил, что президент «работал с присущей ему энергией, просматривал целый ворох почты… питался как обычно, в первые несколько дней его вообще никто не беспокоил, не было даже сильного волнения на море… он беседовал, много смеялся, рассказывал разные истории, а за вечерними коктейлями по обыкновению был весьма оживлен»[819].
А вот Бирнс рассказывал о президенте несколько иначе, чем Ригдон. По его словам, Рузвельт простудился и не выходил из каюты, и Бирнс побеспокоил его, когда пришел узнать, в чем дело. Но к тому времени, когда они прибыли на Мальту, простуда прошла, и президент был совершенно здоров. Он присутствовал на военно-спортивных играх экипажа на кормовой палубе крейсера: матросы соревновались в «беге на трех ногах» и перетягивании каната. Вечером он непременно сидел в кинозале и просмотрел каждый из показанных фильмов: «Наши сердца были молоды и веселы», «Сюда набегают волны», «Принцесса и пират», «Лора», «Иметь и не иметь». Хотя Бирнс находился на борту, поскольку президент говорил, что нуждается в нем для решения вопроса об объемах американских послевоенных поставок, он мало общался с Бирнсом либо вообще никак не упоминал о его предстоящей функции. Они беседовали о величайшей грядущей организации, которая, как верил Рузвельт, станет главным достижением всей его жизни. Бирнс провел на борту «Куинси» одиннадцать дней и пришел к заключению: «Цель нашего шефа на конференции – заключить соглашение на основе наших предложений, внесенных в Думбартон-Оксе, по созданию международной миротворческой организации»[820]. Было не похоже, что Франклина Рузвельта волновали еще какие-либо проблемы.
2 февраля в 9:30 утра крейсер «Куинси» медленно вошел в порт на Мальте. Чарльз Болен, который находился в числе встречавших президента, красочно описал солнечные блики на воде, безоблачное небо, флаги на британских военных кораблях, флаги на крепостной стене города, развевавшиеся на ветру, орудийный салют с британских кораблей, восторженные приветственные крики собравшихся в порту людей, когда они увидели Рузвельта, сидевшего в своем инвалидном кресле на палубе в накинутом на плечи черном плаще.
Черчилль ожидал их. Он поднялся на борт, чтобы встретиться с Рузвельтом за ланчем сразу же после его прибытия. Британского премьера сопровождали Энтони Иден и дочь Сара Оливер. К этой встрече Черчилль специально переоделся, теперь на нем не было привычного мундира морского офицера. И он, и президент США находились в прекрасном расположении духа. Они много шутили, вспоминали об Атлантической хартии, которую так никогда и не подписали. Поговорили о Китае и мадам Чан Кайши. Но течение их беседы едва не наткнулось на подводный камень, когда премьер-министр назвал Китай «великой американской иллюзией»[821]: Стеттиниус вспоминал, что президент сразу нахмурился. Черчилль, как и перед Тегеранской конференцией, пытался снова втянуть Рузвельта в обсуждение темы создания на переговорах единого англо-американского фронта против Сталина. Но президент США и на этот раз не дал втянуть себя в игру.
«Очень мило, но ни слова о деле»[822], – отозвался о ланче с Рузвельтом Энтони Иден. Под «делом» Иден имел в виду повестку дня в Ялте: президент США отказался даже обсуждать ее. Без тени смущения Иден и Черчилль заручились приглашением на обед на борту «Куинси» в тот же вечер «специально с этой целью».
Однако, по оценке Черчилля и Идена, от обеда было не больше пользы, чем от ланча. Присутствовали Сара Оливер и Анна Беттигер, и обед оказался, как, несомненно, и планировал Рузвельт, простой вечеринкой. (Приглашали и Гарри Гопкинса, но тому нездоровилось.) «Было невозможно хоть как-то коснуться конкретных вопросов, – жаловался позднее Иден. – Мы направлялись на судьбоносную конференцию, но так и не смогли договориться ни о том, что именно надо обсудить, ни о том, как будем вести себя в общении с Медведем, который, уж конечно, постарается добиться своего». Действительно, британцы очень хотели обеспечить тесное взаимодействие с Рузвельтом, от чего тот осторожно старался уклониться: он хотел вести игру в одиночку. Президент ни с кем не хотел делиться своим влиянием. По требованию Идена Стеттиниус встречался с ним накануне, но обсудил только те вопросы для конференции, какие президент США счел нужным довести до сведения британских союзников. Сара Оливер писала: «Мой отец и вся британская команда почувствовали, что от нас как-то ускользает былое взаимопонимание»[823], словно забыв, что совершенно такая же ситуация возникала и в Тегеране.
Ужин на борту «Куинси» сильно запоздал. Он длился до 22:15, когда с корабля сошли на берег Черчилль, Иден и Сара Оливер. Президент рассчитывал быть на борту самолета еще в 22:00, но он с сопровождающими смог приехать в Луку, где находился аэродром британских ВВС на Мальте, только в 23:00 и занять места на борту «Священной коровы».
Хотя Франклин Делано Рузвельт был не первым в истории США президентом, совершающим авиаперелет (эта честь принадлежит его двоюродному брату Теодору), он все же был первым, кто летел с официальным визитом. «Священная корова» была первым президентским самолетом, а Рузвельт – первым президентом, который им воспользовался. Перестроенный пассажирский «Дуглас» «С-54», известный в коммерческой версии как “DC-4”, был оснащен специальным президентским салоном с диваном-кроватью полной длины, креслом, письменным столом и уникальным окном широкого обзора, через которое президент имел возможность с неослабевающим интересом осматривать территории, над которыми пролетал. На стене салона установили растяжную географическую карту. Поскольку всем была известна любовь президента ко всему морскому, над диваном-кроватью повесили картину, изображающую летящий по волнам парусник. В передней части президентского салона находились две отдельные кабины с парой кресел в каждой из них. В хвосте салона был лифт, поднимающий на борт и спускающий президента в его инвалидном кресле на землю. Благодаря лифту появилась возможность убрать опасный и демаскирующий девятиметровый пандус, по которому прежде сразу можно было распознать самолет, перевозивший Рузвельта. Он не проявил особого энтузиазма по поводу постройки специального президентского самолета: Рузвельт не любил летать, поскольку в полете всегда обострялся гайморит, к тому же он всегда заботился об экономии, а поездки по железной дороге даже в специальном вагоне «Фердинанд Магеллан» обходились бюджету намного дешевле. Даже название для президентского «борта» он поручил придумать другим. А когда при нем кто-то сказал, что аэродромная охрана и летчики-испытатели этого самолета заботились о нем как о «священной корове», он решил оставить это название. Так президентский самолет стал официально называться «Священной коровой».
Перелет до Сак, ближайшего к Ялте (145 км) аэродрома (с покрытием ВПП из металлических полос) на западном берегу Крымского полуострова, занял почти семь часов.
Главу секретной службы Белого дома Майка Рейли, который уже находился в Ялте и подготавливал визит президента, предупредили, что стреляющие по поводу и без повода русские зенитки, путая английские и американские самолеты с немецкими, временами обстреливают и иногда даже сбивают самолеты союзников. Это было правдой. 1 февраля русские зенитчики в районе Сак по ошибке сбили британский транспортный самолет, при этом погибли десять человек, шестеро из них являлись сотрудниками британского МИДа. Поскольку маршрут «Священной коровы» проходил прямо над несколькими советскими зенитными батареями, командование ВВС США распорядилось, чтобы на каждой зенитной батарее или вблизи трассы пролета президентского самолета находился американский военнослужащий, способный распознать «Священную корову» еще на подлете к этой опасной зоне. Когда Рейли передал это решение генералу Артикову, тот отказался его санкционировать, вынудив Рейли заявить: «Тогда Рузвельта здесь не будет»[824]. Артиков был вынужден обратиться за указаниями к Сталину. Вернувшись на следующий день, вспоминает Рейли, Артиков выглядел «крайне удивленным» и пробормотал: «Сталин сказал: “Обязательно!“» В результате на каждой советской зенитной батарее на маршруте от Мальты до Сак, по которому летели без огней и в полном радиомолчании «Священная корова» и другие самолеты, дежурили американские сержанты, не сводившие глаз с неба. Инцидентов больше не случилось.
Вскоре после полудня сопровождаемая пятью истребителями «Локхид лайтнинг» «Священная корова» совершила посадку на аэродроме в Саках. Аэродром был оцеплен русскими автоматчиками, стоявшими через каждые шесть метров. Летное поле было тщательно, до последней снежинки, очищено от снега. Через некоторое время приземлился самолет Черчилля. В эти минуты Рузвельт в кресле уже спустился в лифте на землю и подъехал к самолету премьера в открытом джипе, предоставленном русскими. Президент и премьер встретились. Среди встречающих Рузвельта на летном поле находились: Молотов, его заместитель Вышинский, генерал Антонов, посол Громыко, посол Ф. Т. Гусев, Стеттиниус и Гарриман. Президент проследовал вдоль шеренги почетного караула под звуки духового оркестра, исполнившего в честь президента США торжественный марш. Как без особого восхищения писал в своем дневнике Кадоган, «с десятидюймовой сигарой в зубах премьер-министр шагал рядом с президентом, словно пожилой слуга-индус, сопровождающий карету Ее Величества королевы Виктории»[825]. В разбитых прямо на летном поле трех просторных палатках гостей уже ждали накрытые столы со стаканами горячего чая с лимоном и пиленым сахаром, коньяком, шампанским, икрой, копченым лососем, сливочным маслом, сыром, яйцами, сваренными вкрутую и всмятку. Всего этого было в изобилии, все поражало разнообразием и роскошью, в том числе фарфоровая и хрустальная посуда. Вежливо отказавшись от трапезы, Рузвельт поднялся в поджидавший его «Паккард», также предоставленный русскими, и по окончании церемонии и музыки его кортеж направился в Ялту. Вместе с президентом в машине находились его дочь Анна и Майк Рейли. Лежал пятисантиметровый слой снега, и под ногами было слякотно. Асфальтом были покрыты лишь несколько участков дороги, основная часть пути шла по ухабам и грязи. 145 километров дороги заняли шесть часов. Ехавший в следующей машине доктор Макинтайр язвительно заметил, что на такой дороге и у танка «Шерман» могли бы возникнуть проблемы. На всем протяжении пути до Ялты дорога тщательно охранялась почти непрерывной цепью красноармейцев, среди которых было немало молодых женщин, вооруженных винтовками «Спрингфилд» (старые, но достаточно надежные снайперские винтовки, поставляемые по ленд-лизу), которые при приближении кортежа с удвоенным вниманием следили за окружающей обстановкой. По пути следования оставалось немало следов разрушений: сгоревшие танки, разрушенные дома, разбитые железнодорожные пути. Сара Оливер потом писала об увиденном в пути: «Окружающее было так же тоскливо, как душа, впавшая в безысходность»[826].
* * *
Сталин отправился в Крым по железной дороге, со всеми удобствами устроившись в персональном пуленепробиваемом вагоне-салоне, где размещались спальня с большой и удобной двуспальной кроватью, письменный стол, стулья, зеркало, ванная с душем, конференц-зал с раздвижным столом на двенадцать человек (окна можно было закрыть занавесками), а также столовая. Поезд шел через Тулу, Орел и Курск, где велись тяжелые бои, следы которых оставались до сих пор зримыми и не поддавались никакому описанию: ландшафт был изуродован воронками от снарядов, от городов и деревень остались одни развалины, на месте железнодорожных станций красовались наспех сколоченные бараки. Поезд шел почти без остановок, потому что каждая станция была забита бездомными беженцами. Через три дня поезд прибыл в Симферополь, ближайшую к Ялте железнодорожную станцию, где Сталин пересел в автомобиль. Скорее всего, это был еще один бронированный «Паккард», который находился в грузовом вагоне поезда и которому предстояло доставить Сталина в Ялту. В отличие от Тегерана, куда он взял с собой только Ворошилова (с которым, впрочем, так и ни разу не посоветовался), на этот раз Сталина сопровождала большая группа советников: как и надеялся Рузвельт, Сталин изучил тонкости дипломатии. В поезде вместе с ним находились его секретарь Поскребышев; генерал Николай Власик, отвечавший за личную безопасность Сталина; Молотов; адмирал Николай Кузнецов, нарком Военно-морского флота; генерал Антонов; Вышинский, заместитель Молотова; маршал авиации Сергей Худяков; Майский. (Ожидали также прибытия Андрея Громыко из Вашингтона и посла Ф. Т. Гусева из Лондона.)
Подготовка органов НКВД к конференции велась очень тщательно. По свидетельству Павла Судоплатова, ответственного в НКВД за проведение специальных операций (именно он планировал убийство Троцкого в Мексике), еще в конце декабря Молотов собрал на совещание руководство всех разведывательных служб и попросил поделиться имеющимися данными: что оно думало о способности немцев продолжать войну, а также о возможности установления в будущем мирных отношений с Великобританией и США. То, что ему сообщили, можно было счесть хорошими новостями: ни у американской, ни у британской делегаций нет конкретных планов послевоенной политики в отношении стран Восточной Европы; «американцы были готовы идти на компромисс… у них гибкая была позиция по поводу нашего участия в разделе влияния в послевоенной Европе»[827]. По свидетельству Судоплатова, офицеры военной разведки были уверены, что «политическое развитие событий… будет легко предугадать». Присутствие Красной армии на освобожденных территориях будет означать де-факто, что временные правительства окажутся под советским контролем даже при условии проведения демократических выборов.
* * *
Дальнейшие действия русских, которые они практиковали многие годы, объяснялись свойственными им подозрительностью и боязнью в отношении иностранцев. Судоплатову было приказано изучить каждого приезжающего в Ялту американского участника персонально и составить его психологический портрет. (Так, например, Элджера Хисса Судоплатов охарактеризовал как «сочувствующего интересам Советского Союза и ярого сторонника послевоенного сотрудничества между американскими и советскими учреждениями», но все же не назвал его потенциальным агентом.)
* * *
Продолжая свою практику заблаговременного доведения до Сталина своего мнения по поводу назревших проблем (такой метод Рузвельт впервые опробовал в ходе визита Молотова в Вашингтон в 1942 году), президент поручил Гарриману заранее обсудить на встрече с Молотовым и Майским те вопросы, которые Рузвельт хотел рассмотреть в Ялте. Из дневниковой записи Молотова от 20 января становится ясно, что важнейшим таким вопросом являлась повестка дня конференции («президент, конечно, не имеет в виду предложить какую-либо конкретную повестку»[828]). Именно такую повестку Гарриман представил Молотову. В нее вошли «все вопросы, касающиеся будущего Германии, включая ее раздел, и все другие… вопросы, которые остались открытыми после конференции в Думбартон-Оксе. Кроме того, президент хочет поговорить о Польше. Он также хочет обсудить политические и военные аспекты войны на Тихом океане и в Европе», – записал в своем дневнике Молотов.
Гарриман спросил: «Какие вопросы хотел бы поднять маршал Сталин?» Молотов ответил: «Советское правительство не подготовило никакой повестки и не будет ее предлагать… Маршал Сталин будет готов обсудить с президентом любые вопросы, которые президент пожелает поднять». Как и в Тегеране, Сталин пропускал ход. Намекая на то, что в ходе переговоров может быть поднята тема торговли в послевоенное время и предоставления кредитов, Гарриман заметил, что в команду президента войдет руководитель структуры, отвечающей за мобилизацию промышленности, – Джеймс Бирнс.
Позднее, двадцатого февраля, Гарриман встречался с Майским. Занимаясь послевоенными проблемами, Майский хорошо знал, что именно заботило Франклина Рузвельта. Их переговоры были весьма плодотворными. Майский делал аккуратные пометки. Он, в частности, отметил обеспокоенность президента в связи со следующими проблемами: «Его очень интересуют, прежде всего, два вопроса: a) будущая международная организация, отвечающая за безопасность… Нынешняя политическая атмосфера в США благоприятствует… усилению американского участия в будущей международной структуре. Мы должны воспользоваться этим моментом. Позднее могут вновь возникнуть изоляционистские настроения, которые создадут нам лишние сложности; б) послевоенная судьба Германии… Все сводится к двум проблемам: проблеме раздела Германии и проблеме немецких репараций». Тут Рузвельт, по словам Гарримана, забросил хорошую наживку: «Как только война с Германией закончится, можно было бы поговорить и о кредитах для Советского Союза». По свидетельству Майского, президент попросил советскую сторону «составить подробный список своих пожеланий… а также представить свои предложения, которые способствовали бы тому, чтобы по окончании войны американская промышленность могла бы немедленно приступить к поставкам товаров по советским заказам». (курсив авт.)
Сталин рассчитывал получить кредит и добивался этого еще с ноября 1943 года. Тогда же Гарриман на встрече с наркомом внешней торговли Анастасом Микояном говорил, что предоставление долгосрочного кредита Советскому Союзу для закупки американских товаров было бы и в интересах самих Соединенных Штатов как средство обеспечения полной занятости населения на переходный период от военного времени к мирной экономике. Несколько дней спустя после дальнейшего обсуждения Гарриман писал в Вашингтон, стараясь добиться понимания, «что вопрос восстановления является для Советского правительства вторым по важности после идущей войны, а также самой важной политической и экономической проблемой, стоящей перед ним»[829]. Сразу после Тегерана Молотов проявил интерес к этой идее. В конце октября 1944 года Громыко предложил американской группе по ленд-лизу выдать СССР кредит на 6 миллиардов американских долларов сроком на тридцать лет. Эти деньги были бы использованы на закупку продукции американской промышленности: железнодорожных вагонов, двигателей, рельс, газопроводных труб и тому подобного. 3 января 1945 года Молотов официально запросил у Гарримана кредит в размере 6 миллиардов американских долларов сроком на тридцать лет под 2,5 процента кредитования. Гарриман отнесся к идее одобрительно и сообщил подробности в Вашингтон. Однако только что назначенный на пост государственного секретаря Эдвард Стеттиниус решил, что предоставление Советскому Союзу столь крупного кредита лишит Соединенные Штаты выгодной позиции в договорном процессе. По утверждению Моргентау, госсекретарь в этом оставался непреклонным еще и по причине недавней советской акции по отправке из Румынии 170 000 немцев на принудительные работы в Россию. Во время встречи с президентом утром 10 января в Овальном кабинете Стеттиниусу удалось опровергнуть доводы Моргентау и убедить Рузвельта не касаться этого вопроса на Ялтинской конференции. По свидетельству Моргентау, Стеттиниус при этом не стал показывать президенту телеграмму Гарримана, в которой говорилось, насколько необходим Молотову и Сталину крупный кредит. Моргентау описал эту сцену следующим образом: «Он хотел зачитать ее… Но президент сказал: “Ладно, как-нибудь потом, с нами не едет никто из министерства финансов, и я только скажу им, что ничего не надо предпринимать до нашего возвращения в Вашингтон… Думаю, сейчас нам не нужна какая-либо поспешность и не следует давать им какие-то обещания по финансовым вопросам, пока мы сами не осознаем, чего хотим“»[830]. На брифинге в Москве с Майским Гарриман ни словом не обмолвился о том, к какому решению пришел президент на совещании в Овальном кабинете. Напротив, он создал у Майского ложное впечатление, что вопрос о предоставлении кредита будет обсуждаться.
На брифинге с Майским обсуждался также спорный вопрос о том, что президент Рузвельт не предполагал в будущем каких-либо дебатов с Советским Союзом по поводу контроля над Польшей: «Президент, особенно в последнее время, не видит какой-либо темы для дискуссии – ситуация в Польше является свершившимся фактом». После беседы с Гарриманом Майский доложит также о том, что «проблема колоний пока еще не стала достаточно насущной».
Сталин получил сведения и от Андрея Громыко, которого планировал взять с собой в Ялту. Громыко высказал мнение, что «Соединенные Штаты будут вынуждены признать Временное польское правительство»[831]. По вопросу о голосовании в Совете Безопасности Громыко советовал твердо придерживаться прежнего решения: «Американцам и британцам придется нам уступить в этом вопросе». С другой стороны, Громыко говорил Молотову, что перед отъездом из Вашингтона он беседовал со Стеттиниусом и Лео Пасвольским, поднявшими вопрос о других государствах, которые будут обращаться в Совет Безопасности с теми или иными жалобами на действия великих держав. Громыко пришел к выводу, что «обсуждение таких вопросов и принятие решения без голосования может оказаться нам выгодным… потому что в таких случаях вероятность того, что Совет примет направленное против нас решение, будет абсолютно исключена».
Запросили и позицию Ф. Т. Гусева, советского посла в Великобритании, также участника предстоявшей Ялтинской конференции, по вопросу о повестке дня конференции. Скорее всего, его мнение не имело веса, поскольку в свое время он допустил ошибку в вопросе о вступлении России в войну с Японией («американцы и британцы, по-видимому, больше не заинтересованы в нашем вступлении в войну против Японии»[832]), а Сталин никому не прощал таких ошибок.
На конференции в Ялте отсутствовал Литвинов, что, вне всяких сомнений, было делом рук Молотова. Но именно Литвинов точнее всех оценил позиции США перед Ялтинской конференцией. Еще в январе он предсказывал: «США совершенно не интересует судьба балтийских республик, Западной Украины и Белоруссии. Под давлением определенных кругов Рузвельт, вероятно, допустит “идеологические“ оговорки. Например, он может предложить плебисцит в балтийских республиках, не придавая особого значения такому предложению. В конечном итоге он смирится с неизбежным и признает границы, какие мы пожелаем»[833].
Главные советники Сталина говорили ему, что Рузвельт уступит советским позициям в отношении польского правительства и границ, что он доброжелательно относится к предоставлению долгосрочного кредита, а американская позиция по вопросу о вето в Совете Безопасности не столь опасна, как это казалось раньше.
Рузвельт, Черчилль и Гарриман взяли с собой дочерей, поехал в Ялту и сын Гопкинса Роберт. Анна Беттигер, которой отец не разрешил ехать в Тегеран, все-таки настояла на своей поездке в Ялту. Хотела поехать и ее мать, но для Рузвельта оказалось важнее взять с собой Анну, которая во время отдыха президента проявила себя вместе с Дейзи Сакли прекрасным организатором. Анна нисколько не смущалась, что отец предпочел взять с собой ее, а не супругу: «Если бы поехала мама, то не смогла бы поехать я… Гарриман и Черчилль тоже предпочли взять с собой дочерей, а не жен»[834]. Сара Черчилль-Оливер была в Тегеране, где отец обнаружил, что она может быть хорошим помощником, и теперь она выполняла функции ближайшего сотрудника премьера. Кэтлин жила с отцом в московском «Спасо-хаусе» и работала с ним, и было совершенно естественно, что она сопровождала его и в Ялте. Для комплекта не хватало только Светланы, восемнадцатилетней дочери Сталина, кстати, прекрасно владевшей английским языком. Отношения Светланы с отцом были непростыми: он сослал в Сибирь ее первую любовь, еврейского журналиста, и скрепя сердце согласился на ее брак с Григорием Морозовым, однокурсником Светланы по Московскому университету, который тоже оказался евреем, а к евреям Сталин относился без симпатий. К тому же Светлана была на шестом месяце беременности. (У Сталина было два сына: старший Яков, от первого брака, находился в плену у немцев. Немцы через посредство графа Бернадотта предложили Сталину обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, но Сталин, хотя и с сожалением, но отказался: «Я вынужден отказаться… Что они сказали бы мне, миллионы наших отцов?.. Нет, я не имел права»[835]. После этого Якова расстреляли. Хотя этот факт никогда не получал официального подтверждения, ходили слухи, что он сам бросился на ограду лагеря, вынудив охранников застрелить его. Второй сын Сталина, Василий, начал войну капитаном, когда ему было всего двадцать лет, а в двадцать четыре он был уже генерал-лейтенантом. Молодой, амбициозный, безответственный и непригодный для командования людьми, Василий впоследствии стал алкоголиком.)
* * *
В Ялте Рузвельт продолжал продвигать свои идеи создания всемирной организации, достаточно сильной, чтобы положить конец войнам и удержать любое государство от нарушения границ и вторжения на территорию соседа. У него были два партнера, готовых применить силу в отношении других стран в интересах своей собственной страны, но не готовых признаться в этом. Разумеется, между мирами Черчилля и Сталина лежала глубокая пропасть. Если вы входили в магический круг Черчилля (если вы были белым человеком), вы находились в полной безопасности. Но никто не мог чувствовать себя в безопасности, когда имел дело со Сталиным. Кроме, возможно, Молотова и Франклина Делано Рузвельта.
Разногласия британской стороны с Рузвельтом напоминали скорее разногласия внутри семейства. Но недоверие Британии к Сталину было несравненно глубже. Показательно заявление Черчилля на эту тему, выражающее его антагонизм в отношении к Сталину, граничащий с ненавистью: «Поддерживать добрые отношения с коммунистом – все равно что заигрывать с крокодилом. Не поймешь, то ли пощекотать его под подбородком, то ли дать ему по голове»[836].
Идену и Черчиллю было известно, что в сотрудничестве с Рузвельтом по формированию послевоенного мира они неизбежно столкнутся с проблемой – категорическим неприятием Рузвельтом постулата о превосходстве белой расы, на который опирались Британская империя и право Британии на управление своими колониями. Но они, на время забыв о философском складе ума американского президента, верили, что, в конце концов, у Рузвельта одержат верх экономические соображения. Иден был убежден, что Франклин Рузвельт «не ограничит только Британской империей свою неприязнь к колониализму, для него такая позиция была принципиальной, которую он ставил выше даже соображений практической целесообразности»[837]. По мнению Идена, президент США «надеялся, что бывшие колониальные территории, освободившись от своих угнетателей, станут политически и экономически зависимыми от Соединенных Штатов». Это было заблуждением Идена и Черчилля, не понимавших концепцию Рузвельта: не зависимость, а независимость стала бы наилучшим экономическим решением проблем человечества. Они не понимали и того, что американский президент был убежден: диктат и сохранение колониальных империй явились глубинной причиной возникновения Второй мировой войны (так же считал и Сталин). Рузвельт видел будущее как сообщество независимых государств (кроме Британии и СССР), которые должны находиться под строгим контролем международной организации по безопасности (военного контингента ООН), которая оберегала бы мир на планете. Но Иден и Черчилль этого не понимали. Сталин понимал. Молотов, скорее всего, нет.
Ялтинской конференции было суждено положить конец глубокому недоверию Черчилля к Сталину, а Сталина к Черчиллю, способствовать возникновению (взвешенных) доверительных отношений, как их понимал Рузвельт с его чувством истории и принципом справедливости. Рузвельт считал своим долгом сблизить этих двух лидеров и был уверен, что сможет этого добиться. Президент США надеялся, что сможет стать посредником в налаживании отношений между британским премьером и советским руководителем еще до своей первой встречи со Сталиным. В себе самом он видел архитектора будущего альянса государств, созданного в послевоенный период. Для этого достаточно вспомнить мысли, которыми Рузвельт поделился с Макензи Кингом спустя год после Перл-Харбора: «Я сомневаюсь, чтобы Уинстон и Сталин смогли договориться по некоторым послевоенным вопросам. Возможно, мне придется взять на себя миссию посредника между ними, чтобы как-то их сблизить. Мне кажется, что, когда две великие державы подходят друг к другу, но все же не сближаются, им всегда мешает какое-то препятствие. Возможно, мне удастся сблизить их позиции»[838].
Так думали многие, кто наблюдал за тремя лидерами в Ялте. Рузвельт определенно выглядел посредником между британским премьером и советским руководителем, что находило даже визуальное подтверждение: на всех фотографиях Рузвельт всегда сидит между Черчиллем и Сталиным.
Оптимистичное восприятие Рузвельтом своей персоны как посредника или миротворца во многом объясняет его поведение в Ялте и показывает, что он не видел препятствий в отношениях Сталина и Черчилля, какие он не смог бы устранить. Он был уверен, что в ходе конференции сможет добиться сближения сторон.
Конференция длилась восемь дней. Погода менялась каждый день, было то ясно, то облачно. Температура уверенно держалась на уровне 10 градусов. Ежедневно главы трех держав встречались на пленарных заседаниях (которые обычно продолжались четыре часа), сидя за круглым столом в центре большого зала Ливадийского дворца. А на следующее утро проходили встречи министров иностранных дел и военных руководителей для решения вопросов, которые остались нерешенными в ходе пленарного заседания. Каждый из глав государств давал званые обеды. Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Спенсер Черчилль встречались со Сталиным, каждый по отдельности. Друг с другом же в частном порядке они встречались только за ланчем.
Как и в Тегеране, Рузвельт не только председательствовал на конференции в Ялте, но и старался всячески контролировать ситуацию. Первое, что он сделал по прибытии в Ливадийский дворец, – это послал Гарримана к Молотову в Юсуповский дворец, чтобы вместе со Сталиным выработать программу конференции. Гарриман также передал Молотову, что Рузвельт просит Сталина встретиться с ним на следующий день в Ливадийском дворце для обсуждения военных вопросов, после чего в 16:00 должно было начаться пленарное заседание, в работе которого планировали принять участие начальники штабов, министры иностранных дел и они сами. Президент также поручил Гарриману передать Молотову, что ему хотелось бы дать первый обед (скромный, неофициальный) после первого пленарного заседания. Переговорив со Сталиным, Молотов сообщил Гарриману, что Сталин, который вставал очень поздно, предпочел бы, чтобы пленарное заседание началось в 17:00, тогда он смог бы навестить Рузвельта в 16:00. Приглашение на обед Сталин принял.
Следует отметить, что с Черчиллем и его штабом не столько консультировались по программе конференции, сколько предпочли просто информировать их об этом, что, конечно же, не могло не вызвать раздражения британцев.
На следующее утро Рузвельт встретился со своими генералами на застекленном балконе с видом на море. Стояла прекрасная солнечная погода, море было спокойным, как запруда у мельницы. В 10:30 к ним присоединились Стеттиниус, Гарриман, Мэтьюс, Хисс и Болен, и состоялось общее обсуждение позиций Соединенных Штатов. В 16:00 президент и Болен уже ждали гостей в обитом красным бархатом кабинете Рузвельта. Сталин и Молотов вместе с переводчиком Павловым прибыли вовремя в большом черном лимузине «Паккард». Болен вспоминал, что два лидера встретились, как два старинных друга, обменявшись с улыбкой крепкими рукопожатиями.
Положение на фронтах (Гарриман и Молотов договорились, что эта тема будет обсуждаться в первую очередь), как было уже известно Рузвельту и Сталину, значительно улучшилось с момента их последней встречи. Сталин сообщил президенту США, что советские войска весьма успешно наступают вдоль реки Одер. Рузвельт ответил, что еще на борту крейсера «Куинси» заключил несколько пари, что русские дойдут до Берлина раньше, чем американцы до Манилы.
Сталин сказал, что он уверен: американцы войдут в Манилу раньше (что они и сделали уже на следующий день).
Затем Рузвельт сказал, что он «буквально потрясен масштабами разрушения Крыма немцами, и поэтому он теперь еще больше жаждет их крови, чем даже год назад»[839]. Стремясь показать Сталину, что он скорее его единомышленник, чем Черчилля, Рузвельт иронически отметил, что тут он уподобился Черчиллю, который в Тегеране заявил о своей «надежде на то, что маршал Сталин снова поднимет тост за казнь 50 000 офицеров немецкой армии».
Сталин ответил, что народ еще больше жаждет крови немцев, что разрушение Крыма – ничто по сравнению с тем, что произошло на Украине; немцы показали себя дикарями и садистами, испытывающими ненависть ко всему, созданному человечеством.
Рузвельт сообщил Сталину о том, что Эйзенхауэр планирует начать одну наступательную операцию 8 февраля, другую – 12-го, а основной прорыв немецкого фронта должен состояться в марте. Он попросил Сталина, чтобы генералу Эйзенхауэру и его штабу разрешили напрямую связываться с советским штабом через генерала Дина в Москве для обеспечения большей оперативности в координации действий армий союзников вместо обмена данными через начальников штабов в Лондоне и Вашингтоне, как это происходило до сих пор. (Генерал Маршалл, измученный сопротивлением британцев любым переменам, которое он хотел преодолеть, попросил Рузвельта обсудить этот вопрос со Сталиным.) Сталин согласился, обещая проработать детали.
Когда беседа коснулась роли Франции, Рузвельт, зная после Тегерана, что Сталин разделяет его негативное мнение о де Голле, рассказал о своей беседе с де Голлем в Касабланке два года назад, когда де Голль сравнил себя как духовного лидера Франции с Жанной д’Арк, а как политического деятеля – с Клемансо.
Сталин заметил, что «в действительности вклад Франции в военные операции на Западном фронте в настоящее время является очень скромным, а в 1940 году они и вовсе не оказали [немцам] никакого сопротивления»[840].
Затем Франклин Рузвельт заявил, что теперь позволит себе сообщить маршалу кое-что по секрету, так как не хочет говорить об этом в присутствии премьер-министра Черчилля, а именно: британцы целых два года носились с идеей превратить Францию в сильную державу, которая будет способна разместить 200 000 войск на восточной границе для удержания линии фронта на время, необходимое для концентрации мощной британской армии. Он сказал, что британцы странные люди, они вознамерились сидеть сразу на двух стульях.
Затем они обсудили раздел Германии на оккупационные зоны. Рузвельт сказал, что предпочел бы северо-западную зону, но англичане думают, что американцы должны сначала восстановить порядок во Франции, а затем передать Великобритании политический контроль над этой страной. Сталин спросил Рузвельта, следует ли отвести оккупационную зону и для Франции. Президент считал, что предоставить Франции зону оккупации крайне важно, и Стеттиниус уже информировал об этом Идена на Мальте. Но, зная о неприязни Сталина ко всему, что касается Франции, теперь Рузвельт заявил лишь, что в целом «это неплохая идея», а затем добавил, что «она продиктована только доброй волей».
Сталин и Молотов категорично заявили, что это, пожалуй, единственный резон предоставить Франции зону оккупации.
Поскольку было уже почти пять часов, Рузвельт пригласил собеседников в большой зал, где вот-вот должна была открыться первая пленарная сессия.
Глава 14 Мироустройство
Вход в большой зал крымского «Белого дома» длиной свыше тридцати шести метров был украшен красивыми коринфскими колоннами и огромной статуей Пенелопы из белоснежного мрамора. Семь высоких дверей во французском стиле вели во внутренний двор на левой стороне зала, напротив, на правой стороне, красовались семь высоких арочных окон, за которыми открывался горный пейзаж. В изысканно украшенный потолок были врезаны 280 укрытых в нишах светильников, которые включали бы в том случае, если бы дневные заседания продолжались до наступления сумерек. В дальнем конце зала у огромного камина из белого мрамора стоял большой круглый стол, вокруг которого предстояло собираться участникам конференции. Покрытый бежевой тканью стол окружали ряды деревянных стульев. Ближе всего к столу были установлены три кресла, предназначенные для глав великих держав. Перед каждым стулом на столе были разложены коробки с сигаретами и сигарами. В пламени камина весело потрескивали дрова.
Сталин в окружении советников вошел в зал, когда Рузвельт и Черчилль уже сидели за столом. Сталин подошел к президенту Соединенных Штатов и крепко пожал ему руку.
Рузвельт всегда садился спиной к камину. Во внешнем кольце стульев расположились генерал Маршалл, адмирал Кинг, генерал Дин, генерал ВВС армии США Лоуренс Кутер (он заменил генерала Хэпа Арнольда, у которого возникли проблемы с сердцем), генерал Макфарланд, заменивший генерала Макартура. В советскую делегацию вошли адмирал Кузнецов, генерал Антонов, маршал авиации Худяков и Вышинский. Гопкинс по болезни отсутствовал на первом заседании, но принимал участие во всех последующих сессиях.
Президент в таких случаях обычно надевал деловой костюм серого или синего цвета, непременно с платочком в нагрудном кармане пиджака. Сталин и Черчилль надели военную форму. На Черчилле была форма полковника, а на Сталине – простой китель светло-зеленого цвета, застегнутый до самого горла, со звездой на красной планке на левой стороне груди[841].
За круглым столом не было председательского места. Но если бы оно было, его занимал бы Рузвельт. Так случалось всегда, где бы он ни был: на совещании с членами руководства США или с иностранцами, с главами государств, как это происходило в Вашингтоне, Квебеке, Касабланке или в Тегеране, – президент председательствовал всегда и везде. С ним как с президентом США соглашались не только правительства государств, уважали Рузвельта и восхищались им даже простые люди в самых дальних уголках мира. Весьма популярный в те годы писатель Карло Леви вспоминал, как в 1945 году, войдя в одну из лачуг в забытой богом полунищей деревеньке Калабрии, он увидел на стене этой лачуги распятие, фотографию убитого на фронте сына, а рядом – портрет Рузвельта[842]. Президент знал о своей популярности в мире, принимал это как данность и в лишних комплиментах не нуждался. Вечером в день прибытия в Ялту на ужине с дочерью, Гарриманами, Лихи и Стеттиниусом он четко понимал, что прибыл на конференцию исключительно как глава государства. Стеттиниус отмечал, что, когда заходила речь о его популярности, он улыбался и объяснял это своим «тонким чувством юмора»[843], но, говоря серьезно, пояснял, что он просто является старшим по должности и поэтому «люди просто приходят на него посмотреть», и было очевидно, что эта мысль делает его счастливым. Хотя, пусть на мгновение, не могло ли ему прийти в голову, что он… начальник всей планеты?
Как только в «Белом доме» воцарилась тишина и сидящие за столом перестали тихо беседовать, Сталин на правах хозяина предложил Рузвельту председательствовать на конференции. Президент заявил, что он счастлив открыть столь историческое собрание в таком замечательном месте. Он поблагодарил Сталина за создание таких комфортных условий во время войны. Рузвельт предложил собравшимся вести переговоры в порядке обмена мнениями, выраженными в непринужденной и откровенной форме. А чтобы не выглядеть в глазах собравшихся наивным, себе на уме либо просто болтуном, президент добавил, что из собственного опыта знает: лучший способ вести дела – обсуждать их искренне и не откладывать в долгий ящик важные решения. (Несомненно, он здесь вторил стихотворению Эмили Дикинсон: «Скажи всю правду, но лишь вскользь».)
Затем, демонстрируя свой непоколебимый оптимизм, он заявил, обращаясь прямо к Сталину: «Сегодня мы понимаем друг друга лучше, чем раньше, и месяц за месяцем взаимопонимание между нами возрастает»[844]. (Если это касалось его лично и Сталина, то это было чистой правдой. В то же время это был намек Черчиллю, который, как надеялся Рузвельт, этот намек поймет.) Затем он призвал всех провести анализ военной ситуации. «Военные вопросы, особенно те, что касаются самого важного – Восточного фронта, следует обсудить прежде всего», – таким непринужденным образом президент положил начало обсуждению наболевших вопросов, и Россия оказалась в центре внимания. Рузвельт высказал пожелание, чтобы представитель штаба из команды Сталина сделал подробный доклад на эту тему.
Еще в конце декабря Рузвельт просил Сталина встретиться с офицером из штаба Эйзенхауэра для координации действий Красной армии на Восточном фронте и армий союзников на Западном. В те дни армии Эйзенхауэра вели бои в Арденнах, последнем оплоте гитлеровской армии на западе, а Красная армия форсировала Вислу и наступала в направлении Берлина. Сталин ответил незамедлительно: «Разумеется, я согласен с Вашим предложением, так же как согласен встретиться с офицером от ген. Эйзенхауэра и устроить с ним обмен информацией»[845]. Результатом этой договоренности стала встреча 15 января Сталина в его кремлевском кабинете с маршалом ВВС Великобритании Артуром Теддером, заместителем Эйзенхауэра, и группой других офицеров из Верховного командования союзных экспедиционных сил. Теддер сообщил советскому премьеру, что немцев удалось отбросить назад к границе Германии, и показал на карте позиции, занимаемые воюющими армиями. Сталин ответил, что только непогода препятствует началу широкого наступления Красной армии в поддержку союзников, но сейчас войска начнут наступление, несмотря на плохую погоду. «У нас хоть и нет договора, но мы товарищи, – сказал он Теддеру. – Это правильно и разумно, мы должны помогать друг другу в критических ситуациях. Для меня было бы глупо стоять в стороне, когда немцы уничтожают вас, да и вы заинтересованы сделать все, чтобы не дать немцам уничтожать меня»[846].
Сталин был удовлетворен результатом обмена информацией и сведениями Теддера о планируемых боевых операциях. После завершения встречи он сказал Теддеру: «Это то, чего я хотел: ясный и деловой ответ без дипломатических утаиваний»[847]. Рузвельту Сталин написал: «Взаимная информация получилась достаточно полная. С обеих сторон были даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Должен сказать, что маршал Теддер производит самое благоприятное впечатление»[848].
Опираясь на результаты первого и полноценного обмена военными данными, русские приехали в Ялту подготовленными вести разговор на конференции так же открыто, как это сделал Теддер. Теперь по приказанию Сталина документ о положении на фронте и результатах наступления Красной армии зачитал генерал Антонов, заместитель начальника советского Генерального штаба. Он пояснил собравшимся, что советские вооруженные силы начали январское наступление даже раньше запланированного срока (несмотря на густой туман и крайне низкую видимость), чтобы ослабить давление на армии союзников, ведущих тяжелые бои в Арденнах; что за восемнадцать дней продвижения советских войск на Восточном фронте со средней скоростью 24–29 километров в сутки на некоторых участках они уже вышли к Одеру.
Когда президент Рузвельт спросил, не планируется ли подогнать ширину немецкой железнодорожной колеи под русский подвижной состав, Сталин сослался на Антонова: «Немецкие железнодорожные линии по большей части сохранят размер колеи».
После доклада Антонова генерал Маршалл кратко изложил ситуацию на Западном фронте. Наступление немцев в Арденнах отражено («германский клин в Арденнах ликвидирован»), союзные войска ведут наступательную операцию в южном секторе к северу от Швейцарии, а фельдмаршал Монтгомери, командующий 21-й группой армий союзников, и Девятая армия США продвигаются в направлении Дюссельдорфа. Планируется завершить форсирование Рейна, но не раньше 1 марта из-за ледовой обстановки и сильного течения.
Обсуждение продолжилось рассмотрением дополнительных сведений генерала Маршалла о положении на Западном фронте, просьбы Черчилля об оказании советскими войсками помощи в подводной войне путем захвата Данцига, где велась постройка подводных лодок, а также заслушиванием подробных разъяснений Сталина о тактике советских войск, продвижении войск и немецких потерях. Сталин описал специальную тактику советской артиллерии, наносящей удары по противнику одновременно из трехсот-четырехсот орудийных стволов. Становилось все очевиднее, что Сталин полностью владеет информацией об обстановке на фронтах и непосредственно руководит боевыми операциями Красной армии.
Возникали и диссонансные нотки. «Чего бы хотели союзники от Красной армии?»[849] – с живостью спросил Сталин. Черчилль ответил, что он «хотел бы выразить чувство признательности англичан и, как он убежден, американцев тоже, за мощное массированное и успешное наступление советских войск». Ответ не понравился Сталину. Ему не нужна была ничья признательность за действия, которые он считал единственно правильными. «Советский Союз не связан какими-либо тегеранскими договоренностями о проведении зимнего наступления, – раздраженно сказал он, – и вопреки тому, что думают некоторые, на этот счет к нам не обращались ни с требованиями, ни с просьбами». Он упомянул об этом, «только чтобы подчеркнуть решимость советских руководителей… которые действовали так, как подсказывал им моральный долг перед союзниками».
Несмотря на эту мягкую пикировку, у сэра Александра Кадогана, британского заместителя министра иностранных дел, остались хорошие впечатления о первом дне дискуссий: «Даже не представлял себе, что русские до такой степени просты и доброжелательны. Особенно мне понравился Джо. Он, действительно, великий человек, очень яркая личность… Он, несомненно, обладает очень хорошим чувством юмора и довольно эмоциональным характером»[850].
Как и в Тегеране, Черчилль все время говорил так, как если бы он и Рузвельт были единомышленниками. Теперь он вдруг заявил о «полном доверии, какое президент и он сам испытывают к маршалу»[851]. Рузвельт, как и в Тегеране, предпочел промолчать. А для русских эта шитая белыми нитками уловка оказала только раздражающее действие. То, что русские ощущали различие между двумя лидерами, однажды подчеркнул Громыко, которого в равной мере поражали дружелюбие Рузвельта и враждебность Черчилля. Так, Громыко вспоминал: «Если Рузвельт реагировал на реплики Сталина спокойно, даже с пониманием, то Черчилль – с плохо скрываемым раздражением. Британский премьер и не пытался скрывать свои чувства, их выдавала даже его сигара. Когда он был напряжен или взволнован, он выкуривал намного больше сигар, то есть их количество было прямо пропорционально степени его напряжения во время беседы. Это заметили все, и за спиной премьера часто звучали насмешки»[852].
Также для всех очевидной была и неприязнь Сталина к Черчиллю. «Сталин симпатизировал Рузвельту, – отмечал Громыко, – чего нельзя было сказать о его отношении к премьер-министру Великобритании». Громыко наблюдал это как в политическом, так и в личном аспекте: «Разница в отношениях проявлялась и в политике».
После первого пленарного заседания состоялся обед у Рузвельта. Его филиппинские повара из «Шангри-Ла», имения и места отдыха президента на горе Катоктин во время войны, которые тоже прибыли в Ялту накануне, прекрасно справились с организацией обеда с минимальной помощью со стороны метрдотеля и персонала московского ресторана «Метрополь». Филиппинские повара хорошо знали кулинарные запросы Рузвельта и руководствовались, прежде всего, именно ими. Они приготовили для этого обеда несколько американских блюд: салат из цыплят, жареных цыплят, жареную говядину с макаронами, – а также блюда русской кухни: бульон, осетрину, икру и овощную солянку. (Рузвельт был вынужден соблюдать диету, и Гарриман сказал Молотову, что на столе перед президентом будет еда, приготовленная его личным поваром из продуктов, доставленных с борта корабля ВМС США «Катоктин».) Пять марок вина, водка и русское шампанское на столе вдохновляли на все новые и новые тосты. Обед проходил в бывшей бильярдной комнате Николая, обшитой панелями из каштанового дерева. На одной стене висела картина с русским зимним пейзажем, на другой – портрет царя. С американской стороны на обеде присутствовали Стеттиниус, Гарриман, Бирнс и Болен, с британской – Иден, Арчибальд Кларк Керр и Бирс, с советской – Молотов, Вышинский, Громыко и Павлов. Смены помещения для коктейля не потребовалось: Рузвельт на этот раз не стал готовить коктейли, как обычно делал. (У него обострился тремор, как случалось с ним время от времени. В конце 1942 года Макензи Кинг записал в дневнике, что, когда президент разливал чай в своем кабинете, «его руки заметно дрожали»[853]. С возрастом этот недуг только обострялся.)
Атмосфера за обеденным столом была весьма оживленной. Молотов и Стеттиниус поднимали тосты друг за друга. Когда Молотов сказал, что надеется на скорый приезд Стеттиниуса в Москву, президент «отреагировал мгновенно: “Ха-ха, он хочет, чтобы вы поехали в Москву! Вы думаете, Эд поведет себя в Москве так же, как Молотов в Нью-Йорке?“»[854] По словам Стеттиниуса, Рузвельт был мастером подразнить кого-нибудь и в данном случае явно намекал на то, что секретной службе приходилось в 1942 году постоянно следить за Молотовым, куда бы тот ни направлялся: в театр, магазин либо в ночной клуб. Сталин засмеялся и находчиво ответил: «Он может приехать в Москву инкогнито». Потом, закурив, как заметил Стеттиниус, сигарету «Лаки страйк», Сталин спросил Рузвельта, правда ли, что тот отправил телеграмму с просьбой приготовить пятьсот бутылок русского шампанского, а затем серьезно заявил (мысль о крайней необходимости в долгосрочном кредите явно не давала ему покоя), что он «предоставит президенту это шампанское на условиях долгосрочного кредита на тридцать лет»[855]. Лед был сломан, но президент определенно решил сменить тему, ответив: «Хочу вам кое-что рассказать. Премьер-министр и я, обмениваясь телеграммами последние два года, чтобы выразить к вам свое дружеское участие, придумали выражение “Дядюшка Джо“». Сталин спросил, что означают эти слова. Рузвельт повторил, что так они именуют Сталина и что это обозначает теплое отношение к человеку, «как если бы он был членом семьи». Было заметно, что Сталина это покоробило, хотя президент уже называл его «Дядюшкой Джо» в последний день их переговоров в Тегеране. В этот щекотливый момент в беседу вступил Молотов, который заявил, что никому и в голову не приходит этому удивляться: «Он просто вас разыгрывает. Мы знаем об этом уже два года. Да и вся Россия знает, что вы называете его “Дядюшкой Джо“».
Когда обед уже подходил к концу, Сталин коснулся разногласий по поводу применения «права вето» в Совете Безопасности и заявил, что трем великим державам, освободившим малые страны от германского господства, следовало бы проявлять полное единство в вопросе сохранения мира на земле. «Смешно себе представить, – сказал он, – что Албания будет иметь равный голос с тремя великими державами… Малые страны никогда не согласятся с решениями великих держав, которые те предложат применить в качестве наказания таких стран».
Рузвельт добродушно согласился, что три великие державы, «представленные за этим столом»[856], должны обеспечивать мир на земле. После непродолжительной дискуссии Черчилль поднял тост за мировой пролетариат, изящно подкрепив его образным выражением: «Пусть орел позволит птичкам распевать песни и совершенно не беспокоится о том, почему они поют»[857].
В этот момент Вышинский повернулся к сидящему рядом Болену и сказал, что американцам «следует научиться повиноваться своим лидерам, а не задаваться вопросом по поводу того, что им приказано делать». Болен тут же парировал: «А вы приезжайте в Соединенные Штаты и скажите это американцам». Вышинский усмехнулся и ответил, что он был бы рад съездить.
Тосты продолжались. Стеттиниус заметил, что Сталин, стараясь остаться трезвым, после каждого тоста отпивал половину водки из своей рюмки и, думая, что никто не видит, доливал рюмку водой. (Так же поступал и Вышинский.) Атмосфера была настолько дружеской, что Рузвельт попросил принести еще шампанского, а когда Сталин в десять вечера заявил, что пора уходить, поскольку ему еще нужно вернуться к своим обязанностям по руководству войсками, Рузвельт ответил отказом. Сталин согласился остаться до 22:30, но фактически оставался за столом и после одиннадцати вечера.
Понедельник, 5 февраля
Дни были насыщены встречами. Три министра иностранных дел встречались каждый день в полдень поочередно в каждом из дворцов (в отличие от их руководителей, которые всегда приспосабливались к графику президента США и позволяли ему вести их заседания. Иден, Молотов и Стеттиниус по очереди выполняли функции председателя и меняли место заседаний, обычно по месту резиденции председательствующего). Они совещались в течение продолжительных ланчей, обсуждая вопросы, рассмотренные на пленарной сессии накануне. После полудня Стеттиниус, Иден и Молотов встречались со своими главами государств и отчитывались перед ними. Генералы и адмиралы также встречались ежедневно для сверки планов военных операций.
Второе пленарное заседание началось в 16:00. Открыл сессию президент Соединенных Штатов заявлением, что повесткой дня будет обсуждение политических аспектов дальнейшей судьбы Германии. Сначала предстояло обсудить зоны оккупации, которые необходимо согласовать между тремя державами, отложив пока вопрос о том, следует или не следует отводить зону оккупации для Франции, а при положительном решении этого вопроса определиться, должна ли Франция войти в состав Союзной контрольной комиссии. Он передал Сталину схему зон оккупации.
Сталин заявил, что ему хотелось бы рассмотреть ряд проблем, касающихся будущего Германии: остаются ли в силе предложения о расчленении страны? Должна ли каждая часть страны иметь свое правительство? «Если Гитлер пойдет на безоговорочную капитуляцию, следует ли нам вообще иметь дело с его правительством?»[858] Сталин коснулся и темы репараций.
Рузвельт ответил, что под будущим Германии он понимает разделение ее на оккупационные зоны. Сталин сказал, что он хочет знать, какое решение о разделе Германии можно будет считать совместным: «Если Германию предстоит разделить, то на сколько частей… В Тегеране президент Рузвельт предлагал разделить страну на пять частей… Премьер-министр в Москве говорил о разделе на две части… Не пришло ли время принять конкретное решение?»
Черчилль заявил, что британское правительство в принципе согласно на расчленение Германии. Однако практически такая процедура является слишком сложной, чтобы разработать ее за четыре-пять дней. Если его сейчас спросят, как следует разделить Германию, он будет не готов ответить, «и по этой причине он просто не может взять на себя ответственность и предложить определенный план расчленения Германии». Отделение Пруссии от Германии «устранит главное зло – военный потенциал Германии будет в огромной степени подорван… Мы согласны с тем, что Германия должна утратить определенные территории, завоеванные Красной армией, что станет частью разрешения и польского вопроса», но предстоит определить судьбу Рейнской области, промышленных территорий Рура; все это требует тщательного изучения. Но сейчас, добавил Черчилль, «требуется лишь достичь окончательного согласия по зонам оккупации и решить вопрос о зоне для Франции».
Сталин ответил, что вопрос о капитуляции для него пока неясен: «Предположим, какая-то влиятельная германская группа объявит о свержении Гитлера и безоговорочной капитуляции. Будут ли три наших правительства иметь дело с этой группой?»
Черчилль заявил, что в этом случае Британия представит условия капитуляции. Она не будет вести переговоров ни с Гитлером, ни с Гиммлером. Союзные державы будут консультироваться друг с другом, прежде чем иметь дело с какой-либо группой, а затем немедленно предъявят условия безоговорочной капитуляции. Сталин спросил, не будет ли разумнее просто внести ясность и предложение о предстоящем расчленении Германии, чтобы не вдаваться в детали. Он не считал расчленение дополнительным вопросом. Однако Черчилль полагал, что нет никакой необходимости вообще обсуждать это с немцами, «это предстоит решить нам самим… но на это сейчас просто нет времени… это вопрос, требующий тщательного изучения». Сталин, тем не менее, хотел прояснить этот вопрос сразу и окончательно.
Пока двое глав государств спорили, в беседу вмешался президент США, чтобы изменить ход диалога. Он мягко упрекнул их, что они говорят об одном и том же: Сталин имеет в виду, что они должны согласиться с принципом расчленения, которое он лично одобряет, как уже заявлял в Тегеране. Затем он отвлекся от темы – один из излюбленных методов Рузвельта гасить споры, давая каждому время собраться с мыслями, пока говорит он. Раздел Германии вернет нас в историческое прошлое, напомнил президент: сорок лет назад, когда он находился в Германии, германские сообщества имели дело со своими региональными властями. Например, если вы находились в Баварии, то вы имели дело с правительством Баварии, а если в Гессен-Дармштадте, то сообщались с местным правительством. Только недавно эта страна стала единым государством. И в завершение он указал, что все еще полагает: разделение Германии на пять или семь частей было бы неплохой идеей.
Или на меньшее число, вмешался Черчилль, с чем Рузвельт согласился.
Премьер-министр продолжил свою мысль о том, что он не думает информировать немцев о чем-либо: они должны капитулировать и ожидать решения их судьбы. Рузвельт, подчеркнув, что публичное обсуждение проблемы расчленения было бы большой ошибкой, предложил передать этот вопрос на рассмотрение министров иностранных дел с просьбой представить свои рекомендации и вернуться к обсуждению вопроса через сутки. Однако Сталин еще высказал не все свои соображения, он хотел, чтобы схема разделения была четко обозначена: Германии уже грозила внутренняя катастрофа в связи с нехваткой хлеба и угля. Это могло случиться так быстро, что трем правительствам не следовало плестись в хвосте событий, а нужно было быть готовыми к разрешению предстоящих проблем жизнеобеспечения. Он сказал, что хорошо понимает проблемы, волнующие премьер-министра. Сталин счел предложения президента вполне приемлемыми и сформулировал их следующим образом: 1) в принципе согласиться, что Германию следует расчленить; 2) рассмотреть мнения министров иностранных дел; 3) внести в условия капитуляции пункт о расчленении Германии без приведения какой-либо конкретики.
Президент США заявил, что разделяет идеи маршала Сталина о целесообразности информирования народа Германии в момент капитуляции о том, что их ждет. Черчилль опять не согласился, утверждая, что это заставит немцев оказывать более ожесточенное сопротивление. Рузвельт и Сталин сказали, что никто не предлагает выносить этот вопрос на публичное обсуждение. На этом обсуждение вопроса прекратилось, все трое согласились передать его на рассмотрение министров иностранных дел, чтобы те определили, как включить намерение разделить Германию в статью 12 условий капитуляции.
Затем Рузвельт обратился к теме добавления французской зоны оккупации к их трем зонам. Черчилль заверил Сталина, что если предусмотреть французскую зону, то она будет создана за счет урезания британской и американской зон и это никак не повлияет на планируемую советскую зону. Все, чего добивался Черчилль в Ялте, – это получить согласие советского правительства на то, чтобы правительства Британии и США получили право определить вместе с Францией ее оккупационную зону. Сталин пробовал прозондировать, не создаст ли предоставление или непредоставление Франции зоны оккупации прецедента для других государств. На что Черчилль ответил, что Британии потребуется помощь: оккупация может продлиться долго, и Британия не может быть уверена, что справится с этим бременем в одиночку, Франция сможет оказать весомую поддержку. Но, добавил он, тогда тройственный контроль над Германией превратится в контроль четырех стран.
Однако участие четвертой державы в механизме контроля над Германией может создать свои сложности, заметил Сталин. Вместо этого он предложил Британии получать поддержку от Франции, или Голландии, или Бельгии, но без какого-либо права их участия в принятии решений тремя державами. Тут Черчиллю пришлось раскрыть, чем обоснована его позиция. Он сказал, что Британия нуждалась в том, чтобы Франция сыграла важную роль: в качестве крупнейшей морской державы Франция могла бы оказать неоценимую помощь в управлении Германией, Великобритания не хотела нести все бремя ответственности за будущее Германии, поэтому была заинтересована в том, чтобы в долгосрочном контроле над Германией принимала участие и Франция. Кроме того, добавил британский премьер, Британия нуждалась во Франции еще и потому, что было неизвестно, насколько долго вооруженные силы США будут оставаться в Европе.
Пока обсуждалась проблема участия Франции в оккупации, Сталин улыбался, говоря, что «это будет клуб для очень узкого круга членов, ограниченный странами, обладающими пятью миллионами солдат. Черчилль поспешно поправил: тремя миллионами»[859].
Сталин прервал спор, чтобы спросить Рузвельта, как долго, по его мнению, вооруженные силы США смогут оставаться в Германии. Не более двух лет, ответил президент: «Я могу убедить народ и Конгресс сотрудничать ради мира на земле, но не в необходимости долго держать армию в Европе. Максимум два года»[860]. (Уже были известны тревожные сигналы со стороны общественного мнения, требовавшего возвращения домой американских войск после окончания войны, и это было постоянной головной болью генерала Маршалла.) Черчилль продолжил: у Франции должна быть большая армия, она являлась единственным союзником Британии в Европе и разделит с Британией это бремя. Франция должна принимать в этих вопросах активное участие. Он считал, что рост влияния Франции поможет эффективнее обеспечивать контроль над Германией.
Рузвельт согласился с Черчиллем: Франции надо выделить зону оккупации, но он думает, что было бы ошибкой принимать в «клуб избранных» какую-либо другую страну.
Если Францию включить в механизм управления, будет непросто отказать в этом другим государствам, заметил Сталин. И повторил, что ему хотелось бы видеть Францию сильным государством. Однако, продолжил он, мы не можем уйти от той горькой истины, что Франция сделала слишком мало для победы в этой войне, а в свое время вообще открыла ворота армии противника. Поэтому он считал, что механизм управления должен быть предоставлен тем, кто стойко сражался против Германии и понес величайшие жертвы для достижения победы в этой войне.
Черчилль согласился, что вклад Франции в победу весьма невелик, но, как он выразился, она все еще остается ближайшим соседом Германии: в будущем она будет стоять на страже по левую руку от Германии. Иден тут же добавил, что французы настаивают, чтобы войти в состав Союзной контрольной комиссии. Сталин признался, что они уже поднимали этот вопрос в Москве.
Завершая дискуссию по этому вопросу, президент США подчеркнул, что он поддерживает идею о выделении Франции зоны оккупации, но согласен и со Сталиным в том, что французов не следует включать в механизм управления, в противном случае другие страны могут тоже потребовать место в Союзной контрольной комиссии. Например, Голландия, которая понесла огромные потери от немцев, разрушивших дамбы, защищавшие голландские сельскохозяйственные земли от морской воды, на восстановление которых должно уйти теперь не менее пяти лет, чтобы они снова могли бы использоваться для культивации.
Сталин предложил, чтобы Британия обсудила с Францией ее участие в Союзной контрольной комиссии: если это случится, то это может послужить прецедентом для других стран. Сталин поставил точку в обсуждении этого вопроса, заявив: Франции можно предоставить зону оккупации, но не место в Союзной контрольной комиссии; трем министрам иностранных дел необходимо изучить проблему и представить свои мнения.
Затем Сталин заявил, что ему хотелось бы обсудить вопрос о репарациях. Утром в этот же день во время ланча министров иностранных дел в Юсуповском дворце в Кореизе, когда Молотов и Стеттиниус обсуждали репарации от Германии, Молотов воспользовался случаем, чтобы выразить надежду на получение от Америки долгосрочного кредита. Он рассчитывал, что эти слова будут переданы Франклину Рузвельту. Как объяснили Молотову в январе, у президента были полномочия от Конгресса на выделение кредитов только в течение срока действия закона о ленд-лизе. Чтобы выделить СССР долгосрочный (послевоенный) кредит, Конгрессу следовало принять на этот счет новый закон. Необходимо было начать обсуждение этого вопроса и планирование. Стеттиниус объяснил Молотову за ланчем, что он готов приступить к обсуждению вопроса «либо здесь, либо позднее в Москве или Вашингтоне»[861].
К обсуждению темы германских репараций Рузвельт успел подготовиться. По просьбе Стеттиниуса руководитель УСС Уильям Донован подготовил для обсуждения расчет советских материальных потерь в ходе войны. УСС установило, что Россия потеряла примерно 16 миллиардов долларов США основных фондов в ценах 1937 года – 25 процентов своего капитала, не считая потерь производственных запасов и личной собственности, потери которых УСС определило в 4 миллиарда долларов. (В одной только западной части России было полностью разрушено тысяча семьсот населенных пунктов, не считая сел и деревень.)
Рузвельт открыл дискуссию словами о том, что помимо интересов великих держав существуют желания и нужды малых государств, вопрос людских ресурсов и вопрос, чего хочет Россия. Он сказал, что Америке не нужны репарации в виде рабочей силы, «и он был уверен, что такой же позиции придерживается и Великобритания»[862].
Сталин ответил: «У нас есть план по репарациям в имущественной форме, но мы не готовы говорить о людских ресурсах»[863]. В этом месте Гопкинс, вероятно, забеспокоившись, набросал и передал президенту свою записку относительно потребности России в рабочей силе: «Почему бы не отправить туда всех этих штурмовиков из числа гестаповцев, нацистов и прочих нацистских преступников?»[864] Рузвельт проигнорировал эту записку.
Сталин поручил Майскому представить советский план.
Майский, обаятельный и энергичный, в совершенстве владел английским языком. Он занимал должность посла России в Великобритании и в Лондоне успел подружиться с Джорджем Бернардом Шоу и Гербертом Уэллсом еще до того, как его отозвали в Москву для разработки требований России по репарациям. Майский сообщил, что Советский Союз наметил репарации двух видов: передача (немецких) заводов, фабрик, техники, станков и находящегося за границей подвижного состава с завершением передачи через два года после окончания войны и ежегодные платежи в материальной форме в течение десяти лет; самые важные отрасли промышленности должны быть на десять лет национализированы под контролем союзников. Для обеспечения безопасности Европы в будущем, продолжал Майский, необходимо на 80 процентов урезать потенциал немецкой тяжелой промышленности: экономические нужды Германии могут быть удовлетворены 20 процентами тяжелой промышленности. Все немецкие предприятия, продукция которых может найти применение в военных целях, должны быть переданы под контроль представителей трех великих держав. Должны быть определены приоритеты между странами на основе пропорционального участия в войне и понесенных потерь. Что касается потерь Советского Союза, сказал он, то цифры поистине астрономические и даже репарации не смогут покрыть причиненного ущерба. В завершение он назвал точную сумму, на которую притязает Россия: не менее 10 миллиардов долларов США совокупных репараций в натуральной форме и в течение десяти лет.
Черчилль выступил с длинной речью, в которой изложил свои возражения: ему не понравилась сама идея репараций, особенно выраженная в долларовом исчислении. Он напомнил, как трудно было в предшествующей войне взыскать хоть что-нибудь с Германии. Допуская, что потери Советского Союза намного превышают потери какой-либо другой страны, он рассказал о том, насколько пострадала Британия и как правительство Британии списало массивы своих активов за границей. Черчилль подчеркнул, что никакая страна-победительница не несла столь тяжкое экономическое бремя в войне, как Великобритания, и он сильно сомневался, что даже крупные репарации от Германии смогут компенсировать ущерб, причиненный Британским островам. Затем он коснулся угрозы голода для Германии: «Если хотите, чтобы лошадь потащила телегу, то хотя бы покормите ее».
Сталин «заметил, что это верно, но следует и поостеречься, чтобы лошадь не лягнула вас».
Вмешался Рузвельт, чтобы успокоить обоих. В прошлой войне Соединенные Штаты потеряли огромные деньги: Германии была предоставлена ссуда на сумму свыше 10 миллиардов долларов. На этот раз США не повторит ошибок прошлого. Германия должна жить, но не иметь уровень жизни выше, чем в СССР. Он поддержал необходимость репараций от Германии по максимуму, но не настолько, чтобы населению угрожал голод. Он заявил о готовности поддержать требования Советского Союза в необходимом объеме репараций, как и привлечение немецкой рабочей силы для восстановления разрушенных регионов. Наряду с этим он выразил надежду, что Германия останется самодостаточной, но не будет страдать от голода.
Майский стал оспаривать некоторые цифры: «Что такое десять миллиардов долларов? Это 10 % бюджета США в текущем году. Это расходы Великобритании на шесть месяцев ведения войны. Это соразмерно лишь 1,25 % бюджета США в мирное время и 2,25 % ежегодного бюджета Британии. Сомнения премьер-министра ничем не обоснованы. Германия будет способна достойно существовать, к тому же нам не следует забывать, что ей теперь не придется расходовать средства на военные нужды».
Черчилль, оставив без внимания суммы репараций, согласился на учреждение комиссии по репарациям, но сказал, что это следует держать в тайне. Сталин согласился: это должно быть тайной.
Сталин заговорил о Франции: она не может рассчитывать на репарации, в войну у нее было лишь восемь дивизий, в то время как Югославия имела двенадцать, а правительство в Люблине располагало тринадцатью.
Трое глав государств согласились с тем, что основные инструкции для комиссии по репарациям определят и подробно обсудят на своем очередном совещании министры иностранных дел и что местом работы этой комиссии станет Москва. Сессия закончилась в 19:45, и три руководителя отправились в свои резиденции, где их ждал ужин.
На ужине в резиденции Франклина Делано Рузвельта присутствовали Маршалл, Кинг, Стеттиниус, Лихи, Макинтайр, Бирнс, Браун, Стив Эрли, Кэтлин и Аверелл Гарриманы и дочь президента Анна. Стеттиниус вспоминал: «Это был сугубо семейный ужин в конце трудного дня»[865].
Сталин работал по совершенно иному графику: он вставал после полудня и работал всю ночь до наступления рассвета. Его окружение было вынуждено приспособиться к такому режиму. Являясь главнокомандующим вооруженными силами страны, он бóльшую часть своего времени проводил с генералами, прежде всего с генералом Антоновым, для разработки военных операций, заслушивал последние сводки с фронта и просматривал последние выпуски военной кинохроники. По вечерам Сталин не упускал случая поговорить с членами своей делегации, чтобы сверить с ними свои впечатления о прошедших днем переговорах, устраивал для своего окружения минимум одну беседу под напитки с закусками, во время которой обращался к каждому по имени (а собиралось более пятидесяти человек), спрашивал и отвечал на вопросы и, как вспоминал Громыко, очень внимательно выслушивал ответы собеседников. Громыко вспомнил один из вопросов Сталина, вероятно, потому что, как ему тогда показалось, ответ произвел впечатление на Сталина. Сталин спросил тогда: «А кто в основном поддерживает Рузвельта в стране, какие социальные слои?»[866] Громыко собрался с мыслями и ответил: «Его внутренняя политика может до некоторой степени ущемлять интересы крупных монополий, и правые экстремисты время от времени выдвигают в его адрес абсурдные обвинения, что он симпатизирует социализму. Но это не более чем пропагандистская уловка тех, кто не хочет, чтобы США поддерживали хорошие отношения с СССР. В настоящее время у Рузвельта как у президента нет конкурентов. Он чувствует себя достаточно уверенно». Громыко увидел тогда, что его слова произвели впечатление на Сталина, поскольку он говорил со знанием дела, как посол в Америке; он подумал также, что эти сведения добавят Сталину уважения и доверия к американскому президенту.
В один из дней, когда Рузвельту нездоровилось и он остался в постели, Сталин, Молотов и Громыко посетили президента. «Мы посидели с ним, – вспоминал Громыко, – наверное, минут двадцать, в течение которых он и Сталин обменивались вежливыми репликами о здоровье, погоде и красотах Крыма»[867]. Когда они вышли, Сталин задумчиво произнес: «За что природа так наказала его? Разве он хуже других людей?»
Вторник, 6 февраля
Нарушив установленное в Тегеране правило не злоупотреблять общением с британским премьер-министром (сделав тогда ставку на упрочение взаимоотношений со Сталиным), Рузвельт пригласил Черчилля и сэра Александра Кадогана отобедать с ним в столовой его апартаментов в Ливадийском дворце. Присутствовали также Бирнс, Гопкинс и Гарриман. Президент вел дружескую беседу, совсем не касаясь политики. Позднее Кадоган писал об этом обеде: «Было очень мило и весело, но это была пустая трата времени»[868].
Тем временем министры иностранных дел обедали на застекленной террасе Ливадийского дворца, откуда открывалась широкая панорама с видом на море.
В этот день Сталин позвонил маршалу Жукову. Об этом позднее писал маршал Василий Чуйков в своей книге «Конец Третьего рейха», слышавший телефонный разговор обоих, поскольку ему посчастливилось в тот момент сидеть рядом с Жуковым. «Где вы и чем занимаетесь?» – спросил Сталин. Жуков ответил: «Я нахожусь в штабе Колпакчи, и здесь же все командующие армиями фронта. Мы планируем Берлинскую операцию». Понимая, что они теперь находятся всего где-то в шестидесяти километрах от Берлина, Сталин сказал: «Вы зря тратите время. Надо закрепиться на Одере, а затем направить все силы на север, к Померании, чтобы соединиться с Рокоссовским и разгромить группу противника “Висла“»[869]. Этим Сталин отложил вступление русских войск в Берлин, он был вынужден принять такое решение, поскольку полагал, что угроза массированного наступления Красной армии на Берлин напугает Рузвельта, а в особенности Черчилля, который всегда с подозрением относился к Сталину.
В 16:00 началась третья пленарная сессия. Рядом с Рузвельтом сидели Болен, Стеттиниус, Гопкинс, Бирнс, Лихи и Гарриман. Окружение Сталина сократилось до шести человек: Молотов, Майский, Гусев, Громыко, Павлов и Вышинский. Сталин курил русские папиросы. Черчилль сидел между Иденом и своим переводчиком, майором Бирсом.
Рузвельт спросил, есть ли какие-либо сообщения от министров иностранных дел, которые встречались каждый день за ланчем. Стеттиниус ответил, что он может доложить о «полном согласии» вставить слово «расчленение» после слова «демилитаризация» в условия капитуляции Германии, но у Молотова есть дополнительная фраза, которую он хотел бы вставить в этот текст. На встрече министров Молотов предложил вставить фразу: «Чтобы обеспечить мир и безопасность Европы, будут приняты меры для расчленения Германии». Теперь он сказал (очевидно, после обсуждения со Сталиным), что он отзывает свое предложение вставить эти слова.
Стеттиниус заявил, что министрам иностранных дел потребуется больше времени, чтобы обсудить вопрос о Франции, о Союзной контрольной комиссии и о репарациях.
Говоря о французской зоне оккупации и выражая общее мнение, Черчилль подчеркнул, что угроза германской агрессии останется, так как будет известно, что через два года американские части отправятся домой, что сделает Францию еще более важным гарантом безопасности: «Великобритания в одиночку не будет достаточно сильной, чтобы защищать западные подступы к Ла-Маншу»[870].
Рузвельт воспользовался возможностью упомянуть о важном значении Объединенных Наций. Он отметил, что, когда он говорит о воинских контингентах, он имеет в виду «на базе нынешних условий»[871]. С образованием международной организации общественность Америки «может изменить свое отношение к вопросу о содержании войск в Европе». И предложил обсудить план создания такой международной организации, согласованный в Думбартон-Оксе. Рузвельт подчеркнул, что он не настолько оптимист, «чтобы поверить в вечный мир, но он действительно верит, что установление мира на пятьдесят лет вполне возможно и достижимо»[872]. Он поручил Стеттиниусу разъяснить позицию США по вопросу о голосовании в Совете Безопасности, который все еще являлся камнем преткновения на переговорах. Стеттиниус вкратце изложил предложения по голосованию, которые президент Соединенных Штатов направил Сталину и Черчиллю в декабре. («Процедурные вопросы» означали, что вопросы могут быть вынесены на обсуждение.)
«1. Каждый член Совета Безопасности должен иметь один голос.
2. Решения Совета Безопасности по процедурным вопросам должны приниматься голосами «за» семи членов.
3. Решения Совета Безопасности по всем иным вопросам должны приниматься голосами «за» семи членов, включая совпадающие голоса постоянных членов; при условии, что при голосовании за решения, предусмотренные разделом VIII, глава A, и вторым предложением параграфа 1 раздела VIII, глава C, сторона, которой это касается, должна воздержаться от голосования».
Стеттиниус отметил, что это предложение предусматривает безусловное единогласие постоянных членов Совета Безопасности по всем основным решениям, касающимся сохранения мира, включая все меры экономического и военного принуждения. В то же время любое из государств-членов должно быть наделено правом представить свои доводы, защищая таким образом принцип свободы дискуссий для всех сторон. Выступление он закончил следующим заявлением: «Мы искренне надеемся, что двое наших великих союзников найдут для себя возможным принять предложения президента»[873].
Сталин и раньше заявлял, что никогда не согласится с вынесением любого действия любой великой державы на суд малых государств. По реакции Громыко во время завтрака в сентябре президент понял, что это очень щекотливая тема для русских. Сталин тоже писал ему об этом в конце декабря, что он не согласится на любые ограничения в применении «права вето»: «Я должен, к сожалению, сообщить, что с предложенной Вами редакцией этого пункта согласиться не вижу возможности»[874]. Теперь же Сталин всего лишь спросил, есть ли что-либо новое, какие-либо изменения в отличие от предложения, которое Рузвельт отправил в декабре месяце ему и Черчиллю. Когда Стеттиниус ответил, что в проект внесены незначительные изменения, Молотов сказал, что ему потребуется время («чтобы изучить» изменения) и он будет готов обсудить проект на следующий день.
У Черчилля тоже возникла проблема с «правом вето» и процедурой голосования. На ужине у президента в первый вечер, когда Стеттиниус услышал, как Иден пытается объяснить суть проблемы Черчиллю, Стеттиниус сам дал тому подробные разъяснения. Иден позднее признавался Стеттиниусу, что премьер-министру впервые удалось до конца прояснить этот вопрос[875].
С того момента Черчилль твердо придерживался точки зрения президента и теперь заявил, что считает новые предложения Рузвельта по голосованию полностью удовлетворительными: если не будет сделана оговорка о праве малых государств свободно выразить свое недовольство тем или иным решением, то это будет выглядеть так, словно три великие державы стремятся править всем миром. Он привел пример, чем это может обернуться для Китая, который требует, чтобы Британия возвратила ему Гонконг: Китай поднимет этот вопрос в Совете Безопасности, но в конечном итоге интересы Британии будут защищены применением «вето» согласно параграфу 3.
Сталин зондировал почву: Египет ведь будет членом Ассамблеи? А если Египет поднимет вопрос о возвращении ему Суэцкого канала?
Черчиллю не понравился этот вопрос. Он ответил, что надеется, что маршал позволит ему закончить пример с Гонконгом. Он продолжил: согласно параграфу 3 Великобритания будет иметь право своим «вето» прекращать любые действия Совета Безопасности. Британии не придется возвращать Гонконг; однако Китаю следует предоставить право поднимать вопрос о Гонконге, как и Египту требовать возврата Суэцкого канала. Затем, выйдя за рамки американской позиции по этому вопросу, он заявил, что такой же подход будет применен, если Аргентина предъявит претензии к Соединенным Штатам.
После такого логического построения в беседу вмешался президент Рузвельт, напомнив им о том, что они говорили в Тегеране о своей первостепенной ответственности за поддержание мира по мандату доброй воли от имени подавляющего большинства народов мира.
Сталин не был готов согласиться с процедурой голосования: он заявил, что ему нужно изучить документ, что восприятия с голоса недостаточно, поскольку невозможно уловить все его нюансы. Но затем по его вопросам стало очевидно, что ему недостаточно заверений, что «право вето» постоянного члена Совета Безопасности окажется эффективной защитой интересов Советского Союза. Теперь он говорил, что не верит, что какое-либо государство будет удовлетворено простым выражением своего мнения. Согласованные в Думбартон-Оксе предложения уже дали право обсуждать любые вопросы на Ассамблее: Китай захочет больше, чем просто высказаться по поводу Гонконга, это же относится и к Египту.
Вся неприязнь Сталина к Черчиллю теперь проявилась в полной мере: «Какие полномочия имеет в виду господин Черчилль, когда говорит о желании управлять миром… Он уверяет, что у Великобритании нет такого желания, нет его и у Соединенных Штатов, и остается только СССР… Это выглядит так, словно две великие державы уже приняли документ, который априорно исключает любые подобные обвинения, а вот есть третья, которая этот документ все еще не одобряет»[876].
Затем он, подражая Рузвельту в тщательном выборе формулировок, сказал, что через десять лет, возможно, никого из них уже не будет на свете, но сегодня есть обязательства по созданию для будущих поколений организации, которая сохранит мир минимум на пятьдесят лет. Главное – избежать в будущем ссор между тремя великими державами, поэтому необходимо выработать обязательства, которые не допустят конфликтов между тремя великими державами.
Сталин снова сказал, что он так и не понимает, в чем заключается проблема голосования. Позднее Стеттиниус напишет, что совершенно исключено, чтобы Сталина подробно не информировали по этому вопросу, что фактически он детально его изучил, но просто до сих пор не знал, какое ему принять решение. Сейчас Сталин упомянул о Лиге Наций 1939 года, когда по настоянию Англии и Франции, настроивших мировую общественность против Советского Союза, СССР был исключен из этой организации.
Рузвельт, который уже понял, что продолжение этой темы заведет в тупик, предложил закрыть ее обсуждение. Последнее слово было за ним: нет и не может быть никаких средств избежать споров на Ассамблее, полноценное и дружеское обсуждение в Совете Безопасности послужит демонстрацией доверия великих держав друг к другу.
Затем был объявлен короткий перерыв. Когда сессия возобновилась, президент предложил в предварительном порядке рассмотреть вопрос о Польше, как договорились об этом накануне. После этого началась самая ожесточенная дискуссия в повестке Ялтинской конференции – обсуждение будущего Польши.
Сталин разорвал дипломатические отношения с лондонским правительством Польши в изгнании из-за требования этого правительства провести расследование массовых убийств в Катыни. Теперь Советский Союз признал де-факто новое так называемое люблинское или варшавское правительство, которое, как и Польский комитет национального освобождения, взял на себя функцию управления страной. США и Британия продолжали признавать лондонское правительство в изгнании.
Вмешался Рузвельт, начавший обсуждение двух идей, с которыми Сталин не соглашался. Он сказал, что по восточной границе Польши есть предварительная договоренность – установить ее по «линии Керзона», что в целом поддерживается американским народом, о чем Рузвельт уже говорил в Тегеране. Теперь же он предложил, чтобы Сталин изменил линию границы и передал Польше Львов и нефтеносные районы к северо-западу от Львова. Он смягчил эту просьбу, отметив, что не намеревается делать конкретное заявление, но рассчитывает на дружественный жест маршала Сталина. Сталин не успел на это ответить, как Рузвельт изложил вторую идею, утверждая, что общественное мнение в Соединенных Штатах против признания законности люблинского правительства на том основании, что оно представляет малую часть польского народа, который хочет иметь правительство национального единства, и если он его получит, то на многие годы вперед народ будет признателен за это Советскому Союзу. Сталин сказал, что Польше следует установить дружественные отношения не только с Советским Союзом, но и с другими союзниками.
Рузвельт заявил, что в разрешении польского вопроса заинтересованы все; он не знает никого из членов какого-либо польского правительства, но встречался со Станиславом Миколайчиком (лидером Польской крестьянской партии, бывшим главой лондонского правительства в изгнании), который произвел на него впечатление искреннего и честного человека.
Следующим выступил Черчилль, который сказал, что «линия Керзона» – не силовое, а правовое решение вопроса. Излагая эту, по его мнению, примиряющую всех идею, он все же бросил вызов Сталину: Черчилль хотел видеть поляков хозяевами в собственном доме, чтобы они устраивали свою жизнь, как того желают, подчеркнув, что это является искренним желанием британского правительства. Нельзя забывать, сказал он, что Великобритания вступила в войну с нацистами для защиты Польши, не имея в этой стране никаких материальных интересов. Черчилль подчеркнул, что забота о будущем Польши – для Британии дело чести.
После этого предупреждения Сталину не посягать на свободу польского народа Сталин предложил объявить десятиминутный перерыв: ему надо было собраться с мыслями.
После окончания перерыва Сталин был явно разозлен. Он встал с кресла и, продолжая стоять, заговорил тихим и спокойным голосом, словно выстраивал аргументы:
– Как только что заявил господин Черчилль, вопрос о Польше для британского правительства является делом чести… А для русских это вопрос и чести, и безопасности. Это вопрос чести, потому что у России в прошлом было много грехов перед Польшей, и она хотела бы их загладить. Это вопрос стратегической безопасности… потому что на протяжении всей истории Польша служила коридором для нападения на Россию… За последние тридцать лет Германия дважды воспользовалась этим коридором… Польша была слабой. Россия хочет видеть Польшу сильным, независимым и демократическим государством. Это не только вопрос чести для России, это вопрос жизни и смерти.
Продолжая стоять, Сталин коснулся также проблемы границы:
– Вам надо напомнить, что не русские, а Керзон и Клемансо установили эту линию… Линия была установлена против воли русских. Ленин был против передачи полякам Белостокского района, но Керзон отдал его Польше. Мы уже отступили от позиции Ленина… Должны ли мы быть менее русскими, чем Керзон и Клемансо? Тогда мы не сможем вернуться в Москву и показаться на глаза людям… Я лучше предпочту продолжить войну, хотя она нам и стоит крови, чтобы воссоздать и расширить Польшу за счет Германии[877].
Сталин продолжил говорить. Он сказал, что осенью был хороший шанс объединить разные стороны и что на встрече между Миколайчиком, Станиславом Грабским и люблинским польским правительством были достигнуты соглашения по отдельным моментам.
Рузвельт и Черчилль хранили молчание.
Действительно, многие члены польского правительства в изгнании из числа тех, кто входил в правительство страны до 1939 года, были настроены прогермански и открыто говорили о том, что следующая война будет против России. Гарриман, которого стало все больше раздражать русское упрямство, еще в конце марта 1944 года объяснил Рузвельту суть проблемы: «Они боятся, что немцы могут снова прийти, и не хотят, чтобы в Польше было правительство, которое может последовать политике Бека и снова заключить союз с Германией»[878]. Ни у кого не было иллюзий в отношении прогерманского характера этой группы эмигрантов, польского правительства в изгнании, которое признали и Британия, и Соединенные Штаты. Энтони Иден тоже считал это правительство неблагонадежным: «В частных беседах они говорят, что Россия будет до такой степени ослаблена, а Германия сокрушена, что Польша станет самым сильным государством в этой части мира»[879]. Поскольку распри среди поляков продолжались, было почти неизбежно, что Красная армия, освободив Польшу, приведет к власти поляков, которые могут захотеть поторговаться.
В телеграмме Рузвельту в феврале 1944 года Сталин впервые упомянул о Польше. Тогда он тщательно отредактировал текст, подчеркнув (в пометке от руки), что основную роль в правительстве Польши в изгнании «играют враждебные Советскому Союзу профашистские империалистические элементы»[880], и приведя в качестве примера высказывания исторического недруга России генерала Казимира Соснковского, главнокомандующего польской армией на Западе. Сталин предложил тогда, чтобы американцы польского происхождения выполнили функцию политического противовеса в новом польском правительстве, и попросил выдать паспорта двум живущим в Америке полякам: отцу Станислаусу Орлеманскому, католическому священнику, и Оскару Ланге, профессору экономики Чикагского университета, – чтобы они могли приехать в Москву. Оба этих поляка считали польское правительство в изгнании недостаточно демократичным. Сталин встретился с обоими, поскольку надеялся, что, если эти патриотически настроенные американские поляки войдут в правительство, Ланге может возглавить министерство иностранных дел. И Сталин, и Молотов полагали, что польское правительство, в состав которого войдут американцы, станет, несомненно, дружественным Советскому Союзу. Сталин говорил Ланге, что хочет, чтобы тот стал польским гражданином: «Сотрудничество и взаимопонимание между Советским Союзом, Соединенными Штатами и Великобританией вовсе не является проявлением беспринципности и конъюнктурности, а скорее твердой и постоянной политической линией»[881].
Сталин знал, что в лондонском эмигрантском правительстве было несколько здравомыслящих политиков. Одним из них был премьер Станислав Миколайчик, лидер Польской крестьянской партии. Лучший и самый благоразумный человек в этом правительстве, он не исповедовал антисоветских взглядов, но не имел возможности контролировать других членов правительства. Президент США встречался с ним в Белом доме, после чего советовал и Сталину встретиться с ним: «Он [Миколайчик] вполне понимает, что все будущее Польши зависит от установления подлинно хороших отношений с Советским Союзом»[882]. После ознакомления с докладом ГРУ на материале расшифровки магнитной записи встречи Рузвельта с Миколайчиком стало ясно, что президент поддерживает позицию Сталина в отношении Польши (совершенно очевидно, что утечка была организована Госдепартаментом). В докладе ГРУ говорилось:
«Во время визита премьер-министра Польши в Вашингтон Рузвельт настаивал на удалении из польского правительства антисоветских элементов из группы Соснковского, а также на согласии поляков на прохождение границы по “линии Керзона“. Он также настаивал на том, чтобы [польское] правительство вошло в рабочий контакт с польскими патриотами в Москве и польскими дивизиями на Восточном фронте… Миколайчик согласился действовать в духе предложения Рузвельта, однако лишь в случае полной поддержки со стороны польских эмиграционных кругов Лондона»[883].
Снова заручившись поддержкой Рузвельта, Сталин вскоре после высадки союзных войск в Европе написал президенту, что надеется на сильную, независимую и демократическую Польшу с правительством, в которое войдут польские деятели из Англии, Америки и СССР, «и особенно польские демократические деятели, находящиеся в самой Польше, а также… на признании польским правительством “линии Керзона“ как линии новой границы между СССР и Польшей»[884]. Но за это время Красная армия разбила немцев и вошла в Польшу, и советское правительство сформировало Польский комитет национального освобождения для управления страной.
Как это уже случилось в 1939 году, Польшу продолжали раздирать распри между ее ведущими политиками. Миколайчик и его правительство вели ожесточенные споры, какую из двух польских Конституций следует признать действующей: Конституцию 1921 года либо крайне авторитарную Конституцию, принятую в 1935 году. Велись споры и о границе, и о вероятности гражданской войны в Польше. В августе Сталин писал Рузвельту, что, возможно, польские группы уже начали работать совместно. Польский комитет национального освобождения предложил Миколайчику пост премьера и четыре министерских портфеля: «Как Польский национальный комитет, так и Миколайчик выражают желание совместно работать… Можно считать это первым этапом во взаимоотношениях между Польским комитетом и Миколайчиком и его коллегами. Будем надеяться, что дальше дело пойдет лучше»[885]. Но этого не случилось. Во всех отношениях сложилась непростая ситуация. Варшавское восстание только ухудшило ее. Когда в конце июля 1944 года Красная армия вышла на восточный берег Вислы, вместо оказания помощи малочисленным и плохо вооруженным варшавским патриотам, восставшим против нацистов и тщетно пытавшимся своими силами освободить столицу, Красная армия вдруг прекратила двигаться вперед. Как стало известно только впоследствии, немцы тогда бросили в бой четыре свежие бронетанковые дивизии. Маршал Константин Рокоссовский, командующий 1-м Белорусским фронтом, родившийся в Варшаве поляк, сообщил Сталину, что у армии нет другого выбора, кроме как отойти назад. Несколько дней спустя в поисках информации Александр Верт, специальный корреспондент Би-би-си, находившийся всю войну в России, разыскал Рокоссовского и взял у него интервью. Он спросил маршала: «Было ли Варшавское восстание оправданным?» Ответ Рокоссовского был следующим: «Нет, это была трагическая ошибка… Восстание имело бы смысл, если бы мы уже стояли у ворот Варшавы»[886].
В результате данного решения Рокоссовского немецкая армия подавила восстание, оставив на улицах Варшавы тела почти четверти миллиона убитых и искалеченных польских патриотов. Черчилль попробовал при поддержке Рузвельта посылать авиацию союзников сбрасывать осажденному городу оружие и продовольствие, но судьба Варшавы уже была решена. В сентябре после согласования определенной помощи Варшаве Сталин оценил ситуацию как попытку свалить вину с больной головы на здоровую[887]. Гарриман сначала посчитал трагедию результатом циничного расчета, но позднее понял, что события не всегда таковы, какими сначала кажутся. Двадцать лет спустя, вспоминая Варшавское восстание, он признавался историку Артуру Шлезингеру: «Это дело рук лондонских поляков, которые надеялись успеть опередить русских и самим захватить Варшаву»[888]. Миколайчик, которому не удалось убедить свой кабинет согласиться с границами, предложенными Сталиным, был заменен другим министром, «министерские перестановки в польском эмигрантском правительстве еще больше ухудшили положение и создали пропасть между Польшей и эмигрантским правительством»[889], как сообщил Сталин Рузвельту.
И теперь, в Ялте, Сталин обвинил лондонское правительство в эмиграции в том, что оно засылает в Польшу агентов, которые препятствуют движению частей Красной армии в Польше, убили 212 военнослужащих, нападали на базы снабжения и в нарушение закона разворачивают радиостанции. «Мы будем поддерживать правительство, которое будет обеспечивать мирную обстановку в тылу».
До закрытия сессии Рузвельт решил предоставить слово Черчиллю, который заявил, что британское правительство и правительство СССР имеют разные источники информации. Он не уверен, что люблинское правительство представлено более чем одной третью населения, как и в том, что оно сможет удержаться у власти, если люди получат возможность свободного волеизъявления. И в заключение заявил: «Британское правительство не дает согласия на признание люблинского правительства Польши»[890].
Рузвельт открывал сессию, Черчилль завершил ее, заявив Сталину о непризнании люблинского правительства. Но выступление Сталина произвело на всех впечатление.
Часы показывали уже восемь вечера, когда в работе конференции был объявлен перерыв. Каждый из руководителей отправился в свою резиденцию на ужин. Рузвельт ужинал с дочерью Анной, Бирнсом, Лихи, Гарриманом, дочерью Гарримана Кэтлин, Эрли и Эдом Флинном. Гопкинс оставался в своей спальне. Позднее Рузвельт встретился с Боленом и обсудил с ним окончательный вариант послания Сталину о Польше. Президент хотел, чтобы Сталин успел прочесть его до начала завтрашнего пленарного заседания. В конце января Рузвельт посылал Гопкинса и Стеттиниуса в Париж, Рим, Неаполь и Лондон «измерить температуру» Европы, чтобы в Ялте не возникло никаких сюрпризов, а также передать Черчиллю текущие новости. В Лондоне Гопкинс постарался успокоить уязвленное самолюбие Черчилля, расстроенного тем, что по ряду проблем президенту удается настоять на своем решении. США и Британия никак не могли принять солидарное решение по Италии. Черчилль хотел видеть на троне короля Виктора Эммануила, против чего возражал Рузвельт, который писал премьер-министру: «Он настоящий сатана, мне говорили. Даже зубами щелкает перед обедом»[891]. Их мнения разошлись и в отношении кандидатуры графа Карло Сфорцы на должность министра иностранных дел Италии. Тревожило Черчилля и непримиримое отношение президента к колониям. А последним ударом для него стал отказ Рузвельта на просьбу Черчилля задержаться на Мальте хотя бы на несколько дней.
Пока Гопкинс утешал Черчилля, Болен встретился в посольстве Польши с Миколайчиком, который в качестве решения проблемы предложил создать временный правительственный орган, куда вошли бы известные политики, остававшиеся в Польше, и известные политики из числа эмигрировавших. Идея понравилась Рузвельту, он поручил Стеттиниусу, Болену и Гопкинсу поработать над формулировками, чтобы он потом смог отправить ее Сталину в качестве окончательного предложения. За ужином Болен показал президенту окончательный вариант послания:
«Уважаемый маршал Сталин,
я тщательно обдумывал наше заседание сегодня вечером, и я хочу сообщить Вам со всей откровенностью свои мысли.
…Я весьма обеспокоен тем, что между тремя великими державами не существует согласия о политическом положении в Польше. Признание вами одного правительства, а нами и британцами – другого в Лондоне, по-моему, выставляет нас в плохом свете перед всем миром. Я уверен, что такое положение не должно продолжаться и что если оно будет продолжаться, то это лишь может дать нашим народам повод думать, что между нами существует раскол, чего в действительности нет. Я исполнен решимости не допустить раскола между нами и Советским Союзом. Наверняка имеется способ примирить наши разногласия.
…Верьте мне, когда я говорю Вам, что народ у нас в стране критически смотрит на то, что он считает разногласием между нами на этой важнейшей стадии войны. В сущности народ спрашивает, как мы сможем договориться даже о более существенных вопросах в будущем, если мы не можем достичь согласия теперь, когда наши войска ведут концентрическое наступление на общего врага.
…Мы не можем признать люблинское правительство в его нынешнем составе…Я хотел бы предложить, чтобы мы немедленно пригласили сюда, в Ялту, г-на Берута и г-на Осубка-Моравского из люблинского правительства, а также двух или трех лиц из следующего списка поляков, которые согласно имеющейся у нас информации были бы желательны в качестве представителей других элементов польского народа для участия в создании нового временного правительства, которое все мы трое могли бы признать и поддержать: епископа Сапегу из Кракова, Винценты Витоса, г-на [Зигмунда] Жулавского, профессора [Франтишека] Буяка и профессора [Станислава] Кутшебу.
Если к этому списку добавить таких находящихся за границей польских политиков, как г-н Миколайчик, г-н Грабский и г-н Ромер, то правительство Соединенных Штатов и, я уверен, также британское правительство были бы готовы рассмотреть вместе с Вами условия, на которых они отмежевались бы от лондонского правительства и вместо него признали бы новое временное правительство…
Само собой разумеется, что любому временному правительству, которое могло бы быть образовано в результате нашего совещания с поляками здесь, было бы вменено в обязанность провести свободные выборы в Польше в возможно кратчайшие сроки. Я уверен, что это в полной мере соответствует Вашему желанию видеть новую, свободную и демократическую Польшу, вышедшую из хаоса этой войны»[892].
Это письмо было отправлено Сталину.
Среда, 7 февраля
Утром Рузвельт просматривал свежую почту из Белого дома, доставленную курьером накануне вечером. В полдень он провел совещание с Гопкинсом, Гарриманом, Бирнсом и Боленом. На ланче присутствовала дочь президента, Эд Флинн и Па Уотсон.
В Юсуповском дворце встретились Стеттиниус, Иден и Молотов. Целая армия садовников проделала гигантскую работу, приведя в первоначальное состояние дворцовый парк. Стеттиниуса поразила красота парка, его статуи и бассейны. Вместе с Иденом и Молотовым он готовил документы к предстоящей после обеда пленарной сессии.
В 16 часов с минутами Рузвельт открыл пленарное заседание заявлением, что в отношении польского вопроса он не придает никакого значения ни преемственности, ни законности какого-либо польского правительства, поскольку «фактически никакого правительства в Польше не существовало после 1939 года. Абсолютно в наших силах помочь сформировать правительство лишь на короткий период, пока польский народ не сможет сам выбирать». Затем он дал слово Молотову для оглашения вопросов, над которыми он, Иден и Стеттиниус работали с утра в Юсуповском дворце.
Молотов сообщил, что достигнута договоренность о выделении Франции зоны оккупации, что он и Стеттиниус предлагали, чтобы решение о членстве Франции в Союзной контрольной комиссии приняла Европейская консультативная комиссия, но Иден с этим не согласился, настаивая на том, что Франции следует сразу же предоставить место в Союзной контрольной комиссии. Далее Молотов сообщил о принятии решения по формированию комиссии по репарациям, в состав которой войдут по одному представителю от трех союзных держав. Комиссия составит подробный план работы и будет находиться в Москве.
Затем участники конференции вернулись к вопросу, который обсуждался накануне: о возможном развитии событий после предоставления Франции оккупационной зоны в Германии. С длинной речью выступил Черчилль. Он сказал, что «его так и не убедили»[893] в том, что Франции может быть предоставлена зона без членства в Союзной контрольной комиссии, что такой вариант приведет «к бесконечной цепи проблем. Мы можем в наших зонах установить в каких-то аспектах строгие порядки, а они – мягкие, и наоборот». Французское участие в Комиссии не будет означать, что они будут приглашаться на такие конференции, как, например, эта в Ялте. Черчилль категорически настаивал на том, что вопрос об участии Франции в Союзной контрольной комиссии должен быть решен до окончания конференции. Стараясь избежать конфликта, Рузвельт завел речь о возможности отложить такое решение на две или три недели, а не на два-три дня. Однако Черчилль заметил: как только они расстанутся, принять решение потом будет еще труднее.
Сталин поддержал американского президента. Он сказал, что три правительства способны разрешать великое множество вопросов путем переписки. Рузвельт тут же согласился со Сталиным, что Францию не следует включать в группу министров иностранных дел.
Затем президент предложил вернуться к обсуждению вопроса о Польше. Сталин сообщил, что получил послание президента Рузвельта с предложением пригласить в Ялту двух представителей люблинского правительства и двух представителей из другой группы польских политиков и обсудить с ними вопрос о проведении свободных выборов в Польше. Он сказал, что пытался связаться с люблинским правительством по телефону, но безуспешно. Что касается других, Витоса и Сапеги, то он сомневается, что они успеют прибыть вовремя в Ялту. Сталин продолжал: Молотов подготовил ряд предложений, близких по содержанию к предложениям президента, но они до сих пор не отпечатаны. Сталин предложил, чтобы Молотов взял за основу советскую позицию в Думбартон-Оксе, и он в полной мере уверен: то, что собирается доложить Молотов, очень понравится Франклину Рузвельту.
Вслед за этим Молотов объявил, что по результатам пояснений Стеттиниуса к предложениям президента советское правительство теперь полагает, что эти предложения полностью обеспечивают единство великих держав по вопросу о сохранении мира[894]. Они полностью приемлемы, и по ним достигнуто полное согласие. Они предусматривают применение «права вето» в Совете Безопасности.
Столь изощренно сформулированное сообщение, что Сталин согласился с установлением «права вето», означало, что, наконец, пришло время созывать конференцию для учреждения Организации Объединенных Наций.
Однако сразу после объявления столь долгожданного известия Молотов плавно перешел к другой, малоприятной новости, сообщив, что Советский Союз хочет приема Украины, Белоруссии и Литвы в состав Генеральной Ассамблеи в качестве полноправных членов.
Не дав Рузвельту даже возможности высказать свое мнение по вопросу о «вето», Молотов стал излагать аргументы в пользу предоставления Советскому Союзу трех дополнительных голосов в ООН, упомянув о доминионах Британского содружества, которые постепенно и без каких-либо препон займут места в ООН в качестве субъектов международной политики[895]. Поэтому будет справедливо, если эти три или по меньшей мере две советские республики также станут членами Ассамблеи. Он повторил, что полностью согласен с предложениями президента и намерен отклонить любые возражения либо поправки, но будет настаивать, чтобы минимум двум советским республикам была предоставлена возможность стать полноправными членами этой международной организации.
Рузвельт написал на листе бумаги и передал Стеттиниусу: «Плохо»[896].
А затем президент США выступил с самой продолжительной речью за все дни Ялтинской конференции. Он сказал, что Сталин только что преподнес ему неожиданный подарок, великий подарок, согласившись, что «право вето» в Совете Безопасности не может быть применено при обсуждении повестки. В порядке ответной любезности он хотел бы дать оценку, что последует за принятием такого решения. Президент сказал, что принятие формулы голосования стало огромным шагом вперед. Следующим шагом станет созыв учредительной конференции ООН, возможно, уже в конце марта, а может быть, в течение следующих четырех недель. Затем, сравнивая различия в административном устройстве Британии, Америки и Советского Союза, Рузвельт подчеркнул, что, безусловно, предложение Молотова следует изучить, в частности, в свете возможности наделения крупных держав более чем одним голосом, что нарушит принцип предоставления «одному члену ООН – один голос». Он упомянул о Бразилии, территория которой больше территории США, но население меньше; Гондурас и Гаити, крошечные по размерам, но с большим населением. Затем назвал несколько других стран, ассоциируемых с Объединенными Нациями, которые разорвали отношения с Германией, но не участвовали в войне. Важно подготовить планы проведения конференции, а вопрос о государствах, не являющихся членами, рассмотреть в ходе самой конференции. Министрам иностранных дел следует над этим поработать.
Однако Черчилль продолжил вставлять палки в колеса президенту, демонстрируя свой антагонизм самой идее мирового правительства для сохранения мира и в очередной раз проявляя присущий ему расизм. Великобритания, сказал он, не может согласиться на любую организацию, которая может понизить статус доминионов либо вообще исключить их из участия. Он понимает огромность России, и он может понять ее позицию, поскольку она представлена лишь одним голосом, как и Британия, имеющая не такое большое население, но это только если под населением имеется в виду европейская раса. Он заявил, что не может превысить данных ему полномочий: как только он услышал это предложение, ему захотелось обсудить его с министром иностранных дел, а возможно, и связаться для консультации с Лондоном.
Рузвельт, не сразу найдя нужные слова, заявил, что рекомендует несколько иное: он просто имел в виду, что предложения должны обсудить министры иностранных дел, пусть они и решат, где, когда и кого следует пригласить.
Черчилль снова бросился в атаку. Он был против преждевременного созыва конференции. Он сказал, что предвидит массу проблем, если она соберется в марте. К тому же он сильно сомневался, смогут ли так называемые представители проявить достаточную мудрость и здравомыслие. Черчилль в выражениях едва не переступал рамки дипломатических приличий. (Позднее Иден напишет, что Черчилль высказывался против конференции еще на утренней встрече министров иностранных дел.)
Рузвельт миролюбиво заметил, что он имел в виду лишь учредительную конференцию; всемирная организация как таковая еще не начнет функционировать раньше трех-шести месяцев после такой конференции.
Черчилль снова высказался против, на этот раз на основании того, что некоторые страны, все еще находящиеся под немецким игом, представлены правительствами в изгнании. Другие страны, как, например, Голландия, страдают от голода и нищеты. Какие-то страны вообще не пострадали от этой войны. Каким образом такое разношерстное собрание сможет решать задачи будущего мироустройства?
Возражения Черчилля были столь яростными и столь неожиданными, что, пока он говорил, Гопкинс и Рузвельт обменивались записками. Сначала Гопкинс поспешно и без всяких знаков препинания набросал записку президенту: «Судя по всему, Черчилль противится преждевременному созыву конференции ООН. За его словами кроется какая-то веская причина, о которой мы просто не знаем. Может, нам лучше подождать до вечера чтобы понять, чего он хочет». Рузвельт ответил: «Все это чушь! Провинциализм». Чуть позже Гопкинс написал: «Теперь на сто процентов уверен: он думает об очередных выборах в Британии»[897].
Затем Рузвельт, соблюдая установленную повестку дня, ограничился повторением своего предложения, касающегося порядка подготовки конференции по ООН: министры иностранных дел рассмотрят советское предложение о членстве, определят дату и место конференции и какие именно государства должны быть на нее приглашены.
Черчилль неохотно согласился, но заявил: он просто обязан напомнить, что это вопрос не технического характера, а чрезвычайно ответственное решение.
Сталин, который все это время держался в стороне от спора, поскольку он шел между Рузвельтом и Черчиллем, теперь поддержал президента, заметив, что министры иностранных дел не имеют полномочий принимать решения, а просто сделают доклад об обсуждении вопроса о конференции.
Настало время короткого перерыва, чтобы перекусить, в чем, возможно, нуждались все трое.
После перерыва Черчилль предложил, чтобы министры иностранных дел рассмотрели вопрос об Иране. Рузвельт высказал несколько соображений по Ирану, поделился увиденным в этой стране во время Тегеранской конференции, а затем предоставил слово Молотову для изложения его предложений по польскому вопросу.
Молотов зачитал советскую позицию:
«1. Считать, что границей Польши на востоке должна быть “линия Керзона“ с отклонением от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу Польши.
2. Считать, что западная граница Польши должна идти от г. Штеттин (для поляков), далее на юг вдоль р. Одер, а дальше по р. Нейсе (Западной).
3. Признать желательным пополнить Временное польское правительство некоторыми демократическими деятелями из эмигрантских польских кругов.
4. Считать желательным признание пополненного Временного польского правительства союзными правительствами.
5. Признать желательным, чтобы Временное польское правительство, пополненное указанным в п. 3 способом, в возможно короткий срок призвало население Польши к всеобщим выборам для организации постоянных органов государственного управления Польши.
6. Поручить В. М. Молотову, г-ну Гарриману и г-ну Кларку Керру обсудить вопрос о пополнении Временного польского правительства совместно с представителями Временного польского правительства и представить свои предложения на рассмотрение трех правительств».
Затем Молотов заявил, что они не могут связаться по телефону с поляками на территории Польши: не будет времени пригласить их в Крым, как того желает президент.
Рузвельт заявил, что советские предложения представляют определенный прогресс, но ему не нравится выражение «эмигрантские польские круги» на том основании, что можно найти и в Польше достаточное количество подходящих людей. Он повторил, что никого не знает из лондонских поляков, кроме Миколайчика, и попросил дать ему время изучить предложения Молотова совместно со Стеттиниусом. Сталин согласился.
Когда свое выступление начал Черчилль, Рузвельт черкнул записку Стеттиниусу: «Ну, это теперь на полчаса»[898]. Отталкиваясь от возражения Рузвельта против применения слова «эмигранты», Черчилль сказал, что разделяет неприязнь президента к этому слову, хотя оно означает всего лишь лицо, покинувшее свою страну; тем не менее он также против употребления этого слова. Затем британский премьер выразил обеспокоенность смещением польских границ так далеко на запад, заявив, что едва ли было бы целесообразно, чтобы польский гусь был в такой степени начинен немецкими яствами, чтобы он скончался от несварения желудка. Усмехнувшись, Сталин заметил, что большинство немцев вместе с едой уже покинуло эти территории. Затем Черчилль заявил, что у него есть еще одно замечание: в зачитанном Молотовым проекте следует упомянуть и других демократически настроенных деятелей из самой Польши. Сталин согласился, и в конце пункта 3 советского проекта были добавлены слова «и из самой Польши». Сессия завершилась.
Рузвельт ужинал в 20:30 в Ливадийском дворце вместе с дочерью Анной, Гарриманом, Кэтлин Гарриман, Бирнсом, Лихи и Стеттиниусом. Позднее в частной беседе он говорил Стеттиниусу, что, по его мнению, Сталин считает важным предоставить Украине голос в Генеральной Ассамблее, поскольку позиции Сталина на территории Украины ненадежны. Пояснил президент и свою собственную позицию: важнее всего обеспечить единство, разгромить Германию, «а потом уже усадить всех за стол для принятия решения о всемирной организации»[899]. И в завершение он напомнил Стеттиниусу, что реальная власть будет у Совета Безопасности, а каждое государство в нем будет обладать только одним голосом. Тогда не все ли равно, даст или не даст Генеральная Ассамблея свое согласие на предоставление Советскому Союзу двух дополнительных мест в ООН?
Позже, когда Рузвельт ушел спать, Стеттиниус, перебирал в уме разные города, которые подошли бы в качестве места проведения конференции 25 апреля: Чикаго, Цинциннати, Хот-Спрингс и Майами. Но когда на следующий день он стал советоваться по этому поводу с президентом, «ни один из этих городов Рузвельт не счел подходящим местом…Он попросил меня еще раз подумать об этом, найти что-нибудь получше, а потом сказал: …«Мы пока еще не определились с этим»[900].
Четверг, 8 февраля
Утром Рузвельт встречался с Гарриманом, Боленом, Гопкинсом и Бирнсом, а ланч провел в своем кабинете вместе с Анной. После обеда он рассчитывал встретиться в частном порядке со Сталиным.
Вопрос о предоставлении Советскому Союзу трех мест в Генеральной Ассамблее получил вдруг неожиданное продолжение. После полудня Стеттиниус пришел в кабинет Рузвельта с докладом о прошедшем утром совещании министров иностранных дел трех держав. Как он сказал президенту, он вдруг обнаружил, что он оказался единственным противником этой идеи, потому что Иден, заинтересованный в предоставлении мест в ООН доминионам и Индии, неожиданно поддержал предложение Молотова о выделении мест Украине и Белоруссии. Рузвельт сказал: «Что ж, так или иначе, но нам придется принять это предложение»[901]. Стеттиниус, абсолютно не согласившись с этим, пытался сказать Рузвельту, что ему не следует поддерживать это, что вопрос еще не решен, и тут в 15:45 в кабинет вошел Сталин. Госсекретарь только что успел закончить свой доклад президенту: «На совещании министров иностранных дел мы достигли разумного соглашения»[902]. Сталин тут же поинтересовался, не было ли это соглашение о выделении дополнительных мест. Затем, по свидетельству Стеттиниуса, президент «махнул рукой и сказал Сталину, что согласие достигнуто по всем вопросам». Сталин спросил: «Даже по дополнительным голосам?» Прежде чем Стеттиниус успел открыть рот, Рузвельт произнес: «Да». Стеттиниус проклинал себя за то, что не поторопился и не пришел раньше. Но теперь его руки были связаны, а дело сделано. Он вышел из кабинета.
* * *
Целью совещания со Сталиным было обсуждение вступления СССР в войну против Японии. На совещании присутствовали Гарриман, который согласовывал со Сталиным детали этого вопроса с октября прошлого года, Болен, Молотов и Павлов.
Открывая совещание, Рузвельт сообщил, что с падением Манилы пришло время создать новые авиабазы и начать интенсивные бомбардировки Японии, которые могут позволить избежать вторжения на Японские острова и тем самым сберечь жизни американцев.
До начала совещания ОКНШ от имени президента отправил Сталину памятную записку с двумя вопросами: «Насколько важно оставлять открытым маршрут поставок через Тихий океан к Восточной Сибири? Будет ли разрешено базам США действовать из района Комсомольск – Николаевск или других подходящих районов Приморского края?»
Сталин ответил, что у него нет возражений против использования баз в районах Комсомольска и Николаевска, но использование Камчатки пока следует отложить до последней стадии ввиду присутствия там консула Японии. Затем Рузвельт вручил Сталину еще две памятные записки, одна из которых касалась использования американцами аэродромов вблизи Будапешта, другая содержала просьбу экспертам оценить ущерб, причиненный бомбардировками территориям, в настоящее время занятым Красной армией. Сталин ответил, что отдаст необходимые распоряжения.
Появление американцев в районах, занятых Красной армией, было тем, чего менее всего желали советские руководители, это сразу насторожило русских. Сталин не мог отказать Рузвельту в его просьбе, но он мог попросить об ответной услуге, что и не замедлил сделать: «Господин Стеттиниус говорил господину Молотову о возможности продажи Советскому Союзу излишков техники и материалов».
Президент ответил, что для этого потребуется внести изменения в законодательство, но он надеется, что такие излишки могут быть переданы на условиях беспроцентного кредита. И добавил, что техника может быть передана в кредит по фиксированной цене с учетом стоимости техники за вычетом амортизационного износа; через двадцать лет кредит будет полностью погашен. Фактически это будет бесплатно. Далее Рузвельт сказал, что, как он надеется, Советский Союз будет сам заинтересован в расширении поставок.
Неудивительно, что Сталин счел такое предложение очень удачным, так как это упрощало задачу восстановления экономики Советского Союза в будущем. Сталин назвал ленд-лиз замечательной идеей, подчеркнув, что в войнах прошлого одни союзники субсидировали других, но это унижало достоинство тех, кто получал такие субсидии. Однако ленд-лиз не порождает подобных недовольств. Сталин назвал ленд-лиз уникальным вложением средств.
Польщенный Рузвельт ответил, что ему пришла в голову идея ленд-лиза, когда он находился в море на борту президентской яхты «Потомак»: он постоянно думал о том, как помочь союзникам и в то же время избежать сложностей с оформлением займов, – и, в конце концов, придумал такую схему.
Заметив, что Рузвельт впал в благодушное настроение, Сталин воспользовался случаем, чтобы назвать свою цену: политические условия, при которых СССР вступит в войну против Японии.
Все американцы, и не только военнослужащие, были напуганы кровожадностью и фанатизмом японцев, чему сами стали свидетелями во время боевых действий в зоне Тихого океана. Когда американцы вторглись на остров Тарава в островной гряде Гилберта, им оказали сопротивление 2 563 японских военнослужащих, и все они (кроме восьмерых, взятых в плен) сражались не на жизнь, а на смерть. Так же яростно сопротивлялись и японцы, защищавшие Маршалловы острова и Кваджалейн: они не сдавались в плен и сопротивлялись до последнего солдата. В боях смертность японцев превышала 98 процентов, что, естественно, влекло за собой и огромные потери у американцев. Когда американские солдаты высадились на Сайпане, крупнейшем из Марианских островов, там находилось двадцать тысяч человек японского гражданского населения, которые оказались такими же фанатиками, как и солдаты императорской армии. Американцам оставалось только наблюдать, как женщины и мужчины с маленькими детьми на руках бросались в море, предпочитая смерть плену. Ожесточенная битва за Сайпан приводила американцев в ужас при одной только мысли о вторжении войск США на территорию Японских островов. Они понимали, что уж за родную землю японцы будут стоять до конца и уничтожат столько американцев, сколько смогут, что повлечет для Америки неисчислимые потери.
Генерал Макартур подсчитал, что только на первом этапе запланированная на 1 ноября высадка американского десанта на Кюсю, самый южный остров Японии, унесет жизни миллиона американцев[903]. По сравнению с вторжением в Японию день высадки союзнических войск в Европе покажется пикником. Поэтому стремление получить поддержку со стороны России стало еще острее по простой причине: если Красная армия вступит в войну, число убитых американских солдат будет меньше. В этой связи ОКНШ и лично генерал Маршалл и адмирал Лихи настоятельно убеждали Рузвельта в том, что вступление СССР в войну против Японии совершенно необходимо. На столе президента лежала записка генерала Макартура, в которой говорилось следующее: «Нам следует сделать все, чтобы вовлечь Россию в войну с японцами до нашего вторжения на Японские острова. В противном случае мы примем на себя удар японских дивизий и понесем огромные потери, в то время как русские в удобное для них время просто займут территории, где не встретят серьезного сопротивления. Я считаю, что не следует высаживать наши войска где-либо на Японских островах раньше, чем русские блокируют японские армии в Маньчжурии»[904]. За две недели до Ялты президенту пришла памятная записка от ОКНШ: «Начальники штабов предлагают направить маршалу Сталину просьбу о принятии необходимых административных шагов, чтобы сделать сотрудничество между США и СССР более эффективным и интенсивным. У него также следует уточнить, имели ли место случаи неэффективности либо задержки со стороны США при осуществлении такого сотрудничества»[905]. Через пять дней ОКНШ направил Рузвельту очередную памятную записку, подчеркнув ее особо срочный характер. В записке говорилось, что ОКНШ «ведет работу в направлении вступления СССР в войну против Японии…Вступление России в войну в возможно короткие сроки согласуется с ее способностью вести наступательные операции для оказания необходимой поддержки нашим операциям на Тихом океане»[906].
Другая памятная записка была специально предназначена для того, чтобы Рузвельт в Ялте изложил ее содержание Сталину:
«а) Мы выражаем желание, чтобы вступление России в войну состоялось как можно раньше в зависимости от ее способности начать наступательные операции.
б) Мы считаем, что боевые действия вооруженных сил России на Дальнем Востоке следует осуществить в форме тотальных наступательных операций в Маньчжурии для блокирования японских вооруженных сил и ресурсов в Северном Китае и Маньчжурии, которые при иных условиях могут быть использованы для обороны Японии»[907].
Япония была историческим недругом России. Еще в 1934 году Сталин, представляя первого американского посла в Советском Союзе Уильяма Буллита маршалу Александру Егорову, занимавшему тогда пост начальника советского Генерального штаба, заявил: «Вот человек, который возглавит нашу победоносную Красную армию в войне против Японии, когда Япония нападет на нас»[908]. Единственный раз Сталина видели пьяным, когда он, находясь в крайне расслабленном состоянии, провожал на вокзале министра иностранных дел Японии после подписания 13 апреля 1941 года японо-советского пакта о ненападении.
Теперь Сталин поставил перед собой цель возврата территорий, которые Россия была вынуждена отдать Японии по Портсмутскому договору. Он знал, что в начале текущего года Рузвельт выступил перед Тихоокеанским военным советом (группой послов и глав государств, воюющих с Японией на Тихом океане), точно сформулировав то, что он был намерен передать России:
«Японию следует лишить ее островных владений… которые Россия, имеющая незамерзающий порт в Сибири, желает получить. Маршал Сталин положительно оценивает перспективу превращения порта Далянь в свободный порт для всего мира, имея в виду, что сибирские экспортные и импортные грузы могут направляться через порт Далянь и доставляться на территорию Сибири по Маньчжурской железной дороге беспошлинно. Он согласен, что Маньчжурская железная дорога должна стать собственностью китайского правительства. Он желает возвращения России всего острова Сахалин и передачи России Курильских островов, чтобы иметь возможность осуществлять контроль над проливами, ведущими к Сибири»[909].
Курильская гряда представляет собой цепь из сорока семи островов, протянувшуюся с юга от Хоккайдо, Япония, до русского полуострова Камчатка на севере. Россия уступила Японии Курилы в 1875 году, эти острова контролируют проливы в Охотское море и подступы к восточному побережью России.
Совещание двух руководителей выявило взаимную заинтересованность: США стремились обеспечить вступление России в войну против Японии для сохранения жизни американцев, Советский Союз же стремился вернуть территории, которые Япония захватила в 1905 году, а также Курильские острова. Что столь же важно, обе стороны стремились разрушить мечты Японии об империи. Обе стороны считали не имеющим никакого значения мнение Японии об изменении статуса ее бывших владений: Рузвельт даже в одиночку имел возможности изменить границы, поскольку это было необходимым условием для вступления Советского Союза в войну. Сенат не стал бы относиться к этому так же, как к изменению границ Польши после освобождения ее Красной армией.
Военные планы США предусматривали вторжение в Японию в ноябре. С учетом необходимости организации тылового обеспечения это означало, что Рузвельт и Сталин должны были договориться обо всем без промедления. И действительно, Рузвельт и Сталин уже после Тегерана рассматривали вопрос о вступлении России в войну против Японии. В течение многих месяцев в обстановке секретности в Сибирь шли большие партии американских грузов по ленд-лизу для вооружения Красной армии, которой предстояло сражаться с Квантунской армией.
Рузвельта занимал вопрос: удовлетворится ли Сталин возвратом территорий, утраченных Россией по Портсмутскому договору или он будет добиваться Курильских островов, которые, несомненно, были соблазнительным вариантом? ВМС США обследовали острова, одержимые идеей создать на них базы, пусть даже под эгидой Объединенных Наций, хотя никто не знал, как к этому отнесется Рузвельт.
Рузвельт говорил на Тихоокеанском военном совете, что Сталин хочет получить весь Сахалин и все Курильские острова, но не сказал, что он соглашается со Сталиным в этом вопросе. Но, с другой стороны, к чему защищать интересы Японии? Общественное мнение в США еще не успело успокоиться после бойни на острове Палаван, случившейся шестью неделями раньше: японцы загнали 150 американских военнопленных в траншею на этом филиппинском острове, облили бензином и сожгли заживо. Чудом спасся один солдат, который и рассказал об этом леденящем кровь зверстве.
Сталин ознакомился с добытым советской разведкой документом Госдепартамента, рекомендовавшим не уступать Советскому Союзу ни южной части острова Сахалин, ни южных Курильских островов. Документ встревожил Сталина, он не знал, как к этому отнесется Рузвельт, не знал даже, ознакомился ли с ним президент США. Сталин знал, чего он хочет, но у него не было уверенности, что он это получит. Возможно, и Рузвельт все еще сомневался.
Почему России следовало вступать в войну против Японии? Для этого России надо было пообещать взамен что-либо весьма серьезное. Сталин ни на секунду не сомневался, что Америка сильнее Японии и что вторжение вооруженных сил США на Японские острова является только вопросом времени и планирования. Для военных стратегов США, да и для самого Рузвельта, вовлечение России в войну не было продиктовано острой стратегической необходимостью: это диктовалось исключительно стремлением снизить число потерь при вторжении на острова. Атомная бомба была еще не готова, и ее нельзя было принимать в расчет. Оставалось только для спасения жизни американцев привлечь вооруженные силы России.
У Сталина было несколько причин для вступления в войну: обретение территорий, перспектива получения в будущем помощи и репараций и установление мирных отношений с Америкой. А для реализации всего этого Сталин и Рузвельт нуждались друг в друге.
Теперь на переговорах для Сталина наступил момент истины. Он заявил, что он и посол Гарриман уже согласовали политические условия, по которым он был согласен вступить в войну. Конечно, Рузвельту было известно до мелочей, о чем они беседовали в Кремле 14 декабря. Это он велел Гарриману встретиться со Сталиным и узнать в точности, какой будет его цена вступления в войну, а затем сообщить об этом президенту. Во время этой встречи Сталин принес из соседнего кабинета карту и сказал Гарриману: «Курильские острова и Южный Сахалин должны быть возвращены России». Затем Сталин провел на карте линию вокруг южной части Ляодунского полуострова, включая Порт-Артур и Далянь, и сказал Гарриману, что «Россия снова хочет взять эти порты в аренду вместе с прилегающими территориями… хочет арендовать Китайско-Восточную железную дорогу [в Маньчжурии]… особо он подтвердил свое намерение не вмешиваться в суверенитет Китая над Маньчжурией»[910]. Таким образом, Рузвельт с облегчением узнал, что у Сталина нет притязаний на Монголию, что он намерен оставить Монголию «независимым субъектом». На обдумывание всего этого у Рузвельта было семь недель.
Рузвельт совершенно не заботился об интересах Японии. Зачем ему это надо было делать? В конце концов, Япония как агрессор заслужила отторжение территорий, как этого заслужила и Германия. Безо всякой преамбулы президент дал Сталину свой ответ, сообщив, что внимательно изучил стенограмму беседы Сталина с Гарриманом и что у него нет оснований возражать против передачи России Южного Сахалина и Курильских островов. Что же касается незамерзающего морского порта на Дальнем Востоке, они уже обсуждали эту тему в Тегеране, и он тогда предложил, чтобы Советскому Союзу было предоставлено право использования незамерзающего порта, возможно, порта Далянь. Далее он заявил, что Россия либо возьмет непосредственно у Китая в аренду порт Далянь, либо этот порт получит международный статус порто-франко[911]. Президент добавил, что ему предпочтительнее второй вариант из-за Гонконга: он надеется, что Британия вернет Гонконг под управление Китая и что тот станет международным порто-франко. При этом президент заметил, что Черчилль, безусловно, будет против такого решения.
Сталин не клюнул на приманку в виде Маньчжурской железной дороги, он хотел вернуть статус Транссиба времен Российской империи. Рузвельт ответил, что достичь этого можно двумя путями: взять магистраль в аренду или создать совместную с Китаем компанию.
Сталин решил поставить все точки над «i» и заявил: «Совершенно ясно, что если эти условия не будут выполнены, то советским людям будет сложно объяснить, почему Россия вступает в войну против Японии. Это ведь не война с Германией, которая угрожала самому существованию Советского Союза. Они не поймут, почему Россия должна вступать в войну против страны, которая не сделала им ничего плохого». Рузвельт ответил, что он еще не говорил об этом с Чан Кайши, поскольку любая сказанная китайцам фраза через сутки становится известна всему миру. Сталин заметил, что обсуждать эту тему с Чан Кайши пока нет никакой необходимости. Затем, сменив тему, Сталин заявил: «Неплохо бы оформить все эти условия в виде официального документа, согласованного тремя державами». Рузвельт согласился. Сталин сказал, что вообще не стоит обсуждать этот вопрос с китайцами раньше, чем можно будет снять двадцать пять советских дивизий с фронта в Европе, перебросить их на Дальний Восток. В завершение беседы он заметил, что вопрос о незамерзающем порте для России не составит проблемы и что у него не будет возражений о придании ему статуса международного порто-франко.
Так, в течение нескольких минут, им удалось достичь полного взаимопонимания.
Затем Рузвельт начал обсуждение корейской темы. Он сказал, что «имеет в виду», что представители Советского Союза, Америки и Китая должны учредить опеку над Филиппинами и Кореей, при этом около пятидесяти лет потребуется на подготовку самоуправления на Филиппинах, а на опеку Кореи может потребоваться от двадцати до тридцати лет. Сталин ответил, что чем меньше, тем лучше. Рузвельт, продолжая свою линию на отстранение от политики Британии, коснулся, как он выразился, деликатного вопроса: он не видит необходимости приглашать британцев для участия в опеке над Кореей, «но он чувствует, что это может их серьезно разозлить». Сталин ответил, что, скорее всего, они действительно почувствуют себя оскорбленными: «В сущности, премьер-министр может вообще прекратить с нами отношения». Британцев надо было приглашать.
Затем президент коснулся проблем Индокитая. Он предполагал установление опеки и над полуостровом, хотя знал, что британцы не пойдут на это, поскольку это может оказать влияние на Бирму, часть Британской империи. Рузвельт назвал население Индокитая «малорослым, как яванцы и бирманцы… и не воинственным». Затем он повторил свою мысль, которую много раз намеревался публично озвучить: «Франция ничего не сделала для улучшения жизни населения Индокитая с тех пор, как он стал ее колонией».
Упомянул Рузвельт и де Голля, которого они оба не любили. Президент сказал Сталину, что де Голль просил у него транспортные суда для отправки французских войск в Индокитай. «А где это де Голль собирается взять войска?» – поинтересовался Сталин. Рузвельт сослался на де Голля, который якобы сказал, что если он сможет найти морской транспорт, то найдет и войска. А затем добавил: «До сегодняшнего дня я так и не смог найти ему транспортные суда».
Затем Рузвельт заговорил о Китае: «В течение некоторого времени мы пытаемся помочь Китаю выжить». Сталин сухо заметил, что никто не мешает Китаю выжить. Тем не менее затем он заметил, что этой стране нужны новые лидеры наряду с Чан Кайши и что, хотя в партии Гоминьдан[912] есть вполне достойные люди, он не понимает, почему они предпочитают оставаться в тени. Президент сообщил Сталину о предпринятых им шагах: генерал Альберт Ведемейер и генерал Патрик Херли, новый посол США, «достигли прогресса в деле включения коммунистов севера в правительство в Чунцине». Он фактически согласился со Сталиным в том, что китайцам не хватает сильного руководства: «И вина в этом лежит скорее на партии Гоминьдан и чунцинском правительстве, чем на так называемых коммунистах». Сталин ответил, что ему непонятно, почему они не объединяются и не выступают единым фронтом против японцев. «Чан Кайши следует взять на себя больше власти». Сталин не отдавал предпочтения никому из китайцев: ни Мао Цзэдуну, ни Чан Кайши. Он даже как-то, по свидетельству секретаря Гарримана Роберта Мейкльджона, назвал китайских коммунистов «маргариновыми коммунистами»[913].
На этом беседа завершилась. Они уже превысили регламент времени. Вся эта встреча, на которой каждое произнесенное слово обязательно дублировалось переводчиками, продолжалась чуть более получаса. За столь короткое время оба лидера довольно успешно разрешили очень непростые проблемы, связанные с Дальним Востоком. Согласно протоколу беседы, который вел Болен, ни Молотов, ни Гарриман во время встречи не произнесли ни слова.
Когда адмиралу Кингу, главнокомандующему военно-морскими силами США, сообщили о том, что русские совершенно точно вступят в войну против Японии, он с облегчением вздохнул и произнес: «Мы только что спасли жизни двум миллионам американцев»[914].
Глава 15 Урегулирование вопросов
В это утро в Воронцовском дворце на встрече министров иностранных дел под председательством Идена Стеттиниусу удалось убедить Идена и Молотова в том, что президент Рузвельт хочет, чтобы учредительная конференция ООН состоялась практически сразу же (не позднее второй половины апреля): в Америке такое решение поддержат и официально одобрят.
Пятое пленарное заседание открылось с некоторым опозданием, в 16:15. Рузвельт, довольный итогами совещания министров иностранных дел, начал заседание с поздравления министров и дал слово Идену как председателю их совещания для оглашения их решения. Иден объявил, что, идя навстречу пожеланию президента, они назначили датой проведения учредительной конференции ООН 25 апреля, а местом проведения – США. По вопросу о членстве у министров возник щекотливый вопрос: они рекомендовали пока пригласить на конференцию только представителей государств, которые поставят свои подписи под Декларацией Объединенных Наций до закрытия Ялтинской конференции, а в дальнейшем, при созыве конференции, эти представители составят список членов – учредителей ООН. В то же время делегаты от Великобритании и Соединенных Штатов были готовы поддержать предложение о допуске в качестве членов – учредителей ООН еще двух советских социалистических республик.
Сталин коснулся вопроса, который в будущем мог вылиться в проблему: десять будущих членов-учредителей не имели дипломатических отношений с Советским Союзом. Он полагал странным для СССР сотрудничать с государствами, не желавшими иметь с Советским Союзом дипломатических отношений, в создании всемирной организации по безопасности на планете. Какой же был выход?
Рузвельт ответил, что большинство этих государств хотели бы иметь с СССР дипломатические отношения, «но пока не имели возможности что-либо предпринять для этого». В какой-то мере, предположил президент, здесь имело место влияние католической церкви, которое президент назвал «очень сильным». (Католическая церковь была источником постоянных тревог и для президента. Официальная католическая враждебность в отношении любого коммунистического государства грозила Рузвельту тем, что избиратели-католики на востоке Америки могли проголосовать на выборах против него и его политики[915].) Франклин Рузвельт сказал Сталину, что СССР участвовал вместе с этими странами в конференции в Бреттон-Вудсе и в конференции по созданию Администрации помощи и восстановления Объединенных наций (ЮНРРА). На это Сталин возразил: речь шла о принципиально иной конференции, поскольку ее участникам предстояло рассмотреть жизненно важный вопрос создания системы мировой безопасности.
Далее Рузвельт разъяснил ситуацию с государствами Южной Америки: Самнер Уэллс в свое время сказал шести таким странам, что разрыва отношений со странами гитлеровской коалиции будет вполне достаточно. По правде говоря, добавил президент, тут Уэллс допустил ошибку: он не порекомендовал им объявить войну вместо простого разрыва отношений. Рузвельт направил письма президентам этих шести стран, требуя, чтобы они объявили войну, и Эквадор именно так и поступил.
Вслед за этим Сталин заговорил об Аргентине: «Я не заступаюсь за аргентинцев, они вообще мне не нравятся. Однако я и в самом деле хочу, чтобы в этом вопросе не было никаких логических противоречий. Государства, которые объявили войну Германии, чувствуют себя не слишком уверенно с государствами, которые не объявляли войны, а прикидывали: а кто эту войну выиграет? Они вообще старались ходить в политике кривыми путями»[916].
Рузвельт ответил, что это была его идея: пригласить только те ассоциированные государства, которые обещали объявить войну. Сталин поинтересовался: когда же они это сделают? «Немедленно, – ответил президент. – Дадим им срок».
– Допустим, первого марта.
– Хорошо, пусть будет первого марта.
Затем разговор зашел о Турции и Египте: можно ли будет их принять, если они объявят войну 1 марта? Последовал ответ: «Да».
Рузвельт заявил, что вопрос об Украине и Белоруссии будет представлен участникам конференции и что все три великие державы согласились поддержать предоставление им членства. Сталин выразил беспокойство по поводу того, что это решение может оказаться заблокированным, и предложил, чтобы обе республики подписали Декларацию ООН. Молотов спросил, смогут ли стать эти две советские республики странами – членами Ассамблеи, если они тоже поставят свои подписи к 1 марта. Черчилль эту идею поддержал, упомянув о «жертвах и страданиях Украины и Белоруссии». Рузвельт пояснил, что вообще-то это сугубо технический вопрос, они обсуждают, какие новые государства следует внести в список, а здесь речь идет о предоставлении великой державе трех голосов вместо одного. Это вопрос, который надо было решить до будущей конференции, ведь все три великие державы согласились с этим. Сталин вновь уточнил: есть ли необходимость в том, чтобы Украина и Белоруссия подписали Декларацию ООН? Рузвельт в третий раз повторил: это не позволит решить проблему. После этого Сталин заявил, что в таком случае он отзывает свое предложение.
Утром президент со своим штабом работал над предложениями Молотова в отношении Польши, затем отправил документ с внесенными правками Идену и Молотову. Правки не слишком меняли предложения Молотова, тем не менее он хотел, чтобы Молотов высказался по поводу внесенных изменений.
Суть предложения Рузвельта заключалась в следующем:
«1. По пункту один («границей Польши на востоке должна быть «линия Керзона» с отклонением от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу Польши») возражений нет.
2. Нет возражений по западной границе, проходящей от г. Штеттин до рубежа реки Одер, но, «как предполагается, с небольшим выравниванием протяженности западной границы Польши до западной части реки Нейсе».
3. Относительно будущего правительства Польши предлагается, чтобы Молотов, Гарриман и Кларк Керр получили право пригласить в Москву г-на Берута, г-на Осубку-Моравского, епископа Сапегу, г-на Винсенты Витоса, г-на Миколайчика и г-на Грабского для формирования правительства согласно указанному ниже порядку.
4. Трое из вышеупомянутых лиц, представляющие президентскую администрацию Республики Польша, осуществят формирование правительства, состоящего из представительных лидеров действующего Временного польского правительства в Варшаве, из других демократических элементов в самой Польше и из числа польских демократических лидеров за рубежом.
5. Это переходное правительство обязуется провести свободные выборы сразу же после того, как конституционное собрание учредит новую конституцию Польши.
6. Правительства трех держав после формирования правительства приступят к согласованию вопроса о его признания в качестве Временного польского правительства»[917].
Молотов начал с последнего пункта: будет ли это означать, что в таком случае лондонское правительство уйдет с политической сцены? Черчилль ответил: «Да». Сталин поинтересовался, какова тогда будет судьба имущества и денежных средств лондонского правительства. Черчилль заверил его, что при отмене признания данного правительства об этом будет принято соответствующее решение. Рузвельт согласился: имущество должно быть передано новому правительству.
После этого объявили короткий перерыв, в течение которого присутствующим были поданы чай, кофе и легкие закуски.
После перерыва Молотов продолжил польскую тему. Он сказал, что принятые накануне предложения опирались на определенные реалии. Советское правительство полагает полезным обсудить вопрос в контексте расширения правительства, учитывая, что люблинское (оно же варшавское) правительство «стоит во главе польского народа и пользуется высокой репутацией и широкой популярностью… Мы могли бы добиться определенных успехов, если бы начали с того, что действующее правительство следует расширить… Люди, входящие сейчас в состав Временного польского правительства, имеют прямое отношение к великому делу освобождения Польши, но господа Миколайчик, Грабский и Витос совершенно не имели к этому никакого отношения». Далее он сказал, что эти соображения относятся не только к новому правительству, но и к будущему комитету при президенте. Дополнительные сложности могут возникнуть при создании комитета при президенте в связи с тем, что уже существует Национальный совет, который, безусловно, может быть расширен.
Что касается вопроса границ, то Молотов был рад отметить полное согласие сторон по восточной границе, хотя по западной пока еще не было достигнуто единого мнения. Временное правительство считало, что западная граница должна быть установлена согласно советским предложениям.
Молотов не исключил возможности привлечения в правительство некоторых поляков из-за границы, но у него не было уверенности по поводу кандидатуры Миколайчика. Президент предложил пять кандидатов, было бы неплохо пригласить трех членов Временного правительства (Болеслава Берута, Эдуарда Осубку-Моравского и генерала Михала Роля-Жимерского) и еще двоих из списка президента.
Рузвельт спросил, не имеет ли Молотов в виду, что от создания комитета при президенте следует отказаться?
Молотов ответил, что лучше было бы отказаться от комитета при президенте и расширить Национальный совет и Временное правительство. Он, Гарриман и Кларк Керр могли бы обсудить вопрос, как расширить Национальный совет и Временное правительство, добавив туда трех представителей из Временного польского правительства и еще двух из списка президента.
Последовавшее затем выступление Черчилля было ярким и убедительным. Он заметил, что сейчас конференция вступила в очень ответственную фазу своей работы: «Мы можем столкнуться с тем, что в мире нас не поймут, если мы разделимся и признаем разные правительства Польши… Если британское правительство отстранит лондонское правительство и признает люблинское, по Великобритании прокатится волна протестов… У нас нет особых симпатий к польскому правительству в Лондоне, которое, по моему личному мнению, натворило немало глупостей… Но если поставить крест на лондонском правительстве, должно быть очевидно, что следует начать все сначала на равных условиях для обеих сторон»[918].
Президент заметил, что все уже согласились с необходимостью свободных выборов; остается только решить, как будет управляться Польша до выборов. Обратившись к Сталину, он добавил, что правительство, о составе которого идут сейчас такие споры, будет управлять страной очень непродолжительный период.
Сталин ответил, что он может заверить участников конференции в том, что люди, входящие в правительство, очень популярны в стране. «Три лидера… не покидали Польши, они оставались в Варшаве и вышли из подполья… Что важнее всего сейчас для народа Польши? Это великое событие, освобождение Красной армией их страны… Многие годы поляки ненавидели русских, и у них были для этого причины: трижды в истории царское правительство участвовало в разделе Польши… Освобождение Польши изменило отношение, и от былых обид не осталось следа… Изгнание Красной армией немцев поляки восприняли как великий национальный праздник». Затем, отвечая на обеспокоенность Черчилля, Сталин продолжил: «У нас другие сведения, поэтому, думаю, лучше всего было бы пригласить поляков из разных лагерей и узнать истину из первых рук. Почему мы не можем иметь дело с расширенным правительством Польши? По-моему будет лучше поработать над вопросом о реорганизации Временного правительства, чем пытаться создать новое».
Рузвельт спросил, сколько может пройти времени до того, когда можно будет провести в Польше выборы. Сталин ответил, что это может стать возможным уже через месяц, если, конечно, на фронте не случится какой-нибудь катастрофы и немцы не начнут одерживать верх. На этой оптимистичной ноте Рузвельт закрыл обсуждение, предложив передать вопрос на рассмотрение министров иностранных дел, с чем все согласились. Пленарное заседание закончилось в 19:40.
У Рузвельта оставалось пятьдесят минут, чтобы передохнуть и переодеться перед тем, как поехать в Юсуповский дворец в Кореизе, где Сталин давал обед в его честь. С Рузвельтом вместе отправились Стеттиниус, Лихи, Бирнс, Гарриман, Флинн, Анна Беттигер, Кэтлин Гарриман и Болен. Когда они прибыли в Юсуповский дворец, то, к своему удивлению, обнаружили там среди гостей начальников генеральных штабов Великобритании и России. Несмотря на отсутствие (из-за проблем со связью) представителей американского командования, вечер во многих отношениях стал ярким событием конференции.
За столом почти сразу же возникла теплая товарищеская атмосфера. Стеттиниус вспоминал: «До ужина, когда у нас было небольшое застолье с водкой и икрой, Молотов подошел ко мне и спросил: «Мы уже договорились о дате проведения учредительной конференции [ООН], вот только где она будет проходить?»[919] Стеттиниус вместе с президентом подыскивал где-нибудь в Америке подходящее место. Обсуждались многие города, которые потом отвергались по той или иной причине. Стеттиниус накануне лег спать около трех часов ночи в твердой уверенности, что таким местом будет Сан-Франциско. В полдень он консультировался по этому поводу с Рузвельтом, и тот ответил лишь: «Что ж, это самое интересное предложение».
«А теперь, – вспоминал Стеттиниус, – я пересек комнату, подошел к господину Рузвельту, который все еще сидел в своем небольшом складном кресле на колесах, нагнулся к нему и спросил: “Молотов требует от меня, чтобы я назвал место проведения конференции. Готовы ли мы назвать Сан-Франциско?“ Президент ответил: “Валяйте, Эд. Пусть будет Сан-Франциско“. Я вернулся к Молотову и сообщил ему, что господин Рузвельт только что утвердил Сан-Франциско местом проведения конференции. Молотов подозвал Идена, мы встали у горящего камина в Крыму и выпили водки в присутствии Рузвельта, Черчилля и Сталина за успех конференции в Сан-Франциско, которой предстояло открыться 25 апреля, всего одиннадцать недель спустя».
Ужин был грандиозным. На входе в столовую стояли две огромные пальмы, а над входом красовалось гигантское, во всю стену окно в форме полукруга. «Было огромное количество еды, тридцать восемь произнесенных тостов и множество комаров под столом»[920], – печально писал в своем дневнике адмирал Лихи. Ужин, начавшийся в девять вечера, состоял из двадцати дорогостоящих роскошных блюд, под которые было поднято (по другим данным) сорок пять тостов.
Сталин был необычно весел, он находился в приподнятом настроении. В качестве хозяина он сидел в середине обеденного стола пятнадцатиметровой длины с президентом США по правую руку и с Черчиллем по левую. Напротив сидели Молотов, Иден и Стеттиниус.
Сталин начал с тоста за Черчилля, назвав его самым отважным в мире государственным деятелем, руководившим борьбой с нацистами, когда Англия еще вела такую войну в одиночку. Сталин сказал, что ему известно немного примеров в истории, когда личное мужество одного человека имело бы такое важное значение для его страны. Потом он произнес тост за президента Рузвельта: пусть даже его страна не подверглась прямой опасности, он смог мобилизовать мир на борьбу с Гитлером. В ответном тосте Франклин Делано Рузвельт воспользовался случаем снова упомянуть о своей цели добиться всеобщего мира. Он отметил, что атмосфера на ужине была почти семейной, что каждый из них трудился по-своему в интересах своего народа, но их общей целью было обеспечить каждому мужчине, каждой женщине и каждому ребенку на земле возможность жить в безопасности и довольстве.
Впоследствии Гарриман говорил, что он никогда не видел Сталина в такой великолепной форме. «Медведь прямо источал дружелюбие», – вторила ему Сара Черчилль. Кэтлин Гарриман тоже посчитала его поистине необыкновенным человеком: «Он упивался собой, был великолепным хозяином, а его речи всегда были значительнее простых банальностей»[921]. По словам Кэтлин, Сталин временами даже «выглядел расслабленным, добродушно улыбался, как безобидный старичок, каким я даже не могла его себе представить». Более того, он даже пожурил себя за словоохотливость, вдруг назвав себя «старым болтуном». Он поддразнил посла Гусева за угрюмое выражение лица: «Он, конечно, мрачный старик, но мрачные люди бывают надежнее, чем располагающие к себе с первого взгляда».
«Он поднял тост за Черчилля как за великого лидера, который принял на себя бремя власти, когда Англия сражалась без союзников, – вспоминала Кэтлин. – А филиппику в адрес президента даже трудно пересказать. Он говорил об Америке, которая была очень далека от войны, и о ее лидере, который подготовил ее к этой войне. Он говорил о союзниках в войне и о союзниках в мирное время, о том, что союзники обманывают друг друга, только если им кажется, что это сойдет им с рук. Что обман среди равных недопустим»[922].
Во время ужина Рузвельт заметил Берию, отвечавшего за безопасность на конференции, который до сих пор не появлялся на встречах лидеров. И спросил Сталина: «Кто этот человек в пенсне напротив посла Громыко?»
«А, этот… Это – наш Гиммлер… Это Берия»[923], – ответил Сталин достаточно громко, чтобы эти слова мог услышать Берия, отчего президент почему-то почувствовал неловкость.
Стеттиниус потом вспоминал, что во время ужина Рузвельт вдруг закашлялся «и не мог говорить… Это длилось довольно долго. Это было что-то нервное»[924]. Возможно, этот приступ спровоцировала именно реплика Сталина. В какой-то момент Сталин поднял тост за напряженно работавших переводчиков, «кто трудился, пока мы тут развлекались». Болен тут же подхватил этот тост, перефразировав строку из «Манифеста Коммунистической партии»: «Переводчики всех стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме своих хозяев»[925]. Сталин улыбнулся, встал из-за стола, подошел к Болену, чокнулся с ним и поздравил с остроумным тостом.
Выступление Сталина в необычной роли доброго и ласкового человека было мотивировано выбранным стилем поведения в отношении президента США: один из очевидцев отмечал, что он «довольно часто» оставлял свое место, чтобы одобрительно похлопать президента по спине[926].
Сталин даже продемонстрировал свою склонность к философии: «История хранит в памяти немало встреч государственных деятелей после окончания любой войны. Когда замолкают пушки, кажется, что война заставила политиков поумнеть, и они говорят друг другу, что хотят жить в мире. Потом проходит немного времени, и, несмотря на все их взаимные заверения, вдруг вспыхивает новая война. Почему это? Да потому, что некоторые из них изменили свои позиции после достижения мира. Мы должны постараться, чтобы в будущем с нами такого не случилось»[927].
Рузвельт ответил: «Полностью с вами согласен. Народы могут только быть благодарны вам за ваши слова. Мир – это все, чего они хотят».
«У нас было ощущение, что мы находимся в центре исторического события и что установить в мире справедливость нам вполне по силам», – вспоминает Громыко.
Бирнс поднял тост «за народы наших стран, рабочих на фермах и на заводах, за тех, кто не носил военную форму, но чей труд сделал возможными наши победы»[928]. Тост настолько понравился Сталину, что он встал, подошел к Бирнсу и, как писал Бирнс позднее, «чокнулся своим бокалом с моим, как бы одобряя сказанное. Это правда, он очень обаятельный человек».
Ужин продолжался до часа ночи, по одним источникам, и до двух часов ночи, по другим сведениям. Этот день был долгим и очень плодотворным. После ужина Сталин, несомненно, встретился со своими маршалами, узнал о действиях Красной армии и отдал новые приказы. Рузвельт же уехал в свою резиденцию спать.
Пятница, 9 февраля
Франклин Рузвельт начал этот день с встречи со Стеттиниусом для обсуждения вопроса о Польше, посоветовав ему отказаться от идеи комитета при президенте и представить на пленарном заседании компромиссный вариант документа.
В 11:00 состоялось совещание президента и представителей ОКНШ ВС США с Черчиллем и представителями Комитета начальников штабов ВС Великобритании, на котором заслушали последний отчет Объединенного комитета начальников штабов США и Великобритании о положении на разных театрах военных действий. Черчилль высказал мнение о том, что России следовало бы присоединиться к ним в деле предъявления Японии ультиматума о безоговорочной капитуляции: это могло бы побудить Японию запросить смягчения условий при принятии ультиматума. Рузвельт сказал, что сомневается, что это произведет на Японию какое-либо воздействие: японцам все еще казалось, что они смогут договориться об удовлетворяющем их компромиссе и поэтому «вряд ли осознают свое положение, пока все их острова не испытают на себе полную мощь авианалетов»[929]. Президент, Черчилль и Маршалл согласились с расчетами ОКНШ, которые упрощали решение существовавших до сих пор проблем, и договорились, что их штабам следует и впредь продолжать тесное взаимодействие.
Громыко утром провел консультации со Сталиным. У штаба Рузвельта имелся текст соглашения по Дальнему Востоку, который Рузвельт и Сталин разработали накануне днем. Сталин поручил Громыко перевести этот документ. Громыко перевел и представил перевод Сталину. Громыко вспоминал: на Сталина документ произвел сильное впечатление: «Этим письмом Сталин остался весьма доволен. Несколько раз он прошелся с ним по комнате, как будто не желал выпускать из рук то, что получил. Он продолжал держать письмо в руке и в тот момент, когда я от него уходил»[930].
Рузвельт пригласил Черчилля на ланч, поданный, как всегда, филиппинскими поварами в столовую апартаментов президента. Рузвельт опять захотел, чтобы ланч прошел в неофициальной обстановке и пригласил всех трех дочерей: Сару Оливер, Анна Беттигер и Кэтлин Гарриман, а также Лихи и Бирнса. Состоялась непринужденная беседа, начатая Бирнсом, о возможности предоставления Пуэрто-Рико, Гавайям и Аляске голосов на Генеральной Ассамблее. Эти идеи Рузвельт счел несерьезными.
В полдень в Ливадийском дворце состоялась очередная встреча министров иностранных дел под председательством Стеттиниуса. Он начал с того, что, подумав, согласился с позицией Молотова, высказанной накануне, о необходимости отказаться от идеи создания комитета при президенте. Следуя указаниям Рузвельта найти общие точки соприкосновения, он продолжил, что британское «Временное правительство», американское «Правительство национального единства» и советское «Временное польское правительство» согласны, что новое правительство следует сформировать из членов действующего Временного польского правительства, дополненного членами других демократических групп в Польше и некоторыми польскими лидерами за рубежом.
Иден поставил под сомнение популярность люблинского правительства среди населения страны, вступился за репутацию и права Миколайчика, которого поддерживал британский народ, и упомянул о том, что в составе британской армии с немцами сражаются 150 тысяч поляков.
Молотов ответил, что Россия хочет как можно скорее провести всеобщие выборы и устранить все существующие до сих пор препятствия. Сталин говорил, что на подготовку страны к выборам уйдет месяц, премьер-министр – что два месяца. Однако непосредственно сейчас возникла проблема с тылом Красной армии: там отмечалась диверсионная деятельность. Могла возникнуть недопустимая ситуация, в связи с чем он и предложил реорганизацию на основе действующего люблинского правительства с добавлением демократических элементов, находящихся в стране и за рубежом. Что же касается Миколайчика, то пусть это решают сами поляки.
Иден сказал, что если выборы будет контролировать люблинское правительство, то они не будут свободными. Стеттиниус заметил, что он полностью поддерживает точку зрения Идена. Молотов прочитал перевод американского предложения и сказал, что ему надо посоветоваться со Сталиным. Иден и Молотов продолжили спорить о люблинском правительстве, которое являлось альтернативой более представительному органу власти.
Стеттиниус предложил, что до тех пор, пока министры не откажутся от термина «действующее правительство Польши», достичь согласия не удастся. Поскольку в этом вопросе стороны явно зашли в тупик и дальнейшие аргументы уже не воспринимались, Стеттиниус предложил представить отчет на пленарной сессии только по сложившейся ситуации: достичь согласия в этом вопросе им не удалось.
Затем они обсудили принципы регулирования репараций. Майский предлагал, чтобы московская комиссия приняла сумму 20 миллионов[931] долларов США в качестве базовой для необходимой проработки и оценки. Иден возразил, что премьер-министр категорически против объявления цифр.
Стеттиниус предложил пока не упоминать суммы, а просто объявить, что 50 процентов всей суммы будет направлено Советскому Союзу. Молотов не стал возражать против этого предложения.
* * *
Председатель ОКНШ ВС США и начальник Генерального штаба ВС СССР также встретились в Ливадийском дворце. Они обсуждали только одну тему: координацию предстоящего вторжения русских и американских вооруженных сил на Японские острова. Они легко пришли к решению: в отличие от совещания министров иностранных дел, у них не возникло ни разногласий, ни споров.
Генерал Антонов пояснил, что в планы, разработанные в октябре совместно с Гарриманом и Дином в Москве, он внес лишь незначительные изменения. Он изложил список советских нужд, а также планы и ответы на вопросы американской стороны:
«a) Основное изменение, о котором он счел нужным доложить, заключалось в том, что некоторые части, которые по плану должны уже были передислоцироваться на Дальний Восток, пока еще остаются на передовой русского фронта, поэтому возникает отставание от графика.
б) Необходимо разработать конкретные маршруты поставок (морем и по воздуху) для снабжения войск продовольствием и топливом после начала боевых действий.
в) ВВС США могут безотлагательно начать боевые операции из района Комсомольск – Николаевск.
г) Желательна помощь США для защиты Камчатки в связи со слишком протяженными коммуникациями до мест концентрации советских военных ресурсов.
д) Необходимо проведение подготовительных работ до начала боевых действий, включая строительство хранилищ и хранение товарных запасов США в Восточной Сибири для частей американских ВВС.
е) До последнего момента отложить разведполеты в зоне от Фербенкса до Камчатки, поскольку они будут визуально контролироваться японцами.
ж) Советский Союз установит контроль над Южным Сахалином без поддержки вооруженных сил США. Это будет одной из первых боевых операций, в результате которых будет открыт пролив Лаперуза.
з) Генерал Антонов заверяет генерала Маршалла, что совместное планирование армий двух стран “будет проведено энергично“.
и) Просьба США о развертывании дополнительных метеостанций удовлетворена».
В ответ на вопрос генерала Маршалла генерал Антонов заявил, что СССР уже перебрасывает предметы материально-технического обеспечения, топливо и прочие грузы. По завершении боевых действий в Германии переброска будет ускорена. Затем Маршалл спросил, сколько дивизий в неделю можно будет перебросить из Германии на японский фронт? Антонов ответил, что на все уйдет три месяца. Завершая совещание, все генералы выразили удовлетворение «свободным, откровенным и четким обменом информацией между военными штабами России и Америки»[932].
Шестое пленарное заседание началось в 16:00.
Заседание открыл Франклин Рузвельт, тут же попросив Стеттиниуса доложить об итогах совещания министров иностранных дел. Стеттиниус сообщил, что американское предложение о создании комитета при президенте Польши отозвано, что Молотов представил на рассмотрение Сталину новые американские соображения и что трем министрам иностранных дел пока не удалось договориться по этому вопросу.
Выступивший затем Молотов сказал, что они были крайне заинтересованы в том, чтобы прийти к согласию. Он предложил внести изменения в первую строку предложения Стеттиниуса, которая гласила:
«Нынешнее Временное польское правительство будет реорганизовано в полностью представительное правительство на основе демократических сил Польши и включения демократических деятелей за пределами Польши и будет называться Временным правительством национального единства»[933].
Вариант Молотова был следующим:
«Нынешнее Временное правительство Польши должно быть реорганизовано на широкой демократической основе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы, в этой связи такое правительство будет называться Национальным временным правительством Польши»[934].
Он также предложил аннулировать предложения, дающие трем послам право наблюдать за выборами и комментировать выборы, на том основании, что это будет оскорбительным для польского народа.
Черчилль призвал Рузвельта не торопиться с принятием решений по Польше, заявив, что поспешность может привести к серьезной ошибке.
Затем Рузвельт предложил, чтобы Стеттиниус закончил доклад, после чего объявил получасовой перерыв для обсуждения предложенных Молотовым изменений. Стеттиниус вкратце изложил ход дискуссии по репарациям. Затем он коснулся темы, которую, по его словам, как-то упустили из виду: в Думбартон-Оксе было решено, что пять государств, имеющих статус постоянных членов Совета Безопасности, должны консультироваться друг с другом по вопросам установления опеки и подмандатных территорий. Услышав последние слова, Черчилль внезапно перебил его и в приступе крайнего раздражения произнес речь, которую владеющий стенографией Джеймс Бирнс записал дословно и позднее процитировал в своей книге «Откровенно говоря» (“Speaking Frankly”): «Я абсолютно не согласен. Я не допущу, чтобы от британской территории кто-то пытался отнять хоть клочок земли. После того как мы сделали все возможное для борьбы в этой войне и при этом ни перед кем не совершили преступлений, я не стану предлагать, чтобы Британскую империю выставили на помост и чтобы каждый подходил и проверял, соответствует ли она его стандартам».
По свидетельству Гопкинса, Черчилль закончил следующими словами: он никогда и ни при каких обстоятельствах не согласится с тем, чтобы кто-то в ООН получил право лезть грязными руками в самое сердце Британской империи, и шепотом повторил: «Никогда. Никогда. Никогда»[935].
Вспышка Черчилля так позабавила Сталина, что он встал с кресла, походил по залу и даже несколько раз похлопал в ладоши[936]. Рузвельт пытался остановить британского премьера: «Я хотел бы, чтобы г-ну Стеттиниусу все же дали возможность закончить чтение документа». Черчилль начал затихать только после того, как Стеттиниус вкрадчивым голосом пояснил, что затронутая тема не имеет никакого отношения к Британской империи, она касается исключительно японских подмандатных территорий в Тихом океане. Все еще не до конца успокоившийся Черчилль вдруг спросил Сталина, как он отнесся бы к предложению превратить Крым в международный летний курорт. Сталин ответил, что был бы только рад отдать Крым под постоянное место встреч представителей трех великих держав.
Затем был объявлен короткий перерыв, во время которого участникам предложили чай, кофе и легкие закуски.
После перерыва Рузвельт явно поставил перед собой задачу найти общую почву, на которой сторонам удастся прийти к согласию. Он сказал:
«Я вижу, что теперь проблема заключается, главным образом, в этимологии. А ведь мы близки к согласию, как никогда прежде. Я уверен, что есть шанс достижения фактического согласия по разрешению вопроса, касающегося временной паузы до проведения поляками выборов. Я предлагаю изменить эти слова [поправку Молотова] на «Временное польское правительство, ныне функционирующее в Польше». Господин Молотов предлагает убрать последнюю фразу. Я полагаю, что все же надо как-то указать, что это будут честные выборы… Впрочем, если три министра немого поработают сегодня вечером… думаю, что этот вопрос можно будет разрешить»[937].
Гениальный Франклин Рузвельт прекрасно понимал, что оба его партнера находятся под его влиянием, что ему легко удастся заставить их видеть вещи его глазами. Когда он сказал, что они как никогда близки к согласию, он побудил их обратить внимание на вопросы, по которым возможно будет договориться, отвлекая их от вопросов, по которым согласие недостижимо.
Затем последовала долгая беседа Черчилля со Сталиным. Черчилль отметил, что ему известно о разочаровании поляков и даже о ругани Осубки-Моравского в адрес лондонского правительства, что ему понятно, почему люблинское правительство заявило о своем намерении отдать под суд как предателей членов польской Армии Крайовой. Черчилль добавил, что такие разговоры порождают в обществе тревогу и растерянность и что ему кажется целесообразным направить наблюдателей на выборы. Сталин согласился, что даже среди очень хороших людей в Польше идет борьба мнений, а потом произнес слова, которые найдут отклик гораздо позднее: «Миколайчик представляет крестьянскую партию. Крестьянская партия – это не фашисты, и, конечно же, она примет участие в выборах. Ее кандидатам будет разрешено баллотироваться»[938].
Захотел вставить в этот диалог свое слово и Рузвельт. Он сказал, что выборы – это самое главное. И хотя маршал Сталин прав в том, что между поляками идет свара, ему как президенту хотелось бы заверить шесть миллионов американских поляков, что выборы и в самом деле будут свободными.
Еще в начале сессии между участниками была распространена Декларация об освобожденной Европе. Этот документ, первоначально разработанный Госдепартаментом с исправлениями, внесенными Стеттиниусом и Рузвельтом, утром был одобрен на совещании министров иностранных дел. Это был впечатляющий документ со ссылкой на Атлантическую хартию – на право всех народов самим выбирать форму государственного управления, под которым им предстоит жить.
Сталин заявил, что ему хотелось бы внести в документ совсем небольшое изменение – добавить в него только одно предложение: «Поддержка будет оказываться политическим лидерам тех стран, которые принимали активное участие в войне против немецких оккупантов».
Президент заметил, что на сегодняшнем обсуждении была впервые рассмотрена Декларация, в которую вошла фраза «создавать демократические институты по своему собственному выбору». Далее, в следующем параграфе (3), содержится предложение «сформировать переходные правительственные органы, широко представляющие все демократические элементы населения, и в самые короткие сроки путем свободных выборов обеспечить создание правительств, которые отвечали бы волеизъявлению народа»[939].
Сталин ответил: «Третий параграф мы принимаем».
По этому случаю президент привел свое знаменитое сравнение: «Я хочу, чтобы выборы в Польше не оставили недоуменных вопросов. Они должны быть так же вне подозрений, как жена Цезаря. Я не знавал ее, но она была чиста». Сталин не упустил возможности язвительно заметить: «Это о ней только так говорят, а на самом деле и у нее были свои грешки». Рузвельт не поддался на провокацию, а вместо этого ответил: «Я не хочу, чтобы у поляков остались вопросы после выборов. Вопрос не в принципах, а в практической политике».
Рузвельт предложил в изложении формулировки последнее слово оставить за министрами иностранных дел. Но пока им предстояло это сделать, Сталин предложил компромиссный вариант: убрать слово «нынешнее» из словосочетания «нынешнее Временное правительство» и заменить его словосочетанием: «Польское правительство, действующее в Польше».
Черчилль, который все еще не оправился от потрясения при упоминании слова «опека», согласился с декларацией, «…поскольку в ней четко говорится, что ссылка на Атлантическую хартию не применяется к Британской империи». Потом он объяснил, что столкнулся с толкованием (ошибочным) Атлантической хартии: она якобы касается и Британской империи, – и он даже отправил телеграмму об этом Уэнделу Уилки. Тут уже не смог удержаться от смеха Рузвельт: «И что? Это его убило?»
Последнее слово по Польше осталось за Молотовым. Он предложил добавить в документ следующую фразу: «И будут оказаны меры широкой поддержки странам, которые принимали активное участие в войне против немецкой оккупации».
Затем Черчилль предложил подготовить списки военных преступников и разработать процедуру их судебного преследования. Рузвельт ответил, что он не готов к обсуждению этого вопроса. Через несколько минут президент объявил перерыв.
* * *
Рузвельт, Черчилль и Сталин отправились в свои резиденции. Президент провел рабочий ужин, на котором присутствовали: генерал Джон И. Халл, глава отдела планирования военных операций на Дальнем Востоке; генерал Кутер, назначенный командующим ВВС на Тихом океане; адмирал Лихи и вице-адмирал К. М. Кук. После ужина Рузвельт просматривал почту, поступившую в Белый дом и доставленную курьером во время пленарного заседания. Исходящая почта президента должна была уйти в Вашингтон на следующее утро.
Тройка министров иностранных дел, которым Рузвельт поручил обсудить нерешенные вопросы по Польше, собралась в Юсуповском дворце в 22:30 под председательством Молотова. Иден заявил, что его правительство не одобряет формулировку Молотова (так теперь стали называть предложенное заявление), а Молотов возражал против формулировки Идена. Оставалось только обсудить американскую формулировку с внесенными поправками и словами, предложенными премьер-министром. Состоялась долгая, хотя и, по словам Болена, дружественная дискуссия.
В конце концов был согласован текст следующего содержания:
«Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения ее Красной армией. Это требует создания Временного польского правительства, которое имело бы более широкую базу, чем это было возможно ранее, до недавнего освобождения западной части Польши. Действующее ныне в Польше Временное правительство должно быть поэтому реорганизовано на более широкой демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. Это новое правительство должно будет называться Польским временным правительством национального единства.
Молотов, г-н В. А. Гарриман и сэр Арчибальд К. Керр уполномочиваются, как Комиссия, проконсультироваться в Москве в первую очередь с членами теперешнего Временного правительства и с другими польскими демократическими лидерами как из самой Польши, так и из-за границы, имея в виду реорганизацию теперешнего правительства на указанных выше основах. Это Польское временное правительство национального единства должно принять на себя обязательство провести свободные выборы, без каких-либо препятствий, в максимально сжатые сроки, на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании. В этих выборах все антинацистские и демократические партии должны иметь право принимать участие и выставлять кандидатов.
Когда Польское временное правительство национального единства будет сформировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, правительства трех держав признают его».
Несмотря на то что Болен назвал это обсуждение дружеским, на самом деле таким оно не было. Стеттиниус предлагал дополнить текст следующим предложением: «На послов трех держав в Варшаве после официального признания возлагается обязанность наблюдать и информировать свои правительства об исполнении обещания провести свободные, без каких-либо препятствий, выборы». Молотов категорически отказался включать в текст даже какие-либо варианты этого предложения.
Возникли разногласия и по другому вопросу. Стеттиниус и Иден отказались принять предложенное Сталиным добавление следующего предложения в проект Декларации об освобожденной Европе: «Поддержка будет оказываться политическим лидерам тех стран, которые принимали активное участие в войне против немецких оккупантов».
Оба эти вопроса было решено вынести на следующее пленарное заседание.
Суббота, 10 февраля
Несмотря на то что оставалось еще множество нерешенных проблем, у Рузвельта возникло ощущение, что пришло время завершать конференцию. На утренней встрече со Стеттиниусом президент как бы между прочим сказал, что он уже провел здесь довольно долгое время, а в Вашингтоне накопилось много дел, и он планировал еще встретиться с Ибн Саудом, Хайле Селассие и королем Фаруком. Рузвельт подчеркнул, что ему надо было уехать уже завтра, а со Сталиным и Черчиллем он поговорит об этом чуть позже. Стеттиниус не был удивлен.
Рузвельт еще в начале января решил, что конференция не должна длиться более пяти-шести дней[940]. Как это было и в Тегеране, он не заявлял, что пора завершать конференцию, а просто сообщил, что ему надо было уезжать. Несколько дней назад он предупредил Стеттиниуса, что планирует уехать 9-го или 10-го, в крайнем случае 11 февраля. Во время их беседы Стеттиниус рассказал президенту о схватке с Молотовым накануне вечером по поводу вставки предложения, дающего право Гарриману и Кларку Керру наблюдать за ходом выборов в Польше. Рузвельт заметил: «Если мы согласимся отозвать это предложение, надо ясно понимать, что мы все равно в полной мере будем ожидать, что наш посол проследит и доложит о ходе выборов. Если это предложение так раздражает русских, мы можем его снять, но они должны понимать наше твердое решение, что послы в любом случае будут наблюдать и докладывать о выборах»[941].
Стеттиниус и Иден встретились с Молотовым, как обычно, в полдень. Теперь была очередь председательствовать британского министра, поэтому совещание проходило в Воронцовском дворце.
Стеттиниус заявил, что Рузвельт готов отозвать «оскорбительную для поляков» фразу, «понимая, что президент будет свободен делать любое заявление по Польше, какое сочтет необходимым, поскольку вправе приказать послу предоставлять ему сведения по любым вопросам»[942]. Иден тут же сказал, что он не хотел бы, чтобы считали, что он поддерживает решение об отзыве. Стеттиниус согласился с ним и в частном порядке заметил, что, по его мнению, президент был неправ: он тоже, «конечно же, предпочитает, чтобы документ остался как есть… Но президент так стремился достичь согласия, что пожелал сделать такую уступку».
Затем Молотов сообщил, что у него есть несколько новых поправок. Выражение «в максимально короткие сроки» следовало заменить на формулировку «как можно скорее» – изменение, на первый взгляд, несущественное в отличие от его следующей поправки. Он хотел изменить концовку последнего параграфа на следующую формулировку: «Правительства Соединенных Штатов Америки и Великобритании установят дипломатические отношения с польским правительством, как это сделал Советский Союз». Стеттиниус сказал, что он не может согласиться с последней поправкой, которая налагает на Советский Союз ответственность за любое будущее правительство Польши. Иден тоже возражал по очевидной причине: важнее всего, чтобы три союзника вместе пришли к признанию нового правительства безо всяких приоритетов. Молотов снова заговорил о нарастающих проблемах, вызываемых действиями поляков в тылу Красной армии. Как это уже стало традицией, вопрос был снят с повестки дня с перспективой вернуться к его рассмотрению позднее.
Следующей темой обсуждения стала Декларация об освобожденной Европе. Стеттиниус сообщил, что обсуждал с президентом советскую поправку: «…и сильная поддержка в этих странах будет оказываться тем людям, которые принимали активное участие в войне против немецкой оккупации»[943]. Президент не согласился принять эту поправку. Затем Молотов предложил еще несколько незначительных поправок, с которыми Иден и Стеттиниус согласились, после чего Молотов согласился снять свою поправку, предусматривающую признание нового польского правительства Великобританией и США вслед за Советским Союзом. Следующей темой стал вопрос о репарациях. Иден заявил, что он против того, чтобы брать от Германии слишком много, – Британия не хочет впоследствии финансировать и кормить Германию после выплаты тою репараций. Далее обсуждалось, сколько лет следует выплачивать Германии репарации: пять, семь или десять, а также суммы репараций.
Рузвельт провел ланч в Ливадийском дворце в обществе своей дочери Анны, Кэтлин Гарриман, Лихи, адмирала Брауна и Бирнса, который уехал сразу после ланча. Между тем после встречи министров иностранных дел в два часа дня Гарриман отправился в Юсуповский дворец, где встретился с Молотовым, чтобы обговорить окончательные условия вступления России в войну на Дальнем Востоке. Молотов передал ему документ с требованиями Сталина, которые он двумя днями ранее уже обсуждал с Рузвельтом:
«1. Сохранение status quo Внешней Монголии[944].
2. Восстановление принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:
a) возвращение Советскому Союзу южной части о. Сахалин и всех прилегающих к ней островов,
б) владение Порт-Артуром и Дайреном на основе аренды,
в) восстановление принадлежавших России до Русско-японской войны прав на эксплуатацию Южно-Маньчжурской ветки Китайско-Восточной железной дороги, дающей выход на Дайрен, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет.
3. Передача Советскому Союзу Курильских островов.
Главы правительств трех великих держав согласны в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией. Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заключить с Национальным китайским правительством договор о дружбе и союзе между СССР и Китаем для оказания последнему помощи своими вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского ига».
Гарриман сообщил Молотову, что президент хочет внести в документ следующие изменения: Порт-Артур и Далянь должны стать порто-франко, а параграф 2 должен включать альтернативный вариант: совместную эксплуатацию железных дорог на началах организации смешанного советско-китайского общества. Кроме того, сказал Гарриман, Рузвельт хочет, чтобы вопрос был согласован с «генералиссимусом» Чан Кайши. Ниже представлены эти изменения (добавления выделены курсивом):
«б) восстановление аренды портовых зон Порт-Артура и Дайрена, или эти зоны должны стать порто-франко под международным контролем.
в) В конце параграфа после слова «суверенитет» добавить слова: «или эти железные дороги должны эксплуатироваться на началах организации смешанного советско-китайского общества».
Добавить последний параграф:
Предполагается, что соглашение относительно вышеупомянутых портов и железных дорог потребует согласия генералиссимуса Чан Кайши».
После изучения документа с правками Рузвельт поручил Гарриману снова представить его на утверждение Сталину, что Гарриман и сделал. В 16:30 оба лидера встретились в кабинете президента. Сталин сказал Рузвельту, что он тоже желает видеть Далянь порто-франко, но Порт-Артуру предстоит стать военно-морской базой России, поэтому предпочтительнее статус владения на основе аренды. Рузвельт не стал возражать. Затем Сталин уступил: будет гораздо целесообразнее эксплуатировать Маньчжурскую железную дорогу при организации смешанного советско-китайского общества. Он также согласился с тем, что следует уведомить Чан Кайши и получить от него согласие. При этом Сталин подчеркнул, что лучше будет, если это сделает не он, а президент. Рузвельт ответил, что направит армейского офицера из Вашингтона в Чунцин с инструкциями для посла США для обеспечения секретности, что в нынешних условиях важнее всего.
Руководители договорились, что завтра окончательный проект документа будет зачитан и подписан Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем.
* * *
С учетом этой встречи седьмое пленарное заседание в большом зале было назначено с некоторым опозданием – на 16:50. Фактически же оно началось еще позднее из-за встречи Черчилля со Сталиным, в ходе которой британский премьер пытался уговорить маршала принять компромиссный текст заявления по выборам в Польше, подготовленный на совещании министров иностранных дел. Рузвельт уже сидел на своем месте за большим круглым столом спиной к горящим в камине поленьям, когда в зал вошли Черчилль и Сталин. Каждый из них индивидуально подошел к Рузвельту и принес свои извинения за опоздание.
Рузвельт открыл пленарное заседание и попросил Идена представить отчет об успехах, достигнутых на совещании министров иностранных дел. Иден зачитал окончательный вариант заявления по Польше, согласованный министрами. Документ отражал в основном скорее позицию Запада по этому вопросу, нежели Востока: в истории Восточной Европы еще никогда не было свободных, без каких-либо препятствий, выборов на основе тайного голосования.
«Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения ее Красной армией. Это требует создания Временного польского правительства, которое имело бы более широкую базу, чем это было возможно ранее, до недавнего освобождения западной части Польши. Действующее ныне в Польше Временное правительство должно быть поэтому реорганизовано на более широкой демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. Это новое правительство должно будет называться Польским временным правительством национального единства.
Молотов, г-н В. А. Гарриман и сэр Арчибальд К. Керр уполномочиваются, как Комиссия, проконсультироваться в Москве в первую очередь с членами теперешнего Временного правительства и с другими польскими демократическими лидерами как из самой Польши, так и из-за границы, имея в виду реорганизацию теперешнего правительства на указанных выше основах. Это Польское временное правительство национального единства должно принять обязательство провести свободные выборы, без каких-либо препятствий, в максимально сжатые сроки, на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании. В этих выборах все антинацистские и демократические партии должны иметь право принимать участие и выставлять кандидатов.
Когда Польское временное правительство национального единства будет сформировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, Правительство СССР, которое поддерживает в настоящее время дипломатические отношения с нынешним Временным правительством Польши, Правительство Соединенного Королевства и Правительство США установят дипломатические отношения с новым Польским временным правительством национального единства и обменяются послами, по докладам которых соответствующие правительства будут осведомлены о положении в Польше».
В результате ожесточенных споров родился документ, который устроил всех. Для Рузвельта и Черчилля в нем были предусмотрены обещание свободных, без каких-либо препятствий, выборов и реорганизация контролируемого Советским Союзом правительства в правительство, созданное «на более широкой демократической базе»; для Сталина была сделана уступка, исключающая наблюдение Гарримана и Кларка Керра за ходом выборов. Во всех своих аспектах этот документ, который предстояло подписать Сталину, не отражал ни одной из его ценностей, кроме, пожалуй, истинно демократического и философского подхода к понятию «правительство». Личный врач Черчилля лорд Моран, посвященный во все события, происходившие в Ялте, писал позднее: «Никто не может объяснить столь уважительного отношения Сталина к словам и мнению президента… Такой настрой не мог просто так возникнуть у Сталина. И он должен был стоить ему больших усилий. Что же за этим кроется?»[945]
Сессия продолжалась. Черчилль заметил, что в оглашенном документе вообще нет никакого упоминания о границах Польши. Рузвельт объяснил, что ему не хотелось бы делать какие-либо публичные заявления по этому вопросу по очень веской причине: у него не было полномочий заключать какой-либо договор о границах, поскольку это прерогатива Сената.
Молотов предложил объявить, что с «линией Керзона» в принципе согласны все присутствующие, а о западной границе не упоминать вообще. Черчилль возразил, заявив, что следует непременно сказать, что Польша получит компенсацию за счет западных территорий, и обсудить этот вопрос с правительством Польши следует еще до проведения линии границы. Молотову предложение понравилось, и он ответил: «Очень хорошо»[946].
Следующая предложенная Иденом тема для обсуждения была менее существенной. Она касалась содержания Декларации об освобожденной Европе, а именно формулировки предпоследнего параграфа. В конце концов его сформулировали следующим образом: «…Будут консультироваться по поводу действий, необходимых для осуществления совместной ответственности, установленной настоящей декларацией». Затем Иден попросил утвердить предложение министров иностранных дел, принятое с большим трудом в отношении Франции накануне вечером: «Принимая настоящую декларацию, три державы выражают надежду, что Временное правительство Франции присоединится к ним».
Тут в беседу вступил Рузвельт. Необходимо отметить, что все – Стеттиниус, Фримен Мэтьюс (советник посольства США в Виши), Гарриман и Гопкинс – отстаивали перед президентом мнение, согласно которому если у Франции будет своя зона в Германии, Франция должна будет войти с состав Союзной контрольной комиссии. Единодушие советников президента, в конце концов, одержало верх, президент смог преодолеть свою антипатию к де Голлю, которому он никогда не доверял. И теперь, взяв слово, Рузвельт неожиданно для всех сказал: «Я изменил свою позицию. Я был против того, чтобы Франция также получила место в «Комиссии трех», в механизме управления. Но чем больше я об этом думал, тем чаще вспоминал слова премьер-министра, что страна, получившая зону для управления, просто не сможет ею управлять, если не получит места в Контрольной комиссии. Я думаю, будет несложно получить согласие де Голля с этой Декларацией и другими документами, если Франции будет предоставлено место в Контрольной комиссии. Хотелось бы, чтобы и Сталин подумал об этом»[947].
На самом деле на тот момент, когда Рузвельт изменил свое мнение, он уже уведомил об этом Сталина, который сказал, что «поскольку это обоснованное решение президента, он его поддержит»[948].
И сейчас Сталин коротко ответил: «Я согласен».
Затем было короткое обсуждение вопроса о югославском правительстве, в котором Рузвельт не принимал участия.
Репарации стали следующей обширной темой. Сначала выступил Черчилль, который заявил, что получил указание от своего правительства не упоминать никаких цифр, что было поддержано Рузвельтом. Сталин заявил, что он хочет только, чтобы репарации были обозначены лишь в денежном выражении стоимости материальных средств. Денежные суммы должны упоминаться лишь как обозначение стоимости репараций в натуральной форме. Рузвельт выразил беспокойство, что американцы могут подумать о репарациях в долларах и центах. Черчилль ответил, что он совершенно не понимает, зачем вообще все это нужно обнародовать. Рузвельт заметил, что никто и не собирается ничего обнародовать.
Эти слова никого не примирили и не добавили аргументов в споре, который шел при повышенных эмоциях. Разногласия нарастали, особенно между Черчиллем и Сталиным. Стенограмма этого момента, приведенная в издании Госдепартамента США «Документы по внешней политике Соединенных Штатов», является неполной. Гопкинс вспоминает эту сцену следующим образом: «Сталин встал и вцепился в спинку кресла с такой силой, что суставы пальцев побелели. Он выплескивал слова, словно они обжигали ему рот. Огромные территории страны, сказал он, опустошены и выжжены дотла. Крестьянство истреблено. Репарации должны быть уплачены наиболее пострадавшим странам. Пока он говорил, никто даже не пошевельнулся»[949]. Стеттиниус тоже обратил внимание на необычное эмоциональное состояние Сталина: «Сталин… говорил с большим чувством и даже со страстью, что резко контрастировало с его прежней манерой. Он несколько раз вставал, заходил за спинку кресла, продолжая свою речь и иногда энергично жестикулируя. Ужасающие разрушения России немцами вполне объясняли его волнение. Он не ораторствовал, он даже не повышал голоса, но его речь впечатляла глубиной эмоций»[950]. Он говорил не только о том, что Германия в принципе должна выплачивать репарации, но и о том, что, когда Комиссия по репарациям соберется в Москве, она должна принять во внимание определенную американской и советской сторонами сумму репараций в размере 20 миллиардов долларов, из которых Советский Союз должен получить пятьдесят процентов.
Черчилль, не соглашаясь с этим, зачитал полученную от британского военного министерства телеграмму о недопустимости упоминания каких-либо цифр без дальнейшего их изучения, а сумма в 20 миллиардов долларов слишком велика.
Во время этого обсуждения Гопкинс посоветовал Рузвельту поддержать Сталина, заметив, что «русские на этой конференции достаточно часто нам уступали, и я думаю, что теперь наша очередь уступить им. Пусть британцы не соглашаются, если им этого хочется». И тогда президент предложил оставить этот вопрос на рассмотрение Комиссии по репарациям в Москве.
Перед лицом очевидного несогласия Черчилля и отказа Рузвельта окончательно решить вопрос о том, следует ли вообще упоминать суммы репараций, Сталин предложил следующую формулировку:
1) главы правительств согласились, что Германия должна выплачивать компенсации за ущерб, причиненный союзным государствам в результате войны,
2) поручить Московской комиссии рассмотреть вопрос о суммах репараций.
Черчилль с формулировкой согласился и спросил мнение президента.
«Это простой вопрос, – ответил тот. – Судья Рузвельт одобряет, и документ принят»[951].
Когда обсуждение вопроса о репарациях, наконец, завершилось, Сталин наклонился к Громыко и спросил, что тот думает о Рузвельте: «Как мне расценить поведение Рузвельта? Он действительно не согласен с Черчиллем или же тут какая-то уловка?»[952] Ответ Громыко показал, что и интеллигентный человек может заслужить симпатии Сталина, проявив понимание возможностей и нюансов, – и в то же время демонстрируя должное скептическое отношение к капиталистическим лидерам. Громыко ответил: «Между ними есть разница, но один из них знает, что прав в своем отношении к британскому премьер-министру. И, сознавая свою правоту, он никогда не перестанет оказывать неофициальное давление на Черчилля. Если бы он [Рузвельт] поступал иначе, я бы вряд ли подумал, что это случайно».
Громыко, несомненно, был прав: когда Рузвельт чувствовал себя в чем-то абсолютно уверенным, его точка зрения всегда побеждала. Но станет ли президент настаивать и соглашаться с суммой в 10 миллиардов долларов? На чьей стороне он окажется?
В шесть часов вечера в заседании был объявлен пятнадцатиминутный перерыв. Сталин встал, отодвинул кресло, и Громыко услышал, как он бормочет про себя: «Кто их знает, может, США и Британия уже договорились друг с другом по этому вопросу».
Стеттиниус заметил, что у президента дрожали руки, когда он пил чай.
Громыко, стремясь, чтобы между Рузвельтом и Сталиным все шло хорошо, отыскал Гопкинса, который сделал очень много для сближения Рузвельта и Сталина, и признался ему в сомнениях Сталина по поводу серьезности намерений Рузвельта. Гопкинс немедленно отправил записку президенту: «Маршал считает, что, раз Вы не поддержали Эда [Стеттиниуса] в вопросе о репарациях, то Вы заодно с британцами. Его это очень беспокоит. Может, Вам стоит потом поговорить с ним частным образом?»[953]
После окончания перерыва Рузвельт объявил, что хочет снова поднять вопрос о границах Польши. В ходе предыдущего обсуждения этой темы Гопкинс послал президенту записку с предупреждением: «Г-н президент, Вы вступаете в конфликт с законом в связи с Вашими полномочиями и оценкой Сенатом Ваших действий»[954]. Рузвельт попросил Стеттиниуса обсудить с его штабом возникшую проблему и найти приемлемое ее решение. Стеттиниус вспоминал, что, пока они совещались, Рузвельт «внезапно посмотрел на нас и проговорил: “Знаю! Я знаю, что нужно сделать!.. Вместо первых трех слов «Три державы» надо написать: “Три руководителя правительств считают… “ Во второй фразе он предложил убрать слова “три державы“, а в последнем предложении вместо слова “договариваются“ поставить “сознают“»[955]. Это превратило документ из правительственного обязательства в выражение точек зрения, которые Рузвельт безо всякой опаски смог бы подписать:
«Главы трех правительств считают, что восточная граница Польши должна идти вдоль “линии Керзона“ с отступлениями в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу Польши. Главы трех правительств признают, что Польша должна получить существенное приращение территории на севере и на западе. Они считают, что по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение Польского правительства национального единства и что, вслед за этим, окончательное определение западной границы Польши будет отложено до мирной конференции».
После этого Молотов предложил дополнить текст положением о том, что Польше должны быть возвращены ее исторические границы в Восточной Пруссии и на Одере. Тут Рузвельт улыбнулся и спросил, когда же эти земли принадлежали Польше?[956] Молотов ответил, что очень давно, но они фактически являются польскими. Рузвельт сказал: «Если так пойдет дальше, британцы могут попросить нас вернуть Великобритании территорию Соединенных Штатов» – и обратился к Черчиллю: «А может, вы этого и хотите?» Сталин заметил: «Океан помешает». По окончании обмена еще несколькими репликами Рузвельт объявил, что завтра в три часа дня он должен уехать.
Оставалось составить и утвердить итоговое заявление конференции. Рузвельт сказал, что если собраться завтра к одиннадцати утра, то к ланчу работу можно будет закончить. Сталин и Черчилль возразили, что времени будет явно недостаточно, но Рузвельт остался непреклонным. Сталин сказал, что невозможно будет закончить работу, поскольку на вечер запланирован ужин у Черчилля, и предложил отменить ужин. Но этот момент даже не стали обсуждать. Сессия завершилась. Министрам иностранных дел поручили договориться о тексте проекта итогового заявления, под которым «Большая тройка» должна будет поставить свои подписи. Было уже восемь часов вечера.
Примерно через полчаса после окончания сессии Сталин и Рузвельт уже направлялись в Воронцовский дворец. Черчилль давал прощальный ужин, на котором присутствовал весьма узкий круг гостей: Рузвельт, Стеттиниус и Болен; Черчилль, Иден и Бирс; Сталин, Молотов и Павлов.
Первой в Воронцовский дворец прибыла президентская группа. Ей салютовали английские гвардейцы, выстроившиеся по обе стороны парадной лестницы дворца. Они вошли во дворец, больше похожий на замок, и оказались в просторном вестибюле шириной двенадцать метров, стены которого были увешаны большими портретами знаменитых русских генералов в полном парадном облачении и при всех регалиях. Пройдя вестибюль, гости вошли в небольшой, прекрасно меблированный зал приемов. Стеттиниус вспоминал, что коктейлей не подавали, пока не прибыли Сталин и Молотов. Вскоре после их прихода все прошли в изысканно украшенную столовую в мавританском стиле. Ужин был тщательно продуман и поражал множеством блюд. Перед каждым гостем на столе лежало меню: икра, пироги, лосось, заливная осетрина, мясо куропатки, колбасы, молочный поросенок с хреном и волованы из дичи – в качестве первого блюда; куриный бульон и куриный суп-крем – на второе; белорыбица в соусе «шампань» и запеченная кефаль – на третье; шашлык из баранины, мясо горного козла и плов с бараниной – в качестве четвертого блюда; жаркое из индейки, жаркое из перепелки, жаркое из куропатки с зеленым горошком – на пятое; мороженое, фрукты, птифуры, обжаренный миндаль и кофе подавались в завершение ужина.
Произносили много тостов, но в основном атмосфера была сугубо деловой. Рузвельт нашел время заверить Сталина по вопросу о репарациях, как советовал ему Гопкинс. Сталин говорил Черчиллю, что был очень расстроен тем, как шло обсуждение темы репараций, и Черчилль, в конце концов, капитулировал. Все трое в итоге договорились, что в протоколе будет указана конкретная сумма в долларах, чего так долго добивался Сталин, что Россия и США при обсуждении суммы репараций возьмут за основу цифру 20 миллиардов долларов, половина из которых отойдет России, и что в итоговом заявлении будет указано, что Германия оплатит ущерб, который она причинила союзным государствам.
Они поднимали тосты друг за друга. Черчилль предложил тост за здоровье Сталина, выразив надежду, что маршал станет теплее, чем прежде, относиться к Британии, что великие победы Красной армии смягчат сердце маршала и наполнят дружелюбием, что былые противоречия и вражда между странами полностью сгорят в пожаре войны[957].
Рузвельт вспомнил об инциденте, связанном с «ку-клукс-кланом», американской организацией, которая, по словам президента, ненавидит католиков и евреев. Как-то в ходе визита в небольшой городок на юге страны Рузвельт оказался в гостях у президента Торговой палаты и спросил хозяина, не являлись ли сидевшие за столом по обе стороны от него итальянец и еврей членами «ку-клукс-клана». Хозяин сказал, что с ними все в порядке, поскольку их все знают. Рузвельт сказал, что это говорит о том, как легко избавиться от предрассудков – расовых, религиозных и всех прочих, если ты хорошо знаешь человека[958]. Сталин заметил: «Истинная правда».
Затем Рузвельт предложил тост за премьер-министра, который оказался провидческим. Президент был уверен, что после окончания войны Черчилль расстанется со своим постом. Он сказал, что Черчилль то садится в кресло премьера, то покидает его, «и сложно сказать, где он больше приносит пользы своей стране: когда входит в правительство или когда находится вне его… Сам он [Рузвельт] был убежден, что, возможно, Черчилль даже больше полезен Англии, когда не находится у власти, а просто заставляет людей думать»[959]. (В марте президент скажет Макензи Кингу, что задумывается, может ли он помочь Черчиллю быть избранным на следующий срок.)
Сталин, демонстрируя незнание политической жизни в Америке, спросил президента, есть ли в Америке Лейбористская партия. Рузвельт ответил, что такой партии нет, хотя рабочий класс в США является «чрезвычайно влиятельным»[960].
Президент США упомянул о том, что встречался с тремя ближневосточными монархами, в том числе с Ибн Саудом. Тут вмешался Сталин, который сказал, что ему приходилось решать еврейскую проблему, что оказалось довольно непростым делом: они добивались еврейской автономии в Биробиджане, а когда ее получили, то уже через несколько лет стали оттуда уезжать и, в конце концов, рассеялись по всей стране. Рузвельт ответил, что он сионист. Сталин заявил, что коснулся этой проблемы просто по существу, и признал, что решить ее довольно сложно. По какой-то странной ассоциации Сталин вдруг вспомнил о своем союзе с Гитлером: он сказал, что если бы не было Мюнхена и польско-германского договора 1934 года, он никогда бы не заключил с немцами союз, как это произошло в 1939 году.
Когда Сталин сказал Рузвельту, что не думает, что они смогут завершить работу конференции к трем часам следующего дня, президент ответил, что, если будет необходимо, он подождет с отъездом до понедельника. Сталин остался доволен ответом.
Сотрудники аппарата конференции работали всю ночь над приведением различных документов в окончательную форму, чтобы «Большая тройка» могла подписать их завтра: последнее пленарное заседание было назначено на полдень.
Воскресенье, 11 февраля
Хотя Черчилль и Сталин все же надеялись, что президент останется в Крыму дольше, когда они собрались в полдень на заключительную пленарную сессию, вдруг обнаружилось, что осталось обсудить совсем немного, за исключением небольших изменений в документах: предложение Черчилля заменить слово «совместно», которое у него ассоциировалось с британским ягненком по воскресеньям, а также любопытное изменение, предложенное Сталиным, – просьба не упоминать в заключительном заявлении, что предложение о процедуре голосования внесено президентом Соединенных Штатов, и то, что Сталин не был против опубликования самого факта принятия предложения США. Оказывается, Сталин не предполагал, что в коммюнике внесено упоминание этого факта. Предложение Сталина было удовлетворено.
Но под занавес не обошлось без очередных сюрпризов. Черчиллю и Идену в первый раз показали соглашение по Дальнему Востоку, разработанное Сталиным и Рузвельтом, и тут же возникла перепалка. Представленный в виде свершившегося факта документ привел британцев в ярость. Иден советовал Черчиллю не подписывать соглашение. Когда же Рузвельт заявил, что он и не собирался уговаривать Черчилля подписать этот документ, оба англичанина чуть не задохнулись от бешенства. Причем они не только спорили друг с другом, но делали это, как признавался Иден, «в присутствии Сталина и Рузвельта». Иден был категорически против подписи Черчилля под документом, а Черчилль считал, что он должен его подписать. (Ни Рузвельт, ни Сталин никогда не комментировали этот эпизод.) В конце концов, Иден и Черчилль решили обратиться за советом к Александру Кадогану, бывшему британскому послу в Китае. Но Кадоган поддержал Идена и сказал, что Черчиллю не следует подписывать документ. Однако отговорить премьера не удалось: у него и у британских генералов были готовы планы по освобождению Малайи, Сингапура и Бирмы. Заметив, что в случае отсутствия его подписи интересы Британии на Дальнем Востоке сильно пострадают и что в дальнейших переговорах по Дальнему Востоку она просто не сможет принимать участие, Черчилль поставил свою подпись. Теперь отношение Идена к Рузвельту резко изменилось: если раньше он им открыто восхищался (разве что кроме осуждения Рузвельтом колониальной системы, что Иден считал ретроградством), теперь же стал видеть в американском президенте изворотливого и лицемерного человека. В своих мемуарах он писал: «Тем, кто полагает, что на некоторые решения Рузвельта оказала влияние болезнь, хочу напомнить, что, хотя работа на конференции изматывала силы даже такого энергичного человека, как Черчилль, Рузвельт находил время для тайных переговоров и заключения соглашения со Сталиным по Дальнему Востоку, даже не сообщая об этом своему британскому коллеге или китайскому союзнику. По моему мнению, этот документ бросил некоторую тень на Ялтинскую конференцию»[961]. Черчилль сделал все, чтобы скрыть эти разногласия от мировой общественности, назвав позднее это «американской интрижкой», которая чужда политике Британии.
Накануне Рузвельт направил Сталину письмо, в котором просил о помощи, если таковая потребуется, в получении для США двух дополнительных мест в Генеральной Ассамблее, чтобы заручиться поддержкой Конгресса и американского народа. Теперь Сталин вручил Рузвельту письмо, в котором говорилось, что СССР официально поддерживает это предложение президента США. Рузвельт принял меры для сохранения этой договоренности в тайне. Как утверждал позднее Гопкинс, он всеми средствами добивался, чтобы эта тема нигде и никогда не обсуждалась даже в частном порядке[962].
Когда пришло время подписывать итоговые документы конференции, члены «Большой тройки» долго не могли договориться о том, кто должен поставить свою подпись первым. Рузвельт сказал, что первым должен подписывать Сталин как замечательный хозяин места проведения конференции. Сталин возразил: если он поставит свою подпись первым, у мировой общественности сложится ошибочное мнение, что он и руководил всем ходом встречи великих держав. Поэтому, настаивал Сталин, ему следует подписать документы последним. В спор вмешался Черчилль: «Если в алфавитном порядке, то я подписываю первым. Если по возрасту – тоже». На том и порешили. Отчет о конференции, протокол по немецким репарациям и главные трехсторонние соглашения первым подписал Черчилль, вторым Рузвельт и последним – Сталин. Договор о вступлении Советского Союза в войну против Японии подписывали в другом порядке: это был единственный документ, под которым первым поставил подпись Сталин, затем Рузвельт и последним – Черчилль.
Многие из документов не предполагалось публиковать. В том числе документ, в котором упоминалось о дополнительных голосах СССР в ООН; слово «расчленение» – из опаски, что оно усилит сопротивление немцев на фронте; вопрос о процедуре голосования в Совете Безопасности и вопрос о подмандатных территориях, поскольку сначала его следовало согласовать с Францией и Китаем, которых предполагали сделать двумя постоянными членами Совета Безопасности.
Прощальный обед давал Рузвельт в качестве хозяина Ливадийского дворца. Присутствовали Лихи, Стеттиниус, Гопкинс, Гарриман и Болен. С британской стороны были Черчилль, Иден, Кларк Керр, Кадоган и Бирс. Со Сталиным были только Молотов и Павлов. Стеттиниус спросил Молотова, нельзя ли взять на память о сотрудничестве картину с зимним пейзажем, которая висит за спиной Рузвельта. Молотов вручил ему эту картину. Стеттиниус прислал ему из Каира благодарственное письмо, в котором, в частности, говорилось, что картина «займет самое почетное место на моей ферме в Виргинии, которую, как я надеюсь, Вы сможете посетить в скором времени»[963].
Обед закончился в 15:45, после чего Рузвельт отправился на автомобиле в Севастополь посмотреть на ужасающие развалины, о которых говорил ему Сталин: немцы не оставили там ни одного целого здания. Как писал корреспондент «Нью-Йорк таймс» Гаррисон Солсбери, город выглядел мертвым. (По словам председателя горсовета, «если у комнаты остались три стены и потолок, мы считаем, что она в хорошем состоянии»[964].) После короткой поездки по городу Рузвельт провел ночь на корабле ВМС США «Катоктин». Своеобразным подарком для президента стала поездка в Балаклаву, в которой он мог увидеть место, где располагался знаменитый лагерь римских легионеров, находившийся между двумя горными грядами в полукилометре от Балаклавы. На следующее утро президент отправился на аэродром в Саки, где его ждала «Священная корова», которая доставила президента в Египет. В Египте Рузвельт поднялся на борт корабля «Куинси», стоявшего на якоре в морской лагуне у Суэцкого канала. Один день он отдыхал, затем состоялась его встреча с тремя монархами: Ибн Саудом, Фаруком и Хайле Селассие, прибывшими один за другим на борт «Куинси». Президента особенно интересовали новости из Палестины. После этого корабль с президентом на борту взял курс на Вашингтон. (Адмирал Лихи, бывший свидетелем споров между Рузвельтом и Черчиллем по вопросу об открытии «второго фронта», писал в своем дневнике, что, когда Черчиллю сообщили о встрече президента с тремя монархами, премьер-министр стал спешно собираться в Египет – «несомненно, с целью нейтрализовать те договоренности, которые Рузвельт мог заключить во время переговоров с тремя монархами»[965].)
Глава 16 Проблемы после Ялты
12 февраля было опубликовано официальное сообщение о проведении Ялтинской конференции. Немедленно стали поступать многочисленные поздравительные телеграммы, как от друзей, так и от недругов. Бывший президент, республиканец Герберт Гувер выразился следующим образом: «Это даст миру великую надежду». Уильям Л. Ширер назвал это событие «важной вехой в истории человечества». Даже Артур Ванденберг, сенатор-республиканец от штата Мичиган, занимавший непримиримо изоляционистскую позицию, был вынужден отметить, что конференция «подтверждает основные принципы правосудия и впервые берет на себя обязательства подкреплять их прямыми действиями». В целом американская пресса отнеслась к этой новости с большим воодушевлением. Журнал «Тайм» писал: «Теперь, пожалуй, развеяны всякие сомнения в том, что «Большая тройка» способна сотрудничать не только в условиях войны, но также и в условиях мира»[966]. В передовице газеты «Крисчен сайенс монитор» было сказано: «Крымская конференция резко отличается от всех предыдущих конференций, поскольку в ней отчетливо проявилась готовность к принятию решений… На конференции в Ялте главным настроением было стремление, готовность и решимость принять твердые решения». Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» также приветствовала проведение конференции, назвав ее положительным достижением: «Конференция стала еще одним значительным подтверждением единства и силы союзников, а также их способности достичь необходимого результата»[967]. Газета «Вашингтон пост» присоединилась к похвалам: «Президента можно поздравить с сопричастностью к этой всеобъемлющей договоренности».
Между тем Рузвельт был на пути домой. Он возвращался на борту тяжелого крейсера «Куинси» и прибыл в Ньюпорт-Ньюс, штат Виргиния, в последний день февраля. Предполагалось, что за шестнадцать дней путешествия по океану Рузвельт успеет немного отдохнуть и прийти в себя после напряженных дней конференции. Но по пути снова разболелся Гарри Гопкинс, и ему пришлось сойти с «Куинси» и лечь в больницу. А верный друг Рузвельта, военный советник и секретарь при президенте США генерал Эдвин «Па» Уотсон[968] на борту корабля перенес инсульт и находился в коме. Компанию Рузвельту во время плавания составляли его дочь Анна и Лихи, а также личный врач Росс Макинтайр и помощник президента по военно-морским делам адмирал Браун. Однако, чтобы оживить обстановку и все-таки кое-что сделать за это время, Рузвельт, который всегда хорошо понимал значение прессы, вызвал к себе в качестве сопровождения еще и спичрайтера Сэма Розенмана, находившегося в командировке в Лондоне. Они с Розенманом, а также три любимых корреспондента Рузвельта в Белом доме, Мерриман Смит, Дуглас Корнелл и Роберт Дж. Никсон, вместе работали над речью, которую Рузвельт собирался произнести в Конгрессе. Все они (Розенман и трое корреспондентов) поднялись на борт крейсера «Куинси» в Алжире 18 февраля.
Несмотря на то что охрану «Куинси» несли два крейсера, семь эсминцев, а с воздуха корабль с президентом на борту охраняла целая армада военных самолетов, при проходе через Гибралтарский пролив к ним присоединилась группа подводных лодок «П-38» и дирижабль. В фарватере корабля шел минный тральщик, поскольку за сутки до этого в районе Гибралтара затонули два военных корабля союзников, возможно, в результате атаки подводных лодок противника. На минном тральщике запеленговали гидроакустический сигнал и сбросили глубинную бомбу. Правда, так и не удалось подтвердить, что какая-либо подводная лодка противника была этим уничтожена. Спустя двое суток умер генерал Уотсон, и, как подметил Розенман, «всем нам было совершенно ясно, что он [Рузвельт] это тяжело переживает»[969]. Рузвельт проводил все дни за чтением, отдыхал, сидя на палубе, когда светило солнце, обедал в своей каюте с Лихи, Розенманом и Анной. Во время обычных коктейлей Рузвельт сам смешивал их, как он это всегда с удовольствием делал. К напиткам, как правило, подавали щедрые порции икры, которую Рузвельт получил в подарок от Сталина. По вечерам смотрели фильмы. Их показывали на экране, установленном в каюте адмирала Лихи. Рузвельт не смотрел фильм только в последний вечер, когда они с Розенманом работали над выступлением президента перед Конгрессом. В течение всего похода крейсера «Куинси» через Атлантический океан постоянно применялись меры предосторожности: корабль двигался зигзагами в течение дня, а ночью применялся режим затемнения.
23 февраля Рузвельт устроил пресс-конференцию для тех трех корреспондентов, которые были на борту. Прежде всего, его интересовало создание Организации Объединенных Наций.
«Вопрос: Вы действительно искренне полагаете, что в результате работы этой конференции можно заложить основы всеобщего мира на более длительный срок, чем жизнь того поколения людей, которые создают этот мир?
Президент: Я смогу ответить на этот вопрос, если вы сможете мне сказать, кем будут ваши потомки в 2057 году.
Вопрос: Но можно ли заглянуть в будущее?
Президент: Заглянуть можно настолько далеко вперед, насколько человечество верит во все это. Организация Объединенных Наций превратится в самый совершенный инструмент прекращения войны, ничего подобного пока еще не было придумано. Кроме того, она положит начало для создания все новых и новых инициатив, которые последуют за этим»[970].
Было очевидно, что у Рузвельта имеется взвешенное мнение по поводу двух его союзников: он обдумывал и положение в Индокитае, ныне Вьетнаме, и в Гонконге, которое он обсуждал со Сталиным. Но, казалось, беспокоило его не это, а имперские настроения Черчилля. Рузвельт пришел к выводу, что пришло время их вновь пошатнуть. Что подумал Черчилль, прочитав эти ремарки Рузвельта, так и осталось неизвестным. Возможно, помощникам премьер-министра удалось скрыть их от него. Рузвельт говорил о Черчилле жестко и нелицеприятно. В разговоре с журналистами о Тихоокеанском регионе он сказал, что проблема Индокитая тревожит его уже два года: страна не готова к независимости, но ее нельзя отдавать обратно французам, значит, до тех пор пока она не будет готова, ее следует держать под опекой, хоть британцам это и не понравится, потому что Бирма может оказаться следующей на очереди. «Есть вероятность, что это разрушит их империю», – сказал Рузвельт.
Он отвечал на все вопросы, которыми забрасывали его трое журналистов.
«Вопрос:… Он [Черчилль] хочет, чтобы вся [эта] территория там, все это стало тем же, чем это было когда-то?
Президент: Да, он относится ко всему этому как убежденный викторианец.
Вопрос: Очевидно, эта идея Черчилля несовместима с политикой самоопределения?
Президент: Да, это правда.
Вопрос: Очевидно, что он подрывает Атлантическую хартию. На днях он сделал заявление, что она не имеет обязательной силы, лишь рекомендательную.
Президент: Атлантическая хартия – идея красивая. Она была составлена, когда ситуация была неблагоприятной для Англии, которая была близка к тому, чтобы проиграть войну. Им была нужна надежда».
Лишь за несколько дней до того, как «Куинси» пришел в Хэмптон-Роудс, штат Виргиния, Рузвельт начал серьезно работать над своею речью с Розенманом. «Не слишком скоро»[971], – сказал нетерпеливый Розенман, который был совершенно недоволен тем, как получился третий вариант речи, подготовленный ими незадолго до того, как корабль причалил в порту. (Всего было написано шесть черновых вариантов.)
Гарри Гопкинс, который уже чувствовал себя намного лучше и ждал Рузвельта с момента своего возвращения, присутствовал и на обеде, и на ужине. 1 марта Рузвельт выступил перед совместным заседанием Конгресса, которое прошло при полном зале. Впервые он выступал, не вставая со своего кресла, извинившись за это перед залом такими верными словами, что ни у кого и мысли об этом больше не возникало. Но еще и потому, впрочем, что в течение часа он говорил с такой энергией, остроумием и проницательностью. В целом речь восприняли хорошо даже такие взыскательные журналисты, как Артур Крок из «Нью-Йорк таймс», который написал, что «он [Рузвельт] произнес ее так энергично и с таким хорошим настроем, что смог произвести выгодное впечатление на аудиторию совместного заседания, и это было видно и по лицам, и по тому, когда именно и как долго звучали аплодисменты»[972].
Речь состояла из тщательного описания всего, что происходило на конференции, а в своем заявлении о неудачах дипломатии, которые призвана восполнить Организация Объединенных Наций, он особенно подчеркнул и осудил «соглашение о процентах», которое Черчилль заключил со Сталиным:
«На Крымской конференции три ведущих державы совместными усилиями смогли найти точки соприкосновения для достижения мира. Это должно означать конец системы односторонних действий, исключительных союзов, сфер влияния, баланса сил и всех других средств, которые были опробованы на протяжении многих веков – и всегда неудачно. Мы предлагаем заменить все это всемирной организацией, к которой наконец-то смогут присоединиться все миролюбивые государства»[973].
Рузвельт и сам испытывал счастливое облегчение по поводу того, что им удалось достичь в Ялте. Он сказал Дейзи, что «конференция прошла даже лучше, чем он смел надеяться»[974].
В России отклики в прессе были восторженные, и, поскольку пресса была практически под полным контролем Сталина, это отражало чувство выполненного долга, которое испытывал Сталин, чувство, что Советский Союз достиг своих целей. На следующий день после речи Рузвельта в Конгрессе подробные сообщения о ней появились на страницах советских утренних газет. Описание этой речи заняло две трети полос, посвященных зарубежным новостям. В передовице газеты «Правда» было сказано, что у альянса «Большой тройки» есть «не только историческое вчера и победное сегодня, но и великое завтра»… По мнению газеты, «каждое решение президента Рузвельта, премьер-министра Черчилля и вождя Сталина способствует скорейшей победе и более стабильному миру». Газета «Известия» охарактеризовала конференцию как «крупнейшее политическое событие нашего времени – событие, которое войдет в историю как новый пример скоординированного решения сложных вопросов в интересах мира и демократии», а также сообщила своим читателям о своем «глубоком и твердом убеждении, что по завершении конференции трое лидеров стали намного дружнее, чем когда-либо прежде. За время конференции между ними не возникло никаких признаков трений или противоречий».
Под воздействием транслируемых по радио сообщений о проведении и результатах конференции советские рабочие стали проводить «спонтанные» собрания, на которых выступающие произносили импровизированные речи с такими заявлениями, как: «Мы скоро будем в Берлине… Час возмездия настал». Было очевидно, что упоминания о том, что ООН поможет поддержать мир и безопасность, коснулись очень болезненной для всего Советского Союза темы. Многие русские, памятуя о том, что до войны их страна была на положении изгоя, полагали, что новая влиятельная организация, основателем и членом которой стала их страна, защитит их впредь от немецкой агрессии.
Сталин сказал генералу Жукову, что он был «очень доволен»[975] тем, как все прошло в Ялте. «Рузвельт был весьма доброжелателен», – сказал он. Молотов дал знать советским послам, что Советский Союз удовлетворен решениями, принятыми в Ялте. «Общая атмосфера на конференции была очень доброжелательной. Мы считаем, что конференция дала положительные результаты в целом и конкретно в отношении Польши, Югославии, а также по вопросу о репарациях»[976], – пояснил он им на случай, если у них возникли какие-либо сомнения.
Казалось, что, по общему мнению, принятые на конференции решения устраивали всех трех руководителей. На голосовании в Совете Безопасности, в котором и заключалась основная сила Организации Объединенных Наций, при настойчивости, проявленной там Рузвельтом, у Сталина снизилась возможность руководить содержанием обсуждаемых вопросов. Решение по вопросу Польши стало компромиссным для всех. У Рузвельта в отношении Польши были связаны руки, потому что эту территорию контролировала Красная армия, но ему удалось принудить Сталина к поразительным публичным заявлениям. Сталин подписал документ, в котором говорилось, что польское правительство будет создано не под давлением Красной армии. Согласно этому документу, оно должно было быть построено на еще более широкой демократической основе, поскольку в него должны были войти как представители демократических сил самой Польши, так и поляки из-за рубежа, и, что удивительно, что под его руководством будут проведены «в самом ближайшем времени свободные, без каких-либо препятствий, выборы на основе всеобщего избирательного права и тайного голосования».
Позже, в феврале, Черчилль сказал кабинету министров военного времени: «Если условия, оговоренные в нашем коммюнике, согласованном с премьером Сталиным, будут выполняться добросовестно, все будет хорошо. Если же, с другой стороны, эти начинания не получат реального воплощения в действительность, то наши договоренности подвергнутся изменениям».
Сталин даже подписал Декларацию об освобожденной Европе, в которой было сказано, что «Большая тройка» ставит своей целью демократизацию всей Европы:
«(в) создавать временные правительства, в которых будут широко представлены все демократические слои населения, с обязательством в самые сжатые сроки создать постоянно действующие правительства, готовые воплощать волю народа, составленные на основе свободных выборов, и (г) способствовать, где необходимо, проведению таких выборов».
Одна из основных причин, почему Сталин согласился с этими вдохновляющими словами Рузвельта, как указывает историк Джеффри Робертс, заключалась в том, что он предполагал: в ходе свободных и открытых выборов в освободившихся странах коммунисты получат руководящую роль. Он считал, что народ с распростертыми объятьями воспримет не только Советскую армию, которая их освободила, но и подконтрольные советской власти национальные правительства. И действительно, некоторые действия польского правительства в Люблине, например проведение уже давно назревшей земельной реформы, были восприняты хорошо. Кроме того, вскоре после Ялтинской конференции московская пресса объявила, что Россия окажет помощь в восстановлении Варшавы: она предоставит технику и оплатит 50 процентов стоимости работ по восстановлению города[977].
Сталин даже не представлял себе, насколько непопулярен был советский способ авторитарного правления. Он и в самом деле полагал, что в славянских странах коммунистические партии будут укреплять свое влияние. Как он сказал в апреле Георгию Димитрову, главе Болгарской коммунистической партии: «Не следует торопиться с проведением выборов… Сначала нужно понять, чем можно привлечь крестьян в Коммунистическую партию»[978].
Так почему бы не оставаться в союзе с Рузвельтом? Америка была самой сильной страной в мире.
Еще об одной причине, по которой, как считают, Сталин согласился подписать договоренности на Ялтинской конференции, откровенно направленные против создания просоветских правительств, говорится в заявлении Молотова, которое любят цитировать. Речь идет о том, что Сталин фактически совершенно не собирался соблюдать эти договоренности, собственноручно им подписанные. «Не волнуйтесь, – сказал ему Сталин, как утверждал Молотов, – составляйте их [эти договоренности]. Мы с этим позже по-своему разберемся. Вся суть в соотношении сил»[979]. Это вполне понятно, но помимо этого Молотов добавил и другую мысль, которая также вполне очевидна, но ее, как правило, в цитату не включают: «Нам было выгодно оставаться в союзе с Америкой. Это было важно». Другими словами, и Сталин, и Молотов по-своему признавали, что альянс с Америкой имеет для них решающее значение. Опустошенная Германией Россия нуждалась в американском содействии, ей необходима была помощь Америки в восстановлении страны. В феврале 1945 года они рассчитывали, что помощь будет оказана. Кроме того, будучи прагматиками, Сталин и Молотов, безусловно, не желали вступать в противостояние с самой сильной страной в мире.
23 февраля, на праздновании двадцать седьмой годовщины создания Красной армии, Сталин выступил с поздравительной речью. В ней он подчеркнул, как близка была Красная армия к победе:
«Красная армия полностью освободила Польшу и значительную часть территории Чехословакии, заняла Будапешт и вывела из войны последнего союзника Германии в Европе – Венгрию, овладела большей частью Восточной Пруссии и немецкой Силезии и пробила себе дорогу в Бранденбург, в Померанию, к подступам Берлина.
Гитлеровцы кичились, что более сотни лет ни одного неприятельского солдата не было в пределах Германии и что немецкая армия воевала и будет воевать только на чужих землях. Теперь этому немецкому бахвальству положен конец»[980].
* * *
За несколько месяцев до Ялтинской конференции и британские, и американские, и русские военные штабы лишь обсуждали проекты решения проблемы, связанные с освобожденными военнопленными этих трех стран. В Ялте эти проекты были доработаны, хоть они и не обсуждались на уровне «Большой тройки», и были подписаны соответствующие документы, в которых было определено, как каждая из этих стран будет обращаться с военнопленными и производить их обмен:
«Каждый союзник будет обеспечивать военнопленных питанием, одеждой, предоставлять медицинскую помощь и удовлетворять другие потребности пленных… до тех пор, пока не будет предоставлен транспорт для их репатриации. Британские и американские офицеры будут оказывать советскому правительству содействие в процессе содержания британских подданных и американских граждан. Советские офицеры будут помогать британским и американским властям осуществлять содержание советских граждан, освобожденных британскими и американскими войсками, пока эти граждане будут находиться на европейском континенте или в Великобритании в ожидании транспортировки [в СССР].
Мы обязуемся оказывать всяческую помощь в соответствии с их текущими потребностями и обеспечивать скорейшее возвращение на родину этих военнопленных и гражданских лиц»[981].
Тем не менее, отношение к американскому и к русскому солдату со стороны их государств было различным. Американский солдат рассматривался как человек со своими семейными узами, член общества, избиратель, гражданин. Советский солдат был не более чем винтиком государственной машины, человеком, жизнь которого принадлежит и служит государству, но большой ценности для государства не представляет. Это привело к серьезным различиям в том, как каждое из этих правительств относилось к своим солдатам. Кроме того, советский народ был, бесспорно, намного беднее, советские люди привыкли жить в самых примитивных условиях, в то время как американцам было привычно жить в достатке и комфорте. Сотни тысяч, а на самом деле буквально миллионы советских людей, оставшиеся без крова во время войны, перемещались, заполоняя дороги и поезда, которые были тогда основными способами передвижения, находя себе временное прибежище везде, где только можно. Когда советские военнопленные возвращались, изможденные и обессиленные, из немецких лагерей, в большинстве случаев советское правительство предполагало, что они сами доберутся туда, куда они хотят. Когда американские военнопленные, многие из них раненые летчики, выходили, изможденные, из лагерей, американское правительство стремилось немедленно обеспечить их медицинской помощью, новой одеждой, американской едой, чистыми кроватями и транспортом, чтобы как можно скорее доставить их на родину. Русским все это было трудно понять. Выраженная в Ялте идея «мы обязуемся оказывать всяческую помощь» просто имела для русских другое значение. Они обычно перевозили военнопленных, а иногда и свои войска в крытых неотапливаемых вагонах в антисанитарных условиях. Гарриману, видимо, показалось «невероятным», что, по крайней мере, в одном советском лагере освобожденных американцев содержали вместе с гражданскими лицами, кормили только два раза в день, в их рацион входил перловый суп, хлеб, картошка, чай и кофе. В лагере не проводилась дезинфекция от насекомых-паразитов[982]. (Он как бы «забыл», что клопы и другие паразиты были неотъемлемой частью жизни в России, что перед приездом Рузвельта в Ливадийский дворец обеспечивающие визит американцы, которые полагали, что они самым тщательным образом уже проверили и подготовили во дворце каждую пядь, в последнюю минуту были вынуждены как следует опрыскать предназначенные ему апартаменты ДДТ.) Генерал Дин хотел направить для ухода за освобожденными военнопленными медицинский и другой вспомогательный персонал. Молотов воспротивился этому, опасаясь, что американцы под предлогом обеспечения ухода за своими заключенными направят своих шпионов, чтобы получить информацию о положении дел с поляками. Кроме того, как сказал Молотов Гарриману, американцы должны обращаться не к нему, а ко Временному польскому правительству[983]. Генерал Дин составил тщательно разработанные, весьма детальные планы оказания помощи освобожденным заключенным. Неподалеку от берега их ожидал американский корабль, где для них была приготовлена пища, медикаменты и одежда. Были сформированы и находились в состоянии постоянной готовности небольшие команды, которые планировалось направить в лагеря для военнопленных. Одной такой команде в составе американского врача и выбранного Дином офицера было разрешено высадиться в Люблине с грузом продовольствия и медикаментов для ухода за заключенными. Однако в дальнейшем продвижении по территории Польши им было отказано, более того (и это было генералу Дину обидней всего), никому больше не давали разрешения сойти на берег. Вместо этого советские власти призвали всех американских военнопленных самостоятельно пробираться в Одессу на Украине, а оттуда их обещали вывезти самолетами в Москву.
По этому поводу Рузвельт и Сталин обменялись телеграммами. Первое сообщение Рузвельта, в основном составленное Стимсоном, в соответствии с требованиями генерала Дина было отправлено 3 марта. В нем упоминаются «трудности, с которыми приходится сталкиваться при сборе, организации снабжения и вывоза бывших американских военнопленных и экипажей американских самолетов, сделавших вынужденную посадку к востоку линии русского фронта». Рузвельт продиктовал Стимсону завершающие строки, чтобы придать сообщению личный характер: «Ввиду того, что Вы не одобрили представленный нами план, что Вы предлагаете вместо него?»[984]
Сталин не замедлил с ответом, что он посоветовался с «нашими местными представителями… На территории Польши и в других местах, освобожденных Красной армией, нет скопления американских военнопленных, так как все они, за исключением одиночных больных, которые находятся в госпиталях, отправлены в сборный пункт в Одессе, куда уже прибыло 1200 американских военнопленных и в ближайшее время ожидается прибытие остальных»[985].
Генерал Дин был уверен, что в Польше по-прежнему остаются отдельные затерявшиеся американцы, и хотел получить разрешение на проведение их поиска. В таком разрешении ему было отказано. Он обратился непосредственно по инстанции. Генерал Дин был достаточно влиятелен и достаточно разозлен, чтобы подключить Рузвельта к решению этого вопроса.
В следующем сообщении, отправленном за подписью Рузвельта, формулировки были уже жесткими:
«Что касается отправки из Польши бывших американских военнопленных, то мне сообщают, что согласие на поездку генерала Дина с офицером советской армии… взято обратно… Я располагаю сведениями, которые я считаю достоверными и надежными, что в госпиталях в Польше в больницах по-прежнему находится значительное число больных и раненых американцев, а также о том, что там находилось большое количество других здоровых освобожденных американских военнопленных, сконцентрированных в советских сборных пунктах и ожидающих отправки в Одессу… Я не могу понять Вашего нежелания разрешить американским офицерам связи помочь их соотечественникам»[986].
Критика Рузвельта не заставила Сталина изменить свою политику, но задела его, так что он даже снизошел до объяснений. Ответ Сталина с его собственноручно сделанными исправлениями (рукописные изменения Сталина выделены курсивом) был отправлен 22 марта. Возможно, этой телеграмме он уделил такое внимание в связи с другим происшествием. 20 марта над территорией Германии, находящейся под контролем Советской армии, советские самолеты с отчетливыми опознавательными знаками на борту были атакованы американскими истребителями. Несмотря на то что, согласно докладу военной миссии США, советские летчики стремились избежать воздушного боя, истребители США преследовали их и сбили шесть советских самолетов, в результате чего погибли двое советских летчиков и был тяжело ранен третий[987]. Это был уже второй случай нападения американских истребителей на советские самолеты над территорией, оккупированной советскими войсками. Сталин предпочел не поднимать этот вопрос в переписке с Рузвельтом.
«Относительно имеющихся у вас сведений о большом будто бы числе больных и раненых американцев, находящихся в Польше, а также ожидающих отправки в Одессу или не установивших контакта с советскими властями, должен сказать, что сведения эти не точны. В действительности, кроме находящегося в пути в направлении на Одессу некоторого числа американцев, на территории Польши к 16 марта находилось всего лишь 17 человек больных американских военных. Я получил сегодня донесение, что на днях они (17 человек) будут вывезены на самолетах в Одессу…
…В данном случае дело касается интересов советских армий на фронте и советских командующих, которые не хотят иметь у себя лишних офицеров, не имеющих отношения к военным операциям, но требующих в то же время забот по их устройству, по организации для них встреч и всякого рода связей, по их охране от возможных диверсий со стороны немецких агентов, которые еще не выловлены…
Наши командующие головой отвечают за положение дел на фронте и в ближайшем тылу…
Я должен вместе с тем сказать, что освобожденные Красной армией бывшие американские военнопленные находятся в советских лагерях в хороших условиях, во всяком случае в лучших условиях, чем бывшие советские военнопленные в американских лагерях, где они были частично помещены вместе с немецкими военнопленными»[988].
10 марта, в один из редких моментов критического осознания ситуации, Гарриман в своем письме в Вашингтон признавал, что многие военнопленные из военных соединений союзников были спасены только благодаря действиям советских военных: «Военнопленные говорят, что при наступлении советской армии гитлеровцы спешно эвакуировали вглубь территории Германии лагеря, в которых содержались американцы, французы и англичане. Они были освобождены лишь благодаря быстрому продвижению советских войск на запад»[989].
Наряду с этим в одном из своих писем из Москвы Гарриман, возмущенный условиями содержания американских военных в советских лагерях, где им приходилось «спать на полу, где не было ни туалетов, ни мест, где можно было бы помыться или постирать белье»[990], было недостаточно врачей, предложил Рузвельту в отместку ограничить передвижения российских представителей, осуществляющих во Франции обеспечение всем необходимым освобожденных советских граждан. Рузвельт отказал ему, ответив, что он не видит «необходимости» в том, чтобы отправлять Сталину еще хоть одно письмо по этому вопросу.
В конце концов, все американские и британские военнопленные в Польше были обнаружены или переправились в Одессу. Большинство из них отзывались о русских хорошо, говорили, что они помогали чем могли, и были очень благодарны американским и британским военным. Из всего, что им вспоминалось о том времени, самое плохое было то, что у кого-то украли часы. Из Одессы все военные были доставлены на родину. В скором времени проблема решилась сама собой.
Всевозможные рассказы военнопленных дошли и до Вашингтона. Оттуда Генри Стимсон дает более взвешенное представление о положении военнопленного в Польше, записывая в своем дневнике, что:
«двое парнишек, с которыми ему довелось поговорить, капитан и лейтенант [американской армии], не скупясь, хвалили доброту русских людей. Им многое пришлось пережить за время своего долгого пути домой из плена, который они проделали пешком, и люди всегда относились к ним по-доброму. Они назвали русских в целом грубыми, а само содержание, которое русские смогли им обеспечить, назвали очень плохим по сравнению с рационом, к которому мы привыкли… Они обнаружили, что русские в массе своей были очень высокого мнения о США как о стране, с которой они хотели бы дружить»[991].
Рузвельт иначе смотрел на эти стычки, нежели офицеры его штаба на передней линии. Он не желал видеть в этом что-либо большее, чем незначительные, сиюминутные недоразумения, и, следовательно, относился к этому соответствующим образом. Когда 9 марта в Белый дом приехал с визитом Макензи Кинг и пробыл там нескольких дней, Рузвельт рассказывал ему о Крымской конференции, но ни разу не упомянул о переписке об обмене военнопленными. Он сказал Кингу за чаем в первый день визита, что Сталин был «с большим чувством юмора, и что он ему [Рузвельту]… понравился, показался очень прямым человеком». Рузвельт был настроен неизменно оптимистически: он полагал, что «Сталина не стоило особенно опасаться в будущем – и сам Рузвельт строил грандиозные планы для себя в дальнейших взаимоотношениях с ним». После обеда в обществе Элеоноры и их дочери Анны Рузвельт пригласил Кинга подняться в свой Овальный кабинет. Там премьер-министр устроился в кресле напротив Рузвельта, который, как обычно, сидел на своем кожаном диване. Тут Рузвельт более подробно рассказал ему о положении дел. Он сообщил, что на заседаниях в Ялте большую часть времени (почти 80 процентов) говорил Черчилль, и вновь упомянул чувство юмора Сталина. Как-то, во время очередной длинной речи Черчилля, рассказал Рузвельт, «Сталин заслонил ладонью лицо с одной стороны… и подмигнул, как будто говоря: ну вот, опять он принялся болтать!»
Рузвельт сказал Кингу, что, по его предположениям, «до конца апреля, что касается Европы, она [война] должна закончиться… А как только она закончится в Европе, вскоре после капитулирует Япония… возможно, месяца через три». (Столь короткий срок, отведенный Рузвельтом до полного разгрома Японии, совершенно очевидно, означал, что ему было уже известно, что разработка и изготовление атомной бомбы были практически завершены.) Он также высказал смелое предположение, что, весьма вероятно, война в Европе будет закончена даже до завершения конференции в Сан-Франциско. Их беседа продолжалась до 11:45. Кинг, обеспокоенный тем, что, возможно, это утомительно для Рузвельта, уже предлагал ее завершать, но президент не желал и слышать об этом.
Рузвельт был настолько оптимистично настроен, что даже поделился с премьер-министром Канады своими планами совершить триумфальное европейское турне. Он получил приглашение короля и королевы Англии побывать у них в мае вскоре после капитуляции Германии, но это казалось ему слишком поспешным, он сказал, что планирует это на июнь. (К тому времени, как заверил его Черчилль, должна была вернуться в Великобританию супруга Черчилля, которая тогда совершала поездку в Россию под эгидой Красного Креста.)
У Рузвельта был уже составлен подробный и хорошо выверенный план этой поездки. Он сказал Кингу, что «с корабля поедет сразу в Букингемский дворец и побудет там, а затем проедет с королем по улицам Лондона, а в выходные проведет время с Черчиллем в поместье Чекерс. Кроме того, он намерен был обратиться с приветственной речью к парламенту и в свободном режиме осмотреть Лондон… Он также хотел бы нанести визит королеве Голландии Вильгельмине и побыть некоторое время в Гааге. Оттуда, как Рузвельт полагал, он, возможно, поехал бы в Париж, но пока он предпочитал ничего об этом не говорить вплоть до самой поездки».
В заключение Кинг вспоминал, что «он [Рузвельт] с Черчиллем строили планы, из которых достаточно ясно вытекало, что они были совершенно уверены: война закончится еще до наступления июня… Что-то вроде триумфального окончания самой войны».
Рузвельт также признался Кингу, что Сталин ждал, когда все его дивизии будут переведены на фронт около Маньчжурии, а затем собирался разорвать отношения с Японией.
Однако после завершившегося к обоюдному удовлетворению сторон обмена телеграммами по проблеме бывших военнопленных возникла проблема посерьезней. Она появилась вследствие возродившихся опасений России, что ее союзники могут пойти на сепаратный мир с Германией. Как сообщал Стимсон, это спровоцировал Черчилль. Причину этого Стимсон видел, по его собственному выражению, в «чудачествах» премьер-министра Великобритании[992].
Русские всегда бдительно следили за проявлением признаков предательства, и порой их беспокойство было не напрасным. В апреле предыдущего года в газете «Правда» была напечатана статья, в которой мрачно сообщалось, что, по данным «надежных источников в Греции и Югославии», в небольшом приморском городке в Пиренеях Риббентроп провел встречу с двумя британскими официальными представителями с тем, «чтобы обсудить условия сепаратного мира с немцами. Понятно, что встреча окончилась не без результата».
9 марта Александр Кирк, бывший посол в Египте, а ныне политический советник фельдмаршала Харольда Александера, уведомил Стеттиниуса, что генерал СС Карл Вольф, высший представитель военного командования Германии в Италии, прибыл с небольшой группой сопровождающих в Швейцарию, в город Лугано, расположенный недалеко от итальянской границы, для проведения переговоров о «безусловной капитуляции» немецкой армии в Италии. Кирк телеграфировал об этом из Казерты и сообщал, что за десять дней до получения этой информации ходили неопределенные слухи и поступали доклады о готовящихся переговорах и что эта информация, таким образом, оказалась достоверной.
Александер сообщил Объединенному комитету начальников штабов, что, по словам генерала Вольфа, с немецким командующим Альбертом Кессельрингом уже вышли на связь, но пока договориться с ним о реализации этого плана не удалось. Кроме того, он, Вольф, планировал лично убедить Кессельринга, поскольку это был единственный способ избежать дальнейшего кровопролития в Германии ради безнадежных целей[993]. Более того, все переговоры и контакты, связанные с этим планом, были настолько засекречены, что о нем не знал даже Генрих Гиммлер, глава СС и начальник Вольфа. В качестве доказательства своей искренности Вольфа заставили выпустить и передать лидера итальянского движения Сопротивления. Затем Александер проинформировал штаб, что он намерен направить в Берн американского генерала Лаймана Лемницера, заместителя начальника штаба фельдмаршала Александера, и генерала Теренса Эйри, начальника разведки при штабе фельдмаршала Александера.
12 марта Александер направил Молотову сообщение о возможности проведения этих переговоров, практически с теми же формулировками, что и в своей телеграмме Объединенному комитету начальников штабов. Он проинформировал Молотова, что его представители вели подготовку к поездке в Швейцарию «для того, чтобы на месте контролировать ситуацию», что если представители немецкой стороны действительно окажутся теми, за кого себя выдают, они должны выполнить определенные условия. В частности, они должны иметь при себе письменные доказательства того, что Кессельринг уполномочил их вести эти переговоры; они должны будут ночью встретиться с представителями Управления стратегических служб США на территории американской или британской дипломатической миссии, при этом будут присутствовать Лемницер и Эйри.
Молотов проинформировал Гарримана, что советское правительство не возражает против проведения таких переговоров в Берне, но он хотел бы, чтобы в переговорах приняли участие генерал В. Н. Драгун, глава советской комиссии по репатриации бывших военнопленных во Франции, генерал Иван Суслопаров, руководитель советской военной миссии во Франции, а также еще один неназванный офицер.
Генерал Дин был категорически против участия любого советского представителя в ходе переговоров. Он написал генералу Маршаллу: «Успех этой миссии может оказаться под угрозой». Гарриман тоже считал, что такая миссия «не имеет никакого оправдания… Это не капитуляция правительства, как в случае с Болгарией или Румынией». Такого же мнения придерживался и Кларк Керр: «В Берне не предполагается обсуждать никаких условий капитуляции».
11 марта Рузвельт узнал от Генри Стимсона, что Молотов предполагал, что будет принято положительное решение об участии советского представительства на этой встрече, главным образом, потому, что Черчилль уверил его в этом. Стимсон писал об этом в своем дневнике два дня подряд: «В результате вмешательства Черчилля британские представители в комитете начальников штабов по ошибке пригласили Советский Союз принять участие в этой встрече вместо того, чтобы лишь уведомить о проведении этих предварительных обсуждений в Берне». 11 марта Стимсон виделся с Рузвельтом. На следующий день военный министр США написал:
«Видимо, Черчилль… отменил договоренность двух штабов, а именно: о том, что мы должны уведомить русских, но не спрашивать их согласия. Он поручил британским представителям отложить окончательное решение до тех пор, пока мы не получим согласия русских. Это я считаю серьезной ошибкой. Это ведет к задержке действия, которое должно быть выполнено быстро».
13 марта, когда недовольство русских возросло, Стимсон писал о премьер-министре:
«Так или иначе, но Черчилль прибрал к рукам английские газеты, подмял под себя всех своих сотрудников и направил русским предложение принять участие во встрече, причем он сделал это уже после того, как наши сотрудники прислали свои письма, в которых они просто уведомляли русских об этом мероприятии»[994].
Рузвельт был настолько обеспокоен всеми этими осложнениями в отношениях, что устроил нагоняй Макензи Кингу, который находился у него в Белом доме с визитом. Кинг писал в своем дневнике 13 марта:
«Президент дал согласие на то, чтобы это [переговоры в Берне] было сделано таким образом, чтобы обеспечить капитуляцию армии и надлежащее обращение со всеми военнопленными, а также гарантировать Кессельрингу, что все его люди будут в безопасности. Если все будет выполнено именно так, полагал он, это будет способствовать скорейшему прекращению войны. Он телеграфировал об этом Черчиллю, но Черчилль, не посоветовавшись с ним, обратился к России за согласием на проведение этих переговоров. Россия настаивала на участии в переговорах трех своих представителей-генералов. Президент сказал, что на самом деле Россия не имеет никакого отношения к итальянской кампании. Он высказывал опасения, что Уинстон действовал слишком поспешно, и ситуация очень усложнилась»[995].
Через два дня Рузвельт пригласил к себе с докладом генерала Донована, очевидно, потому, что тот возглавлял Управление стратегических служб. Президент хотел узнать самые последние данные о том, что на самом деле происходило в Берне.
Обсуждая возмутительное, на взгляд причастных к данной проблеме англичан и американцев, поведение Молотова и Сталина, никто (ни Рузвельт, ни Стимсон, ни Гарриман, ни Александер) не приняли во внимание, что русские опасались «двойной игры». Они боялись, что их западные союзники могут либо «продать» их, либо после капитуляции немецкой армии в Италии позволить Гитлеру сконцентрировать свои оставшиеся силы и направить их против Красной армии на Восточном фронте. Действия американцев и англичан были вполне понятны (учитывая их повышенное внимание к спасению жизни американцев), но это не могло прийтись по душе советскому руководству.
Конечно же, было совершенно ясно, что Молотов был в гневе. Молотов всегда меньше Сталина доверял новым союзникам русских. В 1944 году обеспокоенный Молотов предостерегал Сталина: «Германия будет пытаться заключить мир с Черчиллем и Рузвельтом». «Верно, – ответил ему Сталин, – но Рузвельт и Черчилль не согласятся на это»[996]. Теперь Сталин не был уже так в этом уверен. Теперь он вдруг тоже пришел в ярость. Вероятно, сочетание польской ситуации и переговоров в Берне привело к тому, что Сталин вдруг предпринял шаг, который, как он понимал, может самым негативным образом повлиять на его отношения с Рузвельтом. Под давлением Молотова Сталин объявил, что на конференции в Сан-Франциско Советский Союз будет представлять Громыко, а не Молотов. Рузвельт был глубоко потрясен. 24 марта он направил Сталину два послания:
«Помня о дружественном и плодотворном сотрудничестве в Ялте между г-ном Молотовым, г-ном Иденом и г-ном Стеттиниусом, я уверен, что государственный секретарь рассчитывал продолжить… совместную работу, направленную на достижение, наконец, нашей общей цели – учреждению действенной международной организации, призванной обеспечить всему миру безопасность и мир в будущем. Если г-н Молотов будет отсутствовать, то конференция лишится весьма многого… Я опасаюсь, что отсутствие г-на Молотова будет истолковано во всем мире как отсутствие должного интереса со стороны Советского правительства к великим задачам этой конференции»[997].
Во втором послании Рузвельта Сталину рассматривается вопрос проведения переговоров о капитуляции (слова, выделенные курсивом, были добавлены рукой Рузвельта):
«Факты таковы… в Швейцарии были получены неподтвержденные сведения о том, что некоторые немецкие офицеры рассматривали возможность осуществления капитуляции германских войск… в Италии… По получении этих сведений в Вашингтоне фельдмаршалу Александеру было дано указание командировать в Швейцарию… офицеров… для проверки точности донесения, и если оно окажется в достаточной степени обещающим, то договориться… об организации совещания в его ставке в Италии с целью обсуждения [деталей] капитуляции. Если бы можно было договориться о таком совещании, то присутствие советских представителей, конечно, приветствовалось бы… Присутствие советских офицеров на совещаниях с германскими офицерами у фельдмаршала Александера, если будет достигнута окончательная договоренность в Берне о подобном совещании в Казерте с целью обсуждения детали капитуляции… Так же обстояло бы дело в случае, если бы к Вашему генералу под Кенигсбергом или Данцигом противник обратился бы с белым флагом»[998].
В ответе Сталина, отправленном через три дня, говорилось лишь об отсутствии Молотова на конференции в Сан-Франциско. «Я и г-н В. М. Молотов крайне сожалеем об этом, но созыв… сессии Верховного Совета СССР, где присутствие г-н Молотова совершенно необходимо, исключает возможность его участия…»[999] (Только после смерти Рузвельта и полученного затем распоряжения Сталина Молотову ехать в Сан-Франциско Гарриман понял, что именно Молотов отстаивал решение не ехать в Сан-Франциско: он хотел присутствовать на заседании Верховного Совета СССР.)
И только 29 марта Сталин обратился к проблемам, о которых писал ему Рузвельт:
«Советское правительство не могло дать другого ответа… Я согласен на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, если… будет исключена для немцев возможность маневрировать и использовать эти переговоры для переброски своих войск на другие участки фронта и, прежде всего, на советский фронт… Я не понимаю, почему отказано представителям советского командования в участии в этих переговорах и чем они могли бы помешать… К Вашему сведению: должен сообщить Вам, что немцы уже использовали переговоры с командованием союзников и успели за этот период перебросить из Северной Италии три дивизии на советский фронт.
Задача согласованных операций… провозглашенная на Крымской конференции, состоит в том, чтобы приковать войска противника к месту их нахождения и не дать противнику возможности маневрировать, перебрасывать войска… Эта [задача] нарушается…
«Как военный человек, – пишете Вы мне, – Вы поймете, что необходимо было быстро действовать…» К сожалению, аналогия здесь не подходит. Немецкие войска под Данцигом и Кенигсбергом окружены. Если они сдадутся в плен, то они сделают это для того, чтобы спастись от истребления[1000]. Немецкие войска в Северной Италии… не окружены, и им не угрожает истребление»[1001][1002].
Теперь, в свою очередь, Рузвельт был в ярости. В телеграмме, ни много ни мало, выдвигалось обвинение, что англо-американское военное командование, как Сталин назвал его, вступило в сговор с врагом. Гарримана попросили выяснить, было ли это личное мнение Сталина или так думает кто-то другой в Политбюро. Гарриман ответил, что слова и рассуждения принадлежат лично Сталину.
Рузвельт вызывал в качестве советников Стеттиниуса, Самнера Уэллса, заместителя госсекретаря Арчибальда Маклиша и Болена, чтобы обсудить с ними ситуацию и подготовить ответ. Об этом заседании с Рузвельтом в Белом доме Болен писал: «Это был один из тех редких случаев, когда я видел его сердитым. Он сидел за своим столом в Белом доме, сверкая глазами, его лицо налилось кровью, возмущенный, что его обвинили в сговоре с немцами за спиной Сталина»[1003]. В резкой телеграмме Рузвельта в ответ Сталину был затронут вопрос переброски войск:
«Не может идти и речи о том, чтобы вести переговоры с немцами так, чтобы это позволило им перебросить куда-либо свои силы с итальянского фронта… Мы намерены сделать все, что позволят нам наши наличные ресурсы, для того чтобы воспрепятствовать какой-либо переброске германских войск, находящихся теперь в Италии…
…Ваши сведения о времени переброски германских войск из Италии ошибочны. Согласно имеющимся у нас достоверным сведениям, три германские дивизии отбыли из Италии после 1 января этого года, причем две из них были переброшены на Восточный фронт. Переброска последней из этих трех дивизий началась приблизительно 25 февраля, т. е. более чем за две недели до того, как кто-либо слышал о какой-либо возможности капитуляции»[1004].
Еще одно послание от Рузвельта к Сталину было отправлено в тот же день по вопросу о Польше, но Сталин, в ярости от телеграммы Рузвельта относительно переговоров в Берне и исключения Советского Союза из сторон, участвующих в переговорах, решил проигнорировать это новое послание и направить свой гнев на Рузвельта.
Совершенно очевидно, что он был ужасно расстроен. Тем, кто не входил в ближайший круг Сталина, было невозможно об этом узнать, но его телеграмма была не только написана от руки, но еще и лично Сталиным тщательно отредактирована. В этом также проявилось стремление каких-то приближенных людей, вероятно Молотова, подогреть его опасения, что его предадут. Несомненно, Бернские переговоры стали прекрасным поводом для раздувания этих опасений:
«Получил Ваше послание по вопросу о переговорах в Берне. Вы совершенно правы, что в связи с историей [о переговорах]… “создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия“.
Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще.
Надо полагать, что Вас не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании имеющихся у них данных, не сомневаются в том, что переговоры были и они закончились соглашением с немцами…
Я думаю, что мои коллеги близки к истине…
Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в другом месте, поскольку англо-американские войска получают возможность продвинуться в глубь Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев, но почему надо было скрывать это от русских и почему не предупредили об этом своих союзников – русских?
И вот получается, что в данную минуту немцы на западном фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией – союзницей Англии и США»[1005].
Можно и не знать, что Сталин собственноручно написал это послание, для того, чтобы почувствовать, что он глубоко убежден в том, что его обманули. Это очевидно. Поэтому, видимо, Рузвельт ответил на это глубоко личным сообщением, также составленным собственноручно:
«Я с удивлением получил Ваше послание… содержащее утверждение, что соглашение, заключенное между фельдмаршалом Александером и Кессельрингом в Берне, позволило “пропустить на восток англо-американские войска“…
Я сообщал Вам, что,
1) в Берне не происходило никаких переговоров;
2) эта встреча вообще не носила политического характера;
3) в случае любой капитуляции вражеской армии в Италии не будет иметь место нарушение нашего согласованного принципа безоговорочной капитуляции;
4) будет приветствоваться присутствие советских офицеров на любой встрече, которая может быть организована для обсуждения капитуляции.
…Я должен по-прежнему предполагать, что Вы питаете столь же высокое доверие к моей честности и надежности, какое я всегда питал к Вашей честности и надежности.
Я также полностью оцениваю ту роль, которую сыграла ваша армия, позволив вооруженным силам под командованием генерала Эйзенхауэра форсировать Рейн…
Я полностью доверяю генералу Эйзенхауэру и уверен, что он, конечно, информировал бы меня, прежде чем вступить в какое либо соглашение с немцами…
Я уверен, что в Берне никогда не происходило никаких переговоров, и считаю, что имеющиеся у Вас на этот счет сведения, должно быть, исходят из германских источников, которые упорно старались вызвать разлад между нами с тем, чтобы в какой-то мере избежать ответственности за совершенные ими военные преступления. Если таковой была цель Вольфа [в Берне], то Ваше послание доказывает, что он добился некоторого успеха.
Будучи убежден в том, что Вы уверены в моей личной надежности и в моей решимости добиться вместе с Вами безоговорочной капитуляции нацистов, я удивлен тем, что Советское правительство, по-видимому, прислушалось к мнению, будто я вступил в соглашение с врагом, не получив сначала Вашего полного согласия.
Наконец, я хотел бы сказать, что если бы как раз в момент победы, которая теперь уже близка, подобное подозрение, подобное отсутствие доверия нанесли ущерб всему делу после колоссальных жертв – людских и материальных, то это было бы одной из величайших трагедий в истории.
Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении Ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным описанием моих действий или действий моих доверенных подчиненных»[1006].
Говорить правду Сталину и убедить его в своей правоте не мог никто. Кроме Рузвельта, как показало дальнейшее развитие событий. Молотов как министр иностранных дел время от времени встречался с Наотаке Сато, послом Японии в Советском Союзе. Задачей Наотаке Сато было отслеживать, сохраняется ли у русских намерение соблюдать договор о нейтралитете между этими двумя странами, что становилось особенно важно в ситуации, когда американские войска теснили японцев все ближе к их родным островам. Молотов вел себя в высшей степени осторожно, чтобы ничем не дать намека на то, что отношение советского правительства к Японии изменилось, ничем не выдать, что уже давно оно с Соединенными Штатами строит планы войны против Японии. Не позднее чем 22 февраля 1945 в своем сообщении на родину Наотаке Сато отметил после встречи с Молотовым: «Молотов, как обычно, был любезен и улыбчив, и в течение всей беседы я ощущал, как тепло он лично относится [к нам]»[1007].
Но теперь, во второй половине того дня, когда Сталин получил послание Рузвельта, все изменилось. В три часа дня Молотов вызвал Наотаке Сато в Кремль и заявил, что Советский Союз желает денонсировать договор о ненападении. В качестве причины было названо следующее: «Япония, союзница Германии, помогает последней в ведении войны против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Великобританией, которые являются союзниками Советского Союза»[1008]. Эта новость внезапно прогремела из громкоговорителей по всем холодным, покрытым слякотью московским улицам и по всей стране по радио.
Кабинет министров Японии подал в отставку. В Америке и Великобритании ликовали: ведь уже появились сомнения и волнения в отношении позиции Сталина, особенно после того, как обнаружилось, что в Ялте Рузвельт согласился отдать СССР три голоса на предлагаемой к созданию Генеральной Ассамблее ООН. Теперь же раздался вздох всеобщего облегчения.
Рузвельт в это время находился на курорте Уорм-Спрингс. 29 марта, в четыре часа дня, он сел в личный вагон «Фердинанд Магеллан». Это было спустя несколько часов после совещания со Стеттиниусом, Боленом и Маклишем, а ранее в тот же день он поставил перед собой цель успеть переговорить с каждым членом своего кабинета (по словам министра труда Фрэнсис Перкинс), а также проконтролировал напоследок выполнение некоторых задач и высказал свои рекомендации по их выполнению. Адмирал Лихи проводил Рузвельта к машине, и президент выехал из Белого дома и направился в Бюро по выпуску денежных знаков и ценных бумаг, где его на платформе уже ожидал вагон «Фердинанд Магеллан». «Он был, как обычно, весел, – вспоминал Лихи, – и когда он садился в машину, я сказал: «Господин президент, очень хорошо, что вы едете отдыхать. Хорошо и для нас тоже, потому что, когда вы в отъезде, у нас гораздо больше свободного времени, чем когда вы здесь»[1009]. Рузвельт рассмеялся и ответил: «Что ж, отлично, Билл, желаю всем приятно провести время, пока меня здесь нет, потому что, когда я вернусь, я собираюсь нагрузить вас всех как следует».
Президента сопровождали Дэйзи Сакли и Лора Делано, которую все звали Полли, эксцентричная, не дающая скучать, яркая (особенно в отличие от Дейзи) дама с фиолетовыми волосами, двоюродная сестра Рузвельта, которая тоже жила в Райнбеке. Президент с нетерпением ждал этих дней отдыха, релаксации, купания в бассейнах с теплой минеральной водой из источников, которая прекрасно восстанавливала его силы. Жил он здесь в малом Белом доме, который построил в 1932 году, – одноэтажном простом каркасном домике белого цвета. Дейзи, чья спальня находилась здесь рядом со спальней Рузвельта, слышала каждый его приступ кашля ночью (и докладывала о нем доктору Брюэнну). Другие сопровождавшие президента располагались в коттеджах неподалеку. Целебные воды, несомненно, очень привлекали президента, как и то, что здесь он был вдали от Элеоноры, что означало, что к нему свободно могла приезжать Люси Резерфорд.
Заявление Молотова послу Японии Наотаке Сато, должно быть, принесло президенту большое облегчение. По крайней мере, ставка в одной из разыгрываемых партий принесла выигрыш. Однако, несмотря на то что Рузвельту удалось развеять опасения Сталина по поводу их взаимоотношений, по двум проблемам Сталин остался при своем мнении, как он написал в своем следующем сообщении к Рузвельту: «Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросу о капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника»[1010]. Кроме того, Сталина по-прежнему беспокоило, что между тем, как немецкая армия сражалась на Восточном и Западным фронтах, сопротивление, которая она оказывала на западе, было значительно меньше, чем на востоке: «Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель». Он также высказал недовольство тем, что некоторые военные сведения, которые предоставлял генерал Маршалл, «не соответствуют действительному ходу событий на Восточном фронте в марте месяце» (однако, в то же время, обращаясь с просьбой, чтобы генерал Маршалл продолжал поставлять имевшуюся информацию о противнике).
И все же Сталин не мог не знать, что все немцы испытывали ужас перед Красной армией и были готовы на все, только бы не попасть в плен к русским. Гитлер намеренно вселял в немецкий народ ужас перед русскими. В зачитанном по радио 24 февраля послании Гитлера говорилось о еврейско-большевистской чуме. Гитлер предупреждал, что если Красная армия победит[1011], то русские «убьют стариков и детей, надругаются над женщинами и девушками – превратят их в казарменных шлюх. А остальных – отправят пешком в Сибирь»[1012].
Но не от Гитлера впервые узнали немецкие солдаты, что Красная армия готовит для них и для их знаменитой столицы. Им было хорошо известно, что советские солдаты с нетерпением ждали возможности отомстить за те ужасные злодеяния, которые сами немецкие солдаты причинили русским. Они отлично знали, что они сами обращались с пленными русскими (не важно, с гражданскими или военными) как с последним отребьем. Советские солдаты и мирные жители были свидетелями злодеяний немцев, которые выгоняли военнопленных в открытое поле и оставляли там умирать, уничтожали целые села, мирных жителей сжигали заживо и расстреливали, оскверняли памятники культуры. Совершенно естественно, их переполняла ненависть ко всему немецкому.
Сталин предпринимал лишь символические усилия, чтобы сдерживать своих солдат. Он хорошо понимал, какая сила вот-вот вырвется на волю, и не собирался этому мешать. Он сказал Миловану Джиласу:
«Вы, конечно, читали Достоевского? Видите, насколько сложная штука человеческая душа, человеческий дух? Тогда представьте себе мужчину, который прошел войну от Сталинграда до Белграда – тысячи километров его собственной опустошенной земли, через трупы своих товарищей и самых близких людей! Как нормально может такой человек реагировать? И что страшного в том, если он развлечется с женщиной после таких ужасов? Вы думали, Красная армия идеальна. А она не идеальна, да и не может быть такой, даже если бы в ней не было определенного процента преступников – мы открыли наши тюрьмы и всех отправили на фронт»[1013].
Как показал результат опроса среди бойцов Второй красногвардейской танковой армии, проведенного ближе к концу войны, у 20 процентов из них были родственники, которых отправили в трудовое рабство в Германию, у 90 процентов были родственники, убитые или раненные немцами. За время своего боевого пути они прошли 2 430 деревень, сожженных дотла немецкими войсками[1014]. Немцы знали, что советские солдаты жаждали отмщения, и приближение Красной армии вселяло в них ужас, поэтому они оказывали ей отчаянное сопротивление и пытались сдаться в плен американским или британским войскам. Позднее Сталин скажет Хрущеву: «Немцы сосредоточили против нас главные силы и охотно были готовы сдаться американцам и британцам»[1015].
* * *
25 марта Сталин созвал своих военачальников в Москву для завершения разработки планов взятия Берлина. Для этого была составлена ударная группировка численностью 2,5 миллиона человек, на вооружении которой было 41 000 орудий, 6 250 танков и 7 500 самолетов[1016]. Вскоре произошло событие, которое очень порадовало Сталина. Вечером 31 марта у себя в кабинете в Кремле он принимал генерала Дина и его британского коллегу, адмирала Эрнеста Арчера, а также послов США и Великобритании Гарримана и Кларка Керра, которые явились для того, чтобы вручить ему телеграмму от генерала Эйзенхауэра[1017]. В своем сообщении Эйзенхауэр уведомлял Сталина, что предполагает обойти Берлин и сосредоточить силы на том, чтобы взять в кольцо промышленный район Рур. Сначала он намерен был нанести удар по центру, а затем произвести воссоединение с Красной армией в районе Регенсбург – Линц, чтобы нейтрализовать последнюю линию обороны Гитлера. Эйзенхауэр попросил Сталина телеграфировать в ответ о своих намерениях и дать ему знать, совпадают ли их планы. Сталин, очень обрадованный, ответил, что он согласен по всем пунктам, что план Эйзенхауэра о разделении немецких сил объединением советской и союзных армий совпадает с планом советского командования и что свой главный удар оно намерено нанести во второй половине мая. Он сообщил также, что противник постепенно наращивает свои силы на Восточном фронте, перебрасывая дивизии из Северной Италии и Норвегии. Он добавил предложение, которое, вероятно, позабавило Эйзенхауэра: «Берлин потерял свое прежнее стратегическое значение, поэтому Советское Главнокомандование думает выделить в сторону Берлина второстепенные силы»[1018]. Это была такая очевидная ложь, что Эйзенхауэр, вероятно, этому не поверил. Однако он был полон решимости избежать наступления на Берлин: по оценке генерала Омара Бредли, взятие Берлина могло стоить 100 000 американских жизней. (При осаде Берлина русские понесли потери в 361 367 человек[1019].) Так зачем ему тратить жизни американцев, раз он знал, что Сталину не терпелось попасть туда первым? Эйзенхауэр не делал из своего нежелания вести наступление на Берлин никакого секрета от штаба Главного командования союзных сил. Он говорил: «Берлин не представляет собой особо важной цели… На данном этапе, я считаю, было бы неразумно в военном отношении… ставить своей главной задачей взятие Берлина, особенно учитывая, что он находится всего в 35 милях от русских… Задача наших войск заключается в том, чтобы разгромить немецкие войска, а не растерять свои силы при захвате опустевших и разрушенных городов»[1020]. Эйзенхауэр считал, что не имеет смысла жертвовать жизнями американцев в боях за город, где в конечном итоге будет установлен контроль четырех государств, островком расположенный посреди советской зоны. Это мнение полностью совпадало с мнением Рузвельта, который полагал, что надо позволить русским проучить напоследок Германию (как он сказал Стимсону летом предыдущего года, «нужно, чтобы немецкий народ на себе испытал все те беззакония и злодеяния, которые он совершал против норм современной цивилизации»[1021]). Кроме того, оно совпадало и с мнением генерала Маршалла, который всегда горячо отстаивал интересы американских военных. Маршаллу приписывают такое высказывание: «Что касается лично меня, то, если не принимать в учет все материально-технические, тактические или стратегические соображения и последствия, я всегда выступаю против того, чтобы подвергать опасности жизни американцев в чисто политических целях»[1022].
Возглавлять штурм Берлина Сталин назначил далеко не второстепенного командующего, более того, он заставил генерала Рокоссовского и генерала Жукова соперничать за это право.
Сталин всегда испытывал благодарность к Эйзенхауэру. Никита Хрущев вспоминал: «В разговорах с людьми из своего ближнего круга Сталин всегда подчеркивал порядочность, благородство и рыцарство Эйзенхауэра в отношении своих союзников. Сталин сказал, что если бы не Эйзенхауэр, мы бы Берлин не взяли… Его бы заняли раньше нас американцы… Тогда… по-другому решался бы вопрос о судьбе Германии»[1023].
До того как отправить свою телеграмму Сталину, Эйзенхауэр не уведомил никого из тех, кого должен был бы: ни Объединенный комитет начальников штабов, ни своего собственного заместителя, маршала авиации Теддера. Этот необычный порядок действий, который, по сути, позволил держать премьер-министра Черчилля в неведении относительно этих планов, был своеобразным ходом, который сделал Рузвельт, чтобы не позволить Черчиллю вмешаться в принятие этого решения – весьма в стиле Рузвельта. Позволить Красной армии взять Берлин давало возможность, помимо прочего, сохранить жизнь многим американским военным, что делало этот план еще более привлекательным для Рузвельта. Он всегда помнил о той ошибке, которую совершили союзные войска после Первой мировой войны, не позволив немцам пережить горечь поражения в полной мере. Возвращавшихся домой в 1918 году немецких солдат приветствовали ликующие толпы, в Берлине так и не ступала нога иностранного солдата. Если же позволить теперь войти в Берлин Красной армии, состоящей в массе своей из жаждущей мести, плохо поддающейся дисциплине разнородной силы, это заставит немцев как следует осознать все свои заблуждения. Рузвельт считал, что русские заслужили свое право на месть, это было их право.
Когда премьер-министр Черчилль узнал о плане Эйзенхауэра, что произошло практически незамедлительно, он попытался вмешаться и изменить его. Уже на следующий день он отправил длинную, подробную телеграмму Рузвельту, которая была целиком посвящена лишь одной теме – Берлину: «Падение Берлина будет важнейшим символом поражения немецкого народа… Взятие Берлина русскими может придать им такой настрой, который в дальнейшем вызовет серьезные, значительные затруднения… Мы должны дойти как можно дальше на восток Германии, и Берлин окажется в пределах нашей досягаемости; мы, безусловно, должны его взять»[1024]. Он обвинил Рузвельта в одностороннем изменении согласованных ими планов. Это было серьезное обвинение, на которое Рузвельт так ничего и не возразил. В ответ он направил длинное, успокаивающее, уклончивое послание, состоявшее из подробного обсуждения военных планов союзников. В основе своей оно было составлено Маршаллом, но Рузвельт сказал Дейзи, что его написал он сам лично: он знал, какие это были планы и кто «направит объяснения У.С.Ч. [Уинстону С. Черчиллю] с обоснованием поддержки позиции Эйзенхауэра»[1025].
Через три дня после того, как Рузвельт умер, Эйзенхауэр приказал американской армии остановиться у Эльбы.
– Черт подери, кто это тебе приказал? – спросил его генерал Уильям Симпсон.
– Айк[1026], – ответил генерал Брэдли.
Глава 17 Смерть Рузвельта
В середине марта Рузвельт все еще позволял себе роскошь так и не иметь определенного решения, будет ли он присутствовать на открытии или закрытии конференции в Сан-Франциско, и 13 марта на пресс-конференции он прямо заявил об этом журналистам. Однако другое дело – убежденность Рузвельта в правильности его политики: тут он был непоколебим. Он был совершенно уверен, что было абсолютно необходимо продолжать сотрудничество с Советским Союзом. Он постоянно размышлял о том, как, планируя иметь Россию в качестве одного из четырех «полицейских государств», сохранять возможность хоть отчасти влиять на действия и решения маршала Сталина. При этом Рузвельт исходил не из идеалистической предпосылки, что они со Сталиным (и Америка с Советским Союзом) будут дружить, но из своего реалистичного прогноза, согласно которому, как он объяснил Макензи Кингу, «Россия будет очень сильным государством. И необходимо было обеспечить ее гарантированное присоединение к процессу разоружения»[1027]. Какой иной механизм, кроме еще находящегося в проекте Совета Безопасности, мог бы установить одинаковые правила игры, принципиально уравняв всех участников? Рузвельту было понятно, что придется пригласить самого опасного в мире лидера – Сталина – в свой стан, что означало выстраивать свои отношения с ним, придерживаясь непреклонной, но справедливой политической линии и стремясь не допустить раскола.
Эту мысль Рузвельт предельно четко сформулировал в своей очень короткой, но весьма содержательной инаугурационной речи, которую он произнес, стоя на Южном крыльце Белого дома пронизывающе холодным январским утром (без головного убора, без плаща) буквально перед самым отъездом на Ялтинскую конференцию. В этой речи была часть, которая совершенно явно была предназначена не столько Сталину, сколько высшему руководству союзников, внимательно следившим за тем, как Рузвельт строит свои отношения со Сталиным, а также высшему руководству Советского Союза, которое пыталось понять, насколько ему, Рузвельту, можно было доверять: «Мы усвоили простую истину, как выразился Эмерсон: “Если хочешь, чтобы у тебя был друг, сам будь другом“. Нам никогда не построить прочного мира, если мы будем относиться друг к другу с подозрением и недоверием или будем бояться один другого. Нам удастся его построить, если только мы будем действовать на основе взаимопонимания, доверия и отваги, которая проистекает из преданности своему делу»[1028]. Эта мысль пронизывала всю дальнейшую деятельность Рузвельта в оставшиеся несколько месяцев, еще отведенных ему. Весьма вероятно, что у Черчилля сердце уходило в пятки, когда он слушал эту речь (да и большинство других идей Рузвельта, высказанных в 1945 году).
Рузвельт был практичен как никто, но его практичность не была очевидна для современников. Он настаивал на безоговорочной капитуляции, это была еще одна удивительная, непонятная сначала идея. Но в этом не было никакого отвлеченного философствования о прекращении военных действий, лишь простой и эффективный способ избежать переговоров о заключении мира. Переговоров с немцами о заключении мира следовало не допустить ни при каких обстоятельствах, поскольку в лучшем случае это означало бы необходимость предварительной договоренности со своими союзниками, а в худшем – созыв мирной конференции. При любом раскладе он уже не имел бы полного контроля над ситуацией. Настаивая на безоговорочной капитуляции, Рузвельт мог вести отдельный диалог с каждым государством (по очереди), и в зависимости от того, как складывались обстоятельства, он мог на этой основе принимать решения. Этот подход президент облек в красивые слова, которые, как он любил повторять, когда-то генерал Грант великодушно говорил генералу Ли после капитуляции армии южан: «Пусть боевые кони вновь мирно пасутся на полях, нам нужно вернуться к искусству мира»[1029]. Но в самой идее безоговорочной капитуляции не было ничего великодушного – это был путь к власти.
Одержимость Рузвельта идеей образования Организации Объединенных Наций также была проявлением глубоко практического подхода к решению основной проблемы – предотвращения гонки вооружений. Рузвельт считал создание ООН самым эффективным способом сохранения мира между народами. Всемирная организация по поддержанию мира должна была стать наиболее эффективным методом сохранения контроля над вооружениями, а контроль над вооружениями был залогом мира во всем мире. Сильный международный орган (коим Рузвельт представлял себе Организацию Объединенных Наций), где четыре государства (пять, если считать Францию), вынужденные согласованно принимать решения, будут представлять собой военную силу, способную противостоять попыткам нарушить мир, будет выступать своеобразным мировым полицейским. Проводя совместную работу, различные государства мира будут одновременно присматривать друг за другом, контролировать друг друга и весь мир. Руководствуясь исключительно практическими соображениями, Рузвельт настаивал на том, чтобы Китай выступал в роли четвертой сдерживающей, «полицейской» силы, невзирая на то, что в то время эта страна была парализована внутренними и внешними распрями. Он понимал, что азиаты станут важным демографическим фактором будущего, поскольку население Азии огромно, но была и еще одна причина заинтересованности Рузвельта в Китае: он рассматривал его как сдерживающий фактор для России. Граница между Китаем и Россией – самая протяженная граница в мире, они будут внимательно наблюдать друг за другом.
Еще в январе 1941 года, обращаясь с речью к Конгрессу, Рузвельт провозгласил четыре вида свободы, и уже тогда ему было понятно, что лишь всемирная организация, которая будет действовать в первую очередь как правоохранительный орган, поможет достичь четвертого вида свободы – свободы от страха. Он заявил тогда: «Свобода от страха… если распространить ее на весь мир, означает последовательное сокращение вооружений во всем мире до такого уровня, чтобы ни одно государство в мире не смогло бы совершить акт физической агрессии против какого-либо соседнего государства»[1030]. Как сказал Рузвельт в разговоре с Макензи Кингом, уже к концу 1942 года было ясно, что «США, Великобритания и Китай не смогут победить Россию… Значит, необходимо склонить их всех к сотрудничеству между собой». А затем он добавил: «Только, ради бога, не выдавайте меня», – что особенно ярко характеризует умонастроения Рузвельта.
И теперь, в марте 1945 года, незадолго до начала конференции в Сан-Франциско, Рузвельт с нетерпением ждал того времени, когда ООН заработает в полную силу и можно будет проверить ее действенность. Кинг отметил в своем дневнике: «Ему даже хотелось бы, чтобы между какими-нибудь странами вдруг вспыхнул конфликт, тогда можно было бы испробовать те механизмы регулирования конфликтов, которыми располагала ООН. И посмотреть, как они сработают, прежде чем заключать многочисленные военные договоры»[1031].
Рузвельт очень хорошо понимал, что он являлся главой самой могущественной страны в мире – так почему же он предоставлял Сталину столько преференций? Он считал, что обязан был так поступить. Еще в ходе Ялтинской конференции Рузвельт дал Сталину понять, что, как он считал, совершенно необходимо было сделать в отношении Польши: «Я не хочу, чтобы у поляков были основания усомниться в легитимности выборов в Польше. Это не только дело принципа, сколько, в первую очередь, практической политики». Он ожидал, что Сталин будет воплощать эти принципы в жизнь. Рузвельт, конечно, не предполагал, что выборы в Польше пройдут по-американски свободно. В конце концов, исторически в Польше, как и в России, в основном было авторитарное правление, и невозможно было изменить это в одночасье, но Рузвельт действительно рассчитывал, что Сталин предоставит польскому народу определенную степень автономии, в том числе и различным разрозненным группам в правительстве. Важное значение имел и фактор явки избирателей на голосование.
Безусловно, Рузвельт понимал, что Сталина пугала перспектива возрождения Германии, ведь Сталин не раз озвучивал такое опасение. Трудно сказать, насколько глубоко он осознавал, как сильно Сталин этого боялся. В конце марта, в ходе визита чешской делегации, Сталин высказал эти опасения вслух:
«Мы, новые славянофилы-ленинцы, славянофилы-большевики, коммунисты, стоим не за объединение, а за союз славянских народов. Мы считаем, что независимо от разницы в политическом и социальном положении, независимо от бытовых и этнографических различий все славяне должны быть в союзе друг с другом против нашего общего врага – немцев… Многим кажется, что немцы никогда не сумеют нам угрожать. Нет, это не так… Уничтожить немцев нельзя, они останутся… Мы будем беспощадны к немцам, а союзники постараются обойтись с ними помягче. Поэтому мы, славяне, должны быть готовы к тому, что немцы могут вновь подняться на ноги и выступить против славян»[1032].
В свой последний день в Вашингтоне, на совещании, где Болен впервые увидел Рузвельта таким разозленным, президент и собравшиеся в Овальном кабинете Стеттиниус, Маклиш, Болен, Лихи, а также помощники госсекретаря совместно выработали текст второго послания Рузвельта к Сталину по польскому вопросу. С подачи Молотова предложение Кларка Керра и Гарримана о приезде в Москву польской временной комиссии было отклонено. В послании, которое было отправлено за подписью Рузвельта, а затем было одобрено и подписано также Черчиллем, говорилось, что такое решение было ошибочным: «Варшавское правительство не может по условиям [Ялтинского] соглашения претендовать на право выбирать или отклонять кандидатуры тех поляков, которые должны быть вызваны в Москву Комиссией для консультаций. Разве мы не можем согласиться с тем, что дело Комиссии выбирать тех польских деятелей, которые должны приехать в Москву?.. Мне ясно, что если право Комиссии выбирать этих поляков будет ограниченно или если Комиссия разделит это право с варшавским правительством, то будет уничтожен как раз тот фундамент, на котором покоится наше соглашение»[1033].
Историки, как правило, не придают значения тому, что после получения эмоциональной телеграммы Рузвельта от 4 августа[1034], помимо отмены договора с Японией, Сталин сделал еще одну значительную уступку: он изменил свое мнение о составе польского правительства. Правда, по вступительным словам ответного послания этого нельзя сказать, поскольку оно начинается следующим образом: «Дела с польским вопросом действительно зашли в тупик»[1035]. Но затем Сталин перешел к подробному и мотивированному обсуждению этой проблемы. Со слов Молотова Сталин искаженно изложил суть заявлений послов Кларка Керра и Гарримана: «…Ни один из членов Временного правительства не попадет в состав Польского правительства национального единства… Каждому члену Московской комиссии должно быть предоставлено право приглашать неограниченное число людей из Польши и из Лондона». Нет сомнений, что эти искажения были сознательно внесены Молотовым.
Но, упомянув это, чтобы обосновать свою позицию (и уделив данному вопросу значительно больше места и внимания), Сталин в дальнейшем пошел на попятную. Вполне вероятно, что это послание было составлено им совместно с Молотовым. Кроме того, возможно, теперь он понял, что Рузвельт и Черчилль не просили его отказаться от власти в Польше, они хотели, чтобы он соблюдал тот порядок действий, о котором они договорились в Ялте. Сталин писал, что «реконструкция Временного польского правительства означает не его ликвидацию, а именно его реконструкцию путем его расширения»[1036], а также что Временное польское правительство следует рассматривать как «наибольшую силу в Польше по сравнению с теми одиночками, которые будут вызваны из Лондона и из Польши», и что выбор должен остановиться на тех польских деятелях, которые «стремятся на деле установить дружественные отношения между Польшей и Советским Союзом». При формировании правительства Польши Сталин предложил придерживаться установок, подобных тем, которые были использованы при создании правительства в Югославии: «Что касается количественного соотношения старых и новых министров… то здесь можно было бы установить приблизительно такое же соотношение, какое было осуществлено в отношении правительства Югославии». (В правительстве Югославии расстановка сил была следующей: двадцать один правительственный пост заняли сторонники Тито и шесть – представители других групп.) Сталин завершил свое послание однозначно мирным предложением: «Я думаю, что при учете изложенных выше замечаний согласованное решение по польскому вопросу может быть достигнуто в короткий срок».
Сталин пошел на очень конкретную, очень значительную уступку. Он проинформировал о ней в послании к Черчиллю, своему самому большому критику. Кроме того, Сталин позаботился о том, чтобы президент Рузвельт заметил это: Громыко было поручено доставить оба его послания Рузвельту одновременно. Уступка было существенной: «Если Вы считаете необходимым, я готов был бы воздействовать на Временное польское правительство, чтобы оно сняло свои возражения против приглашения Миколайчика, если последний выступит с открытым заявлением о признании им решений Крымской конференции»[1037]. А поскольку Молотов сам на себя возложил обязанность осуществить выбор делегатов Временного польского правительства, и, по свидетельствам Гарримана и Кларка Керра, был решительно настроен против включения в число кандидатов Миколайчика, то такая уступка представляла собой поистине серьезный шаг навстречу. Она означала, что Сталин был готов действовать вопреки намерениям Молотова.
Одновременно с противостоянием Сталину по этим вопросам Рузвельту приходилось прилагать много усилий, чтобы сдерживать Черчилля, который настаивал на том, чтобы Рузвельт занял более жесткую, по сути, конфронтационную позицию по вопросу о Польше. Рузвельт отправлял Черчиллю телеграмму за телеграммой, удерживая его от поспешных действий. «В связи с этим я очень надеюсь, что на данном этапе Вы не будете отправлять дядюшке Джо никаких посланий – особенно потому, что, как мне кажется, отдельные места в тексте, который Вы предлагаете, могут вызвать реакцию, совершенно противоположную Вашим намерениям»[1038], – телеграфировал он Черчиллю 11 марта. На следующий день – еще одно одергивание. Рузвельт пишет премьер-министру: «Если выполнять Ялтинские соглашения, то большая часть тех нарушений, о которых Вы пишете в телеграмме № 909, будут исправлены»[1039]. Через три дня – еще одна отповедь, по сути дела, поучение о том, что Черчиллю следует придерживаться точки зрения Рузвельта: «Я не могу согласиться с тем, что мы имеем дело с нарушениями Ялтинского соглашения… Я изо всех сил призываю Вас без дальнейших проволочек дать свое согласие относительно этих поручений нашим послам – это в высшей степени важно… Я… по-прежнему считаю, что нам следует действовать более дальновидно, если мы хотим добиться желаемого результата»[1040]. Затем Рузвельт напоминает Черчиллю: «Вы, наверное, помните, что соглашение по Польше было компромиссом между советской позицией, предполагающей, что необходимо лишь «расширить» состав люблинского правительства, и нашим утверждением, что следует начать с чистого листа… Формулировка окончательного текста соглашения отражает этот компромисс… Если мы попытаемся игнорировать то, что мы оказали люблинским полякам чуть больше внимания, чем двум другим группам… мне кажется, это может привести к тому, что нас обвинят в пересмотре Крымского решения»[1041].
Рузвельт также напоминал Черчиллю, что им необходимо согласовывать свои политические решения со Сталиным. Так, в своем письме Черчиллю от 22 марта относительно ответа, который Черчилль хотел направить германскому верховному командованию по вопросу обращения с военнопленными, Рузвельт писал премьер-министру: «Я поддержу Вас, если маршал Сталин не будет возражать против этого»[1042]. В апреле, когда шло обсуждение позиции по Греции, Рузвельт вновь предостерегает Черчилля от создания двухсторонней комиссии: «Это будет выглядеть так, как будто мы со своей стороны проигнорировали Ялтинское соглашение о трехсторонних действиях на территории освобожденных районов. Это могут счесть признаком того, что Ялтинские решения для нас уже больше не имеют силы»[1043].
Маршалл и Стимсон полагали, что он был прав в этом отношении, что иного выбора у него фактически не было. Это понятно из такой записи в дневнике Стимсона, сделанной в начале апреля:
«Мы просто не можем допустить раскола между двумя <нашими> народами, это поставит под угрозу всеобщий мир… Маршалл сказал мне, что он ожидал, что эти проблемы возникнут. Он полагает, что это будут сложные проблемы, они вызовут серьезное беспокойство, но он уверен, что нам придется мириться с этой неизбежностью. Я сказал Стеттиниусу, что в прошлом Россия относилась к нам очень хорошо по всем важным вопросам. Она держала свое слово и выполняла свои обязательства. Нам нужно помнить, что она не искушена в тонкостях дипломатических отношений, и приготовиться услышать от нее грубости»[1044].
3 апреля, на следующий день, Стимсон еще более подробно описал подход Рузвельта к решению проблем путем достижения компромисса. Конкретных фамилий он не упоминает, да это ему и не нужно – всеми мыслями он был с Гарриманом и Дином, которые находились в России, на передовой: они практически каждый день должны были общаться с Молотовым. Стимсон и Маршалл относились к происходящему так же, как и Рузвельт:
«Между нашим правительством и русскими нарастает взаимное недовольство, и мне кажется, что в такой момент необходимо использовать все средства, которые есть в моем распоряжении, чтобы оказать сдерживающее влияние на некоторых людей, которые, видимо, испытывают все более отчетливое раздражение. Я сам не раз бывал в различных кризисных ситуациях и могу понять, как важно проявлять непреклонность в отношениях с русскими, но все, что нам сейчас нужно – это изложить свою точку зрения с максимальным хладнокровием и непреклонностью, а не проявить свое раздражение, и Маршалл согласен с этим»[1045].
Проблема с Гарриманом и Дином во многом возникла из-за того, что они слишком долго были в Москве. Жизнь иностранного дипломата в Москве была большим испытанием для любого. Постоянная слежка, невозможность свободно общаться с москвичами, бесконечная бюрократическая волокита, необходимость неделями и месяцами ожидать какого-либо решения, которые всегда принимались с задержкой из-за вездесущего российского страха принимать самостоятельные решения без одобрения сверху. Не удивительно, что они были психологически измотаны. Да и жизнь в «Спасо-хаусе» была непростой. Сам дом был мрачным, потому что некоторые окна были заколочены, были проблемы с продовольствием, несмотря на продовольственные посылки из Америки. Кроме того, в доме плохо работало отопление. Самая теплая комната в доме была у Роберта Мейкельджона, секретаря Гарримана, который раздобыл себе примус, и все любили сюда приходить, даже Кларк Керр и Гарриман. Особенно всех возмутило, что рождественские посылки были им наконец доставлены только в апреле. В Москве ничего, по сути, не изменилось с тех пор, как Рузвельт инструктировал посла Буллита в 1933 году: «Вы будете почти как капитан Берд – отрезаны от цивилизации, и, как мне кажется, Вам придется организовать всю экспедицию так, как будто Вам предстоит проплыть на корабле, целый год не заходя ни в один порт».
Несмотря на то что перед Черчиллем Рузвельт представал полностью уверенным себе, тем не менее сомнения у него были. Как-то Рузвельт, что, вообще-то, было ему несвойственно, поделился ими с Честером Боулзом, весьма умным человеком, бывшим рекламщиком, который служил в его администрации на различных должностях и впоследствии стал специальным помощником первого Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Трюгве Ли:
«Мы здесь пошли на большой, просто огромный риск, и это относится и к намерениям русских. У русских сейчас огромные проблемы, они находятся в очень трудной ситуации, вся страна лежит в руинах, и если у них есть здравый смысл, они поумерят свой пыл лет на двадцать, и тогда с ними можно будет иметь дело. Кардинально свои коммунистические убеждения, я думаю, они не изменили, но полагаю, что чисто практические проблемы пережитых бедствий и физическое разрушение страны заставят их по-другому приспосабливаться к миру. И мы должны их в этом всячески поощрять в меру своих сил. В то же время нам нужно не терять бдительности и следить за тем, чтобы они не поменяли свои установки, хотя, как мне кажется, они этого не сделают»[1046].
Затем, по словам Боулза, он сказал:
«Тем не менее кое-что начинает меня беспокоить». – И рассказал мне о лагере для военнопленных в Польше, где оказалось много американских военнопленных. В Ялте была достигнута договоренность об отправке к ним американских врачей и медсестер. Но этот плацдарм захватили русские и не пускают их туда, поэтому Рузвельт постоянно направляет срочные телеграммы нашему посольству в Москве. Он рассказал еще о двух-трех тревожащих его моментах… Он, в частности, сказал: «Я обеспокоен. Я по-прежнему считаю, что Сталин не будет с нами сотрудничать, если только он сойдет с ума, но, может быть, у него и намерений таких нет, в таком случае нам придется изменить свое мнение».
Как бы ни был Рузвельт «обеспокоен» всеми этими событиями, из этих слов ясно, что он не находился под влиянием Сталина, как годами утверждают многие его критики. Напротив, из них становится очевидно, что Рузвельт последовательно проводил линию, ведущую к достижению компромисса, поскольку он был уверен, что это позволит добиться успеха. Проблема военнопленных была решена и отошла на задний план, как он и надеялся.
В свой последний рабочий день в Вашингтоне, 29 марта, Рузвельт отправил еще одну наставительную телеграмму Черчиллю, в которой осторожно советовал ему:
«Я также с волнением и тревогой слежу за развитием отношений с Советским Союзом после Крымской конференции. Я прекрасно осознаю, какие опасности может заключать в себе такое развитие событий».
5 апреля Рузвельт провел пресс-конференцию в Уорм-Спрингсе. В это время у него находился с визитом президент Филиппин Серхио Осменья, с которым Рузвельт обсуждал вопрос о предоставлении этой стране независимости 13 августа. Франклин сообщил журналистам из пресс-пула, что он расскажет им одну историю. Он хотел бы, чтобы эта история была опубликована на следующий день после его возвращения в Вашингтон, то есть через неделю или дней десять.
Они задали ему вопрос о дополнительных голосах для России на Генеральной Ассамблее ООН, и Рузвельт рассказал им грубоватую, но забавную историю, анекдот (насколько все это соответствует истине, никто не знает):
«Сталин мне сказал: “Вы знаете, в России есть две территории, которые были полностью разорены. Были уничтожены почти все здания, все крестьянские дворы, а на этих территориях проживали миллионы людей. И нам кажется, в ознаменование грядущей победы нужно что-то дать им, это очень важно с точки зрения гуманности. Эти территории были не очень высокоразвитыми областями. Одна из них – это Украина, а другая – Белоруссия. Нам всем кажется (у нас в правительстве нет ни одного человека оттуда), мы считаем, что было бы уместно дать им голос на Ассамблее. Миллионы людей на этих двух территориях были убиты, и мы думаем, что было бы очень отрадно, могло бы помочь им в восстановлении, если бы мы могли получить для них голоса на Ассамблее“.
Он спросил меня, что я об этом думаю.
Я сказал Сталину: “Вы собираетесь обратиться к Ассамблее с такой просьбой? “
Он сказал: “Я думаю, что нам следует сделать это“.
Я сказал: “Я полагаю, что все будет в порядке – но не знаю, как проголосует Ассамблея“.
Он сказал: “Вы бы поддержали это? “
Я сказал: “Да, в основном по сентиментальным соображениям. Если бы я был в составе делегации, куда я не вхожу, то я, вероятно, проголосовал бы «за»“.
Это еще не публиковала ни одна газета.
Он сказал: “Таким образом, это был бы Советский Союз, плюс Белоруссия, плюс Украина“.
Тогда я сказал: “Между прочим, если на конференции в Сан-Франциско Вам предоставят три голоса на Ассамблее, если Вы получите три голоса, я не знаю, что произойдет, если я тут же не подам запрос на предоставление трех голосов и Соединенным Штатам“. И еще добавил: “А я подам запрос о предоставлении для трех голосов и буду настаивать на том, чтобы их нам предоставили“.
На самом деле все это не имеет большого значения. Это не более чем надзорный орган. Я сказал Стеттиниусу, что об этом можно не беспокоиться. Мне не так уж позарез нужны эти три голоса на Ассамблее. Они больше нужны этому коротышке. А все эти заботы о количестве голосов на Ассамблее – особенной разницы это не имеет»[1047].
Затем Рузвельта спросили, действительно ли «они ничего не решают»? И он ответил: «Нет».
На следующий день, 6 апреля, Рузвельту вечером пришла мысль выпустить марку в честь открытия ООН, на которой было бы просто написано: «25 апреля 1945, в честь Объединения Наций». Связались с руководителем почтового ведомства, Фрэнком Уокером, и было быстро принято решение, что после того, как президент одобрит дизайн марки, она будет выпущена 25 апреля, в день открытия конференции в Сан-Франциско.
Теплые источники благотворно влияли на Рузвельта. Силы, казалось, возвращались к нему. Еще в конце марта в Вашингтоне доктор Брюэнн отмечал, что президент слишком много работает и выглядит «очень плохо (цвет лица землистый)», а после недели, проведенной на теплых источниках, Брюэнн писал, что наблюдается «явное улучшение»[1048]. Дейзи тоже считала, что Рузвельт восстанавливает силы. Он напомнил ей, что с нетерпением ждет своего выхода на пенсию в следующем году, «после того как он проследит, чтобы организация по поддержанию мира заработала как следует»[1049]. 8 апреля она записала в своем дневнике: «С каждым днем он очень медленно, но идет на поправку. Это проявляется по-разному. Он и сидит немного прямее в своем кресле, и голос у него становится чуть яснее и сильнее, и лицо его делается не таким осунувшимся, он становится счастливее»[1050]. На следующий день приехали Люси (Мерсер) Резерфорд и ее подруга Элизабет Шуматофф, которая собиралась рисовать портрет Рузвельта. В тот вечер Дэйзи записала, что «Ф. выглядит великолепно».
13 апреля, в день рождения Джефферсона, Рузвельт должен был выступать с важной речью, которую должны были транслировать все крупные радиокомпании. Утром 11 апреля он работал над окончательным вариантом речи с Дороти Брэди, которая была одним из его секретарей. В этой речи Рузвельт процитировал слова Джефферсона, которые Шервуд позже использовал как первый «забойный» аргумент в дискуссии о том, стоит ли делиться с Россией информацией по атомной бомбе:
«Томас Джефферсон, сам выдающийся ученый, однажды сказал: “Братский дух науки объединяет в одну семью всех, кто ей служит, какое бы положение они ни занимали и как ни разбросаны они были бы по всем уголкам земного шара“»[1051].
От этого утверждения Рузвельт плавно перешел дальше и сказал: «Сегодня благодаря науке разные страны мира стали так близки друг к другу, что изолировать их друг от друга теперь невозможно.
Сегодня мы должны считаться с неоспоримостью того факта, что, если цивилизация хочет выжить, мы должны культивировать науку человеческих отношений – способность всех народов, всех национальностей жить вместе и мирно работать вместе».
Тем утром Рузвельт работал не только над этой речью, он также читал телеграммы, записки, письма и законопроекты, которые необходимо было отправлять ежедневно. Он посмотрел и одобрил три важных послания (одно Сталину и два – Черчиллю), которые поступили к нему на утверждение из Штабной комнаты. С посланиями Рузвельт был полностью согласен, они абсолютно соответствовали его политике. Примечательно, что все три телеграммы были посвящены тому, чтобы обеспечить взаимодействие и взаимопонимание между Черчиллем, Сталиным и им самим. По ним также можно судить о методе управления, который использовал Рузвельт. Он заявил обоим руководителям, что в Берне было лишь «незначительное» недоразумение, и, определив эту ситуацию именно так, он тем самым перевел ее в разряд незначительных.
Сталину он писал:
«Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы.
Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся».
Это послание было сначала отправлено, как и вся подобная переписка, обратно в Штабную комнату, откуда оно было телеграфировано Гарриману в посольство США в Москве. Получив его, Гарриман должен был уведомить о нем Молотова и передать его адресату в Кремле.
В своем первом послании премьер-министру Рузвельт вел речь о телеграмме немецкому правительству, которую они по настоянию Черчилля должны были совместно подписать. Телеграмма касалась вопроса о допуске представителей Красного Креста на территорию оккупированной немцами Голландии, чтобы накормить голодающее гражданское население этой страны. «Вы можете отправить ее [эту телеграмму] как наше совместное послание, при условии, что Сталин даст на это свое согласие»[1052], – писал Рузвельт Черчиллю.
Второе послание Черчиллю развеивает всякие сомнения по поводу якобы изменившегося подхода Рузвельта в отношениях со Сталиным. По сути дела, в этом послании содержится еще одно подтверждение неизменности его политики:
«Я бы по возможности сводил к минимуму советскую проблему как таковую, потому что подобные проблемы разного рода, в той или иной форме, как представляется, возникают каждый день, и большинство из них можно успешно решить, как в случае с Бернской встречей.
Мы, однако, должны оставаться непреклонными, мы все это время придерживаемся правильного курса»[1053].
Завершив работу над всеми документами и вопросами, которые требовали его внимания, Рузвельт сделал перерыв на ланч. Он обедал с женщинами: Дэйзи, Лаурой Делано, Люси Резерфорд, подругой Люси Элизабет Шуматофф и Дороти Брэди, своим секретарем. После обеда он вышел на террасу с Дороти Брэди и сделал завершающие поправки в своей речи в честь дня рождения Джефферсона. Рузвельт сказал своему секретарю Грейс Талли, что на следующее утро он приступает к работе над своим обращением к Организации Объединенных Наций.
День был прекрасный, «воздух чудесный, теплый», по словам Дейзи, поэтому ближе к вечеру она, Люси, Фала и Рузвельт катались пару часов на машине.
К ужину ожидали Моргентау. Приехав в семь часов, он застал Рузвельта сидящим за ломберным столиком, поставив ноги на плетеный табурет, а перед ним стояли напитки, лед и стаканы – он делал коктейли. «Я был просто потрясен, увидев его, – вспоминал Моргентау, – мне показалось, что он ужасно постарел и выглядел очень изможденным. Руки у него тряслись так, что он даже бокала не мог удержать, он опрокидывал их, и мне приходилось держать бокал каждый раз, как он наливал коктейль»[1054]. Он выпил два коктейля и после этого, видимо, почувствовал себя немного лучше. Он говорил о Сан-Франциско. «Я поеду на своем поезде и в три часа дня выйду на сцену. Выступать буду, сидя в коляске. Произнесу речь». Потом он скривился, как рассказывает Моргентау, хлопнул в ладоши и сказал: «А затем они зааплодируют мне, и я уйду».
В Москве, между тем, Гарриман, которому опостылели и Молотов, и Сталин после всех пререканий, которые самому Гарриману и Кларку Керру пришлось выдержать с ними по вопросу формирования польского правительства, и несогласный с выраженным в послании мнением Рузвельта о необходимости минимизации конфликта, придержал у себя это послание вместо того, чтобы передать его Молотову. Наряду с этим он, в свою очередь, отправил телеграмму Рузвельту, выступив с «почтительным» предложением помедлить с передачей послания Сталину с тем, чтобы у президента и премьер-министра было достаточно времени скорректировать свои позиции по данному вопросу и выработать единую линию поведения в отношении Сталина. Что еще более существенно, Гарриман предложил президенту убрать слово «незначительное» из текста послания, поскольку, как писал Гарриман, «я должен признаться, что это недоразумение, как мне представляется, весьма серьезное»[1055]. Рузвельту было совершенно безразлично, что там представляется Гарриману. Наоборот, ему было крайне важно сохранить хорошие отношения со Сталиным, и он не желал, чтобы здесь произошел какой-нибудь срыв. Рузвельт был намерен решительно предотвращать всякий повод к расколу. Это было хорошо известно Лихи, который находился в Вашингтоне. Он знал, что Рузвельт не согласится с этими предложениями Гарримана, и двенадцатого апреля утром отправил из Штабной комнаты на утверждение Рузвельту ответную телеграмму для Гарримана следующего содержания: «В ответ на послание Черчилля № 940 я процитировал мое послание Сталину. Таким образом, Черчилль полностью в курсе, и в промедлении с доставкой Вами моего послания Сталину необходимости нет. По Вашему второму вопросу. Я не желаю, чтобы слово «незначительное» было опущено, поскольку в мои намерения входит считать бернский инцидент незначительным недоразумением»[1056].
Когда на следующее утро Рузвельт проснулся, у него слегка болела голова и сильно затекла шея. Доктор Брюэнн помассировал ему шею. Утренние часы Рузвельт провел, как обычно, перед камином, сидя, как он часто делал, в своем кожаном кресле, которое было поставлено поближе к ломберному столику, сплошь покрытому документами из дипломатической почты, доставленной из Белого дома для ознакомления. Президент ставил свою визу, подписывал различные документы, которые Хассет раскладывал перед ним. В тот день диппочту доставили необычайно поздно, и президент понимал, что до обеда уже не останется времени на то, чтобы начать составлять свою речь для выступления в Сан-Франциско. Он поговорил с Дьюи Лонгом, ответственным в администрации президента за организацию поездок. Рузвельт планировал быть в Вашингтоне 19 апреля и выехать в Сан-Франциско на следующий день в полдень. Сейчас Франклин сказал Лонгу, что хочет, чтобы поезд следовал в Сан-Франциско по кратчайшему пути, а не по живописному маршруту.
Лихи представил на рассмотрение президента сообщение Гарриману, на котором должна была стоять подпись Рузвельта. Это сообщение пришло из Штабной комнаты в Уорм-Спрингс в 10:50. В 13:06 в Штабную комнату пришло сообщение от Рузвельта. В нем было только одно слово: «Одобрено»[1057]. Через девять минут после этого, в 13:15, президент сказал, глядя на Дейзи и положив левую руку на затылок: «У меня ужасно болит затылок»[1058]. Он рывком упал вперед и потерял сознание. Больше он в себя не приходил. В 15:30 он умер.
Все его великолепные планы: лично председательствовать на конференции в Сан-Франциско, затем совершить триумфальное турне по Европе, а потом сойти с корабля и проехать парадным кортежем по Лондону сквозь ликующие толпы народа в Букингемский дворец и нанести визит королю и королеве Англии, а по окончании своего президентского срока, может быть, стать первым Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций («модератором», как он это себе представлял), – все это теперь развеялось, как дым. Люди во всем мире остро ощутили неожиданную утрату после смерти этого лидера. Томми Коркоран, один из первых членов его администрации, написал: «Я думал, что как только война закончится, он уйдет в отставку с поста президента, чтобы возглавить… Организацию Объединенных Наций, и станет всемирным председателем»[1059], – высказав тем самым надежды многих.
Часто причиной смерти Рузвельта называют его повышенное давление и слабое сердце, но это были лишь сопутствующие факторы, его смерть наступила не из-за этого[1060]. Непосредственной причиной смерти Рузвельта, которая, по словам доктора Брюэнна, грянула просто «как гром среди ясного неба», стало субарахноидальное кровоизлияние, вызванное аневризмой головного мозга, как определил позднее диагноз доктор Брюэнн. Подобная аневризма может развиваться в организме в течение многих лет. И разорваться она могла когда угодно – Рузвельт мог умереть и намного раньше.
* * *
12 апреля один из сотрудников дипломатической службы в посольстве США в Москве, Джон Мелби, устраивал прощальный вечер по случаю своего окончательного отъезда. Празднование в «Спасо-хаусе» было уже в разгаре, когда, уже далеко за полночь, дежурный по посольству позвонил послу Гарриману и сообщил ему, что он только что услышал в ночном выпуске новостей по радио, что умер президент США. Вечеринка уже постепенно заканчивалась, когда Гарриман вернулся в зал, где шло празднование, и сообщил всем собравшимся это известие. Как только он договорил, музыка сразу же смолкла, и все тут же покинули зал.
Поскольку Сталин был «совой» и постоянно работал всю ночь до раннего утра, все его сотрудники в Кремле работали по такому же распорядку. Поэтому, когда Гарриман позвонил Молотову, чтобы сообщить ему это известие, на его звонок ответил помощник Молотова Михаил Потрубах, который все еще находился на своем рабочем месте. Гарриман сказал, что хотел бы видеть Сталина и Молотова «во второй половине дня, может быть и раньше, если это возможно», а потом перезвонил ему через пять минут и попросил организовать ему встречу с Молотовым той же ночью. Как вспоминал Потрубах, «посол был явно не в себе»[1061]. Передав Молотову эту просьбу, Потрубах перезвонил Гарриману и сказал, что Молотов приедет в «Спасо-хаус» «немедленно, если послу Гарриману это удобно»[1062].
Молотов был обычно сдержан, холодно вежлив, но когда приехал той ночью в «Спасо-хаус», как вспоминал Гарриман, «он, казалось, был глубоко тронут и встревожен… и провел там некоторое время, говоря о том, какую важную роль сыграл президент Рузвельт в войне и в составлении мирных планов, с каким уважением относились к нему маршал Сталин и все русские люди, как высоко ценил маршал Сталин приезд президента в Ялту… Никогда раньше я не слыхал, чтобы Молотов говорил так искренне»[1063]. На следующий вечер Гарриману была назначена встреча в Кремле со Сталиным.
Когда на следующий день в 8 часов вечера Гарриман вошел в кабинет Сталина, там, как обычно, присутствовал и Молотов. Проявление эмоций было совершенно не свойственно Сталину, ни в одних воспоминаниях или рассказах очевидцев не упоминается, чтобы он проявил эмоциональность или поприветствовал кого-либо иначе, чем сухим, формальным рукопожатием. Однако в тот момент Сталин встречал Гарримана стоя, и, здороваясь, он взял его руку и задержал ее в своих руках. Так они и стояли – высокий, худощавый Гарриман и приземистый, коренастый Сталин, – пока маршал не выпустил руку Гарримана, затем они сели. Маршал, по словам Гарримана, был «глубоко потрясен и очень опечален, таким я его еще никогда не видел»[1064].
Сталин начал расспрашивать об обстоятельствах смерти Рузвельта. Он хотел удостовериться, что Рузвельт не был отравлен. Затем Сталин заявил о своей уверенности в том, что «при Трумэне в политике Америки не будет никаких перемен», несомненно, надеясь, что в ответ услышит какое-нибудь прояснение на этот счет – либо подтверждение этой мысли, либо несогласие с ней. Гарриман заверил Сталина, что перемен не будет, и пояснил, что послужило для Рузвельта основной причиной при выборе кандидатуры Трумэна: «Президент понимал, что ему необходимо будет добиться от Сената одобрения своих мирных планов… Вот почему, главным образом, на пост вице-президента он выбрал сенатора Трумэна»[1065]. Затем Гарриман вкратце проинформировал Сталина о том, какие возможные неопределенности и изменения неизбежно повлечет за собой внезапный приход к власти президента Трумэна, после чего Сталин воскликнул: «Президент Рузвельт умер, но дело его должно жить. Мы будем всеми силами и со всей готовностью поддерживать президента Трумэна».
Затем они побеседовали на тему конференции в Сан-Франциско. Гарриман упомянул о том, что Рузвельт был весьма огорчен предполагаемым отсутствием министра иностранных дел Советского Союза Молотова на этой конференции, президент выражал опасения, что это будет истолковано как знак возможного раскола между Россией и другими державами, чьи министры иностранных дел будут там присутствовать. Более того, это может также быть воспринято как показатель того, что Россия просто не придает первостепенного значения самой Организации Объединенных Наций. Сталин ответил, что он хотел бы незамедлительно заверить американский народ в своей приверженности дальнейшему сотрудничеству с этой страной. В связи с этим Гарриман предложил для подкрепления этих слов делом направить Молотова в Сан-Франциско. Кроме того, посол США высказал предложение, чтобы на пути в Сан-Франциско Молотов сделал бы остановку в Вашингтоне для встречи с Трумэном. Сталин задал несколько вопросов: было ли все сказанное Гарриманом только его личным мнением или это точка зрения нового президента и государственного секретаря? После того как Гарриман заверил его, что это мнение его личное, но правительство, которое он представляет, поддерживает его, «маршал Сталин однозначно заявил, что поездка г-на Молотова в Соединенные Штаты будет организована, хоть это и будет затруднительно»[1066]. Молотов не принимал участия в этой беседе, но во время их разговора, как вспоминал Гарриман, «г-н Молотов постоянно бормотал: “Время, время, время“». Гарриман мог воочию наблюдать, что послужило препятствием для поездки Молотова в Сан-Франциско: это был сам Молотов. На глазах у американского посла Молотов демонстрировал свое откровенное нежелание подчиняться приказам. Именно он настаивал на том, чтобы не ехать в Сан-Франциско, и Сталин, по-видимому, лишь уступил его давлению. Но теперь Сталин взял дело в свои руки, и Молотову не оставалось ничего другого, кроме как ехать туда вне зависимости от своего желания. В конце беседы, при прощании, Сталин ободряюще сказал Гарриману: «Наша политика в отношении Японии, как было решено на Крымской конференции, остается неизменной»[1067].
Сталин приказал, чтобы в Советском Союзе был объявлен национальный траур. Все правительственные учреждения в Москве получили распоряжение вывесить траурные флаги на своих зданиях. Это было что-то неслыханное – оказывать такую честь буржуазному лидеру капиталистической страны. Кэтлин Гарриман писала своей подруге Памеле Черчилль: «Господи, это было поразительно. Красные флаги с черной каймой вывесили сегодня на всех домах, по всей Москве – такого я никогда не предполагала». Буквально весь советский народ, люди всех слоев общества реагировали так, как будто они потеряли настоящего друга. Всемогущий Совет Народных Комиссаров «предложил» всем правительственным учреждениям вывесить на своих зданиях траурные флаги, что, конечно же, и было сделано. Черной каймой были отмечены не только флаги, первые страницы всех советских газет с известием о смерти президента также были окаймлены черным. Несколько дней смерть Рузвельта оставалась главной темой новостей. На первой странице газеты «Известия» от 13 апреля было напечатано соболезнование Сталина Элеоноре Рузвельт, в котором он назвал президента «великим организатором борьбы свободолюбивых наций против общего врага и… лидером в деле обеспечения безопасности всего мира»[1068]. Как стало ясно из советских архивных материалов, на самом деле это письмо было написано совместно Молотовым и Сталиным. При этом слова «великий организатор» написаны рукой Сталина вместо слов Молотова «друг и товарищ по оружию в борьбе против нашего общего врага». Характерно, что в «Известиях», кроме того, совершенно в духе нацеленности марксизма на классовую борьбу, а также потому, что Сталин лично просматривал гранки газеты перед публикацией, Рузвельта описывали не как капиталиста, а как союзника рабочих: Рузвельт «следовал Новым путем, направленным на ограничение монополий и на улучшение социальных условий жизни широких масс людей… лидер великой демократии за океаном». В статье говорилось о «прогрессивном мышлении» Рузвельта, «его непримиримости перед лицом фашистской агрессии и желании обеспечить безопасность в будущем».
Письмо Сталина президенту Трумэну, в котором он писал об исторической роли Рузвельта как «величайшего политика мирового масштаба и глашатая мира и безопасности после войны», было также опубликовано на первой полосе газеты. А в газете «Правда» была длинная статья, озаглавленная «Глашатай мира и безопасности». Она заканчивалась такими словами: «Пусть эта дружба, закаленная в военное время, процветает, как поистине грандиозный памятник безвременно скончавшемуся Президенту Рузвельту». «Правда», кроме того, посвятила свои страницы описанию подробностей похорон в столице и даже напечатала выдержки из так и оставшейся лишь на бумаге речи Рузвельта по случаю дня рождения Джефферсона, в том числе его призыв к окончанию войн: «Работа, мои друзья, – это мир. Больше, чем конец этой войны, – конец всех войн. Да, конец, полное прекращение этого непрактичного, нереалистичного урегулирования разногласий между правительствами посредством массового убийства народов».
Гарри Гопкинс отправил Сталину телеграмму, в первом предложении которой было предупреждение о том, что смерть Рузвельта принесет проблемы для Советского Союза: «Я хочу, чтобы Вы знали: я чувствую, что Россия потеряла своего величайшего друга в Америке. Президент был глубоко впечатлен Вашей решительностью и уверенностью в том, что нацистские тираны во всем мире будут навсегда изгнаны из власти»[1069]. В ответном письме Сталин молчаливо признал предупреждение: «Я полностью согласен с Вами… Я лично глубоко опечален потерей верного друга, человека великого духа»[1070].
Коммунистическая партия и НКВД, следуя политике правительства постоянно проверять и анализировать общественное мнение относительно важных событий, пришли в выводу, что советские люди обеспокоены тем, каким будет отношение к ним преемника Рузвельта. Причина отчасти заключалась в том, что Рузвельт стал чрезвычайно популярен в советском обществе. Наряду с этим это объяснялось также и тем, что советским людям было известно, что в Америке по-прежнему подспудно существуют антироссийские настроения. «Известие о смерти президента США Франклина Рузвельта встречено в Москве с чувством искреннего соболезнования и глубокого сожаления по поводу его безвременной кончины… Наряду с этим выражается чувство озабоченности тем… продолжит ли преемник Рузвельта, Трумэн, политику Рузвельта по наиболее важным вопросам войны, мира, послевоенной безопасности, а также в отношении Советского Союза»[1071].
Мир и безопасность – вот что символизировал Рузвельт для русского народа. И для Сталина тоже, как это стало ясно в конце мая в ходе визита Гопкинса в Москву.
Через два дня в посольстве США была проведена простая поминальная служба. На ней присутствовали все высокопоставленные представители военного командования всех родов войск, Молотов и все члены его комиссариата, все высокопоставленные иностранные дипломаты в Москве, весь состав посольства США и все американские военнослужащие в Москве, а также приглашенные журналисты.
В тот же день чуть позже Гарриман поехал в Кремль для разговора со Сталиным. За несколько недель до этого, вопреки всем приказам, экипаж самолета американских ВВС на авиабазе в районе Полтавы переодел поляка-антикоммуниста в американскую форму, спрятал его в своем самолете и тайком вывез с авиабазы. И теперь Сталин выражал свой гнев Гарриману по этому поводу, обвиняя все ВВС США в сговоре с антикоммунистическим польским подпольем. Это означало, сердито парировал Гарриман, что своими обвинениями Сталин «поставил под сомнение лояльность генерала Маршалла». Ответ Сталина примечателен своей прямотой и одновременно тем, что он в скрытой форме являлся извинением: «Генералу Маршаллу я бы доверил свою жизнь. Виноват не он, а младший офицер». Гарриман воспользовался необычностью момента после такого заявления и сказал, что Рузвельт считал: основной проблемой, из-за которой произошло ухудшение советско-американских отношений, была Польша. Гарриман полагал, что, когда Молотов будет в Америке, ему, таким образом, следует пытаться найти общий язык на эту тему со Стеттиниусом и Иденом. Реакция на эти слова поразила Гарримана. Молотов, который, как обычно, присутствовал при разговоре, «что-то проворчал… Однако Сталин заверил Гарримана, что поручит Молотову найти с ними общий язык… “И чем скорее, тем лучше“, – сказал он, отклоняя всяческий протест своего несчастного наркома иностранных дел».
Глава 18 Гопкинс поворачивает колесо истории вспять
Рузвельт, которому не давали покоя воспоминания о том, как Сенат заблокировал идею президента Вильсона, всегда осознавал фундаментальную силу Сената в деле продвижения или торможения внешней политики. В этой связи Трумэн для него всегда был привлекательной фигурой, поскольку тот был честным, трудолюбивым и снискавшим популярность сенатором. Поэтому Рузвельт взял его к себе в команду в качестве вице-президента, чтобы повысить шансы утверждения в Сенате идеи создания Организации Объединенных Наций как всемирной организации и решающего условия обеспечения мира.
Однако, хотя Рузвельт и знал Трумэна как большого труженика и честного человека, он никогда не уделял время тому, чтобы просветить его насчет своих планов, ввести его в свой круг. Он действительно едва общался со своим новым вице-президентом. Его внимание было по-прежнему сосредоточено на завершении войны, обеспечении безоговорочной капитуляции Германии и создании новой организации, конференция по учреждению которой должна была состояться в Сан-Франциско, причем почти всем этим он занимался лично. Введение в курс дела нового вице-президента предполагалось позже, летом. «Огромное желание Рузвельта создать эту международную организацию, отвечавшую за обеспечение мира, для мира, наконец, начало осуществляться, – откровенничала Дейзи Сакли в своем дневнике 31 марта. – По сравнению с этим все остальное не имело никакого значения»[1072]. Трумэн даже не имел доступа в Штабную комнату при Рузвельте-президенте, первый раз он там появился уже после смерти Рузвельта.
Визит Молотова в Вашингтон начался достаточно успешно, но завершился с советской точки зрения полным провалом. Когда министр иностранных дел прибыл в США, Трумэн кратковременно посетил его в «Блэр Хаусе», официальной резиденции для важных иностранных гостей, в которой остановился Молотов, и они обменялись короткими любезностями. На следующий день в 17:30 Молотов встретился с Трумэном в Овальном кабинете. На встрече присутствовали два переводчика, Болен и Павлов, и послы Гарриман и Громыко, а также Лихи.
Трумэн скрупулезно (насколько это было возможно сделать в течение короткого времени) ознакомился с последними тенденциями внешнеполитического курса страны. Он изучил стенограммы и документы Ялтинской конференции, побеседовал со своими специалистами в области внешней политики. В рамках подготовки к визиту Молотова он встречался со Стеттиниусом, Стимсоном, Маршаллом, министром ВМС Джеймсом Форрестолом, Гарриманом и Дином, которые изложили ему свое мнение по внешнеполитическим вопросам и порекомендовали ему позицию, которую, по их мнению, ему следовало занять с представителем СССР. Стеттиниус, не выступая за необходимость каких-либо изменений в отношениях с Россией, все же сказал Трумэну, что ситуация вокруг Польши была крайне запутанной, а он слышал, что русские были готовы настаивать на признании польского правительства в Люблине и на том, чтобы именно оно представляло Польшу на конференции в Сан-Франциско. Стимсон, опасаясь, что с учетом бескомпромиссности советской политики могут быть внесены изменения в политический курс Рузвельта, посоветовал Трумэну «быть очень осторожным и посмотреть, нельзя ли уладить этот вопрос, не провоцируя прямой конфликт с Советским Союзом»[1073]. (Понимая, что проведение честных и свободных выборов в Польше – это пустые надежды, он написал этим вечером в своем дневнике: «Из своего опыта внешнеполитической деятельности я отлично знаю, что, кроме США и Великобритании, больше нет стран, имеющих реальное представление о том, что это такое – честные свободные выборы».) Маршалл поддержал предложение Стимсона «продолжать практику строительства отношений на дружеской основе», однако остальные (Форрестол, Дин, Гарриман и Лихи) были другого мнения и выступили за занятие жесткой позиции. Лихи, который просветил Трумэна о том, как бесцеремонно нарушил Сталин свои обязательства, данные на Ялтинской конференции[1074], высказал мысль, которая явилась консенсусом мнений как Форрестола, Дина, Гарримана и его собственного, так и мнения Маршалла и Стеттиниуса: Трумэн должен продемонстрировать в отношении Молотова «сильную американскую позицию»[1075].
Есть разные версии той беседы, которая состоялась при встрече президента и Молотова в Белом доме. Существует предположение, что Молотов начал с вопроса насчет достигнутых в Ялте в отношении Дальнего Востока договоренностей, все еще сохраняемых в тайне: был ли намерен Трумэн соблюдать их? Трумэн заверил Молотова, что эти обязательства будут выполнены американской стороной. Затем они обсудили Польшу.
По воспоминаниям Болена, когда Молотов завел речь о тех поляках, которые действовали против Красной армии (что было реальным фактом), Трумэн «твердо и энергично» заявил, что он просит Молотова передать Сталину свою озабоченность в связи с неисполнением Советским Союзом соглашений, достигнутых в Ялте. В ответ на это «Молотов слегка побледнел и попытался вновь вернуться к обсуждению вопроса, касавшегося Дальнего Востока», однако Трумэн завершил беседу словами: «На этом все, господин Молотов. Я был бы признателен, если бы вы передали мое мнение маршалу Сталину». – И простился с ним.
Трумэн вспоминал ход этой беседы немного по-другому. По его воспоминаниям, Молотов сказал: «Со мной никогда в жизни не разговаривали подобным образом», – в ответ на что он, Трумэн, заявил: «Выполняйте соглашения, и с вами не будут разговаривать подобным образом»[1076]. Тем не менее советник Трумэна по вопросам ВМС адмирал Роберт Деннисон, хотя никогда и не комментировал именно данную беседу, косвенным образом сделал это, поделившись с историком Уилсоном Мискэмблом, автором книги «От Рузвельта к Трумэну», различными воспоминаниями. Деннисон, в частности, сообщил Мискэмблу, что после «совершенно нормальной и любезной беседы с гостем… и после ухода гостя он сказал мне, буквально, следующее: «Я, безусловно, поставил его на место», – или же: «Я задал ему жару…» Эта реплика президента не имела никакого отношения к той беседе, при которой я только что присутствовал»[1077]. Ни Болен, ни Громыко не подтверждают версии Трумэна о том, что тот сказал, хотя оба соглашаются с тем, что он был резок. Громыко писал о беседе следующее: «Совершенно неожиданно (еще в середине нашей беседы) Трумэн вдруг привстал и дал знак, что разговор окончен»[1078]. Громыко также отметил: «Почти сразу же после этого в советско-американских отношениях появилась серьезная напряженность»[1079].
Гарриман утверждает, что он был шокирован прямотой Трумэна: «Честно говоря, я был немного озадачен, когда президент так энергично напал на Молотова»[1080]. Он испытал такие чувства не из-за опасения, что Молотов был задет, поскольку Молотов сам «мог быть грубым и жестким», а потому что «сожалел, что Трумэн вел себя так жестко, поскольку его поведение дало Молотову повод сообщить Сталину об отказе американской стороны от политики Рузвельта». В свою очередь, Лихи считал, Трумэн вел себя правильно, отметив, что поведение Трумэна в отношении Молотова «было для меня более чем приятно»[1081].
Рузвельт являлся для союзников скрепляющим началом. Без него, без его железной руки в бархатной перчатке отношения между союзниками стали быстро разрушаться.
Перелом в убеждениях Гарримана был отмечен еще до смерти Рузвельта. Он не только попытался изменить последнее послание Рузвельта Сталину, осудив его примирительный тон, но и сообщил президенту телеграммой, что в последний момент решил не отправлять этого послания. Фрэнк Костиглиола, автор книги «Утраченные альянсы Рузвельта» (“Roosevelt’s Lost Alliances”), обнаружил эту телеграмму, изучая архивы Гарримана в библиотеке Конгресса США. Фрэнк Костиглиола нашел в ней строчки, в которых Гарриман подверг на редкость серьезной критике (в телеграмме, адресованной Рузвельту!): Гарриман утверждал, что политика Рузвельта формировалась «под влиянием чувства страха». Более того, углубляясь в детали, он заявлял, что «почти ежедневно… подвергался возмутительным… оскорблениям»[1082]. У него хватило ума не отправлять эту телеграмму, поскольку было совершенно очевидно, что Рузвельт никогда не боялся Сталина и поэтому вряд ли был бы любезен с послом, у которого появились такие мысли. Неотправленная телеграмма так и осталась в архивах Гарримана. Однако те чувства, которые легли в ее основу (ощущение того, что Россия и Америка уже не являлись больше союзниками), проявились в действиях политиков США и Великобритании еще до того, как Рузвельт был погребен.
В марте Рузвельт назначил своего друга доктора Исадора Любина, блестящего экономиста и специалиста по вопросам статистики (он был лыс и носил очки), на пост представителя США в Комиссии по репарациям в Москве в ранге посла. Любин, который придерживался таких же, как и Рузвельт, жестких взглядов в отношении Германии, вступая в эту должность, ориентировался на то, что за Германией будет осуществляться жесткий контроль и что ей будет разрешено развивать только легкую промышленность, а также угольную. Он планировал выехать в Москву 15 апреля вместе со своим штабом в составе десяти человек. Имея ранг посла, он должен был, как и Гарриман, остановиться в «Спасо-хаусе». Рузвельт, который в соответствии со своими принципами намеревался преподать немцам урок и довести до их сознания, в чем они были неправы, полагал, что Любин как раз подходил для этой должности: «Весьма хорошо, что лицом, ответственным за возмещение ущерба Германией, будет русский еврей»[1083][1084]. Однако у Трумэна были другие планы и другие приоритеты. 28 апреля он заменил Любина своим хорошим другом Эдом Поли, казначеем Национального комитета Демократической партии. Поли, который, надо признать, являлся умелым переговорщиком, должен был получить ранг посла, Любин же (в качестве помощника Поли) – ранг министра.
* * *
Рядовые русские люди и большинство членов правительства, которые были готовы отомстить Германии и освободиться от чувства ужаса, вызываемого у них Гитлером, относились к Америке исключительно положительно. Через три недели после смерти Рузвельта, 9 мая, в Советском Союзе было широко объявлено о капитуляции Германии (на день позже, чем это было сделано в США и Великобритании). После того, как по громкоговорителям, которые в Москве находились на каждом углу, было сделано соответствующее заявление, и после того, как отгремели гимн США «Усеянное звездами знамя» и «Интернационал», толпы русских направились к американскому посольству на Моховой. Посольство, которое было легко определить по развевавшемуся американскому флагу, располагалось на площади трех или четырех городских кварталов и тыльной стороной выходило на западную стену Кремля. Над этой стеной виднелись кремлевские купола в византийском стиле. В течение всего дня толпа продолжала расти, пока не заполнила всю площадь. Москвичи махали руками, хлопали, выкрикивали приветствия, радовались, милиция была вынуждена оттеснять их от здания посольства. Поскольку Гарриман был еще в Вашингтоне, старшим должностным лицом в посольстве являлся Джордж Кеннан, временный поверенный в делах США. Наблюдая за происходившим из посольства, он решил (с учетом продолжавшегося энтузиазма москвичей) рядом со звездно-полосатым флагом установить также советский флаг. Когда в толпе раздались новые восторженные возгласы, обычно сдержанный Кеннан решил выступить с короткой речью, чтобы выразить свою признательность. В сопровождении сержанта в форме он поднялся у здания посольства на уступ, образованный верхом колонны, и прокричал на русском языке: «Поздравляю с днем победы! Слава советским союзникам!» Это вызвало новую волну восторга. Толпа, собравшаяся под пьедесталом, подняла советского солдата, чтобы тот оказался на одном уровне с Кеннаном и сержантом. Солдат принялся обнимать и целовать сержанта, а затем «настойчиво» потянул его вниз, в толпу. Наблюдая, как тот «беспомощно» качался над морем рук, почти исчезая из вида, пока, наконец, не освободился, Кеннан благополучно ретировался в здание посольства. Толпа оставалась до самого вечера, сопротивляясь настойчивым попыткам советской милиции навести порядок. Больше нигде в Москве так не проявляли своей радости и ликования.
11 мая, когда Германия сдавалась, Трумэн, аргументируя свой шаг тем, что ленд-лиз, согласно закону, являлся программой военного времени, внезапно, не думая о последствиях (о том, что страны рассчитывали на получение грузов, договоренность о которых с учетом необходимости ведения войны против Германии была ранее достигнута), приказал немедленно прекратить данную программу, за исключением поставок той военной техники и имущества, которые предназначались для использования Советским Союзом в войне против Японии. Трумэн не позаботился о том, чтобы заранее уведомить об этом соответствующие страны и тем самым позволить им подготовиться к этому шагу. Загрузка судов, перевозивших военную технику и имущество военного назначения в рамках программы ленд-лиза для всех стран, включая Советский Союз, прекратилась. Частично загруженные суда стали разгружать. Суда, находившиеся на полпути в открытом море, повернули обратно. Трумэн не провел с Государственным департаментом никаких консультаций по данному вопросу. Когда Стеттиниус узнал об этом, он назвал данное указание «несвоевременным и непродуманным шагом»[1085]. Сталин и Молотов были ошеломлены и заявили официальный протест, поскольку эти поставки были взаимно согласованы должностными представителями обеих стран. Молотов предупредил Громыко: «Не вмешивайся с жалкими запросами. Если США хотят прекратить поставки, тем хуже будет для них же»[1086]. Трумэн, поняв, что он совершил ошибку, задев за живое всегда готовый обидеться Советский Союз, немедленно отменил свое указание: суда в портах вновь начали загружаться, судам в открытом море было велено продолжить свой путь. Но советско-американским отношениям был причинен вред: Сталин воспринял этот факт как проявление антисоветских настроений. Он понимал, что такого никогда бы не случилось, если бы был жив Рузвельт. Он воспринял это как предупреждение: вот как собирается вести себя Трумэн по отношению к Советскому Союзу.
Следующий антисоветской шаг был предпринят уже Черчиллем. 12 мая, ровно через месяц после смерти Рузвельта, Черчилль направил президенту телеграмму, в которой первый раз прозвучал термин «железный занавес». В телеграмме было написано: «Вдоль их фронта опустился “железный занавес“. Мы не знаем, что происходит за этим занавесом. Мало сомнения в том, что весь регион к востоку от линии Любек – Триест – Корфу скоро будет полностью в их руках». Черчилль действительно в течение двух лет был уверен (и испытывал в связи с этим тревогу) в том, что Сталин собирался обмануть своих союзников и предать их. В начале января 1944 года, через месяц после того, как Черчилль неохотно согласился на открытие «второго фронта», он признавался Энтони Идену: «Конечно же, как только мы высадимся на континенте, чтобы выполнить те масштабные обязательства, которые мы дали, они [русские] получат возможность, которой сейчас у них нет: шантажировать нас. Они откажутся продвигаться дальше определенного рубежа или даже намекнут немцам, что те могут перебросить больше войск на Запад»[1087]. Более того, он объяснял свои постоянные требования к Рузвельту оказывать помощь Польше за счет Советского Союза следующим образом: «Каждый шаг необходимо предпринимать при полном взаимодействии с США, и Польша в этом отношении является очень хорошей приманкой». Черчилль считал, что настойчивость Советского Союза в том, чтобы обеспечивать контроль над ситуацией в Восточной Европе, является прелюдией к организации военных действий СССР в Западной Европе. Это ясно из его приказа генералу Монтгомери, главнокомандующему британскими оккупационными войсками в Германии, который он отдал сразу же после капитуляции Германии. По словам Монтгомери, на совещании 14 мая премьер-министр «разнервничался в отношении русских» и дал ему указание сохранить оружие одного миллиона сдавшихся немецких солдат на тот случай, если «нам придется воевать с русскими с помощью немцев»[1088]. Три недели спустя Черчилль выразил ту же мысль в телеграмме Трумэну: он утверждал, что Западная Европа находилась в опасности и что какой-либо вывод американских войск из Германии будет означать «установление советской власти в сердце Западной Европы».
Трумэн (следует отдать ему должное) остерегался Черчилля ничуть не меньше, чем Сталина. Как он позже скажет Дину Ачесону, его первое впечатление о двух своих союзниках после того, как он стал президентом, было следующим: они оба были алчными, бесконтрольными руководителями, которым нельзя было доверять. Черчилль был готов завладеть всем, что только можно было получить для Великобритании. Трумэн писал Ачесону: «Великобритания хотела лишь контролировать Восточное Средиземноморье, удерживать в своих руках Индию, нефть в Персии, Суэцкий канал и все остальное, что находилось в свободном плавании»[1089]. Сталин был в его глазах еще хуже, поскольку стремился стать еще одним Гитлером: «У России не было никакого плана, кроме как взять себе свободный кусок Европы, уничтожить как можно больше немцев и одурачить западных союзников». Разница между этими двумя руководителями, по заключению Трумэна, заключалась не в их методах, а в их добыче. (Другие наряду с Рузвельтом также весьма настороженно относились к Черчиллю с самого начала войны. В Вашингтоне было распространено мнение, что Черчилля более беспокоило сохранение влияния Великобритании в Европе, чем сохранение мира. Лихи впоследствии напишет: «Это согласуется с оценкой нашими сотрудниками той позиции, которую Черчилль занимал в течение всей войны»[1090].) Тем не менее, даже если Трумэн и ошибался в целях обоих этих руководителей, весной и летом 1945 года его проблемой была Россия, и в совете Черчилля, похоже, заключался определенный смысл.
Сталин тем временем неукоснительно соблюдал то обещание, которое он дал Черчиллю в отношении Греции. Когда в 1944 году он заключил в Москве с премьер-министром знаменитое «Соглашение о процентах»[1091], была достигнута договоренность о том, что Великобритания будет занимать в Греции преобладающее положение на 90 процентов. Когда в 1944 году в Афинах началось восстание под руководством коммунистов, Сталин распорядился, чтобы восставшим не оказывалось никакой помощи. В январе, незадолго до Ялтинской конференции, он вновь отказал коммунистам в помощи: «Я советовал не начинать это сражение в Греции… Они взяли больше, чем смогут удержать. Мы не можем отправить наши войска в Грецию… Греки поступили по-дурацки»[1092]. Сталин воздерживался от вмешательства в развитие событий в Греции в течение оставшегося года.
* * *
Сан-Францисская конференция состоялась спустя тринадцать дней после смерти Рузвельта. Рузвельт добивался ее скорейшего созыва, чтобы быть уверенным в том, что союзные страны, собравшиеся для выработки устава организации, ответственной за всемирную безопасность, будут по-прежнему действовать сплоченно, как и в военное время. Тем не менее было много споров и дискуссий, и подписание устава чуть было не сорвалось. Для его согласования потребовался пятьдесят один день обсуждений и переговоров, порой чрезвычайно острых, всегда непростых, потому что у каждой делегации (а всего было представлено сорок шесть стран) были свои проблемы, заботы и предпочтения. Что касается вступительной речи Трумэна, которая транслировалась по радио из Вашингтона, то журналистка «Нью-Йорк таймс» Анна О’Хара Маккормик выразила мысль, которая тревожила многих, следующим образом (и было ясно, что это весьма своеобразная похвала в адрес Трумэна): «Президент Трумэн не обладал волшебным голосом Франклина Рузвельта, однако это был голос человека, находящегося по ту же сторону баррикад». Надо полагать, что этой реплики должно быть вполне достаточно.
Американские делегаты во главе со Стеттиниусом, председателем на конференции, которому помогал Энтони Иден, взяли верх при решении вопроса о членстве в организации: было определено, что Украина и Белоруссия станут членами Организации Объединенных Наций, как Рузвельт и обещал Сталину и Молотову в Ялте, но для этого Стеттиниусу пришлось заручиться голосами министров девятнадцати южноамериканских стран, с которыми он только что подписал договор о развитии сотрудничества в Западном полушарии. Латиноамериканские страны выдвинули требование за свою поддержку: они обещали проголосовать в пользу советских республик при условии, что Аргентина, которая в течение всей войны являлась фактическим союзником Гитлера, пока не перешла на другую сторону и не объявила 27 марта войну Германии, беспрепятственно станет членом организации. Поскольку в Ялте было принято решение, что только те страны, которые объявили войну Германии до 1 марта, имели право на непосредственное членство в ООН, это было нарушением Ялтинских договоренностей. Молотов усмотрел в этом факте нарушения договоренностей в Ялте возможность настаивать на признании Временного польского правительства, что (поскольку данная структура еще не была утверждена в качестве легитимного польского правительства) также являлось нарушением Ялтинских договоренностей. Он вынудил Яна Масарика, министра иностранных дел Чехословакии, выступить в поддержку предоставления членства в ООН временному правительству в Люблине. После того как Масарик закончил свою речь, Стеттиниус встал, чтобы, сославшись на Ялтинские договоренности, выступить решительно против данного предложения: «Я хотел бы напомнить участникам Конференции, что мы только что выполнили свои обязательства, принятые в Ялте в интересах России. Я также хочу напомнить участникам Конференции, что существуют и другие обязательства, в отношении которых в Ялте была достигнута договоренность… Одно из них касается создания нового и представительного Временного польского правительства. Пока этого не произойдет, участники Конференции не могут, положа руку на сердце, признать правительство в Люблине. Это было бы низменным проявлением умышленного нарушения обязательств»[1093]. Стеттиниус одержал победу: предложение Масарика было отклонено.
Молотов созвал пресс-конференцию, на которую в банкетный зал в «Отеле Св. Фрэнсиса» собрались пятьсот журналистов. Молотов сообщил собравшимся, что, если Аргентина, со своим богатым прошлым сотрудничества с врагом, стала членом ООН, решение относительно Польши должно быть пересмотрено. Он заявил, не искажая истины, что Польша «вынесла в этой войне очень многое, она стала первой страной, подвергшейся агрессии, в то время как Аргентина, по существу, помогала врагу»[1094]. Несмотря на то, что Молотов потерпел поражение по данному вопросу (подавляющее большинство участников поддержали позицию США), его выступление было воспринято во всем мире весьма благоприятно, поскольку Аргентину везде ненавидели, даже в Латинской Америке, а также потому, что, как он и указал, если проблема с Польшей заключалась в том, что если она не была независимым государством, то Индия и Филиппины, которые контролировались Великобританией и Соединенными Штатами, также не должны были быть допущены в ООН. Американские средства массовой информации (политические журналы и газеты) присоединились к осуждению предоставления Аргентине места в ООН. Даже консервативный журналист Артур Крок, который писал в издании «Нью-Йорк таймс», высказал обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты зашли слишком далеко: «С точки зрения господина Молотова было бы неразумным считать, что Соединенные Штаты являются лидером неодолимой группировки на конференции в составе более чем двадцати стран из сорока восьми участников… Есть общее впечатление, что сейчас, пока работа по согласованию устава еще не завершена, следует приложить необходимые усилия и продемонстрировать конструктивное отношение к будущим российским предложениям. В противном случае Москва может решить, что на нее оказывается грубый нажим, что против нее используется нечто вроде парового катка национального партийного съезда»[1095]. Хэлл выразил озабоченность, так как подумал было, что Стеттиниус уступил давлению со стороны блока южноамериканских стран. Однако Стеттиниус чувствовал, что у него не было другого выбора: он должен был уступить требованию южноамериканских государств по вопросу членства Аргентины, чтобы не нанести урон хорошим отношениям с Советским Союзом.
Как признался Масарик Болену, когда они встретились позже, уже вечером, в баре отеля «Фэрмонт», он выступил со своим предложением относительно правительства в Люблине только потому, что Молотов «ни с того ни с сего» послал ему записку о том, что «Чехословакия должна голосовать за советское предложение по вопросу о Польше, либо она лишится дружбы с советским правительством»[1096].
Из множества вопросов, по поводу которых между сорока восемью странами шли баталии, прежде чем Устав ООН был окончательно утвержден, самым трудным и самым важным был вопрос о праве «вето» в Совете Безопасности, который, как казалось, был улажен на Ялтинской конференции. Это было ключевым вопросом, той основой, на которой базировалась организация, и признание этого принципа Сталиным и Черчиллем в Ялте явилось очевидной победой Рузвельта. Достигнутая договоренность заключалась в том, что на процедурные вопросы не могло быть наложено «вето»: хотя страна, пользующаяся этим правом, могла наложить «вето» на любое действие, тем не менее любой вопрос мог быть вынесен на обсуждение в Совете Безопасности. Поскольку было множество вопросов, касавшихся Устава Организации Объединенных Наций, подлежавших согласованию всеми странами, окончательное обсуждение вопроса о праве «вето» состоялось только через неделю. До этого момента Молотов, Иден, Гарриман и Болен уже убыли (Стеттиниус, как председатель на конференции, должен был остаться до конца), предполагая, что все основные аспекты уже урегулированы. Перед их убытием, 4 мая, в момент удивительной гармонии, спустя четыре дня после того, как Гитлер покончил жизнь самоубийством и через два дня после захвата русскими Берлина, Молотов, Иден и Стеттиниус телеграфировали Гарри Гопкинсу: «Вчера вечером на обеде мы втроем подняли за Вас отдельный тост в знак искреннего признания той роли, которую Вы лично сыграли в том, чтобы наши три страны объединились ради общего дела. Мы сожалеем, что Вас нет с нами в этот день победы».
В ходе предыдущих заседаний, посвященных обсуждению вопроса о праве «вето», маленькие страны выразили серьезную озабоченность по поводу предоставления пяти постоянным членам Совета Безопасности этого права. Поскольку каждая из маленьких стран имела голос в редактировании Устава ООН и поскольку они могли в совокупности иметь больше голосов, чем «Большая тройка», их требования должны были быть учтены. До 26 мая постоянные члены предлагаемого Совета Безопасности встретились в пентхаусе Стеттиниуса в отеле «Фэрмонт», чтобы выработать разумный, успокаивающий ответ для маленьких стран в ответ на их страхи, что они будут подвергаться давлению со стороны постоянных членов Совета Безопасности. Хотя в Ялте было решено, что право «вето» не будет распространяться на выработку повестки дня (на так называемые процедурные вопросы Совета Безопасности), в ходе заседания А. А. Громыко взял слово, чтобы дать пояснения по поводу точки зрения Советского Союза на право «вето». При этом он существенно осложнил ситуацию, заявив, что позиция Советского Союза на данный момент заключалась в том, что каждая страна должна была иметь право решать, относился ли вопрос к числу процессуальных: это означало, что каждая страна могла применять свое право «вето» в отношении того, что выносилось на обсуждение. Стеттиниус, ошеломленный такой постановкой вопроса, убеждал его изменить свое мнение, однако он не стал (он не мог, поскольку ему были даны соответствующие инструкции от Молотова). Негативная реакция на этот шаг вынудила Громыко телеграфировать Молотову, но дни проходили, а он все ждал, отступит ли Молотов. (Все делегаты уже привычно ожидали хоть какой-то реакции из Москвы, хотя при этом были не особенно счастливы.) И, наконец, 1 июня Громыко заявил, что он получил указания: это было мнение Молотова в отношении позиции США (что право «вето» не может распространяться на то, что он назвал первым шагом в цепи событий, ведущих к принудительным мерам), что она была неправильной, что подобный первый шаг мог в конечном итоге привести к войне. Поскольку вынесение данного вопроса на обсуждение являлось политическим вопросом (как объяснил Громыко), полностью искажая то, что было согласовано в Ялте, вынесение этого вопроса на обсуждение уже подпадало под право «вето», даже если в этом не принимала участия страна, имевшая право «вето».
Стеттиниус был ошеломлен, как и все члены американской делегации. Их мнение было следующим: уж если принять предложение советской стороны, то следовало изначально изменять принципы Организации Объединенных Наций. Стеттиниус заявил Громыко: «Если Советский Союз будет настаивать на этом, то Соединенные Штаты откажутся вступать во всемирную организацию»[1097]. На следующий день после телефонного разговора с Трумэном, в ходе которого он обсудил возникшие проблемы, Стеттиниус выразил свое предупреждение Громыко в более жесткой форме: «Для нас было бы совершенно невозможно присоединиться к организации, в которой применяется право «вето» на обсуждение различных вопросов». Ответ Громыко был следующим: Соединенные Штаты неправильно истолковывают Ялтинские соглашения.
Стеттиниус, теша себя мыслью, что, возможно, Молотов в недостаточно полной мере информирует Сталина о принимаемых им решениях, решил обратиться непосредственно к Сталину. Он направил телеграмму в Москву. Между тем, Болен и Гарриман, которые летели в Вашингтон из Москвы, говорили Гарри Гопкинсу в Москве, что, встретившись со Сталиным, он мог бы сгладить все более спорные вопросы между двумя странами. После приземления они направились прямо к Гопкинсу в Джорджтауне. Они нашли его в постели, выглядевшим «слишком больным даже для того, чтобы подняться и походить по N-стрит»[1098]. Тем не менее они сообщили ему о том, что они замышляли. Гопкинс, взбодрившись, пришел в восторг от их идеи: он был готов отправиться в путь. Трумэн также продумывал возможность направить Гопкинса в Москву. Он консультировался по этому вопросу с Джеймсом Бирнсом, которого он в начале июля назначит госсекретарем (тот выступит «против»), и Корделлом Хэллом (который будет «за»). Он разговаривал с Гопкинсом (то были трудные времена для Гопкинса, который желал бы уйти и не был уверен в том, что Трумэн позволит ему это), но Трумэн, в конце концов, согласился с тем, что Гопкинс может совершить поездку.
В сопровождении своей жены Луизы, которая следила за его здоровьем, Болена и Гарримана Гопкинс 23 мая покинул Вашингтон и после остановки в Париже 25 мая прибыл в Москву.
В тот день, очевидно, в ответ на растущие антироссийские настроения среди американцев (в армейской газете «Старз энд страйпс» вскоре будет опубликована статья, в которой говорилось, что «добровольные нарушители спокойствия» в Америке, которые ведут речь о возможной войне с Россией, «играют на руку поджигателям войны»[1099]) Эйзенхауэр в разговоре со своим помощником капитаном Гарри Батчером дал оценку состоянию отношений между США и СССР. В связи с тем, что у Верховного главнокомандующего экспедиционными силами Эйзенхауэра было больше опыта работы с русскими, чем у любого другого американца, что Сталин уважал его и что потом, когда ситуация изменилась, он никогда не упоминал этого, данная точка зрения Эйзенхауэра, отражавшая его симпатии к Советскому Союзу, была утрачена для истории:
– По словам Айка, он чувствовал, что США и Великобритания в своих отношениях с Россией держались от нее на таком же почтительном расстоянии, как и ранее американцы и англичане держались друг от друга, когда мы только что вступили в войну. Как мы пообщались друг с другом, мы лучше узнали британскую тактику и их образ действия, а они – нашу… Теперь русские, у которых относительно небольшой опыт общения с американцами и англичанами, даже с учетом военного времени, не понимают нас, а мы – их. Чем больше мы будем общаться с русскими, тем больше они будут понимать нас, тем активнее будет развиваться сотрудничество. Русские при общении прямодушны и откровенны, и любая уклончивость вызывает у них подозрения. Нормально работать с Россией будет возможно в том случае, если мы будем следовать той же схеме благожелательного и позитивного сотрудничества, которая привела к замечательному единству союзников, нашедшему отражение сначала в Штабе союзных войск, а впоследствии в Штабе Верховного командования союзных экспедиционных сил[1100].
Гопкинс был принят Сталиным вечером того же дня, когда он прибыл в Москву. То внимание, которое Сталин уделил этому вопросу, и время, назначенное им для встречи с Гопкинсом, министром без портфеля, свидетельствовали о том, что он считал развитие отношений с Соединенными Штатами вопросом чрезвычайной важности, проявлял серьезную обеспокоенность их нынешним состоянием и стремился обеспечить их углубление. Однако откровенному характеру состоявшейся беседы есть только одно объяснение: Сталин словно разговаривал с покойным президентом, будто бы Гопкинс являлся доверенным лицом Рузвельта. Сталин и Гопкинс беседовали друг с другом в ходе шести встреч. Первая встреча продолжалась девяносто минут, вдвое дольше, чем любая неофициальная беседа Сталина с Рузвельтом. В ходе нее Сталин указал, что у него был ряд вопросов, вызванных его обеспокоенностью, и он хотел бы услышать от Гопкинса ответы на них. То, что руководитель второй по мощи державы в мире в таком духе обращается к американцу, который уже сложил с себя властные полномочия, должно было послужить для Трумэна сигналом, насколько раним был Сталин в тот момент и с какой надеждой он рассчитывал на хорошие отношения с США. Об этом говорило и то, что от встречи к встрече Сталин делал уступку за уступкой. Трумэн, новичок в этой игре, либо не понимал смысла происходящего, либо был слишком сильно антисоветски настроен.
На следующий вечер, во время второй встречи, Сталин сказал, что создается впечатление существенного охлаждения отношения США к СССР[1101]. Он привел пять примеров, которые указывали на изменение отношения американской стороны, на то, что теперь правительство США демонстрировало отсутствие заинтересованности в развитии связей с русскими. В качестве первого примера он привел нарушение союзниками Ялтинского соглашения на Сан-Францисской конференции в связи с приемом Аргентины в непосредственные члены всемирной организации: ведь Аргентина не объявляла войны Германии до 1 марта, той даты, которая была согласована им с Рузвельтом в Ялте. Почему же Аргентину не попросили подождать три месяца? Второй пример – это давление, оказываемое на данном этапе Соединенными Штатами, чтобы включить Францию в качестве нового члена в состав комиссии по репарациям, тогда как в Ялте было решено, что в состав комиссии войдут только три державы. Почему Францию приравнивают к Советскому Союзу, хотя для этого нет никаких оснований? Это выглядело как попытка унизить русских. Третий пример – позиция правительства США по польскому вопросу. По словам Сталина, «любому здравомыслящему человеку»[1102] было понятно, что в Ялте была достигнута договоренность реорганизовать существовавшее правительство. Это означало, что нынешнее правительство должно было стать основой для формирования нового. Четвертый пример – та манера, в которой была сокращена программа ленд-лиза. «Если отказ продолжать программу ленд-лиза являлся средством оказать давление на русских для того, чтобы вынудить их пойти на какие-либо уступки, – сказал он, – тогда это было громадной ошибкой»[1103]. Пятый пример – развитие ситуации вокруг немецкого флота. Здесь Сталин отвлекся, чтобы похвалить генерала Эйзенхауэра, назвав его «честным человеком», который вынудил 135 000 немецких солдат в Чехословакии сдаться советскому командованию, а не американской армии, как те пытались сделать. Это было вступлением к вопросу о том, почему никакая часть немецкого флота, который нанес такой ущерб Ленинграду, не была передана советской стороне, хотя этот флот сдался. Сталин заявил, что он написал по этому поводу и Трумэну, и Черчиллю, предложив передать Советскому Союзу, по крайней мере, треть флота, однако в ответ не услышал ничего, кроме слухов о том, что его предложение может быть отклонено, и «если это окажется правдой, то это было бы весьма неприятно». По его словам, он завершил перечисление тех вопросов, которые его беспокоили.
Гопкинс ответил, что он сначала рассмотрит последний пример, касавшийся немецкого флота. По его выражению, он был готов подтвердить, что у США не было намерений оставлять себе какую-либо часть немецкого флота: они хотели лишь изучить возможные изобретения и технические усовершенствования, которые были внедрены на нем. Затем он заявил, что та часть флота, которая отойдет к США, вероятно, будет потоплена. Против этого Сталин не стал возражать, вероятно, с учетом высказанной Гопкинсом уверенности, что флот будет разделен между Соединенными Штатами, Советским Союзом и Великобританией. Вслед за этим Гопкинс перешел к вопросу о ленд-лизе и напомнил Сталину (он считал, что Советскому Союзу это было понятно), что после завершения войны с Германией в нормативно-правовых документах произошли изменения. Он пояснил, что та правительственная структура, которая санкционировала прекращение поставок по ленд-лизу, отменила это указание в течение двадцати четырех часов.
Разъяснения Гопкинса в отношении кратковременного прекращения программы ленд-лиза, казалось, полностью успокоили Сталина. Премьер выразил надежду, что Гопкинс понимает, как все это смотрелось со стороны Советского Союза. В этой связи Гопкинс повторил мысль, которую высказывал Рузвельт: «Было бы большой трагедией, если бы величайшее достижение в области сотрудничества между Советским Союзом и Соединенными Штатами, которого они добились совместно на основе ленд-лиза, имело бы неприятный конец»[1104].
Затем Гопкинс обратился к вопросу о комиссии по репарациям. По его мнению, с учетом того, что у Франции была оккупационная зона в Германии, а также принимая во внимание то, что Франция входила в состав Союзной контрольной комиссии, казалось разумным включить ее в состав комиссии по репарациям. Сталин возразил, указав, что Польша и Югославия пострадали в результате войны гораздо больше. В ответ Гопкинс высказал следующее предположение по поводу позиции США: «Мы, вероятно, не будем настаивать на этом и проявлять неуступчивость».
Далее Гопкинс поднял вопрос об Аргентине и попросил Гарримана, который принимал участие в Сан-Францисской конференции, объяснить, что там произошло. Гарриман возложил ответственность за то, что Аргентине было предоставлено место в ООН, на Молотова: «Если бы господин Молотов не внес вопрос о приглашении существующего польского правительства, мы могли бы успешно убедить латиноамериканские страны отложить вопрос об Аргентине»[1105]. Молотов мягко возразил, после чего Сталин закрыл эту тему, высказав упрек в адрес Молотова: «В любом случае, то, что было сделано, уже нельзя исправить, и вопрос по Аргентине остался в прошлом».
Гопкинс заявил, что теперь он хотел бы рассмотреть ситуацию вокруг Польши, и ясно дал понять Сталину, насколько было важно то, что он сейчас изложит по данному вопросу. Сталин не прерывал его, хотя Гопкинс давал достаточно пространные объяснения. Гопкинс сказал, что он хотел бы изложить позицию США как можно яснее и убедительнее, поскольку вопрос о Польше сам по себе был не так уж и важен, однако он стал символом способности Америки решать какие-либо проблемы с Советским Союзом. Соединенные Штаты признают любое правительство, которое пожелает иметь польский народ и которое наряду с этим будет дружественно настроено по отношению к Советскому Союзу. Решение этой проблемы следовало выработать совместно Соединенными Штатами, Советским Союзом и Великобританией. Польскому народу должно быть предоставлено право на свободные выборы, и Польша должна стать действительно независимым государством. Однако (продолжил Гопкинс) предварительные шаги по восстановлению государственности Польши, как оказалось, были в одностороннем порядке предприняты Советским Союзом совместно с нынешним варшавским правительством, что в действительности полностью исключило из этого процесса Соединенные Штаты. Гопкинс высказал надежду, что маршал обдумает, какие дипломатические методы могли бы быть использованы для решения этого вопроса, имея в виду чувства американского народа. Он сам лично был готов возражать против того, как это может быть сделано, но это должно быть сделано. Он обратился к маршалу с просьбой помочь найти путь решения польской проблемы. В этом он повторил мысль Рузвельта, который писал Сталину в феврале 1944 года: «Я искренне надеюсь, что, пока эта проблема остается все еще неразрешенной, не будет сделано ничего такого, что превратило бы этот особый вопрос в такой вопрос, который пагубно отразился бы на более крупных проблемах будущего международного сотрудничества. В то время как общественное мнение складывается в пользу поддержки принципов международного сотрудничества, наш особый долг состоит в том, чтобы избегать каких-либо действий, которые могли бы помешать достижению нашей главной цели»[1106].
Сталин попросил Гопкинса принять во внимание, что в течение двадцати пяти лет немцы дважды вторгались в Россию через Польшу, что, по его словам, терпеть больше уже было нельзя. Он сказал, что Германия была в состоянии делать это потому, что Польша рассматривалась как часть санитарного кордона вокруг Советского Союза, а также в результате того, что прежняя европейская политика была направлена на обеспечение враждебности польского правительства по отношению к России. По его словам, Польша служила коридором для нападений Германии на Россию. Для России было жизненно важно, чтобы Польша стала сильной и миролюбиво к ней настроенной. У России, по его утверждению, не было никакого намерения вмешиваться во внутренние дела Польши. Польский народ отрицательно отнесся к колхозам и другим элементам советского строя. В этом, по его словам, польские руководители были правы, потому что советская система не была предназначена для экспорта, она должна была развиваться изнутри в пределах своей страны. Затем Сталин отметил, что хотел бы прокомментировать международную деятельность США: не только эта война, но и предыдущая показали, что без вмешательства США было бы невозможно победить Германию, поэтому он полностью признавал право США как мировой державы на участие в решении польского вопроса. Он заявил, что СССР действовал в одностороннем порядке, поскольку был вынужден так поступить: логика войны требовала обезопасить тыл Советского Союза, а люблинское правительство оказывало в этом отношении соответствующую помощь. (Это было верно, хотя Черчилль продолжал отрицать данный факт. Согласно записи в дневнике Мейкельджона от 8 июня, сотрудники Красного Креста, занимавшиеся в Польше распределением гуманитарной помощи, сообщали, что «значительная часть подпольной польской армии, воевавшей с немцами, остается в подполье, ведя борьбу с Советами».) Сталин сообщил Гопкинсу, что создание советской администрации на территории иностранного государства противоречило государственной политике, и отметил, что действия Советского Союза в Польше были более успешными, чем действия Великобритании в Греции. Он заявил, что в нынешнем польском правительстве было восемнадцать или двадцать министерств и что четыре или пять министерских портфелей можно было бы отдать представителям из списка США и Великобритании. (Молотов что-то прошептал Сталину, который затем сказал, что он имел в виду четыре портфеля, а не пять.) Сталин сказал, что, если бы это было приемлемо, «мы могли бы в последующем приступить к рассмотрению конкретных кандидатур». Он добавил, что Миколайчик был вполне приемлемой фигурой и что было бы разумным обратиться с соответствующей просьбой к некоторым руководителям в Варшаве. По выражению Сталина, если бы они могли войти в состав нового правительства, то не возникло бы никаких разногласий, поскольку все согласились на проведение свободных и независимых выборов. Изложив все это и многое другое, Сталин затем отметил, что необходимо решить еще три других вопроса: 1) политика в отношении оккупации Германии, 2) Япония, 3) встреча трех глав правительств. В отношении последнего пункта он сказал (в ответ на вопрос Гопкинса), что он ожидает услышать, готовы ли президент и премьер-министр встретиться в Берлине. Он сам был готов встретиться с ними в любое время. Что касается Германии, то он был готов на следующий же день назначить генерала Жукова командующим советскими оккупационными войсками. Они договорились встретиться на следующий день, 28 мая, в шесть часов вечера.
Две проведенные встречи до такой степени успокоили и обнадежили Сталина и Молотова, что еще до запланированной на шесть часов третьей встречи Молотов и Микоян, нарком внешней торговли, встретились с Гарриманом и передали ему списки грузов для поставок по ленд-лизу на вторую половину 1945 года.
Третья встреча была еще более обнадеживающей, чем две предыдущие[1107]. Сталин сказал Гопкинсу, что Советская армия развернется на маньчжурской границе к 8 августа (через три месяца после дня победы в Европе – как он обещал Рузвельту). Он сказал также, что поддержит Чан Кайши, «потому что никто, кроме него, не является достаточно сильным… но коммунистический лидер[1108] также не является достаточно сильным, чтобы объединить Китай». Сталин заявил, что у него не было территориальных претензий к Китаю, отметив, в частности, Маньчжурию, и заверил Гопкинса, что, где бы его войска ни сражались с японцами в Китае, они будут уважать суверенитет Китая. Он «приложил особые усилия», чтобы подчеркнуть, что у России нет возможности помочь Китаю после войны, что такими возможностями располагает лишь Америка. Далее он отметил, что Корея должна управляться под опекой США, Китая, Великобритании и Советского Союза. Затем, предполагая, что вторжение в Японию будет совместной операцией Советского Союза и союзников и что СССР будет участвовать в оккупации Японии, как и в оккупации Германии, Сталин заявил, что он ожидал выработку соглашения с Великобританией и США в отношении оккупационных зон. Стремясь урегулировать эти вопросы, Сталин сказал Гопкинсу, что должна быть проведена мирная конференция и что уже на данном этапе следует приступить к ее планированию. Ирония заключалась в том, что теперь именно он (когда Рузвельт умер) стремился урегулировать эти вопросы.
На четвертый день пребывания в Москве Гопкинс вместе с женой после обеда отправился осматривать достопримечательности и посетил всемирно известную российскую балетную школу. Когда Гопкинс вечером в шесть часов встретился со Сталиным и рассказал ему об этом, тот признался, что он никогда не бывал в этой школе. Гопкинс сказал, что это весьма похоже на типичного жителя Нью-Йорка, сообщающего вам: «Я прожил здесь всю свою жизнь, но никогда не видел статуи Свободы».
Во время этой беседы Гопкинс более подробно сообщил об американских ожиданиях по польскому вопросу: в стране должна быть свобода слова, соблюдаться право на свободу собраний и право на свободу вероисповедания, должны быть разрешены все политические партии, кроме фашистской, все граждане должны иметь право на открытый суд и право на неприкосновенность личности.
Сталин ответил, что ему были хорошо известны принципы демократии и что со стороны советского правительства в этом отношении нет никаких возражений, однако конкретные свободы, упомянутые Гопкинсом, могли обеспечиваться в полном объеме только в мирное время, да и то с некоторыми ограничениями: так, они не могли безоговорочно обеспечиваться применительно к фашистским партиям, пытающимся свергнуть правительство. Гопкинс упомянул Ялтинскую конференцию, подчеркнув, что Рузвельт был весьма удовлетворен ее результатами, считая, что польский вопрос был «практически решен». Однако (и здесь Гопкинс заявил о позиции, которой Рузвельт никогда не занимал) «он говорил, что, верно это или нет, американский народ был достаточно сильно убежден, что Советский Союз хотел иметь в Польше существенное влияние». (На самом деле Рузвельт лишь ожидал, что Россия будет иметь в Польше существенное влияние, и просто хотел, чтобы Сталин уважал права поляков.) После этого Гопкинс вновь заявил, что они (три великие державы) должны быть в состоянии урегулировать вопрос. Это дало Сталину возможность изложить свою точку зрения: он выступил с обвинениями в адрес Великобритании, отметив, что, «поскольку один из них втайне не желал, чтобы вопрос был урегулирован, то и возникли реальные проблемы». Тем не менее встреча завершилась соглашением, что они в дальнейшем обсудят возможных польских кандидатов, которым будет предложено приехать в Москву, чтобы сформировать польское правительство. На следующей встрече Гопкинса со Сталиным, пятой по счету, которая состоялась 31 мая, стало очевидно, что был достигнут прогресс: они обменялись именами возможных кандидатов, и Молотов больше не саботировал выбор союзников. После встречи Сталин устроил для Гопкинса неофициальный ужин, в котором по его приглашению участвовали двадцать самых влиятельных лиц из числа членов Политбюро со своими женами, а также Гарриман и его дочь Кэтлин, генерал Дин и другие влиятельные американцы в Москве. После обеда были танцы. В результате длительной встречи, а затем долгого ужина (как обычно, с множеством тостов) Гопкинс чувствовал огромное напряжение. Это сказалось, когда, станцевав после обеда один танец с женой Ивана Майского, Гопкинс сел. Майский увидел, что Гопкинс не мог отдышаться, на лбу у него выступили капли пота[1109]. Майский прикоснулся к его руке и почувствовал, что она была вялой и холодной. По воспоминаниям Майского, он забеспокоился, и эта тревога отразилась на его лице. Гопкинс посмотрел на него и сказал: «Вы знаете, я получил у смерти академический отпуск».
Продемонстрировав силу воли, Гопкинс смог восстановить дыхание и прийти в себя, и после ухода других гостей он продолжил разговор со Сталиным (предполагая, судя по всему, что роскошный обед, танцы и множество тостов сделают того более сговорчивым). Гопкинс поинтересовался о судьбе шестнадцати поляков из Лондона, которые после приезда в Москву были обвинены в государственной измене и заключены в тюрьму. Молотов проинформировал об этом Стеттиниуса еще в Сан-Франциско, и пресса теперь с интересом следила за развитием событий. Гопкинс выразил надежду, что они будут освобождены. Он предупредил Сталина (зная, что тот стремился урегулировать многочисленные послевоенные проблемы, беспокоившие мир, в том числе и территориальные), что если польские вопросы не будут решены, то на их обсуждение, вероятно, может уйти бóльшая часть времени на встрече в Берлине, запланированной на июль. Гопкинс также отметил еще один фактор, который Сталин должен был иметь в виду: «Многие меньшинства в Америке не симпатизировали СССР». Он сказал, что эти проблемы существенно осложняли отношения между двумя странами. Сталин ответил, что все шестнадцать человек, которые были упомянуты, были виновны в совершении преступлений, которые не были преданы огласке, что Черчилль ввел Соединенные Штаты по данному вопросу в заблуждение и вынудил американское правительство считать заявление польского правительства в Лондоне соответствующим реальности, тогда как это было не так. Сталин заявил, что он не намерен продолжать терпеть такую ситуацию, когда англичане руководят вопросами, касающимися Польши, и что англичане потворствуют лондонским полякам. Затем он сделал уступку, заявив, что арестованных будут судить со снисхождением, выдвинув против них лишь обвинение в незаконном владении радиопередатчиками.
Гопкинс, завершив свою миссию, строил планы покинуть Москву. Между тем, как явствовало из заголовков новостей, драматическая (тупиковая) ситуация вокруг права «вето» в Совете Безопасности на Сан-Францисской конференции нарастала. В начале июня, как сообщал корреспондент издания «Нью-Йорк таймс» Джеймс Рестон, участники совещания «Большой пятерки», несмотря на четыре встречи, проведенные в течение сорока восьми часов, не смогли прийти к какому-либо решению. Подписание Устава создаваемой Организации Объединенных Наций оказалось под вопросом. В этой связи Гопкинс отложил свой отъезд.
Малые и средние по размеру страны (в зависимости от чего им предоставлялось количество голосов) начали соглашаться с американской точкой зрения, но Громыко, руководствуясь приказами из Москвы, придерживался прежней позиции. Передовая статья в издании «Нью-Йорк таймс» от 4 июня была озаглавлена следующим образом: «Многие страны критикуют советскую позицию в отношении права “вето“». Стеттиниус, оказавшись в тупиковой ситуации, с одобрения Трумэна направил в Москву Гарриману телеграмму (тот, как посол, не мог быть проигнорирован), в которой просил его присоединиться к Гопкинсу и уточнить у Сталина, «в полной ли мере он осознает, что означают инструкции, которые он дал Громыко, и то, какое воздействие может иметь советское предложение на характер всемирной организации, которую мы все пытаемся создать. Пожалуйста, дайте ему недвусмысленно понять, что наша страна не сможет стать членом организации, базирующейся на неразумном предоставлении сверхдержавам слишком широких полномочий в Совете Безопасности… Если мы не получим от Вас по данному вопросу благоприятного ответа, мы будем вынуждены принять необходимые меры, чтобы завершить конференцию»[1110].
На запрос о возможности организации еще одной встречи Гопкинса со Сталиным был получен положительный ответ.
Во время этой встречи Гопкинс принялся убеждать Сталина в том, что занятая Советским Союзом позиция по ограничению повестки дня представляла его в плохом свете и, кроме того, была изначально неверной. Он подчеркнул, что достигнутое в Ялте соглашение гарантировало свободу обсуждения и право любого члена ООН вынести на обсуждение Совета Безопасности любую ситуацию. Молотов произнес короткую речь, в которой отметил, что советская позиция (его позиция) была основана непосредственно на решениях, принятых в Крыму. Затем между Сталиным и Молотовым состоялся частный разговор, в ходе которого, как мог уяснить Гопкинс, согласно его записям (хотя разговор велся на русском языке), Сталин «не понял, о каких вопросах шла речь, ему по ним не давали разъяснений». После завершения разговора с Молотовым Сталин заявил, что у него нет возражений против того, чтобы в дискуссиях, связанных с проблемами мирного урегулирования, использовался принцип простого большинства. Затем он отклонил предложение Молотова, заявив, что был готов принять американскую позицию на Сан-Францисской конференции по вопросу процедуры голосования. Он совершенно ясно высказался на эту тему. Это являлось существенной уступкой, поскольку вопросы, касавшиеся повестки дня, не относились к числу формальных, процедурных вопросов, они действительно являлись важными.
Гарриман, который, как всегда, присутствовал на встрече, немедленно дал указание информировать Стеттиниуса об изменении позиции Советского Союза, и тот в этот же день получил соответствующую телеграмму (с учетом того, что время на территории СССР на полдня опережает время в США). Прощаясь со Сталиным, Гопкинс сообщил ему, что он планирует посетить Берлин и надеется посмотреть, в каком состоянии находится город, а также, возможно, получит удовольствие от зрелища найденного тела Гитлера. Сталин ответил (и в этом проявилась его подозрительность, которая через несколько лет превратится в настоящую паранойю), что он «уверен в том, что Гитлер еще жив»[1111].
Гопкинс и его жена уехали на следующее утро. До самолета их сопровождал Молотов, что явилось проявлением исключительного уважения к гостям.
Получив телеграмму, в которой сообщалось об изменении позиции Сталина в отношении права «вето», Стеттиниус пригласил Громыко в свой пентхаус в отеле «Фэрмонт». По воспоминаниям Стеттиниуса, он сказал советскому послу: «Как я чувствую, мой моральный долг состоит в том, чтобы с учетом моего дружеского отношения к вам незамедлительно сообщить вам эту новость»[1112]. Когда он сообщил об изменении позиции Сталина, «выражение лица у посла Громыко стало достаточно напряженным, и он покраснел». На следующее утро, 7 июня, Громыко услышал эту новость уже от своих собственных источников. Стеттиниус попросил Громыко прийти в «Фэрмонт» в четверть второго и сообщил ему, как он спланировать поступить, чтобы предстоящее заявление не означало победы США над Советским Союзом и не было так воспринято. Громыко, который был удовлетворен этим, предложил подчеркнуть важность единогласия пяти постоянных членов Совета Безопасности. Заседание «Большой пятерки» было запланировано на три часа дня, в это время Стеттиниус объявил, что Громыко хотел бы сделать заявление. После этого Громыко объявил о новой советской позиции. Сразу же после заседания Стеттиниус провел пресс-конференцию, на которой заявил, что никто из членов Совета Безопасности «не может сам воспретить» обсуждение какого-либо вопроса[1113]. Собравшиеся журналисты и репортеры различных служб новостей встретили это заявление бурными овациями. Как вспоминал Стеттиниус, когда он сказал, что они могут идти, «если хотят», они с такой скоростью бросились из зала, что он «не мог не рассмеяться»[1114]. (На следующий день новость об изменении позиции Советского Союза красовалась в заголовках газет по всему миру.) Как написал Стивен Шлезингер, конференция вернулась в нужное русло.
После пресс-конференции, в 17:23 вечера, Стеттиниус позвонил Трумэну. «Дело сделано, – сказал он президенту. – Заявление имело самый оглушительный эффект, который только можно себе представить… Я сделал заявление в Руководящем комитете ООН, который состоит из глав пятидесяти делегаций, и они устроили мне бурные овации. Сразу же после этого, спустя пять минут, я отправился на пресс-конференцию. Пресса была в восторге и ликовала, как и Руководящий комитет… Здесь действительно полное ликование»[1115]. Трумэн ответил: «Меня это также очень радует». Стеттиниус продолжил: «Когда меня спросили, как это случилось, я сказал, что мы смогли выработать это в духе доброй воли и взаимных уступок, что в результате позволило достичь соглашения, приемлемого для всех. Я думаю, что самое сложное осталось позади».
В то же время обсуждался вопрос о том, где должна будет располагаться будущая штаб-квартира ООН. Советский Союз проголосовал за США, поскольку, по словам Громыко, «Москва хотела быть уверена, что американцы не потеряют интереса к международным делам. Мы опасались, что Соединенные Штаты могут вернуться к изоляционизму»[1116].
В ходе Сан-Францисской конференции возникла еще одна проблема, вызванная действиями Громыко: советский представитель заявил, что редакция пункта относительно того, что может обсуждаться на Генеральной Ассамблее, была изменена и расширена по сравнению с редакцией, принятой в Думбартон-Оксе. «Русские требуют ограничений для Ассамблеи, или же они не подпишут Устава ООН», – гласил заголовок в издании «Нью-Йорк таймс» от 18 июня. После двух дней споров на конференции Громыко были даны новые указания. Сталин вновь снял свои возражения (или, что более вероятно, Молотова) и согласился с общим мнением в отношении редакции этого пункта: как и в Совете Безопасности, члены Генеральной Ассамблеи имели право выносить на обсуждение новые вопросы. Стеттиниус выразил «свое личное и официальное восхищение великолепным конструктивным отношением к делу посла и его правительства»[1117].
В июне в результате усилий Гопкинса Сталин вновь стал активным членом антигитлеровской коалиции, назначив маршала Жукова представителем Советского Союза в Союзной контрольной комиссии по Германии (от США представителем был Эйзенхауэр), что позволило этому органу начать свою работу, отменив требование Молотова о возможности использования права «вето» в Совете Безопасности в отношении повестки дня и согласившись с измененной редакцией пункта Устава ООН, касавшегося применения права «вето» на Генеральной Ассамблее. Это превратило Организацию Объединенных Наций в жизнеспособную структуру и позволило ООН приступить к реальной деятельности. Министр иностранных дел Китая доктор Сун Цзывэнь на Сан-Францисской конференции был удовлетворен ходом бесед Гопкинса со Сталиным (еще до того, как Сталин лично вмешался в решение проблемы, возникшей при обсуждении права «вето»). «Мистер Гопкинс смог добиться хороших результатов в беседе со Сталиным»[1118], – сказал он Стеттиниусу 5 июня, когда тот сообщил ему, что Сталин хотел бы пригласить Сун Цзывэня приехать для проведения переговоров в Москву не позднее 1 июля. На тот момент все выглядело так, словно усилия Рузвельта по созданию Организации Объединенных Наций, которые заставили страны мира действовать совместно и в процессе совместной работы оказывать влияние на мировые события и формировать их, в конечном итоге приведут к реальным результатам.
Это казалось вполне возможным, прежде всего, потому, что отмечались и другие изменения в политическом курсе Советского Союза. Так, в конце июня было объявлено, что патриарх Алексий собирался посетить Соединенные Штаты, чтобы встретиться с представителями Русской православной церкви[1119]. Молотов смягчил свою позицию в отношении различных прозападных поляков, и, как результат, поляки со своей стороны выработали на компромиссной основе соглашения по составу правительства, в которое должны были войти представители Польской крестьянской партии, Польской социалистической партии и Польской рабочей партии. Был подготовлен соответствующий список, с которым согласился даже Молотов. 27 июня был объявлен состав нового польского правительства. Четырнадцать мест (из двадцати одного) было выделено членам Временного правительства Польской Республики, Миколайчик стал заместителем премьер-министра. На следующий день новое правительство приступило к исполнению своих обязанностей. 5 июля Черчилль и Трумэн признали новое, реорганизованное Временное правительство национального единства Польши. Сами поляки были рады такому развитию событий, даже польская интеллигенция придерживалась мнения, что это справедливый компромисс между различными группировками. Было совершенно неизвестно, состоятся ли (и когда) свободные и независимые выборы, решение о проведении которых было достигнуто в Ялте (новое правительство не определит никакого срока), что являлось только результатом действий США: американское руководство опасалось, что новому правительству не удастся избавиться от слова «Временное» в своем названии, однако в конечном итоге в этом вопросе было достигнуто определенное согласие, по крайней мере на бумаге. (Корреспондент издания «Нью-Йорк таймс» Гаррисон Солсбери поинтересовался у Миколайчика, что тот думает о Сталине. Миколайчик ответил: «Сталин хорошо знает Польшу. В ходе бесед мы хорошо ладим друг с другом. Я считаю, что он – тот человек, с которым я вполне мог бы иметь дело»[1120].)
По существу, Сталин взял под личный контроль внешнюю политику Советского Союза, лишив своего министра иностранных дел самостоятельности, и выстроил ее в соответствии с решениями Ялтинской конференции. Вопрос заключался в том, почему он это сделал. Единственный разумный ответ – потому, что он чувствовал, что Советский Союз нуждается в союзниках, нуждается в Америке. Противоречия, существовавшие между Соединенными Штатами и Советским Союзом летом 1945 года, были огромными. С практической (а не с идеологической) точки зрения это было не таким уж трудным решением: Америка не пострадала в результате войны. К концу войны она располагала половиной мирового производственного потенциала, вырабатывала более половины электроэнергии в мире, имела две трети мировых запасов золота и половину всех валютных запасов[1121]. В результате войны она потеряла 405 000 человек, или 0,3 процента населения, составлявшего 130 миллионов человек. Для сравнения: немцы убили 16 процентов населения Советского Союза, 27 миллионов человек (население страны составляло 165 миллионов человек). Это была настолько большая цифра, что точное количество погибших никогда не могло быть установлено. Немцы сожгли дотла семьдесят тысяч российских сел и деревень, уничтожили сто тысяч крестьянских хозяйств. Двадцать пять миллионов россиян остались без крова, бродя по дорогам страны. Было разрушено тридцать две тысячи заводов, выведено из строя шестьдесят пять тысяч участков железнодорожных путей. Война поставила Россию на колени: Сталин нуждался в Америке, чтобы восстановить страну, ему требовался долгосрочный кредит на тридцать лет, и он прекрасно помнил об этом, когда смеялся над любовью Рузвельта к роскоши на их первом ужине в Ялте. Он считал, что эта ситуация будет благожелательно воспринята американцами (и не только исходя из христианского милосердия), потому что с учетом своего понимания экономики и того, что он узнал от видных американских бизнесменов, он предполагал, что после окончания войны и прекращения производства вооружения предприятиями США американским капиталистическим кругам будут нужны новые рынки сбыта своей новой продукции.
Кроме экономической помощи, ему была нужна мощь Америки также для того, чтобы в будущем помочь удерживать под контролем Германию. Призрак немецкой силы всегда маячил перед ним даже в момент поражения Германии. Отвага немецкого солдата и эффективность немецкой промышленности были легендарными: громадный ущерб Советскому Союзу нанесли немецкие войска численностью менее семи миллионов человек. России был нужен Великий союз. Как выразился Сталин, «необходимость создания союза СССР, Великобритании и США вытекает не из каких-либо случайных и мимолетных соображений, но из жизненно важных и долгосрочных интересов»[1122]. В газете «Известия» эта мысль была отражена следующим образом: в союзе с Америкой и Великобританией СССР станет великой державой. Эта правительственная газета, которая, по существу, излагала точку зрения Сталина, в конце июня выступила с прогнозами, что страны «Большой тройки» «станут душой новой организации и смогут принести мир народам мира… Можно с уверенностью сказать, что окончательный текст Устава ООН существенно превосходит все предыдущие проекты создания всемирной организации»[1123].
Трумэн, став президентом, демонстрировал готовность сохранять политику своего предшественника, но он был все тем же выходцем со Среднего Запада, который в 1941 году, когда Гитлер напал на Советский Союз, сказал: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя мне не хочется ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях. Никто из них не думает выполнять свои обещания». Это высказывание было опубликовано изданием «Нью-Йорк таймс». Будут ли страны ладить, если их руководители презирают друг друга и испытывают друг к другу недоверие? Четыре года спустя Трумэн записал в своем дневнике, как он встречался со Сталиным в Потсдаме и вновь обдумывал использование первой атомной бомбы, ставя Сталина в один ряд с Гитлером: «Безусловно, для мира очень хорошо, что клика Гитлера или Сталина не создала этой атомной бомбы»[1124]. Сталин, в свою очередь, относился к Трумэну весьма пренебрежительно. «Сталин не питал никакого уважения к Трумэну. Он считал, что Трумэну грош цена»[1125], – вспоминал Никита Хрущев.
Когда Трумэн и Сталин встретились в Потсдаме, они вели себя друг с другом почти агрессивно. В конце мая Стимсон собрал группу ученых и государственных должностных лиц, работавших над программой создания атомной бомбы, чтобы узнать их мнение о том, следует ли обмениваться с Советским Союзом информацией о ядерных исследованиях. Существовало мнение (практически единодушное), что информацией надо обмениваться, чтобы предотвратить гонку вооружений. Во встрече приняли участие заместитель министра ВМС Ральф Бард, помощник госсекретаря Уильям Клейтон, Джеймс Бирнс, доктор Вэнивар Буш, Джеймс Конант, Роберт Оппенгеймер, Энрико Ферми, Эрнест О. Лоуренс, Артур Комптон, а также генерал Маршалл, Гровс и Харви Банди, которые были задействованы в различных проектах Стимсона.
«Единственное предположение, которое Комитет смог выработать в интересах обеспечения в будущем контроля над ситуацией, заключалось в том, что каждая страна должна дать обещание обнародовать информацию обо всей работе, проводимой по данному направлению, и что должна быть учреждена международная комиссия по контролю, полномочная проводить инспекции в любой стране, чтобы убедиться в том, выполнялось ли это обещание. Я сказал, что, на мой взгляд, это предложение не было оптимальным и что, скорее всего, Россия с ним не согласится, но в этом случае мы настолько опередили ее, что у нас была возможность накопить достаточно материала, чтобы нас не застали врасплох»[1126].
Генерал Маршалл, по существу, высказал крайнюю точку зрения, заявив, что было бы хорошо пригласить советских ученых на испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо[1127]. (Только Гровс, который был совершенно уверен в исключительности и превосходстве накопленного Соединенными Штатами практического технического опыта, считал, что пройдет еще много лет, прежде чем у Советского Союза появится атомная бомба.) 6 июня Стимсон встретился с Трумэном, чтобы передать ему соответствующую точку зрения ученых и правительственных лиц на то, как следует поступить, с которой он был полностью согласен. В то же время он вновь подтвердил свое мнение о том, что раскрытие информации должно сопровождаться изменениями в линии поведения Советского Союза, предупредив Трумэна, что «не следует раскрывать информацию о проводимых работах, пока не будут даны и зафиксированы все необходимые обещания по обеспечению контроля». Затем Стимсон и Трумэн рассмотрели вопрос о том, какие требования можно было бы выдвинуть Советскому Союзу в обмен на сотрудничество с ним. По словам Стимсона, Трумэн «сказал, что он уже думал об этом, и упомянул то же самое, о чем думал и я, а именно: урегулирование польской, румынской, югославской и маньчжурской проблем».
В начале июля Стимсон и Трумэн, учитывая предстоящую Потсдамскую конференцию, вновь вернулись к щекотливому вопросу о том, что Трумэн может сказать Сталину о работах США над атомной бомбой. Согласно дневниковым записям Стимсона, они остановились на следующем диалоге, который был весьма схож с подходом, выработанным Стимсоном и Рузвельтом в марте:
«Мы занимались этим делом и работали как одержимые, и мы знали, что он тоже занимался этим делом и работал как одержимый. Мы были близки к цели и намеревались применить это против нашего врага, Японии. Если бы результат был удовлетворительный, тогда мы бы предложили обсудить это в последующем со Сталиным с тем, чтобы, обладая этим, сделать планету мирной и безопасной и не допустить уничтожения цивилизации. Если бы он стал добиваться деталей и фактов, Трумэн просто сказал бы ему, что мы еще не были готовы предоставить их»[1128].
Затем атомная бомба была взорвана. Ядерное испытание на полигоне Аламогордо, штат Нью-Мексико (атомный «гриб», выросший на полигоне), «явление космического масштаба, похожее на затмение»[1129], навсегда изменило мир. Через семь дней после испытания на полигоне Аламогордо Трумэн встретился со Сталиным на Потсдамской конференции и сообщил ему, что у США есть атомная бомба. Однако вместо государственного подхода, который был выработан им и Стимсоном на основе рекомендаций ученых и правительственных лиц после тщательного обсуждения, Трумэн просто похвастался. Не было никакого упоминания о сотрудничестве, не было предложения сделать планету мирной и безопасной, не было упоминания о предложении делиться информацией в обмен на урегулирование польской, румынской, югославской и маньчжурской проблем.
Встреча состоялась во дворце Цецилиенхоф, просторном особняке, стилизованном под эпоху Тюдоров и построенном семьей Гогенцоллернов в Потсдаме на окраине Берлина. Сталин прибыл туда на день позже, объяснив это тем, что «его доктор настоял на том, чтобы он приехал на поезде, а не летел»[1130]. По имевшимся сведениям, у него был небольшой сердечный приступ. Но это не было внезапным решением. Чтобы обеспечить охрану на маршруте Сталина длиной 1 923 километра, Берия разместил на территории Советского Союза на каждом километре по восемь человек, а на территории Польши и Германии – по 13 человек. Кроме того, к обеспечению безопасности было привлечено восемь бронированных поездов (они патрулировали на маршруте), семь полков НКВД и девятьсот телохранителей, а также четырнадцать самолетов, которые кружили над головой[1131].
В одном из перерывов на конференции, вечером 24 июля, Трумэн подошел к Сталину и осторожно сообщил ему, что Соединенные Штаты разработали новое оружие[1132], «новую бомбу, гораздо более разрушительную, чем любая другая известная бомба, и что мы планировали очень скоро использовать ее, если Япония не сдастся»[1133]. Сталин бесстрастно выслушал то, что перевел Владимир Павлов, и вежливо ответил, что он был рад услышать об этом и надеется, что Америка «успешно использует ее против японцев». Он не задал никаких вопросов. Никто не отметил у него никаких эмоций. Те американцы, которые присутствовали при этом (Стимсон, Бирнс, теперь уже госсекретарь, и сам Трумэн), все внимательно следили за Сталиным, чтобы увидеть, как он воспримет новость, – и все отметили, что он совершенно никак не отреагировал на нее. Павлов впоследствии напишет, что «на его лице не дрогнул ни один мускул»[1134]. Американцы решили, что, возможно, он не понял всей важности этой информации. Черчилль подумал то же самое: «Я был уверен, что он не осознал значимости того, о чем ему сказали»[1135].
Сталин был хорошим актером и, возможно, еще более лучшим игроком в покер: он в действительности весьма искусно утаил свою реакцию на заявление Трумэна. Прежде чем он покинуть Потсдам, он, стремясь ускорить работы советской стороны над атомной бомбой, передал все полномочия по разработке советской бомбы Берии, рассчитывая на то, что тот сможет обеспечить более энергичные темпы этой разработки. Берия сразу же приступил к работе, «делая заметки на листе бумаги… организуя будущую комиссию и подбирая членов в ее состав»[1136]. После своего возвращения в Москву Сталин встретился с Игорем Курчатовым, самым известным российским ядерным физиком, и сказал ему: «Просите все, что нужно. Отказа не будет»[1137].
Через несколько дней после того, как Трумэн сообщил Сталину об атомной бомбе, лейтенант Джордж Элси, его молодой, весьма сдержанный военно-морской адъютант, выпускник Принстонского университета, получивший в Гарварде степень магистра по истории, передал Трумэну сообщение от Стимсона о том, что тот готовит заявление, которое президент сделает сразу же после применения первой атомной бомбы, что может случиться в любой день. Трумэн на секунду задумался, затем перевернул лист с этой информацией и написал на обратной стороне: «Согласен сделать заявление, но не ранее 2 августа»[1138]. Это была дата завершения работы Потсдамской конференции. Передав лист Элси, Трумэн сказал, ясно продемонстрировав, насколько по-другому он относился к Сталину, чем Рузвельт: «Я хочу уехать отсюда до того, как об этом станет известно. Я не хочу отвечать на какие-либо вопросы Сталина».
Атомная бомба изменила мнение Сталина о Рузвельте: «Рузвельт явно не чувствовал необходимости держать нас в курсе дела. Он мог бы проинформировать нас в Ялте. Он мог бы сообщить мне, что атомная бомба находилась на этапе экспериментов. Я думал, что мы были союзниками»[1139]. Сталин был прав в этой оценке Рузвельта. Стеттиниус сказал президенту на второй день конференции в Ялте, что ядерная гонка уже началась: у Советского Союза к добыванию информации по данному вопросу было привлечено 125 шпионов, и, следовательно, президент должен быть готов к его обсуждению со Сталиным – потому что Сталин «может спросить нас об этом». Тем не менее основными вопросами, которые должны были быть решены, были вопросы создания Организации Объединенных Наций и готовности Советского Союза вторгнуться в Маньчжурию. В Ялте Рузвельт лишь упомянул Черчиллю, что он хотел бы посвятить Сталина в эту тайну, но он пока еще не успел убедить Черчилля в необходимости этого. Ядерные исследования были сложной темой, обсуждение которой могло подождать.
Сталин не знал об этом, но даже если он и мог отметить молчание Рузвельта по этому вопросу, он также знал, что Рузвельт, скорее всего, планировал проинформировать его после первого успешного ядерного испытания, но смерть лишила его этой возможности.
6 августа, узнав, что «Малыш», первая атомная бомба, была сброшена на Хиросиму, Сталин, по утверждению его дочери, заболел. Он сказал своим помощникам, что эта бомба «потрясла весь мир… Баланс был нарушен»[1140].
Операция Красной армии против Квантунской армии стала кульминацией десяти месяцев скоординированного планирования. США вооружали войска Красной армии, транспортировали их и обеспечивали их продуктами, и теперь эти войска были развернуты на маньчжурской границе, готовые к наступлению. 8 августа, в соответствии с планом, Советский Союз объявил войну Японии. Когда об этом сообщили Трумэну, тот был недоволен. «Они опережают события, не так ли, адмирал?»[1141] – спросил он Лихи. Лихи согласился с этим. 9 августа в час ночи советские войска численностью один миллион человек перешли границу Восточной Маньчжурии: Сталин сдержал свое обещание. Позже в тот же день вторая атомная бомба, «Толстяк», уничтожила Нагасаки. Она была сброшена для того, чтобы вынудить японцев на безоговорочную капитуляцию, но для всех в Советском Союзе применение второй бомбы явилось сильным ударом. Сам выбор времени, когда она была сброшена, свидетельствовал о целенаправленной попытке лишить вступление Советского Союза в войну какого-либо смысла, принизить его военную мощь, продемонстрировав свое превосходство, – короче говоря, это было воспринято как предостережение, как следует себя вести. Красная армия была сильной, но ничто не могло сравниться с самым мощным оружием в мире.
10 августа Япония капитулировала.
Использование второй атомной бомбы имело непредсказуемый эффект: явный ужас перед тем, к каким разрушениям это привело, ошеломил Америку, в результате чего американцы вряд ли заметили начало операции Красной армии против Японии. Большинство американцев и тогда, и сейчас не понимают значения вступления России в войну против Японии, они никогда не оценили того факта, что Россия перебросила миллион человек через Сибирь, никогда не были в курсе, что Россия могла понести громадные жертвы, если бы пришлось вторгаться в Японию, они так и не поняли, что это вторжение на самом деле состоялось. Императорская японская армия всегда боялась войны на два фронта, а теперь она столкнулась с этим. И советское вторжение имело самое непосредственное отношение к капитуляции Японии после атомных бомбардировок.
Молотов заявил: «Бомбы, сброшенные на Японию, были направлены не против Японии, а против Советского Союза»[1142]. Ядерный физик Юлий Харитон выразил общероссийское мнение, когда он писал, что эти две бомбы были сброшены «в качестве атомного шантажа против СССР, как угроза развязывания новой, еще более страшной и разрушительной войны»[1143].
2 сентября, в день победы над Японией, Сталин объявил в Советском Союзе по радио об окончании войны: «Разбитая наголову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами Объединенных Наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие». В заключение, отдавая последнюю дань памяти Рузвельта, он упомянул о четырех «международных полицейских»: «Слава вооруженным силам Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Китая и Великобритании, которые победили Японию».
Трумэн в тот же день в прямом эфире объявил американцам об окончании войны. В середине его речи прозвучало глухое упоминание о «доблестных союзниках в этой войне»[1144]. Он так и не назвал их.
Эпилог
Взрывы атомных бомб и разрушения, вызванные ими, оказали такое мощное психологическое и даже чисто визуальное воздействие на умы американцев, что практически стерли из их сознания тот факт, что Россия направила миллион человек для вторжения в Маньчжурию. Кроме того, американцы перестали осознавать, какое влияние это вторжение оказало на Японию. Даже военный министр Стимсон был так заворожен мощностью атомных бомб, что написал в своем дневнике: «6 августа один самолет «Б-29» сбросил одну атомную бомбу на Хиросиму. Три дня спустя вторая бомба была сброшена на Нагасаки, и война была закончена».
Русские восприняли известие об атомной бомбе с огромной обеспокоенностью. Хуже того, они впервые почувствовали недоверие к Америке, до сих пор единственной стране, которой они безоговорочно доверяли и считали своим другом.
Эту обеспокоенность можно было, скорее всего, развеять, если бы Соединенные Штаты посвятили Россию в свои планы обеспечения контроля за атомной энергией и ядерным оружием и их дальнейшего развития, за что выступали многие в Великобритании и Америке. В конце сентября 1945 года был момент, когда влиятельные лица в Вашингтоне оказались близки именно к такому решению. Это произошло 21 сентября на заседании правительства, созванном президентом Трумэном специально для обсуждения этого вопроса.
Военный министр Генри Стимсон являлся основным инициатором этого предложения. Вскоре после того, как атомные бомбы были сброшены, Стимсон вернулся в свой коттедж в Адирондаке и при содействии помощника военного министра Джона Макклоя выработал план действий (предложение), которому, по его мнению, Соединенным Штатам необходимо следовать, чтобы предотвратить гонку вооружений, способную поставить под угрозу весь мир.
11 сентября он направил этот план Трумэну с сопроводительным письмом:
«Я считаю, что изменение отношения к личности в России произойдет медленно и постепенно, и я убежден, что нам не следует сохранять прежнего подхода к России в вопросе атомной бомбы в ожидании завершения этого процесса. Кроме того, я считаю, что этот длительный процесс изменений в России, скорее всего, будет ускорен в случае тесного сотрудничества по вопросу атомной бомбы, которое я предлагаю начать. Я считаю, что предлагаемый мной новый подход будет содействовать росту доверия между нашими странами… Если Советы не будут добровольно приглашены в качестве партнера на основе взаимного сотрудничества и доверия, нам придется обеспечивать англосаксонский блок, направленный против Советского Союза по вопросу обладания этим оружием»[1145].
В ответ на это Трумэн назначил на 21 сентября 1945 года заседание кабинета с единственным пунктом в повестке дня: атомная бомба и развитие атомной энергии в мирное время.
21 сентября был знаменательным днем для Стимсона: это был его последний день в качестве военного министра, ему исполнялось семьдесят восемь лет. В то утро у него состоялся последний официальный разговор с генералом Маршаллом, был проведен последний обед в столовой для высшего командного состава и состоялось последнее совещание с президентом Трумэном, в ходе которого тот наградил его медалью «За выдающиеся заслуги». Наконец, в два часа дня началось заседание кабинета министров. Оба назначенных Трумэном для этого лица – его личный секретарь Мэтью Дж. Коннелли и министр военно-морских сил Джеймс Форрестол – делали записи. Коннелли, кроме того, вел учет, кто был согласен, а кто не согласен с позицией Стимсона.
Трумэн открыл заседание, обратившись к Стимсону с просьбой изложить свое мнение. Стимсон представил вопрос, заявив, что путь к достижению прочного мира для США заключается в том, чтобы разделить контроль над атомной бомбой с Советским Союзом: «Я считаю, что наша проблема, касающаяся поддержания хороших отношений с Россией, не только связана с проблемой атомной бомбы, но практически полностью определяется ею… С учетом того, что русские знают, что в нашем распоряжении имеется такое оружие, и видят, что мы открыто демонстрируем это, их подозрения и недоверие к нашим целям и мотивам будут усиливаться… Мы могли бы также рассмотреть вопрос о заключении соглашения с Великобританией и Советским Союзом об обмене результатами будущих разработок, которое бы предусматривало использование атомной энергии на взаимовыгодной основе в коммерческих или гуманитарных целях»[1146].
Далее Стимсон заявил собравшимся: «Речь идет не о том, чтобы мы раскрыли секреты, эти секреты неизбежно сами раскроются. Проблема заключается в том, как относиться к секретам, учитывая необходимость обеспечения безопасности в мире»[1147]. Он пояснил, что техническая информация, необходимая для создания бомбы, – это совершенно не то, что представляют собой научные знания, известные всем физикам-ядерщикам. (Как отметил вступающий в должность военный министр Роберт Паттерсон, у Стимсона не было намерений передать русским секретные технологии создания вооружения, касавшиеся производства атомных бомб в качестве оружия[1148].)
Согласно записям Коннелли, из восемнадцати участников заседания, в котором принял участие также Вэнивар Буш, директор Бюро научных исследований и развития (для того, чтобы представить взгляды ученых, привлеченных к Манхэттенскому проекту), тринадцать человек поддержали позицию Стимсона: должны быть предприняты шаги по обмену информацией с Россией. Трое высказались за то, чтобы подождать с выполнением этого плана. Четыре участника заседания посчитали данную идею неприемлемой.
Буш проинформировал кабинет министров, что в ближайшие пять лет советская сторона может достичь таких же успехов, «какие обеспечили себе мы к настоящему времени… У нас нет преимущества в знаниях или в активности ученых-физиков»[1149]. В этой связи он выступил за то, чтобы «предоставить России информацию обо всем, что у нас есть касательно принципов атомной энергии». Дин Ачесон, заместитель госсекретаря, который принимал участие в заседании вместо госсекретаря Джеймса Бирнса, находившегося в Лондоне, высказал мнение, что обмену информацией не было никакой альтернативы: «Нет никакого смысла в том, чтобы выигрывать такого рода гонку, если можно просто не участвовать в этой гонке». Он не мог себе «представить мир, в котором мы бы утаивали военные тайны от наших союзников, особенно от такого великого союзника»[1150]. Министр финансов Фред М. Винсон не согласился с этим, заявив: «Если мы раскроем эту информацию, то, чтобы быть последовательными, мы должны будет предоставить информацию и обо всех военно-технических аспектах… Пока другие страны не предоставят нам аналогичной информации, такой шаг был бы рискованным… Если мы раскроем секреты об атомной бомбе, тогда нам следует забыть о соответствующей обязательной подготовке армии, военно-морских сил и ВВС»[1151]. Генеральный прокурор Том С. Кларк, техасец, согласился с Винсоном: «Нам следует иметь при себе эту дубину»[1152].
В этот момент Трумэн, возможно, удивленный горячностью критики представленного предложения, а возможно, и тем, что участники заседания неверно истолковывали то, что было вынесено на обсуждение, указал собравшимся: «Мы рассматриваем лишь вопрос об обмене научными знаниями, а не о раскрытии промышленных секретов»[1153]. Министр почт и телеграфа Роберт Ханнеган, политик из штата Миссури и председатель Национального комитета Демократической партии, заявил, что он поддерживает предложение Стимсона. Президент, воодушевившись, отважился высказать предположение, что «отношения между Россией, Великобританией и нами улучшаются. Для достижения прочного мира мы должны поддерживать взаимное доверие»[1154]. Министр военно-морских сил Джеймс Форрестол указал, что необходимо учитывать две точки зрения: первую – относительно военного аспекта данного вопроса и вторую – в отношении гражданского. Далее он сказал: «Доверие не должно представлять собой улицу с односторонним движением»[1155]. (В служебной записке, которую он представил президенту на заседании и в которой проявилась его предвзятость, говорилось: «Русские, подобно японцам, по своему складу мышления являются, по существу, восточным народом, и до тех пор, пока у нас не накопится достаточно длительный опыт работы с ними в вопросе соблюдения ими своих обязательств… следует поставить под вопрос необходимость того, чтобы мы добивались понимания с их стороны и симпатии. Мы как-то уже пытались вести себя так в отношении Гитлера».) Следующим выступал министр сельского хозяйства Клинтон Андерсон. Он заявил, что «склонен согласиться с Винсоном… Нам не следует отказываться от владения секретами относительно бомбы». Эйб Фортас, заместитель министра внутренних дел, южанин, на которого Трумэн всегда полагался и который позже будет назначен членом Верховного суда, сделал один из наиболее вдумчивых комментариев: «Если мы будем утаивать секреты, касающиеся атомной бомбы, то мы будет препятствовать промышленному применению атомной энергии… Следует иметь в виду, что когда принципы атомной энергии используются в промышленности, секреты, связанные с атомной бомбой, невозможно хранить длительное время»[1156]. Вслед за этим министр торговли Генри Уоллес также поддержал Стимсона, задав вопрос, «должны ли мы придерживаться курса на озлобленность, или нам следует идти по широкой дороге мира… Наука не может иметь каких-либо рамок»[1157]. (Форрестол, демонстрируя свою антипатию к Уоллесу, отметил в своем дневнике, что тот «целиком и полностью, всем сердцем был за то, чтобы передать секреты русским»[1158].) Вступающий в должность военного министра Роберт Паттерсон также поддерживал позицию Стимсона. Министр труда Льюис Швелленбах, сменивший Фрэнсис Перкинс, также выступил в поддержку Стимсона, как и Филип Флеминг, руководитель Федерального управления общественных работ. Стимсона поддержал и Пол В. Макнатт, председатель Комиссии по рабочей силе в военной промышленности, который отметил, что он согласен с принципом необходимости поддержания своего пороха сухим, «но в этом случае, как ему кажется, мы бы не смогли держать его сухим, поскольку из заявления Буша следует, что русские, в конце концов, должны сравняться с нами в знаниях об атомной энергии»[1159]. Джон Б. Блэндфорд, администратор Национального управления жилищного строительства, также поддержал идею о необходимости предоставления информации русским, даже не пытаясь получить что-либо взамен. Еще трое участников заседания – Джулиус А. Круг, председатель Комитета военно-промышленного производства, Джон Снайдер, глава Управления по вопросам военной мобилизации и реконверсии, и сенатор от штата Теннесси Кеннет Маккеллар, временный президент Сената, – также согласились со Стимсоном, но выступили за то, чтобы на шесть месяцев отложить принятие какого-либо решения по данному вопросу.
Между участниками заседания наблюдалось определенное согласие в связи с упоминанием Буша о том, что секреты невозможно будет утаить. Таким образом, вопрос касался не безопасности или необходимости, а того момента, рассматривать ли Россию в качестве противника – или же как друга. Учитывая то, насколько четко Буш обозначил данный вопрос, Трумэн понял, что было поставлено на карту: речь шла о будущей дружбе с Советским Союзом или же о вражде с ним.
Почти не приходится сомневаться в том, какой выбор сделал бы Рузвельт. Он бы поделился с Советским Союзом знаниями об атомной энергии и обеспечил бы совместный контроль над этим вопросом, продемонстрировав тем самым дружеское отношение к нему, сделав ставку на то, что такой курс уменьшит опасения СССР и его неуверенность в США, и обеспечив активное участие Советского Союза в деятельности международного сообщества. Буквально за несколько недель до своей смерти, в марте 1945 года, Рузвельт говорил об этой тактике действий с Макензи Кингом. «Он полагал, что пришло время рассказать им, как далеко зашли исследования в этой области», – написал Кинг в своем дневнике 9 марта 1945 года после позднего (вслед за завершением ужина) разговора с президентом в его кабинете.
* * *
На следующий день после заседания кабинета министров 21 сентября произошло два события. Первое: как правило, весьма педантичное и аккуратное в информировании читателей издание «Нью-Йорк таймс» представило такой отчет об этом заседании, который мало соответствовал (если соответствовал вообще) тому, что имело место в действительности. И второе: генерал Гровс в пространном выступлении, которое произвело сильное впечатление на многих (поскольку в качестве лица, отвечавшего за Манхэттенский проект, он являлся весьма авторитетной фигурой), заявил, что, по его мнению, атомная бомба должна оставаться американским секретом.
На первой странице «Нью-Йорк таймс» красовалась статья под экстравагантным названием: «Просьба предоставить Советам атомные секреты вызвала дебаты в правительстве: по плану Уоллеса поделиться данными о бомбе в качестве гарантии мира решения не принято»[1160]. Вашингтонского репортера «Нью-Йорк таймс» Феликса Билейра– младшего явно ввели в заблуждение. Кто-то (вероятно, Джеймс Форрестол) подсунул ему фальшивый отчет о том, что происходило на заседании. В пространной статье имелись неоднократные ссылки на представленный на заседании план как якобы «план Уоллеса». Стимсон был упомянут лишь один раз, и то ошибочно: он якобы заявил, что этот вопрос должен быть «поставлен перед международным органом, который будет создан в ближайшем будущем», – на самом деле он, в принципе, придерживался другого мнения. В статье утверждалось также, что армия и военно-морские силы «готовы до конца противодействовать выдвинутому предложению». «Таймс» неоднократно подчеркнула, что поддержка этой идее была оказана со стороны «приверженцев Уоллеса».
Усилия дискредитировать представленный на заседании план были чрезвычайно эффективными – настолько эффективными, что он был обречен. Предложение Стимсона, глубоко уважаемого республиканца, который служил не только военным министром в администрации Рузвельта, но также военным министром в администрации Уильяма Говарда Тафта и госсекретарем в администрации Герберта Гувера, который санкционировал применение атомных бомб и выбрал города для нанесения удара, было представлено как идея Генри Уоллеса, бывшего вице-президента, являвшегося весьма противоречивой личностью, который был с трудом утвержден в качестве министра торговли и от которого Рузвельт в прошлом году отказался в качестве кандидата на пост вице-президента. В журнале «Тайм», весьма популярном еженедельнике, который регулярно публиковал в сжатом виде газетные материалы, на следующей неделе появилась короткая статья о заседании правительства, повторившая публикацию в «Нью-Йорк таймс»: «На заседании правительства США Генри Уоллес и другие правительственные чиновники привели мнение ученых о том, что секреты нельзя утаить, доказывая тем самым необходимость вынесения вопроса о бомбе на решение Организации Объединенных Наций»[1161]. Журнал «Лайф» спустя некоторое время разместил статью на двух страницах о выходе Стимсона на пенсию с похвалой в его адрес. Была опубликована фотография Стимсона в аэропорту после завершения заседания правительства: он шел между двумя рядами генералов, среди которых был и генерал Маршалл, чтобы сесть на самолет, который должен был доставить его домой. В статье не было никакого упоминания о последнем исключительно важном предложении Стимсона об организации обмена информацией о ядерном оружии с Советским Союзом. Вернувшись на свою любимую ферму «Хайхолд» на острове Лонг-Айленд, Стимсон вскоре оставит дела в связи с болезнью сердца.
* * *
В течение трех лет Форрестол, уже в должности министра обороны, будет привычно называть бомбардировщики «Б-29» «носителями атомного оружия»[1162], которые должны быть размещены в Великобритании для использования против России, и консультировать Трумэна: «Единственный противовес, который у нас имеется превосходящим трудовым ресурсам российской стороны… это угроза немедленного возмездия путем применения атомной бомбы». В своем дневнике менее чем за год до испытания Россией своей первой атомной бомбы Форрестол с одобрением цитировал суждение посла США в СССР Уолтера Беделла Смита: «У русских в настоящее время не может быть промышленных возможностей для производства атомной бомбы»[1163]. Заблуждение (под влиянием Форрестола или же любого из трех других документально зафиксированных противников плана Стимсона) было настолько глубоким, что в «Дневниках Форрестола» под редакцией Уолтера Миллиса, опубликованных в 1951 году, Миллис, очевидно, не зная, что личный секретарь Трумэна Мэтью Дж. Коннелли делал заметки и обобщал выступления на всех заседаниях кабинета министров, написал о заседании правительства, состоявшемся 21 сентября: «Сложилось основное впечатление, что почти все согласились с выступлением Форрестола»[1164].
Такое грубое искажение обсуждавшегося на заседании правительства вопроса могло иметь место, отражая настроения, царившие в стране: американцы были категорически против. Пятьдесят пять из шестидесяти одного опрошенного конгрессмена были против этой идеи[1165]. Согласно опросу Национального центра изучения общественного мнения, такую же позицию занимали и 85 процентов американцев. После смерти Рузвельта предотвращение «холодной войны», вероятно, никогда не рассматривалось в качестве варианта возможных действий. Очевидно, заседание кабинета министров 21 сентября лучше всего расценивать как последнюю, обреченную на провал попытку спасти тот союз, который Америка больше уже не считала разумным.
* * *
Когда Бирнс через две недели после заседания кабинета министров (состоявшегося 21 сентября) вернулся в Вашингтон, он заявил, что «его мнение полностью совпадало с мнением генерала Гровса»[1166] и что он уверен: вовлечение России в сотрудничество по вопросам атомной энергии является ошибкой. «Мы должны сначала понять, сможем ли мы добиться достойного мира», – пояснил он. Он полагал, что наиболее приемлемым вариантом для Организации Объединенных Наций является создание структуры, ответственной за решение вопросов по атомной энергии. Он игнорировал (возможно, сознательно) тот факт, что такой шаг будет расценен Сталиным как пощечина. В частных беседах он заявлял, что «взглядам ученых по этому вопросу уделяется чрезмерное внимание»[1167]. Трумэн, который первоначально, казалось, сохранял нейтралитет, несомненно, чувствовал растущие антироссийские настроения в стране. Спустя несколько недель он согласился с планом Бирнса и определил, что самым безопасным и простым решением для Америки будет отказ от раскрытия атомных секретов. На импровизированной пресс-конференции, организованной 8 октября во время отдыха с рыбной ловлей на озере Рилфут в штате Теннесси, он заявил, что Соединенные Штаты не будут отдавать свои инженерные «ноу-хау» по созданию атомной бомбы какой бы то ни было стране; другие должны будут догнать США в этом вопросе[1168]. «Наше обладание атомной бомбой и отсутствие ее у России – это тот фактор, который никак не влияет на отношения между двумя странами», – заявил он. Затем он, согласно сообщениям прессы, нанес еще один удар по будущему развитию этих отношений, заявив, что языковые трудности исключают его новую встречу со Сталиным, поскольку в Потсдаме «было очень трудно передать на русский язык точный смысл того, что он говорил по-английски, а он постоянно был вынужден прибегать к услугам переводчика».
Антироссийские настроения всегда существовали даже в ближайшем окружении Рузвельта во время войны (они отмечались даже у его основных помощников, в том числе у адмирала Уилсона Брауна и адмирала Лихи), хотя в интересах своей карьеры и с учетом неординарной личности Рузвельта эти лица, как и многие другие, пока он был жив, держали свое мнение при себе. Постоянно находившийся в Штабной комнате лейтенант Элси неоднократно слышал, как оба эти адмирала, чувствуя себя в безопасности, высказывались о Рузвельте весьма критически. «Оба были обеспокоены его «единоглобальностью», этот насмешливый термин они использовали в отношении взглядов идеалистов, проповедовавших философию «единого мира»… Они высказывали свои опасения громко и часто»[1169], – вспоминал Элси. После смерти Рузвельта антироссийские настроения, которые больше никто не сдерживал, прочно овладели всей страной. При Трумэне в повседневной внешнеполитической практике выстраивания отношений с Россией стали прислушиваться, прежде всего, к голосам таких лиц, как Джордж Кеннан, «длинная телеграмма»[1170] которого явилась основой для послевоенной американской «политики сдерживания», и Джозеф С. Грю, заместитель госсекретаря (оба считали нормализацию отношений с Советским Союзом невозможной и нежелательной, оба, вместе с А. Гарриманом, в 1933 году выступали против установления дипломатических отношений с Советским Союзом). Кеннан отличался такими экстремистскими настроениями, что выступал против вступления США в Организацию Объединенных Наций, поскольку Россия являлась ее членом. Это предельно четко просматривается в письме, которое Чарльз Болен получил от Кеннана в феврале 1945 года в Ялте. В нем Кеннан подвергает критике всю внешнюю политику Рузвельта. «Я не вижу причин, почему мы должны связывать себя с этой политической программой, которая так враждебна интересам Атлантического сообщества в целом, так опасна для всего, что нам необходимо сохранить в Европе, – писал Кеннан Болену. – … Планы по созданию Организации Объединенных Наций следует похоронить как можно быстрее, потому что единственным практическим результатом создания этой международной организации будет то, что Соединенные Штаты будут связаны обязательствами защищать непомерно раздутую и недееспособную российскую сферу влияния»[1171].
Рузвельт был прагматиком, который решал политические проблемы. Он с самого начала предполагал неизбежность советского влияния в Восточной Европе, предполагал, что стремление Сталина добиться такого влияния было основано на желании защитить границы России. Если бы Сталин настаивал, Рузвельт согласился бы даже на советский контроль над Финляндией в послевоенный период. Он признался в этом в 1943 году, еще до Тегеранской конференции, в письме кардиналу Фрэнсису Спеллману, архиепископу Нью-Йорка. Польша, Прибалтика, Финляндия, перечислял он, «лучше отдать их ему изящно… Что мы можем поделать?»[1172] Он надеялся, продолжал Рузвельт, что через десять или двадцать лет «под европейским влиянием русские станут меньшими варварами». Рузвельт никогда не признавал это публично, и во время встречи со Сталиным в Ялте он добился определенных ограничений на советское влияние на своих сателлитов, заставив Сталина подписать соответствующие документы, а в июне под давлением Гопкинса тот вновь подписал аналогичные документы уже в Москве. Рузвельт смотрел в будущее – и делал ставку на то, что Сталин, который пережил две немецкие агрессии, будет создавать санитарный кордон из восточноевропейских стран, чтобы навсегда защитить Россию от будущих агрессий, но не будет строить никаких военных планов в отношении Западной Европы.
Уяснив, наконец, после обсуждения с Гопкинсом, те проблемы, которые беспокоили США, и необходимость соответствовать ожиданиям международной общественности, Сталин в июне согласился, чтобы в состав правительства Польши вошли такие польские инакомыслящие, как Миколайчик.
Несмотря на потрясение, испытанное в связи с применением атомной бомбы, послевоенной целью Сталина, безусловно, являлось обеспечение для России безопасности в интересах восстановления страны – а это означало необходимость обеспечения периода экономической стабильности, что, в свою очередь, означало необходимость обеспечения дружественного отношения со стороны Америки. Поскольку Сталин и Молотов испытывали доверие к Рузвельту, они (что было немаловажно) были среди основателей Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые, согласно проекту Рузвельта, были созданы, чтобы способствовать мировой торговле и экономической стабильности (хотя они и не безоговорочно поддерживали этот проект, но они учли, насколько он был важен для Рузвельта). По существу, это был вопрос доверия.
Ожидание Сталина, что США помогут советскому руководству восстановить страну и предоставят ему крупный кредит даже после смерти Рузвельта, было оправдано тем, что переговоры по предоставлению указанного кредита шли уже почти два года. Гарриман несколько раз в 1943 году обсуждал послевоенную американскую помощь с Анастасом Микояном, наркомом внешней торговли. В январе 1945 года Молотов представил Гарриману первую официальную советскую заявку на послевоенный кредит в сумме 6 миллиардов долларов. Генри Моргентау высказался за увеличение этой суммы до 10 миллиардов долларов. Эрик Джонстон, президент Торговой палаты США, посетивший Москву в 1944 году, заверил Сталина, что капиталистической Америке понадобятся рынки сбыта продукции промышленности, активно развивавшейся в ходе войны, поэтому кредит позволит России закупать американские товары, что было как в интересах США, так и в интересах России. После встречи Джонстона со Сталиным, которая продолжалась два с половиной часа, американский представитель отметил, что Сталин отлично разбирался в экономической ситуации в США. Он заявил корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Гаррисону Солсбери: «Он знает производственные показатели США лучше, чем большинство наших бизнесменов. Я так уверенно говорю это потому, что знание производственных показателей – это моя профессия»[1173]. Джонстон, яркий символ американского капитализма, находясь под сильным впечатлением от советского руководителя, сказал Сталину, что он сделает «все, что возможно, чтобы способствовать увеличению кредитов, предоставляемых Соединенными Штатами России для закупки американской техники в целях восстановления страны, и заверил маршала, что американский бизнес желал полномасштабного двустороннего развития торговли с Советским Союзом». Основой экономической политики Сталина являлись экономические теории доктора Евгения Варги, талантливого советского экономиста венгерского происхождения, который одобрил Бреттон-Вудские соглашения[1174], на которого Сталин ориентировался в вопросах экономики и с которым он часто консультировался. Анализ общего кризиса капитализма и застоя капиталистической экономики, проведенный Варгой, являлся основой коммунистического мировоззрения в экономической сфере и, таким образом, был беспрекословно принят Сталиным. Зная, что друг Рузвельта, министр финансов Моргентау, а также Государственный департамент уже обсуждали вопрос о предоставлении Советскому Союзу послевоенного кредита, что он был в целом одобрен как обоюдовыгодный для обеих стран шаг, что Рузвельт всегда был на его стороне, начиная с времени, когда он в 1936 году пытался получить корабль, построенный в США, и в последние годы щедро предоставлял все необходимое по программе ленд-лиза, Сталин должен был быть полностью уверен (он и был) в том, что кредит будет предоставлен.
Переговоры по вопросу о предоставлении кредита зашли в тупик, потому что, по словам историка Томаса Патерсона, в январе 1945 года Рузвельт поручил представителям администрации воздержаться от дальнейшей проработки этого вопроса вплоть до момента его встречи со Сталиным[1175]. Тем не менее, хотя Сталин постоянно помнил об этом (он упомянул о возможном кредите США в первый же вечер на Ялтинской конференции, пошутив, что если Рузвельт захочет пятьсот бутылок шампанского, он «предоставит их президенту в долгосрочный кредит на тридцать лет»[1176]), Рузвельт так и не поднял этой темы во время конференции. Сталин и Молотов тоже не стали ее поднимать. Можно только предположить, что Рузвельт считал, что время еще не пришло, что было еще слишком рано, и ждал совместных действий обеих стран по разгрому Японии, в то время как Сталин и Молотов ожидали, что Рузвельт проявит инициативу в этом вопросе.
Вскоре после 9 августа Сталин узнал, что Экспортно-импортный банк, у которого в то время были ограниченные средства, готовился рассмотреть вопрос о предоставлении Советскому Союзу кредита в размере 1 миллиарда долларов. Советские представители, исходя из того, что данная сумма была меньше первоначальной, предложили процентную ставку в размере 2,375 процентов, однако банк им отказал на том основании, что эта процентная ставка была слишком низкой, хотя вскоре после этого Соединенные Штаты предложили англичанам кредит в размере 3,75 миллиарда долларов при процентной ставке 2 процента. 17 сентября сенатор от штата Флорида Клод Пеппер, сторонник помощи Советскому Союзу, и члены Специального комитета Палаты представителей США по послевоенной экономической политике и планированию приехали в Москву, чтобы ознакомиться с экономическими условиями в Советском Союзе. Встретившись со Сталиным, они обсудили вопрос о проекте первоначального кредита на 6 миллиардов долларов. Пытаясь вызвать интерес у американской стороны, Сталин напомнил законодателям: «Есть возможность увеличить объем товарооборота между Соединенными Штатами и Советским Союзом». Он сообщил им, что Советскому Союзу предстояло в течение многих лет восстанавливать народное хозяйство, которому война нанесла громадный ущерб, и повышать уровень жизни народа, и, в соответствии с классическим марксистским тезисом об опасности перепроизводства в капиталистическом обществе, отметил: «Наш внутренний рынок безграничен, и мы можем потреблять бог знает сколько много». Осознавая, что значительное число американцев опасалось и не доверяло Советскому Союзу, Сталин в ходе специального сорокапятиминутного интервью с Пеппером заверил сенатора, что финансовая помощь ему была необходима для обеспечения жизненного уровня советского народа, а не для дальнейшего наращивания военной мощи. «Для Советского Союза было бы самоубийством использовать любые кредитные средства в военных целях»[1177], – заявил он. У американских гостей сложилось впечатление, что Сталин был уверен: переговоры «о предоставлении кредита в шесть миллиардов долларов продвигаются в правильном направлении»[1178].
Русские ждали, но абсолютно ничего не произошло: не было никаких шагов по предоставлению кредита, никаких необходимых для этого действий. Отвечая на вопрос об этом, Трумэн отрицал сам факт, что советская сторона обращалась за кредитом. В последующем Госдепартамент выступил с заявлением о том, что на Соединенных Штатах не лежит никакой вины: они предложили Советскому Союзу переговоры по вопросу о предоставлении кредитов, а тот не ответил. В марте 1946 года Государственный департамент заявил, что в августе прошлого года заявка советской стороны на предоставление кредита была утеряна во время передачи документов из Управления внешнеэкономических связей, которое курировало Экспортно-импортный банк, в Государственный департамент: эти документы только что были найдены. По словам Артура Шлезингера-младшего, «для русских невозможно было поверить в такое… Это только укрепило подозрения Советов в истинных целях США»[1179].
Российские подозрения в нечестной игре оказалось справедливыми. Госсекретарь Джеймс Бирнс позже признался, что он постарался сделать так, чтобы кредиты не были предоставлены, «похоронив» соответствующую папку: «Я поместил ее в забытый всеми архив и, таким образом, был уверен, что Фред Винсон, новый министр финансов, не наткнется на нее»[1180].
Оптимистичный прогноз Сталина насчет англо-российского союза еще сохранялся до 1946 года. Это нашло отражение, в частности, в его ответах на вопросы, которые задал ему Александр Верт, русскоговорящий журналист радиовещательной корпорации Би-би-си и издания «Санди таймс», который находился в Москве на протяжении всей войны и написал сильную книгу о своих впечатлениях, «Россия в войне, 1941–1945» (“Russia at War, 1941–1945”).
«Верт: Верите ли Вы в реальную опасность «новой войны», о которой в настоящее время ведется так много безответственных разговоров во всем мире? Какие шаги должны бы быть предприняты для предотвращения войны, если такая опасность существует?
Сталин: Я не верю в реальность опасности “новой войны“.
О “новой войне“ шумят теперь главным образом военно-политические разведчики и их немногочисленные сторонники из рядов гражданских чинов. Им нужен этот шум хотя бы для того, чтобы:
а) запугать призраком войны некоторых наивных политиков из рядов своих контрагентов и помочь таким образом своим правительствам вырвать у контрагентов побольше уступок,
б) затруднить на некоторое время сокращение военных бюджетов в своих странах,
в) затормозить демобилизацию войск и предотвратить таким образом быстрый рост безработицы в своих странах.
Надо строго различать шумиху о “новой войне“, которая ведется теперь, и реальную опасность “новой войны“, которой не существует в настоящее время.
Верт: Считаете ли Вы, что Великобритания и Соединенные Штаты Америки сознательно создают для Советского Союза “капиталистическое окружение“?
Сталин: Я не думаю, чтобы правящие круги Великобритании и Соединенных Штатов Америки могли создать “капиталистическое окружение“ для Советского Союза, если бы даже они хотели этого, чего я, однако, не могу утверждать.
Верт: Верите ли Вы в возможность дружественного и длительного сотрудничества Советского Союза и западных демократий, несмотря на существование идеологических разногласий, и в “дружественное соревнование“ между двумя системами, о котором говорил в своей речи Уоллес?
Сталин: Безусловно, верю»[1181].
Генерал Эйзенхауэр на своем пути в Англию на борту океанского лайнера «Куин Мэри» заявил на пресс-конференции, что он согласен с заявлением премьера Сталина о том, что ни одна страна не хочет войны.
* * *
То, что президент Рузвельт так упорно старался предотвратить (он не хотел позволить английским и американским дипломатам после завершения войны создать видимость англосаксонской коалиции, противостоящей славянскому народу), после его смерти стало реальностью. Великобритания получила послевоенный кредит, в котором она отчаянно нуждалась, а Советский Союз, который в нем нуждался еще больше, его не получил. Трумэн под давлением своих советников отверг возможность совместного со Сталиным контроля над атомной бомбой. Таким образом, в конечном итоге полный опасений Сталин, самый подозрительный из всех мировых лидеров, столкнулся с тем, что Америка отказалась уступить свое превосходство в вооружениях и отказалась оказать помощь его стране. Следует напомнить превосходное выражение Рузвельта в его первой инаугурационной речи: «Единственное, чего мы должны бояться, так это самого страха». После того как он умер, постепенно стало очевидно, что страх снова стал расползаться по его стране. Это был необычный, новый страх: страх перед Россией.
12 апреля 1946 года газета «Правда» отметила годовщину смерти Рузвельта хвалебной статьей о нем. «Советские люди видели в Рузвельте друга Советского Союза», – говорилось в газете. В статье Рузвельт был представлен как «враг изоляционизма, а также противник тех не-изоляционистов, которые считали и до сих пор продолжают считать, что политика Соединенных Штатов должна заключаться в силовых методах с целью установления господства американских интересов во всем мире»[1182].
Примерно в то же время Энтони Иден сказал: «Если бы Рузвельт жил и сохранил свое здоровье, он никогда бы не позволил развиваться нынешней ситуации. Таким образом, его смерть явилась бедствием неизмеримых размеров»[1183].
Стимсон писал: «Миру и цивилизации не так уж важно, получит ли Россия доступ к секретам [ядерного] производства в течение, скажем, минимум четырех лет или максимум двадцати лет, для них гораздо важнее быть уверенными в том, что, когда она получит к ним доступ, она будет готова выступить в качестве активного партнера среди миролюбивых народов мира»[1184].
29 августа 1949 года в Казахстане, менее чем через четыре года после знаменательного заседания правительства США, на котором Стимсон высказался за совместный с Россией контроль над атомной энергией, Советский Союз успешно испытал атомную бомбу. Эта операция получила кодовое название «Первая молния». Началась гонка ядерных вооружений.
Спустя несколько лет Сталин сказал, продемонстрировав свою сохранявшуюся привязанность к умершему руководителю США, а также свою незыблемую веру в превосходство коммунистической системы над капиталистической: «Рузвельт был великим государственным деятелем, умным, образованным, дальновидным и либеральным руководителем, который продлил жизнь капитализму»[1185].
Слова благодарности
Я хотела бы в первую очередь поблагодарить Светлану Червонную. Она была моим терпеливым консультантом, переводчиком и источником информации обо всем, что касалось России. Светлана обеспечила меня множеством документов из различных российских источников и позволила мне ознакомиться в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в Москве с письмами Сталина Рузвельту.
Я хочу поблагодарить также моих весьма полезных читателей. Прежде всего профессора Мэрилин Б. Янг – за ее замечания, дельные советы и щедро пожертвованное мне время, этот бесценный дар, и профессора Фрэнка Костиглиолу – за интерес к моей работе, высказанную точку зрения и помощь в исследовании архивов, относящихся к описываемому периоду. Я также в долгу перед Стивеном Шлезингером, Уильямом Левитом, Джоном Коннором и Пэтом Биэрдом за их проницательные замечания и постоянный интерес к рукописи, а также перед Дэни и Фрэнком Вайлями – за их полезные предложения и перед генералом Джеймсом Абрахамсоном. Хочу также поблагодарить Сьюзен Коннор, которая перевела для меня оригиналы писем Сталина Рузвельту, хранящиеся в РГАСПИ, и Энтони Заннино за помощь в переводе.
Я чрезвычайно признательна Виктории Уилсон, моему редактору, обладающему удивительной интуицией, за ее предложения о внесении необходимых изменений и дополнений, которые значительно улучшили рукопись, и Фредерике Фридман, моему литературному агенту. Я глубоко признательна также Артуру Шлезингеру-младшему, наставившему меня на путь, который привел к появлению этой книги. Ее главы увидели свет во время моего пребывания в творческом поселке Макдауэлл в Питерборо, штат Нью-Гэмпшир, где ничто меня не отвлекало. Я должна поблагодарить Карла Пфоржеймера за то, что познакомил меня с кабинетами Фредерика Льюиса Аллена и Вертхайма в Нью-Йоркской публичной библиотеке на Сорок второй улице, где было написано такое множество книг, и Джея Барксдейла, который сделал мое пребывание там комфортным.
Хотела бы выразить особую благодарность Бобу Кларку, заместителю директора и главному архивариусу Президентской библиотеки Франклина Д. Рузвельта, за его помощь и руководство в работе, а также знающим и всегда находчивым архивистам Вирджинии Льюуик, Мэтью Хэнсону, Марку Реновичу и Алисии Вивоне. Я также хочу поблагодарить Ричарда Певсера из Управления национальных архивов и учетных документов за оказанную помощь, а также Рэнди Соуэлла из Президентской библиотеки Гарри Трумэна, Аманду Пайк из Библиотеки рукописей Сили Мадд в Принстонском университете и Маршу Лавмен из Лейк-Уэйлсской библиотеки в Лейк-Уэйлс, штат Флорида, которые помогли мне в поиске документов из других библиотек. Следует также упомянуть, что неоценимую помощь мне оказали сотрудники отдела рукописей Библиотеки Конгресса и персонал Библиотеки специальных коллекций Альберта и Ширли Смолл в Университете Виргинии.
Мне посчастливилось получить историческую информацию о семье Рузвельта от Дианы Делано, сведения об истории создания ООН и Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций – от Дана Плеша и информацию о Джоне Мейнарде Кейнсе от Роберта Скидельского. Я хотела бы также поблагодарить Сергея Юрченко, директора Ливадийского дворца-музея, за организованную им для меня замечательную частную экскурсию.
Я также хочу высказать слова благодарности Салли Мак, которая приютила меня, когда я занималась исследованиями в Бостоне в Хотонской библиотеке, Андреа и Тиму Коркоранам, которые помогли мне, когда я работала в Вашингтоне в Библиотеке Конгресса, Анна Морс и Линде и Роберту Батлерам за заботу обо мне в Гайд-парке, Нью-Йорк, когда я работала в Президентской библиотеке Франклина Д. Рузвельта, а также Фелиции Роган, давшей мне кров в Шарлотсвилле в то время, как я проводила исследования в Университете Виргинии.
Я должна также поблагодарить Луиса Лагеру из Бартоу, штат Флорида, который расположил все мои беспорядочные записи и собранные мной документы в хронологическом порядке, и, наконец, последнюю по порядку, но не по значению, – Одри Сильверман, помощницу Виктории Уилсон, которая так умело представила рукопись в Издательский дом Кнопфа.
Библиография
Издания
Abramson, Rudy. “Spanning the Century: The Life of Averell Harriman, 1891–1986”. New York: William Morrow, 1992.
Acheson, Dean, “Present at the Creation; My Years in the State Department”. New York: W. W. Norton, 1969.
Adams, Henry H. “Harry Hopkins”. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1977. “Affection and Trust: The Personal Correspondence of Harry S. Truman and Dean Acheson”. New York: Alfred A. Knopf, 2010.
Aid, Matthew M., and Cees Wiebes, eds. “Secrets of Signals Intelligence During the Cold War and Beyond”. London: Frank Cass, 2001.
Aldritt, Keith, “The Greatest of Friends”. London: Robert Hale, 1995.
Alliluyeva, Svetlana. Only One Year. New York: Harper & Row, 1969 (издание на русском языке: Аллилуева, Светлана. «Только один год». Harper & Row Publishers$ New York, 1969).
20 Letters to a Friend, London: Hutchinson, 1967 (издание на русском языке: Аллилуева, С.И. «Двадцать писем к другу». М.: Книга. 1989).
Asbell, Bernard, ed. “Mother and Daughter: The Letters of Eleanor and Anna Roosevelt”. New York: Fromm International, 1988.
Axell, Albert. “Marshal Zhukov: The Man Who Beat Hitler”. London: Pearson Longman, 2003 (издание на русском языке: Аксель, Альберт. «Маршал Жуков: человек, победивший Гитлера», Олма-пресс Гранд, 2005).
Beard, Charles A. “President Roosevelt and the Coming of the War, 1941”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1948.
Beevor, Antony. “Berlin: The Downfall, 1945”. London: Penguin, 2003.
Bellush, Bernard. “He Walked Alone”. The Hague: Mouton, 1968.
Bennett, Edward M. “Franklin D. Roosevelt and the Search for Victory”. Wilmington, Del.: SR Books, 1990.
Berezhkov, Valentin (“At Stalin’s Side: His Interpreter’s Memoirs from the October Revolution to the Fall of the Dictator’s Empire”. Translated by Sergei V. Mikheyev. New York: Carol, 1984.
Бережков, В.М. «Тегеран, 1943: на конференции “Большой тройки“ и в кулуарах», М.: АПН, 1971.
«Страницы дипломатической истории», М.: Прогресс, 1983.
Beria, Sergo. Beria, My Father: Inside Stalin’s Kremlin. London: Duckworth, 2001 (издание на русском языке: Берия, Серго, «Мой отец – Лаврентий Берия», М.: «Современник», 1994).
Birse, A. H. “Memoirs of an Interpreter”. New York: Coward– McCann, 1967.
Bishop, Jim. “FDR’s Last Year, April 1944 – April 1945”. New York: William Morrow, 1974.
Blum, John Morton. “From the Morgenthau Diaries: Years of Crisis, 1921–1945”. Boston: Houghton Mifflin, 1959.
“From the Morgenthau Diaries: Years of War, 1941–1945”. Boston: Houghton Mifflin, 1967.
Bohlen, Charles E. “Witness to History, 1929–1969”. New York: W. W. Norton, 1973.
Boyd, Carl. “Hitler’s Japanese Confidant”. Lawrence: University Press of Kansas, 1993.
Braithwaite, Rodric. “Moscow, 1941: A City and Its People at War”. New York: Alfred A. Knopf, 2006.
Brands, H. W. “The Reckless Decade: America in the 1890s”. New York: St. Martin’s Press, 1995.
Brent, Jonathan. “Inside the Stalin Archives: Discovering the New Russia”. New York: Atlas, 2008.
British Security Coordination. “The Secret History of British Intelligence in the Americas, 1940–45”. New York: Fromm International, 1999.
Bullitt, Orville H., ed. “For the President, Personal and Secret: Correspondence Between Franklin D. Roosevelt and William C. Bullitt”. Boston: Houghton Mifflin, 1972.
Bullock, Alan. “Hitler and Stalin: Parallel Lives”. New York: Alfred A. Knopf, 1992.
Butler, Susan, ed. “My Dear Mr. Stalin: The Complete Correspondence Between Franklin D. Roosevelt and Joseph V. Stalin”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005.
Byrnes, James F. “Speaking Frankly”. New York: Harper & Brothers, 1947.
Chuev, Felix. “Molotov Remembers: Inside Kremlin Politics: Conversations with Felix Chuev”. Edited by Albert Resis. Chicago: Ivan R. Dee, 199 – (издание на русском языке: Чуев, Ф.И. «Сто сорок бесед с Молотовым», М.: «Терра», 1991).
Chuikov, Vasili I. The End of the Third Reich. Manchester, England: MacGibbon and Kee Limited, 1967 (издание на русском языке: Чуйков, В.И. «Конец Третьего рейха». М.: Советская Россия, 1973).
Churchill, Sarah. “A Thread in the Tapestry”. London: Andre Deutsch, 1967.
Churchill, Winston S. “Closing the Ring”. Boston: Houghton Mifflin, 1951.
“The Second World War: The Gathering Storm”. Cambridge, Mass.: Riverside Press, 1948.
“Their Finest Hour”. Boston: Houghton Mifflin, 1949.
“The Hinge of Fate”. Boston: Houghton Mifflin, 1950.
Cold War International History Project. Digital Archive. Working paper 33. Wilson Center.
Conquest, Robert. “Stalin: Breaker of Nations”. New York: Viking, 1991.
Conversino, Mark J. “Fighting with the Soviets: The Failure of Operation Frantic, 1944–1945”. Lawrence: University Press of Kansas, 1997.
Cook, Blanche Wiesen. “Eleanor Roosevelt”. Vol. 1. New York: Penguin Books, 1992.
Costigliola, Frank. “Roosevelt’s Lost Alliances: How Personal Politics Helped Start the Cold War”. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012.
Craig, Campbell, and Sergey Radchenko. “The Atomic Bomb and the Origins of the Cold War”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2008.
Crankshaw, Edward. “Khrushchev Remembers”. Boston: Little, Brown, 1970.
Craven, Wesley Frank, and James Lea Cate, eds. “Europe: Argument to V– E Day, January 1944 to May 1945”. Vol. 3 of “The Army Air Forces in World War II”. Chicago: University of Chicago Press, 1951.
Dallek, Robert. “Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932–1945”. New York: Oxford University Press, 1979.
Davies, Joseph E. “Mission to Moscow”. New York: Simon & Schuster, 1941.
Deane, John R. “The Strange Alliance: The Story of Our Efforts at Wartime Cooperation with Russia”. New York: Viking Press, 1950.
De Santis, Hugh. “The Diplomacy of Silence: The American Foreign Service, the Soviet Union, and the Cold War, 1933–1947”. Chicago: University of Chicago Press, 1983.
D’Este, Carlo. “Eisenhower: A Soldier’s Life”. New York: Henry Holt, 2002.
Deutscher, Isaac. “Stalin: A Political Biography”. New York: Vintage Books, 1960.
Dilks, David, ed. “Retreat from Power”. Vol. 2. London: Macmillan, 1981.
Dimitrov, Georgi. “The Diary of Georgi Dimitrov, 1933–1949”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2003 (на русском языке: Димитров, Г. «Избранные произведения. В 2 т. (1967–1968). София: Изд-во лит. на иностр. яз.).
Divine, Robert A. “Second Chance: The Triumph of Internationalism in America During World War II”. New York: Atheneum, 1967.
Djilas, Milovan. “Conversations with Stalin”. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1962 (издание на русском языке: Джилас, Милован, «Беседы со Сталиным», М.: Центрполиграф, 2002).
Dobbs, Michael. “Six Months in 1945: From World War to Cold War”. New York: Alfred A. Knopf, 2012.
Doenecke, Justus D., and Mark A. Stoler. “Debating Franklin D. Roosevelt’s Foreign Policies, 1933–1945”. New York: Rowman & Littlefield, 2005.
Dunlop, Richard. “Donovan: America’s Master Spy”. Chicago: Rand McNally, 1982.
Dunn, Dennis J. “Caught Between Roosevelt and Stalin: America’s Ambassadors to Moscow”. Lexington: University Press of Kentucky, 1998.
Duranty, Walter. “I Write as I Please”. New York: Simon & Schuster, 1935.
Eden, Anthony. “The Reckoning”. Boston: Houghton Mifflin, 1965.
Edmonds, Robin. “The Big Three: Churchill, Roosevelt, and Stalin in Peace and War”. London: W. W. Norton, 1991.
Elsey, George McKee. “An Unplanned Life”. Columbia: University of Missouri Press, 2005.
Eubank, Keith. “Summit at Teheran”. New York: William Morrow, 1985.
Evans, Richard J. “The Third Reich at War”. New York: Penguin Press, 2009 (издание на русском языке: Эванс, Ричард, «Третий рейх. Дни войны. 1939–1945», У-Фактория, Астрель, Харвест, 2011).
Farnsworth, Beatrice, William C. “Bullitt and the Soviet Union”. Bloomington: Indiana University Press, 1967.
Feis, Herbert. “Between War and Peace: The Potsdam Conference”. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1960.
“Churchill, Roosevelt, Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought”. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1967.
Ferrell, Robert H. “The Dying President: Franklin D. Roosevelt, 1944–1945”. Columbia: University of Missouri Press, 1998.
“Off the Record: The Private Papers of Harry S. Truman”. New York: Harper & Row, 1980.
Flagel, Thomas R. “The History Buff ’s Guide to World War II”. Naperville, Ill.: Source Books, Inc., 2012.
Foreign Relations of the United States. The Conferences at Cairo and Tehran, 1943. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1961.
Conference of Berlin (the Potsdam Conference) 1945, Vol. 1. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1960.
Conferences at Malta and Yalta, 1945. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1945.
1945, Europe, Vol.5. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1967.
1944, Europe, Vol. 4. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1966.
1943, The British Commonwealth, Eastern Europe, The Far East. Vol.3. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1963.
1941, The Far East, Vol. 4. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1956.
1941, General, The Soviet Union, Vol. 1. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1958.
1942, Europe, Vol. 3. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1961.
1939, General, Vol. 1. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1956.
1933, Soviet Union. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1952.
1933–1939, Soviet Union, Washington, D.C.: Government Printing Office, 1952.
Francis, David R. “Russia from the American Embassy, April, 1916– November, 1918”. New York: C. Scribner’s Sons, 1921.
Frank, Richard B. “Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire”. New York: Penguin Books, 2001.
Freidel, Frank. “Franklin D. Roosevelt: A Rendezvous with Destiny”. Boston: Little, Brown, 1990.
Gannon, Robert I. “The Cardinal Spellman Story”. London: Robert Hale, 1963.
Gilbert, Martin. “Road to Victory: Winston S. Churchill 1941–1945”. London: Mandarin Paperback, 1986.
Goodwin, Doris Kearns. “No Ordinary Time”. New York: Simon & Schuster, 1994.
Gordin, Michael D. “Five Days in August”. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007.
“Red Cloud at Dawn”. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009.
Gorodetsky, Gabriel. Stafford Cripps in Moscow, 1940–1942. Portland, Ore.: Vallentine Mitchell, 2007 (издание на русском языке: Городецкий, Г. «Миссия Криппса в Москве. 1940–1942». Кембридж Юниверсити Пресс).
Grand Delusion. Stalin and the German Invasion of Russia. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1999 (издание на русском языке: Городецкий, Г. «Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз». М.: РОССПЭН, 2001).
Gray, Ian. “Stalin: Man of History”. Garden City, NY: Doubleday, 1979.
Greenfield, Kent Roberts. “American Strategy in World War II: A Reconsideration”. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1963.
Gromyko, Andrei. Memories: From Stalin to Gorbachev. Translated by Harold Shukman. London: Arrow Books, 1989 (издание на русском языке: Громыко, А. А. «Памятное», М.: Политиздат, 1988).
Gunther, John. “Roosevelt in Retrospect: A Profile in History”. New York: Harper & Brothers, 1950.
Halberstam, David. “The Best and the Brightest”. New York: Random House, 1972.
“The Coldest Winter: America and the Korean War”. New York: Hyperion, 2007.
Harriman, W. Averell, and Elie Abel. “Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941–1946”. New York: Random House, 1975.
“America and Russia in a Changing World: A Half Century of Personal Observation”. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1971.
Hassett, William D. “Off the Record with FDR, 1942–1945”. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1958.
Hastings, Max. “Inferno: The World at War, 1939–1945”. New York: Alfred A. Knopf, 2011.
“Winston’s War: Churchill, 1940–1945”. New York: Alfred A. Knopf, 2010.
Hathaway, Robert M. “Ambiguous Partnership”. New York: Columbia University Press, 1981.
Henderson, Loy. “A Question of Trust: The Origins of U.S. – Soviet Diplomatic Relations”. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1986.
Herring, George C. “Aid to Russia, 1941–1946”. New York: Columbia University Press, 1973.
Herzen, Alexander. “My Past and Thoughts: The Memoirs of Alexander Herzen”. New York: Alfred A. Knopf, 1968.
Hitler, Adolf. “Mein Kampf”. New York: Reynal and Hitchcock, 1939.
Holloway, David. “Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939–1956”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1994.
Hull, Cordell. “The Memoirs of Cordell Hull”. New York: Macmillan, 1948.
Ickes, Harold. “The First Thousand Days, 1933–1936”. Vol. 1 of “The Secret Diary of Harold L. Ickes”. New York: Simon & Schuster, 1954.
“The Lowering Clouds, 1939–1941”. Vol. 3 of “The Secret Diary of Harold L. Ickes”. New York: Simon & Schuster.
Isaacson, Walter, and Evan Thomas. “The Wise Men: Six Friends and the World They Made”. New York: Simon & Schuster, 1986.
Ismay, Lord. “The Memoirs of General Lord Ismay”. New York: Viking Press, 1960.
Isaacson, Walter. “Einstein; His Life and Universe”. New York: Simon & Schuster, 2007.
Jackson, Robert H. “That Man: An Insider’s Portrait of Franklin D. Roosevelt”. New York: Oxford University Press, 2003.
Jones, Robert Hugh. “The Roads to Russia: United States Lend– Lease to the Soviet Union”. Norman: University of Oklahoma Press, 1969.
Josephson, Paul R. “Red Atom: Russia’s Nuclear Power Program from Stalin to Today”. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005.
Kahan, Stuart. “The Wolf of the Kremlin”. New York: William Morrow, 1987.
Keneally, Thomas. “Three Famines: Starvation and Politics”. New York: PublicAffairs, 2011.
Kennan, George F. “Memoirs, 1925–1950”. Vol. 1. Boston: Little, Brown, 1967.
Kennedy, David M. “Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945”. New York: Oxford University Press, 1999.
Khrushchev, Nikita. “Khrushchev Remembers”. Boston: Little, Brown, 1970 (издание на русском языке: Хрущев, Н.С., «Воспоминания». М.: Московские новости, 1997).
Kimball, Warren F., ed. “Churchill and Roosevelt: The Complete Correspondence”. 3 vols. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984.
“The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman”. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.
Kleeman, Rita Hale. “Gracious Lady: The Life of Sara Delano Roosevelt”. New York: D. Appleton– Century, 1935.
Kuby, Erich. “The Russians and Berlin, 1945”. London: Heinemann, 1968.
Lash, Joseph P. “Roosevelt and Churchill, 1939–1941: The Partnership That Saved the West”. New York: W. W. Norton, 1976.
“Love, Eleanor: Eleanor Roosevelt and her Friends”. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1982.
Leahy, William D. “I Was There”. New York: Arno Press, 1979.
Le Tissier, Tony. “Zhukov at the Oder: The Decisive Battle for Berlin”. Westport, Conn.: Praeger, 1996.
Levering, Ralph B. “Debating the Origins of the Cold War: American and Russian Perspectives”. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2001.
Lih, Lars T., Oleg V. Naumov, and Oleg V. Khlevniuk. “Stalin’s Letters to Molotov, 1925–1936”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1995.
Loewenheim, Francis L., Harold D. Langley, and Manfred Jonas, eds. “Roosevelt and Churchill: Their Secret Wartime Correspondence”. New York: Da Capo, 1990.
Lukacs, John. “Churchill: Visionary, Statesman, Historian”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2002.
“Five Days in London, May 1940”. New Haven, Conn. Yale University Press, 1999.
“June, 1941: Hitler and Stalin”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2006.
MacLean, Elizabeth Kimball. “Joseph E. Davies: Envoy to the Soviets”. Westport, Conn.: Praeger, 1992.
MacMillan, Margaret Owen. “Paris 1919: Six Months That Changed the World”. New York: Random House, 2002.
Mahan, Alfred Thayer. “The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783”. New York: Dover, 1987.
Maisky, Ivan. “Memoirs of a Soviet Ambassador: The War, 1939–43”. New York: Charles Scribner’s Sons, 1968 (издание на русском языке: Майский, И.М., «Воспоминания советского посла. В 2 книгах», М.: Наука, 1964).
Malloy, Sean. “Atomic Tragedy: Henry L. Stimson and the Decision to Use the Bomb Against Japan”. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2008.
Manchester, William. “American Caesar”. Boston: Little, Brown, 1978.
Matloff, Maurice, and Edwin M. Snell. “The War Department: Strategic Planning for Coalition Warfare, 1941–1942”. Washington, D.C.: Center of Military History, 1999.
McIntire, Ross T. “White House Physician”. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1946.
Meacham, Jon. “Franklin and Winston: An Intimate Portrait of an Epic Friendship”. New York: Random House, 2003.
Millis, Walter, ed. “The Forrestal Diaries”. New York: Viking Press, 1951.
Miscamble, Wilson D. “From Roosevelt to Truman: Potsdam, Hiroshima, and the Cold War”. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2007.
Mommen, André. “Stalin’s Economist: The Economic Contributions of Jeno Varga”. London: Routledge, 2011.
Montefiore, Simon Sebag. “Stalin: The Court of the Red Tsar”. New York: Alfred A. Knopf, 2004 (издание на русском языке: Себаг-Монтефиоре, Саймон Джонатан. Сталин. Двор Красного монарха. М.: Олма-Пресс, 2006).
“Young Stalin”. London: Weidenfeld & Nicolson, 2007.
Moran, Lord. “Churchill at War, 1940–1945”. New York: Carroll & Graf, 2002.
Morgan, Kay Summersby. “Past Forgetting”. New York: Simon & Schuster, 1976.
Mukerjee, Madhusree. “Churchill’s Secret War: The British Empire and the Ravaging of India During World War II”. New York: Basic Books, 2010.
Murphy, David E. “What Stalin Knew: The Enigma of Barbarossa”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005.
Neumann, William L. “After Victory: Churchill, Roosevelt, Stalin, and the Making of the Peace”. New York: Harper & Row, 1967.
Neville, Peter. “A Traveller’s History of Russia”. Brooklyn: Interlink Books, 2001.
Nisbet, Robert. “Roosevelt and Stalin: The Failed Courtship”. Washington, D.C.: Regnery Gateway, 1988.
Olson, Lynne. “Citizens of London: The Americans Who Stood with Britain in Its Blackest and Finest Hour”. New York: Random House, 2010.
Olson, Lynne, and Stanley Cloud. “A Question of Honor”. New York: Alfred A. Knopf, 2003.
O’Sullivan, Christopher D. “Sumner Welles, Postwar Planning, and the Quest for a New World Order, 1937–1943”. New York: Columbia University Press, 2008.
Overy, Richard. “Russia’s War”. New York: Penguin Books, 1997.
Печатнов, В.О., «Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. Документальные очерки», М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2006.
Persico, Joseph E. “Roosevelt’s Secret War: FDR and World War II Espionage”. New York: Random House, 2001.
Perkins, Frances. “The Roosevelt I Knew”. New York: Viking Press, 1946.
Perlmutter, Amos. “FDR and Stalin: A Not So Grand Alliance”. Columbia: University of Missouri Press, 1993.
Phillips, William. “Ventures in Diplomacy”. Boston: Beacon Press, 1952.
Plesch, Dan. “America, Hitler, and the UN”. London: I. B. Tauris, 2011.
Plokhy, S. M. “Yalta: The Price of Peace”. New York: Viking, 2010.
Pogue, Forrest C. “Ordeal and Hope, 1939–1942”. Vol. 2 of George C. Marshall. New York: Viking Press, 1966.
“Organizer of Victory, 1943–1945”. Vol. 3 of “George C. Marshall”. New York: Viking Press, 1973.
Polansky, Rachel. “Molotov’s Magic Lantern”. New York: Farrar, Straus & Giroux, 2011.
Radzinsky, Edvard. “Stalin”. New York: Anchor Books, 1996 (издание на русском языке: Радзинский, Э.С, «Сталин», М.: АСТ, 2007).
Rauch, Basil, ed. “The Roosevelt Reader: Selected Speeches, Messages, Press Conferences, and Letters of Franklin D. Roosevelt”. New York: Rinehart, 1957.
Rees, Laurence. “The Nazis: A Warning from History”. New York: New Press, 1997.
Reilly, Michael F. “Reilly of the White House”. New York: Simon & Schuster, 1947.
Reston, James. “Deadline: A Memoir”. New York: Random House, 1991.
Reynolds, David. “From World War to Cold War: Churchill, Roosevelt, and the International History of the 1940s”. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Rhodes, Richard. “Dark Sun: The Making of the Hydrogen Bomb”. New York: Simon & Schuster, 1995.
“The Making of the Atomic Bomb”. New York: Simon & Schuster, 1986.
Rigdon, William M. “White House Sailor”. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1962.
Roberts, Geoffrey. “Stalin’s Wars: From World War to Cold War, 1939–1953”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2006.
“Molotov: Stalin’s Cold Warrior”. Washington, D.C.: Potomac Books, 2012.
Roosevelt, Curtis, “Too Close to the Sun”. New York: Perseus Books, 2008.
Roosevelt, Eleanor. “This I Remember”. New York: Harper & Brothers, 1949.
Roosevelt, Elliott. “As He Saw It”. New York: Duell, Sloan and Pearce, 1946 (издание на русском языке: Рузвельт, Эллиот, «Его глазами», М.: АСТ, 2003).
Roosevelt, Franklin D. F.D.R.: “His Personal Letters. Edited by Elliott Roosevelt”. With a foreword by Eleanor Roosevelt. New York: Duell, Sloan and Pearce, 1947–1950.
“F.D.R.: His Personal Letters, 1928–1945”. Edited by Elliott Roosevelt. New York: Duell, Sloan and Pearce, 1950.
“On Our Way”. New York: John Day, 1934.
Roosevelt, Franklin D. and Felix Frankfurter. “Roosevelt and Frankfurter: Their Correspondence, 1928–1945”. Annotated by Max Freedman. Boston: Little Brown, 1968.
Roosevelt, James. “My Parents: A Differing View”. Chicago: Playboy Press, 1976.
Roosevelt, Sara. “My Boy Franklin”. New York: J. J. Little & Ives.
Rose, Lisle A. “Dubious Victory: The United States and the End of World War II”. Kent, Ohio: Kent State University Press, 1973.
Rosenman, Samuel Irving. “Working with Roosevelt”. New York: Harper & Brothers, 1952.
Rzheshevsky, O. A. War and Diplomacy: The Making of the Grand Alliance. Luxembourg: Harwood Academic Publishers, 1995 (издание на русском языке: Ржешевский, О.А., «Война и дипломатия: документы, комментарии (1941–1942), М.: Наука, 1997).
Sakharov, Andrei. Memoirs. London: Hutchinson, 1990 (издание на русском языке: Сахаров, А. Д. «Воспоминания в двух томах». Москва: Права человека, 1996).
Salisbury, Harrison. “Russia on the Way”. New York: Macmillan, 1946.
Salzman, Neil Z. “Reform and Revolution: The Life and Times of Raymond Robbins”. Kent, Ohio: Kent State University Press, 1991.
Schlesinger, Arthur M., Jr. “The Coming of the New Deal. Vol. 2 of The Age of Roosevelt”. Boston: Riverside, 1959.
“The Cycles of American History”. Boston: Houghton Mifflin, 1986.
Schlesinger, Stephen C. “Act of Creation: The Founding of the United Nations”. Boulder, Colo.: Westview, 2003.
Schmitz, David. “The Triumph of Internationalism: Franklin D. Roosevelt and a World in Crisis, 1933–1941”. Washington, D.C.: Potomac Books, 2007.
Shepilov, Dmitrii. “The Kremlin’s Scholar: A Memoir of Soviet Politics Under Stalin and Khrushchev”. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2007.
Sherwin, Martin J. “A World Destroyed: Hiroshima and the Origins of the Arms Race”. New York: Vintage Books, 1987.
Sherwood, Robert E. “Roosevelt and Hopkins: An Intimate History”. New York: Harper & Brothers, 1948.
Shirer, William L. “Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent, 1934–1941”. Little, Brown, 1940.
“The Rise and Fall of the Third Reich”. New York: Simon & Schuster, 1960.
Skidelsky, Robert. “John Maynard Keynes: Fighting for Freedom, 1937–46”. New York: Viking, 2001.
Smelser, Ronald M., and Edward J. Davies II. “The Myth of the Eastern Front: The Nazi– Soviet War in American Popular Culture”. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2007.
Smith, Bradley F. “Sharing Secrets with Stalin: How the Allies Traded Intelligence, 1941–1945”. Lawrence: University Press of Kansas, 1996.
Smith, Jean Edward. FDR. New York: Random House, 2008.
Smith, R. Elberton. “The Army and Economic Mobilization”. Washington, D.C.: Office of the Chief of Military Histiry, 1959.
Snyder, Timothy. “Bloodlands”. New York: Basic Books, 2010.
“Soviet-American Relations, 1934–1939”. Moscow: International Foundation “Democracy”, 2003 (издание на русском языке: «Советско-американские отношения. 1934–1939», Международный фонд «Демократия», 2004).
“Soviet-American Relations, 1939–1945”. Moscow: International Foundation “Democracy,” 2004 (издание на русском языке: «Советско-американские отношения. 1939–1945», Международный фонд «Демократия», 2004).
Stafford, David. “Roosevelt and Churchill: Men of Secrets”. Woodstock, N.Y.: Overlook, 2000.
Stalin, Joseph. “Stalin’s Correspondence with Churchill and Attlee, 1941–1945”. New York: Capricorn, 1965.
“Stalin’s Correspondence with Roosevelt and Truman, 1941–1945”. New York: Capricorn, 1965.
“On the Great Patriotic War of the Soviet Union”. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1946. Prepared for the Internet by David J. Romagnolo. Доступно в электронной версии: #s7 (издание на русском языке: Сталин, И. «О Великой Отечественной войне Советского Союза», М.: Госполитиздат, 1953).
Standley, W. H. “Admiral Ambassador to Russia”. Chicago: Regnery, 1955.
Stettinius, Edward R. “The Diaries of Edward R. Stettinius Jr., 1943–1946”. Edited by Thomas M. Campbell and George C. Herring. New York: New Viewpoints, 1975.
“Roosevelt and the Russians: The Yalta Conference”. New York: Doubleday, 1949.
Stimson, Henry L., and McGeorge Bundy. “On Active Service in Peace and War”. New York: Harper & Brothers, 1948.
Strong, Anna Louise. “The Soviets Expected It”. New York: Dial Press, 1941.
Sudoplatov, Pavel, and Anatoli Sudoplatov. “Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness – a Soviet Spymaster”. With Jerrold L. Schecter and Leona P. Schecter. Boston: Little, Brown, 1995 (издание на русском языке: Судоплатов, П.А. «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы», М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997).
Svanidze, Budu. “My Uncle Joseph Stalin”. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1953.
Teller, Edward. “Memoirs: A Twentieth-Century Journey in Science and Politics”. Cambridge, Mass., Perseus Publishing, 2001.
Thayer, Charles. “Bears in the Caviar”. London: Michael Joseph Ltd., 1952.
Thomas, Evan. “Sea of Thunder: Four Commanders and the Last Great Naval Campaign, 1941–1945”. New York: Simon & Schuster, 2006.
Tully, Grace. “F.D.R.: My Boss”. Chicago: People’s Book Club, 1949.
Van Ree, Erik. “The Political Thought of Joseph Stalin: A Study in Twentieth-Century Revolutionary Patriotism”. London: Routledge Curzon, 2002.
Vogel, Steve. “The Pentagon: A History”. New York: Random House, 2007.
Volkogonov, Dmitri. “Stalin: Triumph and Tragedy”. New York: Grove Press, 1988 (издание на русском языке: Волкогонов, Д.А., «Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина», М.: АПН, 1989).
Ward, Geoffrey C. “Before the Trumpet: Young Franklin Roosevelt, 1882–1905”. New York: Harper & Row, 1985.
“A First-Class Temperament: The Emergence of Franklin Roosevelt”. New York: Harper & Row, 1989.
ed. “Closest Companion: The Unknown Story of the Intimate Relationship Between Franklin Roosevelt and Margaret Suckley”. Boston: Houghton Mifflin, 1995.
Wehle, Louis B. “Hidden Threads of History: Wilson Through Roosevelt”. New York: Macmillan, 1953.
Werth, Alexander. “Russia at War, 1941–1945”. New York: Avon, 1965.
Williams, William Appleman, “The Tragedy of American Diplomacy”. New York: W. W. Norton, 1988.
“American-Russian Relations 1781–1947”. New York: Rinehart and Co., 1952.
Wright, Patrick. “Iron Curtain: From Stage to Cold War”. New York: Oxford University Press, 2007.
Yurchenko, Sergey. “Yalta Conference of 1945: The Story of the Creation of the New World”. Simferopol: Crimea Publishers, 2005 (издание на русском языке: Юрченко, С.В. «Большая тройка» и другие официальные лица. Крымская конференция 1945 года в портретах ее участников». Севастополь: «Мир». 1999).
Zhukov, Georgi. “The Memoirs of Marshal Zhukov”. New York: Delacorte Press, 1971 (издание на русском языке: Жуков, Г.К. «Воспоминания и размышления», М.: Издательство Агентства печати Новости, 1970).
Zubok, Vladislav, and Constantine Pleshakov. Inside the Kremlin’s Cold War. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996 (издание на русском языке: Зубок, В., Плешаков, К. «Тайны “холодной войны“ Кремля, от Сталина до Хрущева». Кембридж, Массачусетс, 1996).
Юрченко, С.В. «Решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года и “ялтинская система“ в исторической ретроспективе. Симферополь: Таврия-Плюс, 2001.
Рукописи
Коннели, Мэтью Дж., бумаги. Библиотека Гарри С. Трумэна, Индепенденс, штат Миссури.
Форрестол, Джеймс, бумаги. Библиотека рукописей Сили Мадд, Принстон, штат Нью-Джерси.
Гарриман, Аверелл, бумаги. Библиотека Конгресса США, Вашингтон, округ Колумбия.
Гопкинс, Гарри, бумаги. Президентская библиотека Франклина Делано Рузвельта, Гайд-парк, штат Нью-Йорк.
Кинг, Уильям Лайон Макензи, дневники. Библиотека и Архив Канады, доступно по электронному адресу: www. collectionscanada.gc.ca.
Лихи, Уильям Д., дневники. Микрофотокопия, Библиотека Конгресса США, Вашингтон, округ Колумбия.
Бумаги Штабной комнаты, президентская библиотека Франклина Делано Рузвельта, Гайд-парк, штат Нью-Йорк.
Молотов, В.М., бумаги. Архив внешней политики Российской Федерации.
Nazi-Soviet Relations, 1939–1941. Avalon Project: 20th Century Documents. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, (издание на русском языке: Фельштинский, Ю. (перевод), «СССР – Германия 1939–1941. Документы и материалы о советско-германских отношениях с апреля 1939 г. по июль 1941 г.», Telex, 1983).
Филлипс, Уильям, бумаги. Хоутонская библиотека, Гарвардский университет.
Рузвельт, Франклин Д., бумаги. Президентская библиотека Франклина Делано Рузвельта, Гайд-парк, штат Нью-Йорк.
Штейнгардт, Лоуренс, бумаги. Отдел рукописей, Библиотека Конгресса США, Вашингтон, округ Колумбия.
Сталин, Иосиф, бумаги. Российский государственный архив социально-политической истории, Москва.
Стеттиниус, Эдвард Р. младший, бумаги. Библиотека специальных коллекций Альберта и Ширли Смолл, Университет Виргинии.
Стимсон, Генри Льюис, дневники. Мемориальная библиотека Стерлинга, Йельский университет.
Примечания
1
Rigdon, White House Sailor, 60.
(обратно)2
Комингс – порог вокруг люка, предохраняющий от попадания воды на нижележащую палубу. – Прим. пер.
(обратно)3
Reilly, Reilly of the White House, 136.
(обратно)4
Strong, The Soviets Expected It, 47.
(обратно)5
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 138.
(обратно)6
McIntire, White House Physician, 170.
(обратно)7
Nov. 8, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 182.
(обратно)8
Freidel, Rendezvous with Destiny, 31.
(обратно)9
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 227.
(обратно)10
Wehle, Hidden Threads of History, 134.
(обратно)11
Acheson, Present at the Creation, 69.
(обратно)12
King Diary, Dec. 5, 1942.
(обратно)13
Geoffrey C. Ward, Closest Companion, ed. 385.
(обратно)14
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 142 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт. Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)15
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Oct. 30, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 180.
(обратно)16
Montefiore, Stalin, 439.
(обратно)17
Harriman and Abel, Special Envoy, 253.
(обратно)18
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, May 5, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 129.
(обратно)19
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Aug. 8, 1943, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 151; fond 558, op. 11, files 366, note 22, Stalin Papers.
(обратно)20
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Sept. 8, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 162.
(обратно)21
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Oct. 21, 1943, in ibid., 178.
(обратно)22
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Nov. 8, 1943, in ibid., 182.
(обратно)23
Isaacson and Thomas, Wise Men, 154; Kennan, Memoirs, 1925–1950, 57.
(обратно)24
Dallek, Franklin D. Roosevelt, 532.
(обратно)25
Robert Skidelsky, on C– SPAN, May 29, 2006.
(обратно)26
Talk with Harry Hopkins, June 5, 1945, Robert Meiklejohn Diary. «Он рассказал, как еще в самом начале реализации “Нового курса” он был отправлен в путешествие по Европе якобы для изучения вопроса жилищного строительства, но на самом деле, чтобы проверить его на дипломатической службе». Robert Meiklejohn Papers, секция рукописей, библиотека Конгресса США.
(обратно)27
Morgenthau, личный доклад президенту США, Jan. 15, 1944, Morgenthau Diaries, book 694, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
(обратно)28
Rosenman, Working with Roosevelt, 402.
(обратно)29
Ismay, Memoirs, 214.
(обратно)30
New Yorker, Aug. 7, 1943.
(обратно)31
Eleanor Roosevelt, This I Remember, 257.
(обратно)32
Adams, Harry Hopkins, 217.
(обратно)33
Gromyko, Memories, 54 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)34
Doenecke and Stoler, Debating Franklin D. Roosevelt’s Foreign Policies, 11.
(обратно)35
Perkins, The Roosevelt I Knew, 340.
(обратно)36
Loy Henderson, Columbia Center for Oral History, 92, Columbia University.
(обратно)37
Hull, Memoirs, 2:1110.
(обратно)38
Wehle, Hidden Threads of History, 223.
(обратно)39
Hull, Memoirs, 2:1111.
(обратно)40
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Oct. 6, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 171.
(обратно)41
William Phillips Diary, based on the account of Cavendish Cannon, of the State Department, Nov. 12, 1943, Phillips Papers.
(обратно)42
Goodwin, No Ordinary Time, 471.
(обратно)43
E. J. Kahn, New Yorker, May 3, 1952.
(обратно)44
Надиктовано Франклином Д. Рузвельтом 1 июня 1944 года, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
(обратно)45
«Рыба» на морском жаргоне – торпеда. – Прим. пер.
(обратно)46
Rigdon, White House Sailor, 64.
(обратно)47
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 978.
(обратно)48
Franklin Delano Roosevelt: His Personal Letters, 4:1469.
(обратно)49
Franklin Delano Roosevelt, запись от руки, Franklin Delano Roosevelt Papers, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
(обратно)50
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 254–55.
(обратно)51
Stimson Diary, Nov. 9, 1943.
(обратно)52
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran,1943, 204.
(обратно)53
Summersby, Past Forgetting, 173.
(обратно)54
Reilly, Reilly of the White House, 170.
(обратно)55
Ward, Before the Trumpet, 118.
(обратно)56
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 771.
(обратно)57
Kimball, Churchill and Roosevelt, vol. 2, 597.
(обратно)58
Национальный архив Великобритании, 15 декабря 1943 года.
(обратно)59
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 165 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт. Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)60
Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 426.
(обратно)61
Ismay, Memoirs, 334.
(обратно)62
Pogue, Ordeal and Hope, 330.
(обратно)63
Ismay, Memoirs, 337.
(обратно)64
Moran, Churchill at War, 159.
(обратно)65
Дневник генерал-майора сэра Джона Кеннеди, цитируется по изданию: Pogue, Organizer of Victory, 300–301.
(обратно)66
Tully, F.D.R.: My Boss, 270.
(обратно)67
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Nov. 22, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 186.
(обратно)68
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 969.
(обратно)69
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 397.
(обратно)70
Ismay, Memoirs, 337.
(обратно)71
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran,1943, 439.
(обратно)72
Salisbury, Russia on the Way, 256.
(обратно)73
Gorodetsky, Stafford Cripps in Moscow,150 (издание на русском языке: Г. Городецкий Миссия Криппса в Москве. 1940–1942).
(обратно)74
Rachel Polonsky, Molotov’s Magic Lantern, 64.
(обратно)75
Червонная Светлана Александровна, переписка с автором по электронной почте, 9 августа 2010 года.
(обратно)76
Axell, Marshal Zhukov, 34 (источник на русском языке: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37. М.: Издательство политической литературы, 1969).
(обратно)77
Winston S. Churchill, Hinge of Fate, 498.
(обратно)78
Dimitrov, Diary, 145.
(обратно)79
Volkogonov, Stalin, 455 (издание на русском языке: Д. А. Волкогонов, Вожди. Трилогия. Сталин. В 2 т. М., Агентство печати «Новости», 1991–1992.; переиздание – 1996).
(обратно)80
Bohlen, Witness to History, 355.
(обратно)81
Kathleen Harriman, Harriman and Abel, Special Envoy, 416.
(обратно)82
Тендер – специальный вагон, прицепляемый к паровозу, предназначенный для перевозки запаса топлива для локомотива (Прим. ред.).
(обратно)83
С. М. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны М.: Воениздат, 1989, ; «Комсомольская правда», 7 мая 2007 года; «Липецкие известия», 11 апреля 2007 года.
(обратно)84
Volkogonov, Stalin, 498 (издание на русском языке: Д.А Волкогонов, Вожди. Трилогия. Сталин. В 2 т. М., Агентство печати «Новости», 1991–1992.; переиздание – 1996).
(обратно)85
Harriman, memo of conversations at Tehran, Nov. 27, 1943, Harriman Papers.
(обратно)86
Reilly, Reilly of the White House, 178–179.
(обратно)87
Bullitt, For the President, 75.
(обратно)88
Moran, Churchill at War, 162.
(обратно)89
Reilly, Reilly of the White House, 179.
(обратно)90
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 171 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)91
Costigliola, Roosevelt’s Lost Alliances, 196.
(обратно)92
Дневник Макензи Кинга, 21 мая 1943 года.
(обратно)93
Kimball, Churchill and Roosevelt, 2:283.
(обратно)94
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, May 5, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 129.
(обратно)95
Werth, Russia at War, 617.
(обратно)96
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, May 26, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 134.
(обратно)97
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, June 16, 1943, in: ibid., 141.
(обратно)98
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, June 24, 1943, in: ibid., 144–145.
(обратно)99
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, June 22, 1943, in: ibid., 144.
(обратно)100
Фонд Сталина в Российском государственном архиве социально-политической истории, фонд 558, оп.11, д. 365.
(обратно)101
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, June 26, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 147–148.
(обратно)102
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Aug. 8, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 150–151.
(обратно)103
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Oct. 19, 1945, in: ibid., 174.
(обратно)104
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Oct. 21, 1945, in: ibid., 178–179.
(обратно)105
Hull, Memoirs, 2:1303.
(обратно)106
APP, Excerpts from the Press Conference, Oct. 29, 1943, .
(обратно)107
Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 250.
(обратно)108
Lash, Love, Eleanor, 399.
(обратно)109
Roosevelt and Frankfurter, 737.
(обратно)110
Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 250.
(обратно)111
F.D.R.: His Personal Letters, 3:1462.
(обратно)112
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Nov. 5, 1943, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 180–181.
(обратно)113
Welles, Where Are We Heading? 29–30.
(обратно)114
Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, Nov. 6, 253.
(обратно)115
King Diary, Dec. 5, 1942.
(обратно)116
Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 252.
(обратно)117
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 181–182.
(обратно)118
«Советско-американские отношения, 1939–1945».
(обратно)119
Werth, Russia at War, 687.
(обратно)120
Zubok and Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, 16.
(обратно)121
Bullock, Hitler and Stalin, 633.
(обратно)122
Dallin and Firsov, eds., Dimitrov and Stalin, 227.
(обратно)123
Ibid., 238.
(обратно)124
Dimitrov, Dimitrov and Stalin, 253.
(обратно)125
Werth, Russia at War, 617.
(обратно)126
И. Сталин, О роспуске Коминтерна (издание: И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, М.: Госполитиздат, 1953), .
(обратно)127
Birse, Memoirs of an Interpreter, 209.
(обратно)128
Werth, Russia at War, 676.
(обратно)129
Arthur M. Schlesinger Jr., Coming of the New Deal, 586.
(обратно)130
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1941, General, The Soviet Union, 1, 767.
(обратно)131
F.D.R.: His Personal Letters, Sept. 3, 1941, 4:1204.
(обратно)132
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1941, General, The Soviet Union, 1:832.
(обратно)133
Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 297.
(обратно)134
Harriman, America and Russia in a Changing World, 16.
(обратно)135
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 391.
(обратно)136
Perkins, Roosevelt I Knew, 146.
(обратно)137
Harriman Papers, библиотека Конгресса США.
(обратно)138
Harriman and Abel, Special Envoy, 103.
(обратно)139
Hull, Memoirs, 2:1120.
(обратно)140
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1942, 3: 142.
(обратно)141
Volkogonov, Stalin, 470 (издание на русском языке: Д. А. Волкогонов, Вожди. Трилогия. Сталин. В 2 т. М., Агентство печати «Новости», 1991–1992.; переиздание – 1996).
(обратно)142
Montefiore, Stalin, 461.
(обратно)143
Kahan, Wolf of the Kremlin, 214–215.
(обратно)144
Stimson Diary, May 1, 1942.
(обратно)145
Hull, Memoirs, 1:205.
(обратно)146
Stimson Diary, May 1, 1942.
(обратно)147
Phillips Diary, April 29, 1943.
(обратно)148
Gunther, Roosevelt in Retrospect, 60.
(обратно)149
Reilly, Reilly of the White House, 179.
(обратно)150
Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 299.
(обратно)151
Jackson, That Man, 111.
(обратно)152
Ickes, First Thousand Days, 127.
(обратно)153
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 344.
(обратно)154
Deane, Strange Alliance, 24.
(обратно)155
Hull, Memoirs, 2:1311.
(обратно)156
Leahy Diary, Nov. 30, 1943.
(обратно)157
Грузинское уменьшительное имя от имени Иосиф. – Прим. пер.
(обратно)158
Montefiore, Stalin, 48.
(обратно)159
Berezhkov, History in the Making, 211 (издание на русском языке: В. М. Бережков, Страницы дипломатической истории, М.: Прогресс, 1983).
(обратно)160
Montefiore, Stalin, 116.
(обратно)161
Rosenman, Working with Roosevelt, 22.
(обратно)162
Arthur M. Schlesinger, Coming of the New Deal, 551.
(обратно)163
Montefiore, Stalin, 49.
(обратно)164
Arthur M. Schlesinger, Coming of the New Deal, 575–576.
(обратно)165
Meacham, Franklin and Winston, 27.
(обратно)166
Gunther, Roosevelt in Retrospect, 62.
(обратно)167
Harriman and Abel, Special Envoy, 218.
(обратно)168
Bohlen, Witness to History, 141.
(обратно)169
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 482–486.
(обратно)170
Ibid.
(обратно)171
Министерство иностранных дел Великобритании в Москву, телеграмма внешнему адресату, 26 октября 1943 года, Национальный архив Великобритании.
(обратно)172
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 496.
(обратно)173
Moran, Churchill at War, 164.
(обратно)174
Alldritt, Greatest of Friends, 169.
(обратно)175
CAB/65/40/15, Minute 2, 15 декабря 1943 года, Национальный архив Великобритании.
(обратно)176
Надиктовано Франклином Д. Рузвельтом 1 июня 1944 года, OF 200, box 64, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
(обратно)177
Daisy Suckley, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 299.
(обратно)178
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 508–509.
(обратно)179
Ibid., 510–514.
(обратно)180
McIntire, White House Physician, 173.
(обратно)181
Reilly, Reilly of the White House, 180–181.
(обратно)182
Moran, Churchill at War, 165.
(обратно)183
Первая объединенная разведывательная служба США (была создана во время Второй мировой войны), на основе которой после войны было сформировано ЦРУ. – Прим. пер.
(обратно)184
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 529.
(обратно)185
Leahy, I Was There, 209.
(обратно)186
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 530.
(обратно)187
Там же.
(обратно)188
Там же, 531.
(обратно)189
Там же.
(обратно)190
Там же.
(обратно)191
Там же, 531–532.
(обратно)192
«Нью-Йорк таймс», 17 сентября 1948 года.
(обратно)193
Roberts, Stalin’s Wars, 12.
(обратно)194
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 532.
(обратно)195
Blum, Years of War, 342.
(обратно)196
Gunther, Roosevelt in Retrospect, 116.
(обратно)197
Jean Edward Smith, FDR, 587.
(обратно)198
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 532.
(обратно)199
Там же, 532–533. Blum, Years of War. Записи Чарльза Болена допускают двоякое толкование того, когда именно Сталин высказался о легкости перепрофилирования предприятий, однако комментарии Рузвельта подтверждают, что эта идея прозвучала в то время, когда Рузвельт еще находился в зале.
(обратно)200
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 533.
(обратно)201
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 180 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)202
Deane, Strange Alliance, 42.
(обратно)203
Montefiore, Stalin, 468.
(обратно)204
Alldritt, Greatest of Friends, 173.
(обратно)205
Moran, Churchill at War, 167.
(обратно)206
Winston S. Churchill, Closing the Ring, 368.
(обратно)207
Alldritt, Greatest of Friends, 169.
(обратно)208
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 546.
(обратно)209
Там же, 546–548.
(обратно)210
Moran, Churchill at War, 149.
(обратно)211
Alldritt, Greatest of Friends, 171.
(обратно)212
Bohlen, Witness to History, 146.
(обратно)213
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 550.
(обратно)214
Там же, 550–552.
(обратно)215
Там же, 552.
(обратно)216
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 184–186 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)217
Там же, 186.
(обратно)218
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 553.
(обратно)219
Gunther, Roosevelt in Retrospect, 18.
(обратно)220
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 188 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)221
Bohlen, Witness to History, 147.
(обратно)222
Evans, Third Reich at War, 175 (издание на русском языке: Ричард Эванс, Третий рейх. Дни войны. 1939–1945, У-Фактория, Астрель, Харвест, 2011).
(обратно)223
Там же, 171.
(обратно)224
Там же, 186. Бедственное положение военнопленных убедительно задокументировано Ричардом Эвансом и просто ужасает.
(обратно)225
Hull, Memoirs, 2:1289.
(обратно)226
Harriman and Abel, Special Envoy, 178.
(обратно)227
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 188 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)228
Winston S. Churchill, Closing the Ring, 374.
(обратно)229
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 188 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)230
Stimson and Bundy, On Active Service, 584.
(обратно)231
Описание этой сцены составлено по следующим источникам: Montefiore, Stalin, 470, 554; Harriman and Abel, Special Envoy, 274; Winston S. Churchill, Closing the Ring, 373–374.
(обратно)232
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 190 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)233
Winston S. Churchill, Closing the Ring, 373–374.
(обратно)234
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 555.
(обратно)235
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 191 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)236
Look, Sept. 1946.
(обратно)237
Указанная структура действовала в течение Второй мировой войны, была сформирована из британского Комитета начальников штабов и Объединенного комитета начальников штабов США, подчинялась одновременно двум главам союзных государств. – Прим. пер.
(обратно)238
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 564.
(обратно)239
Там же, 565.
(обратно)240
Там же.
(обратно)241
Дайрен – японское название порта Далянь; город на северо-востоке Китая (основан русскими поселенцами), в 1904 году был захвачен Японией, в августе 1945 года был освобожден Советской армией, по советско-китайскому договору 1945 года был признан китайским правительством свободным портом; пристани и складские помещения были переданы на 30 лет в аренду Советскому Союзу, в 1950 году все указанное имущество было безвозмездно передано КНР. – Прим. пер.
(обратно)242
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 774.
(обратно)243
Bohlen, Witness to History, 128.
(обратно)244
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 180; Hull, Memoirs, 2:1507–8.
(обратно)245
Montefiore, Stalin, 30; Gray, Stalin: Man of History, 386.
(обратно)246
Sarah Churchill, Thread in the Tapestry, 65.
(обратно)247
Berezhkov, History in the Making, 288 (издание на русском языке: В. М. Бережков, Страницы дипломатической истории, М.: Прогресс, 1983).
(обратно)248
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 469.
(обратно)249
Rigdon, White House Sailor, 81–82.
(обратно)250
«Политический журнал», 5 апреля 2004 года.
(обратно)251
Manchester, American Caesar, 154.
(обратно)252
Perkins, Roosevelt I Knew, 84–85.
(обратно)253
Джон Булль – прозвище типичного англичанина. – Прим. пер.
(обратно)254
Ф. 06, оп. 5, п. 28, д. 327 («Политические и информационные письма, полученные от посольства СССР в США от товарищей М. М. Литвинова и А. А. Громыко, 22 мая – 29 июня 1943 года»), Архив внешней политики Российской Федерации. В документе имеются пометки карандашом, сделанные Молотовым.
(обратно)255
Costigliola, Roosevelt’s Lost Alliances, 192.
(обратно)256
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943,587.
(обратно)257
Franklin Delano Roosevelt to Lincoln MacVeagh, Dec. 1, 1939, in F.D.R.: His Personal Letters, 4:965.
(обратно)258
Doenecke and Stoler, Debating Franklin D. Roosevelt’s Foreign Policies, 73.
(обратно)259
Winston S. Churchill, Closing the Ring, 399.
(обратно)260
Frank Costigliola, “Broken Circle: The Isolation of Franklin D. Roosevelt in World War II,” Diplomatic History 32, no. 5 (Nov. 2008): 705.
(обратно)261
O’Sullivan, Sumner Welles, Postwar Planning, and the Quest for a New World Order, 183.
(обратно)262
Costigliola, “Broken Circle”, 705.
(обратно)263
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 595.
(обратно)264
Ф. 06, оп. 5, п. 28, д. 327 Архива внешней политики Российской Федерации, «Политические и информационные письма, полученные от посольства СССР в США от товарищей М. М. Литвинова и А. А. Громыко, 22 мая – 29 июня 1943 года».
(обратно)265
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 595.
(обратно)266
King Diary, Dec. 5, 1942.
(обратно)267
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 595.
(обратно)268
Там же.
(обратно)269
Jackson, That Man, 135–136.
(обратно)270
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Cairo and Tehran, 1943, 596.
(обратно)271
Там же, 597.
(обратно)272
Там же.
(обратно)273
Там же, 598.
(обратно)274
Там же, 600.
(обратно)275
Там же, 603.
(обратно)276
Там же.
(обратно)277
Churchill to Eden, personal minute, Jan. 4, 1944, U. K. Archives.
(обратно)278
Roberts, Stalin’s Wars, 188.
(обратно)279
Bohlen, Witness to History, 143.
(обратно)280
Дневник Франклина Д. Рузвельта, 1 декабря 1943 года, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
(обратно)281
Berezhkov, History in the Making, 303 (издание на русском языке: В. М. Бережков, Страницы дипломатической истории, М.: Прогресс, 1983).
(обратно)282
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, December 3, 1943, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin.
(обратно)283
Там же, 194.
(обратно)284
Stimson Diary, December 3, 1943.
(обратно)285
Stimson Diary, April 15, 1945.
(обратно)286
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 803.
(обратно)287
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, December 10, 1943 in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 194; оригинал хранится в бумагах Сталина, ф. 558, оп. 11, дело 367, л. 55.
(обратно)288
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 213 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)289
December 15, 1943, Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 261.
(обратно)290
Stimson and Bundy, On Active Service, 443.
(обратно)291
Stimson Diary, December 3, 1943.
(обратно)292
ТАСС, 8 декабря 1943 года.
(обратно)293
ТАСС, 12 декабря 1943 года.
(обратно)294
“Embassy Interpretive Report on Developments in Soviet Policy Based on the Soviet Press for the Period December, 1943,” Dec. 14, 1943, Harriman Papers.
(обратно)295
Boyd, Hitler’s Japanese Confidant, 111.
(обратно)296
Winston S. Churchill, Closing the Ring, 422.
(обратно)297
Rosenman, Working with Roosevelt, 411.
(обратно)298
Goodwin, No Ordinary Time, 480.
(обратно)299
Hassett, Off the Record with FDR, 226.
(обратно)300
Perkins, Roosevelt I Knew, 382.
(обратно)301
Gromyko, Memories, 108 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)302
Harriman and Abel, Special Envoy, 295.
(обратно)303
Harriman to Franklin Delano Roosevelt and Hull (изложение посольской телеграммы от 7 февраля),194.
(обратно)304
Franklin Delano Roosevelt and Hull, telegram, February 7, 1944, Harriman Papers.
(обратно)305
Kimball, Churchill and Roosevelt, 2:653.
(обратно)306
Впоследствии данная операция получила название «Драгун»; широко известна как Южно-французская операция. – Прим. пер.
(обратно)307
Там же, 662.
(обратно)308
Согласно документу, подписанному Лениным 22 января 1918 года, Сталин был одним из двух людей, которые могли без предупреждения входить в кабинет Ленина. Radzinsky, Stalin, 127 (издание на русском языке: Э. С. Радзинский, Сталин. М.: АСТ, 2007).
(обратно)309
Фонд 13 °Cовнаркома, папка 3, файл 177, микрофильм 147, Государственный архив Российской Федерации.
(обратно)310
Williams, American-Russian Relations, 184.
(обратно)311
«Нью-Йорк таймс», 1 декабря 1930 года.
(обратно)312
Фонд 06, секретариат Молотова В. М., Государственный архив Российской Федерации.
(обратно)313
Farnsworth, William C. Bullitt and the Soviet Union, 91.
(обратно)314
Franklin Delano Roosevelt: His Personal Letters, 3:162–163.
(обратно)315
Jean Edward Smith, Franklin Delano Roosevelt, 342.
(обратно)316
Blum, Years of Crisis, 55.
(обратно)317
За рубежом должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР, которую в 1938–1946 гг. занимал М. И. Калинин, нередко переводилась как «президент». – Прим. ред.
(обратно)318
Thayer, Bears in the Caviar, 47.
(обратно)319
Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 81.
(обратно)320
Bullitt, For the President, 73–75.
(обратно)321
«Нью-Йорк таймс», 19 ноября 1933 года.
(обратно)322
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Soviet Union, 1933, 44.
(обратно)323
«Нью-Йорк таймс», 28 декабря 1933 года.
(обратно)324
Bullitt, For the President, 67.
(обратно)325
Henderson, Question of Trust, 265.
(обратно)326
H. G. Wells, Modern Monthly, Dec. 1934.
(обратно)327
Hitler, Mein Kampf, 950–953 (издание на русском языке: Адольф Гитлер, Моя борьба. М.: Издательство «Социальное движение», 2003).
(обратно)328
Foreman, World on Fire, 38.
(обратно)329
Malcolm Muir Jr., “American Warship Construction for Stalin’s Navy Prior to World War II: A Study in Paralysis of Policy”, Diplomatic History 5, no. 4 (Oct. 1981): 340.
(обратно)330
Ibid., 343.
(обратно)331
Ibid., 346.
(обратно)332
Ibid., 347.
(обратно)333
Davies, Mission to Moscow, 341.
(обратно)334
Ibid., 346.
(обратно)335
Muir, “American Warship Construction for Stalin’s Navy”, 350.
(обратно)336
Sara Roosevelt, My Boy Franklin, 15.
(обратно)337
Franklin Roosevelt, “Annual Message to Congress”, Jan. 4, 1939, American Presidency Project, by Gerhard Peters and John T. Woolley, online.
(обратно)338
Rosenman, Working with Roosevelt, 182.
(обратно)339
Neumann, After Victory, 28.
(обратно)340
Stalin, interview by Roy Howard, chairman of the board of Scripps Howard Newspapers, March 1, 1936, online at Marxists Internet Archive, (издание на русском языке: Полное собрание сочинений И. В. Сталина. Т. 14, «Беседа с председателем американского газетного объединения “Скриппс Говард ньюспейперс“ господином Рой Говардом 1 марта 1936 года»).
(обратно)341
«Нью-Йорк таймс», 8 марта 1936 года (издание на русском языке: Полное собрание сочинений И. В. Сталина. Т. 14 «Беседа с председателем американского газетного объединения “Скриппс Говард ньюспейперс“ господином Рой Говардом 1 марта 1936 года»).
(обратно)342
Chamberlain to, March 26, 1939, in Shirer, Rise and Fall of the Third Reich, 460.
(обратно)343
Ibid., 465.
(обратно)344
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1939, General, 1:235.
(обратно)345
Shirer, Rise and Fall of the Third Reich, 469.
(обратно)346
Davies, April 18, 1939, in Mission to Moscow, 442.
(обратно)347
Montefiore, Stalin, 233.
(обратно)348
Трояновский А. А. Литвинову М. М., 13 апреля 1938 года, фонд 05–18–147, Государственный архив Российской Федерации.
(обратно)349
Hull, Memoirs, 1:743.
(обратно)350
K. A. Oumansky to Litvinov, Dec. 8, 1938, Soviet-American Relations, 1934–1939, 102 (Уманский К. А. Литвинову М. М., 8 декабря 1938 года; издание на русском языке: «Советско-американские отношения. 1939–1945», М.: Международный фонд «Демократия», 2004).
(обратно)351
Sudoplatov, Special Tasks, 97 (издание на русском языке: П. А. Судоплатов, Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997).
(обратно)352
Wright, Iron Curtain, 346.
(обратно)353
German chargé d’affaires to the German Foreign Office, telegram, May 4, 1939, Nazi-Soviet Relations (Avalon Project: 20th Century Documents. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School).
(обратно)354
Molotov to Stalin, Oct. 2, 1933, fond 558, op. 11, file 769, p. 134, Stalin Papers (Российский государственный архив социально-политической истории, личные фонды И. В. Сталина, письмо Молотова В. М. Сталину И. В. от 2 октября 1933 года, фонд 558, папка 11, файл 769, стр. 134).
(обратно)355
Bullock, Hitler and Stalin, 521.
(обратно)356
Montefiore, Stalin, 314.
(обратно)357
Aug. 17, 1939, Nazi-Soviet Relations (Avalon Project: 20th Century Documents. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School).
(обратно)358
May 27, 1939, Nazi– Soviet Relations (Avalon Project: 20th Century Documents. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School).
(обратно)359
Kennedy, Freedom from Fear, 423.
(обратно)360
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Soviet Union, 1933–1939, 764.
(обратно)361
Davies, Mission to Moscow, 450.
(обратно)362
Mukerjee, Churchill’s Secret War, 34.
(обратно)363
Shirer, Berlin Diary, 186.
(обратно)364
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1939, General, 1:279.
(обратно)365
Franklin Delano Roosevelt to William Phillips, Letters, 4:810.
(обратно)366
Greenfield, American Strategy in World War II, 52. Цитируется по изданию: R. Elberton Smith, Army and Economic Mobilization, in United States Army in World War II, 413–415.
(обратно)367
Davies, Mission to Moscow, 450.
(обратно)368
Hull, Memoirs, 1:651; Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 133; Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 192.
(обратно)369
Kennedy, Freedom From Fear, 423.
(обратно)370
Roberts, Molotov, 22–23.
(обратно)371
Schulenburg to the German Foreign Office, telegram, Moscow, August 4, 1939, Nazi-Soviet Relations (Avalon Project: 20th Century Documents. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School).
(обратно)372
The chargè to the secretary of state, July 20, 1939, U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1939, General, 288.
(обратно)373
Shirer, Rise and Fall of the Third Reich, 534.
(обратно)374
Ibid., 504.
(обратно)375
Ibid.
(обратно)376
Aug. 8, 1939, U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1939, General, 1:293.
(обратно)377
Steinhardt to Welles, Welles Papers, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
(обратно)378
Aug. 16, 1939, Nazi-Soviet Relations (Avalon Project: 20th Century Documents. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School).
(обратно)379
Aug. 14, 1939, Nazi-Soviet Relations (Avalon Project: 20th Century Documents. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School).
(обратно)380
Ribbentrop to Schulenburg, Aug. 16, 1939, Nazi-Soviet Relations (Avalon Project: 20th Century Documents. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School).
(обратно)381
Ribbentrop to Schulenburg, Aug. 21, 1939, Nazi-Soviet Relations (Avalon Project: 20th Century Documents. Lillian Goldman Law Library, Yale Law School).
(обратно)382
«Нью-Йорк таймс», 21 августа 1939 года.
(обратно)383
«Нью-Йорк таймс», 24 августа 1939 года.
(обратно)384
Bullock, Hitler and Stalin, 619.
(обратно)385
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1939, General, 1:342.
(обратно)386
Согласно воспоминаниям Альберта Шпеера, по изданию: Bullock, Hitler and Stalin, 617.
(обратно)387
Overy, Russia’s War, 49.
(обратно)388
Crankshaw, Khrushchev Remembers, 128.
(обратно)389
Ibid.
(обратно)390
Gunther, Roosevelt in Retrospect, 204.
(обратно)391
Welles, Where Are We Heading? 123.
(обратно)392
«Нью-Йорк таймс», 22 августа 1939 года.
(обратно)393
Ibid.
(обратно)394
Ismay, Memoirs, 97.
(обратно)395
Khrushchev, Khrushchev Remembers, 129.
(обратно)396
Hull, Memoirs, 1:685.
(обратно)397
Franklin Delano Roosevelt to Kennedy, Oct. 10, 1939, in Franklin Delano Roosevelt: His Personal Letters, 4:948.
(обратно)398
Roberts, Stalin’s Wars, 46.
(обратно)399
Khrushchev, Khrushchev Remembers, 129.
(обратно)400
Evans, Third Reich at War, 34 (издание на русском языке: Ричард Эванс, Третий рейх. Дни войны. 1939–1945. У-Фактория, Астрель, Харвест, 2011).
(обратно)401
Montefiore, Stalin, 352.
(обратно)402
Lash, Roosevelt and Churchill.
(обратно)403
Boyd, Hitler’s Japanese Confidant, 21.
(обратно)404
O’Sullivan, Sumner Welles, Postwar Planning, and the Quest for a New World Order, 185.
(обратно)405
Chuev, Molotov Remembers, 28 (издание на русском языке: Ф. И. Чуев, Сто сорок бесед с Молотовым, М.: «Терра», 1991).
(обратно)406
Montefiore, Stalin, 353.
(обратно)407
Gromyko, Memories, 48 (издание на русском языке: А.А Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)408
Evans, Third Reich at War, 189 (издание на русском языке: Ричард Эванс, Третий рейх. Дни войны. 1939–1945, У-Фактория, Астрель, Харвест, 2011).
(обратно)409
Gorodetsky, Grand Delusion, 85 (издание на русском языке: Г. Городецкий, Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на Советский Союз, М.: РОССПЭН, 2001).
(обратно)410
Roberts, Stalin’s Wars, 67.
(обратно)411
Murphy, What Stalin Knew, 249.
(обратно)412
Letter from Steinhardt, May 10, 1941, Steinhardt Papers.
(обратно)413
Phillips Diary, June 22, 1941.
(обратно)414
Thayer, Bears in the Caviar, 207.
(обратно)415
Gorodetsky, Grand Delusion, 224 (издание на русском языке: Г. Городецкий, Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на Советский Союз, М.: РОССПЭН, 2001).
(обратно)416
Bennett, Franklin D. Roosevelt and the Search for Victory, 20.
(обратно)417
Murphy, What Stalin Knew, 187.
(обратно)418
Braithwaite, Moscow, 1941, 54–55.
(обратно)419
Gorodetsky, Stafford Cripps in Moscow (издание на русском языке: Г. Городецкий, Миссия Криппса в Москве. 1940–1942, Кембридж, Юниверсити Пресс); Maisky Diary, June 18, 1941.
(обратно)420
Montefiore, Stalin, 342.
(обратно)421
Lukacs, Churchill, 80.
(обратно)422
Gorodetsky, Stafford Cripps in Moscow, 112 (издание на русском языке: Г. Городецкий, «Миссия Криппса в Москве. 1940–1942», Кембридж, Юниверсити Пресс).
(обратно)423
Chuev, Molotov Remembers, 28 (издание на русском языке: Ф. И. Чуев, Сто сорок бесед с Молотовым, М.: «Терра», 1991).
(обратно)424
Murphy, What Stalin Knew, 214–15 (на русском языке: ЦАМО РФ, ф. 229, оп. 164, д. 1, л. 71).
(обратно)425
Werth, Russia at War, 159.
(обратно)426
Gorodetsky, Grand Delusion, 311 (издание на русском языке: Г. Городецкий, Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на Советский Союз, М.: РОССПЭН, 2001).
(обратно)427
Evans, Third Reich at War, 178 (издание на русском языке: Ричард Эванс, Третий рейх. Дни войны. 1939–1945, У-Фактория, Астрель, Харвест, 2011).
(обратно)428
Dimitrov and Stalin, 189.
(обратно)429
Maisky article in New World Moscow, Dec. 1964.
(обратно)430
И. В. Сталин, выступление по радио 3 июля 1941 года, М.: Иногиз (Издательство литературы на иностранных языках), 1946, (текст выступления на русском языке в издании: И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, М.: Госполитиздат, 1953) для публикации в сети Интернет подготовлено: David J. Romagnolo, #s7.
(обратно)431
Roberts, Stalin’s Wars, 95–96.
(обратно)432
Beria, My Father, 350n (издание на русском языке: Серго Берия, Мой отец – Лаврентий Берия, М.: «Современник», 1994).
(обратно)433
Evans, Third Reich at War, 182 (издание на русском языке: Ричард Эванс, Третий рейх. Дни войны. 1939–1945, У-Фактория, Астрель, Харвест, 2011).
(обратно)434
Gerhard Weinberg, “The 2011 George C. Marshall Lecture”, Journal of Military History 75, no. 3 (July 2011).
(обратно)435
Некролог Франклина Д. Рузвельта, «Нью-Йорк таймс», 13 апреля 1945 года.
(обратно)436
Rosenman, Working with Roosevelt, 167.
(обратно)437
Ickes, Lowering Clouds, 523.
(обратно)438
Franklin Delano Roosevelt, “Message to Congress on the Sinking of the Robin Moor”, June 20, 1941.
(обратно)439
James Roosevelt, My Parents, 161.
(обратно)440
«Нью-Йорк таймс», 24 июня 1941 года.
(обратно)441
Там же.
(обратно)442
«Нью-Йорк таймс», 25 июня 1941 года.
(обратно)443
Dunn, Caught Between Roosevelt and Stalin, 127.
(обратно)444
«Нью-Йорк таймс», 6 августа 1941 года.
(обратно)445
«Американский легион» – организация ветеранов различных войн в США; занимает, как правило, консервативные позиции по вопросам внешней и внутренней политики. – Прим. пер.
(обратно)446
Lash, Roosevelt and Churchill, 444.
(обратно)447
Phillips Diary, June 22, 1941.
(обратно)448
Bradley Smith, Sharing Secrets with Stalin, 21.
(обратно)449
«Нью-Йорк таймс», 2 июля 1941 года.
(обратно)450
R. Elberton Smith, Army and Economic Mobilization, 135.
(обратно)451
Lash, Roosevelt and Churchill, 364.
(обратно)452
Stimson Diary, Aug. 1, 1941.
(обратно)453
Pogue, Ordeal and Hope, 73.
(обратно)454
U. S. Department of State Bulletin, Aug. 9, 1941.
(обратно)455
Adams, Harry Hopkins, 234.
(обратно)456
Maisky, Memoirs of a Soviet Ambassador, 178 (издание на русском языке: И. М. Майский, Воспоминания советского посла. В 2-х книгах, М.: Наука, 1964).
(обратно)457
Adams, Harry Hopkins, 237–238.
(обратно)458
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1941, 1:803.
(обратно)459
Там же, 813.
(обратно)460
Там же.
(обратно)461
Hopkins to Franklin Delano Roosevelt, message, Aug. 1, 1941, Hopkins Papers.
(обратно)462
Knoxville Journal, Aug. 2, 1941.
(обратно)463
Franklin Delano Roosevelt to Coy, memo, Aug. 2, 1941, библиотека Конгресса США.
(обратно)464
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 141.
(обратно)465
Divine, Second Chance, 43.
(обратно)466
King Diary, Dec. 5, 1942.
(обратно)467
Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 282.
(обратно)468
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 245.
(обратно)469
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 25 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)470
Премьер-министр. – Прим. пер.
(обратно)471
Gorodetsky, Stafford Cripps in Moscow, 115 (издание на русском языке: Г. Городецкий, Миссия Криппса в Москве. 1940–1942, Кембридж, Юниверсити Пресс).
(обратно)472
Adams, Harry Hopkins, 243.
(обратно)473
Elliott Roosevelt, As He Saw It, 22 (издание на русском языке: Эллиот Рузвельт, Его глазами, М.: АСТ, 2003).
(обратно)474
Там же, 30–34.
(обратно)475
Churchill to Attlee, Aug. 12, 1941, Imperial War Museum, London.
(обратно)476
«Нью-Йорк таймс», 20 августа 1941 года.
(обратно)477
Axell, Marshal Zhukov, 91.
(обратно)478
Kuby, Russians and Berlin, 35.
(обратно)479
Hitler directive, Sept. 29, 1941, цитируется по изданию: Radzinsky, Stalin, 489 (издание на русском языке: Эдвард Радзинский, Сталин, М.: «Вагриус», 2003).
(обратно)480
Cripps Diary, Sept. 9, 1941, цитируется по изданию: Gorodetsky, Stafford Cripps in Moscow, 163 (издание на русском языке: Г. Городецкий, Миссия Криппса в Москве. 1940–1942, Кембридж, Юниверсити Пресс).
(обратно)481
Axell, Marshal Zhukov, 179.
(обратно)482
Flagel, History Buff ’s Guide to World War II, 202.
(обратно)483
Oumansky to, Sept. 11, 1941, президентская библиотека Франклина Делано Рузвельта.
(обратно)484
My Dear Mr. Stalin, ed. Susan Butler, 43.
(обратно)485
Franklin Delano Roosevelt to Harriman, cable, Sept. 18, 1941, Harriman Papers.
(обратно)486
Franklin Delano Roosevelt to Stimson, Sept. 18, 1941, Harriman Papers.
(обратно)487
Harriman Papers.
(обратно)488
Harriman and Abel, Special Envoy, 84.
(обратно)489
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Sept. 29, 1941, in My Dear Mr. Stalin, ed. Susan Butler, 44.
(обратно)490
Harriman to Franklin Delano Roosevelt, Oct. 29, 1941, Harriman Papers.
(обратно)491
Beaverbrook notes, Harriman Papers.
(обратно)492
Harriman to Franklin Delano Roosevelt, third meeting with Stalin, Harriman Papers.
(обратно)493
Abramson, Spanning the Century, 293.
(обратно)494
Harriman Papers.
(обратно)495
Harriman and Beaverbrook, joint press release, Moscow, Oct, 1, 1945, Harriman Papers.
(обратно)496
Burns to Hopkins, memo, Aug. 16, 1941, Hopkins Papers.
(обратно)497
Pogue, Ordeal and Hope, 75.
(обратно)498
Davies to Franklin Delano Roosevelt, Jan. 18, 1939, президентская библиотека Франклина Делано Рузвельта.
(обратно)499
Interview with Erskine Caldwell, probably late August 1941, Steinhardt Papers.
(обратно)500
Beaverbrook’s notes on meeting, Sept. 30, 1941, Harriman Papers.
(обратно)501
Stimson Diary, Aug. 5, 1941.
(обратно)502
Axell, Marshal Zhukov, 85.
(обратно)503
«Нью-Йорк таймс», 10 октября 1941 года.
(обратно)504
Stimson Diary, Oct. 10, 1941.
(обратно)505
Hopkins memo, Oct. 13, 1941, Hopkins Papers.
(обратно)506
Е. А. Борков, Задолго до салютов (Полтава, 1994), 67–71. По воспоминаниям остальных генералов и партийных руководителей, данная встреча состоялась несколькими днями позже. Все они, включая генерала Апанасенко и первого секретаря Приморского краевого комитета ВКП(б) Н. М. Пегова, сходятся во мнении, что встреча была в период с 12 по 15 октября.
(обратно)507
Н. М. Пегов, Близкое-далекое (М.: Политиздат, 1982), 110–113, -biblioteka/Vstrechi-so-Stalinyim/Page-9.html.
(обратно)508
Sakharov, Memoirs, 42.
(обратно)509
Рой Медведев, Иосиф Сталин и Иосиф Апанасенко. Дальневосточный фронт в Великой Отечественной войне, «Российская газета», 8 января 2003 года.
(обратно)510
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Oct. 30, 1941, in My Dear Mr. Stalin, ed. Susan Butler, 48–49.
(обратно)511
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Nov. 4, 1941, in ibid., 52.
(обратно)512
Дневник Вышинского А. Я., 6 ноября 1941 года (архивы Сталина И. В., ф. 558, oп. 11, д. 363).
(обратно)513
Paraphrase of Steinhardt to Hull, telegram, Nov. 3, 1941, Steinhardt Papers.
(обратно)514
My Dear Mr. Stalin, ed. Susan Butler, 53.
(обратно)515
Speech at Celebration Meeting, Nov. 6, 1941, #s7 (издание на русском языке: И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, М.: Госполитиздат, 1953).
(обратно)516
Volkogonov, Stalin, 436 (издание на русском языке: Волкогонов, «Вожди. Трилогия: Сталин». В 2 т. – М., Новости, 1991–1992.; Переиздание – 1996).
(обратно)517
Sakharov, Memoirs, 44.
(обратно)518
Look, June 27, 1944.
(обратно)519
Speech at Red Army Parade, Nov. 7, 1941, #s7 (издание на русском языке: И. Сталин, «О Великой Отечественной войне Советского Союза», М.: Госполитиздат, 1953).
(обратно)520
Gorodetsky, Cripps Diary, Nov. 23, 1941.
(обратно)521
Gorodetsky, Stafford Cripps in Moscow, 1940–1942, 223 (издание на русском языке: Городецкий Г., «Миссия Криппса в Москве. 1940–1942», Кембридж, Юниверсити Пресс).
(обратно)522
Elsey, Unplanned Life, 98.
(обратно)523
Литвинов М. М., архив 1943 года, ф. 05, архив Литвинова М. М., архив внешней политики Российской Федерации.
(обратно)524
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1941, 4:730.
(обратно)525
Stimson Diary, Dec. 7, 1941.
(обратно)526
Perkins, Roosevelt I Knew, 379–380.
(обратно)527
Reston, Deadline, 106.
(обратно)528
Isador Lubin to Hopkins, Dec. 8, 1941, Hopkins Papers.
(обратно)529
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1941, 4:746.
(обратно)530
Там же, 742.
(обратно)531
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Dec. 14, 1941, in My Dear Mr. Stalin, ed. Susan Butler, 55–56.
(обратно)532
Vishinsky Diary.
(обратно)533
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Dec. 17, 1941, in My Dear Mr. Stalin, ed. Susan Butler, 56.
(обратно)534
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1941, 4:747.
(обратно)535
Cripps Diary, Dec. 18, 1941, in Gorodetsky, Stafford Cripps’ Mission to Moscow (издание на русском языке: Городецкий Г., «Миссия Криппса в Москве. 1940–1942», Кембридж, Юниверсити Пресс).
(обратно)536
Greenfield, American Strategy in World War II, 29.
(обратно)537
Rzheshevsky, War and Diplomacy, 182 (издание на русском языке: О. А. Ржешевский, Война и дипломатия: документы, комментарии (194–1942), М.: Наука, 1997).
(обратно)538
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, April 11, 1942, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 64.
(обратно)539
Franklin Delano Roosevelt to Churchill, April 3, 1942, in Loewenheim, Langley, and Jonas, Roosevelt and Churchill, 202.
(обратно)540
Sunday Express, March 29, 1942, in Hastings, Winston’s War, 233.
(обратно)541
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 523–524.
(обратно)542
Winston S. Churchill, Hinge of Fate, 317.
(обратно)543
Hopkins to Franklin Delano Roosevelt, April 15, 1942, Hopkins Papers.
(обратно)544
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 528.
(обратно)545
Ward, Before the Trumpet, 9.
(обратно)546
King Diary, April 15, 1942.
(обратно)547
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, April 20, 1942, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 65.
(обратно)548
Cripps Diary, Dec. 18, 1941, in Gorodetsky, Stafford Cripps in Moscow (издание на русском языке: Г. Городецкий, Миссия Криппса в Москве. 1940–1942, Кембридж, Юниверсити Пресс).
(обратно)549
Kimball, Churchill and Roosevelt, 1:222.
(обратно)550
Lukacs, Five Days, 62.
(обратно)551
Feb. 20, 1942, U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1942, 3:521.
(обратно)552
Franklin Delano Roosevelt to Churchill, March 18, 1942, in Kimball, Churchill and Roosevelt, 1:421.
(обратно)553
Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 338.
(обратно)554
MacMillan, Paris 1919, 67.
(обратно)555
Reston, Deadline, 118.
(обратно)556
Winston S. Churchill, Their Finest Hour, 579.
(обратно)557
Goodwin, No Ordinary Time, 255.
(обратно)558
Hull, Memoirs, 2:1173.
(обратно)559
Reilly, Reilly of the White House, 39–40.
(обратно)560
Rzheshevsky, War and Diplomacy, 224 (издание на русском языке: О. А. Ржешевский, Война и дипломатия: документы, комментарии (1941–1942), М.: Наука, 1997).
(обратно)561
Goodwin, No Ordinary Time, 344.
(обратно)562
Eleanor Roosevelt, This I Remember, 254.
(обратно)563
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 159.
(обратно)564
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 558–559.
(обратно)565
Acheson, Present at the Creation, 68.
(обратно)566
Robert Meiklejohn, conversation with Hopkins, June 5, 1945, Hopkins Papers.
(обратно)567
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1942, Europe, 3:567.
(обратно)568
Бумаги Гопкинса.
(обратно)569
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1942, Europe, 3:569.
(обратно)570
King Diary, Dec. 5, 1942.
(обратно)571
Rzheshevsky, War and Diplomacy, 177 (издание на русском языке: О. А. Ржешевский, Война и дипломатия: документы, комментарии (1941–1942), М.: Наука, 1997).
(обратно)572
Ibid., doc. 82, sent June 1, 1942, 204.
(обратно)573
Там же, 179.
(обратно)574
William Phillips, notes, Oct. 6, 1942, Phillips Papers.
(обратно)575
Eleanor Roosevelt, This I Remember, 250.
(обратно)576
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1942, Europe, 3:576.
(обратно)577
Там же.
(обратно)578
Там же, 577.
(обратно)579
Там же, 582.
(обратно)580
Shirer, Berlin Diary, 564.
(обратно)581
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 565.
(обратно)582
Там же, 569.
(обратно)583
Stalin to Molotov, n.d., in Rzheshevsky, War and Diplomacy, 193–1994 (издание на русском языке: О. А. Ржешевский, Война и дипломатия: документы, комментарии (194–1942), М.: Наука, 1997).
(обратно)584
Там же, 581.
(обратно)585
Там же.
(обратно)586
Там же, 582.
(обратно)587
Rzheshevsky, War and Diplomacy, 210 (издание на русском языке: О. А. Ржешевский, Война и дипломатия: документы, комментарии (1941–1942), М.: Наука, 1997).
(обратно)588
Там же, 220.
(обратно)589
Там же, 219.
(обратно)590
Там же, 221.
(обратно)591
Loewenheim, Langley, and Jonas, Roosevelt and Churchill, 219.
(обратно)592
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 160.
(обратно)593
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 577–578.
(обратно)594
Gilbert, Road to Victory, 119–120.
(обратно)595
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1942, Europe, 3:576.
(обратно)596
Molotov to Franklin Delano Roosevelt, June 12, 1942, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 70.
(обратно)597
Chuev, Molotov Remembers, 45 (издание на русском языке: Ф. И. Чуев, Сто сорок бесед с Молотовым, М.: «Терра», 1991).
(обратно)598
Maisky, Memoirs of a Soviet Ambassador, 277 (издание на русском языке: И. М. Майский, Воспоминания советского посла. В 2-х книгах, М.: Наука, 1964).
(обратно)599
Kimball, Churchill and Roosevelt, 1:458.
(обратно)600
Matloff and Snell, War Department, 277.
(обратно)601
Franklin Delano Roosevelt to Hopkins, Marshall, King, запись от руки, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
(обратно)602
Stimson Diary, July 26, 1942.
(обратно)603
Sherwood, Roosevelt and Stalin, 648.
(обратно)604
Stimson Diary, Aug. 7, 1942.
(обратно)605
Persico, Roosevelt’s Secret War, 208.
(обратно)606
Там же.
(обратно)607
Stimson and Bundy, On Active Service, 427.
(обратно)608
Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 93.
(обратно)609
«Нью-Йорк таймс», 7 ноября 1942 года.
(обратно)610
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1942, Europe, 3:477.
(обратно)611
Stalin, “The Allied Campaign in Africa”, Nov. 13, 1942, (на русском языке: И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, М.: Госполитиздат, 1953).
(обратно)612
Stephen C. Schlesinger, Act of Creation, 25.
(обратно)613
Divine, Second Chance, 25.
(обратно)614
Welles, Where Are We Heading? 21.
(обратно)615
Из письма Джорджа Элси автору этой книги 6 марта 2004 года.
(обратно)616
Elsey, Unplanned Life, 20.
(обратно)617
Rigdon, White House Sailor, 15.
(обратно)618
Elsey, Unplanned Life, 21.
(обратно)619
Stimson Diary, Aug. 29, 1941.
(обратно)620
Vogel, Pentagon, 335.
(обратно)621
King Diary, Dec. 5, 1942.
(обратно)622
Feis, Churchill, Roosevelt, Stalin, 108.
(обратно)623
Ibid., 109n2a.
(обратно)624
Hull, Memoirs, 2. 1574.
(обратно)625
King Diary, Dec. 5, 1942.
(обратно)626
Rees, The Nazis, 15–16 (издание на русском языке: Лоуренс Рис, Нацисты. Предостережение истории, КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014).
(обратно)627
Franklin Delano Roosevelt to Hull, Jan. 17, 1944, in F.D.R.: His Personal Letters, 2:1486.
(обратно)628
Hopkins notes, March 22, 1943, in Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 715.
(обратно)629
F.D.R.: His Personal Letters, 2:1486.
(обратно)630
Сталин Гарриману, 10 июня 1944 года, бумаги Гарримана.
(обратно)631
Пресс-конференция в Гонолулу 29 июля 1944 года.
(обратно)632
«Нью-Йорк таймс», 5 марта 1935 года.
(обратно)633
Сталин Станиславу Миколайчику, без даты, бумаги Гарримана.
(обратно)634
Davies, Mission to Moscow, 389.
(обратно)635
Overy, Russia’s War, 17.
(обратно)636
Acheson, Present at the Creation, 65–71.
(обратно)637
Kathleen Harriman to Mary Harriman, April 18, 1944, Harriman Papers.
(обратно)638
Standley, Admiral Ambassador, 381.
(обратно)639
Ф. 06, оп. 5, архив секретариата Литвинова М. М., Архив внешней политики Российской Федерации. U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1941, Far East, 730–31.
(обратно)640
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, The British Commonwealth, Eastern Europe, The Far East, 1943, 3:522.
(обратно)641
Acheson, Present at the Creation, 78.
(обратно)642
Gromyko, Memories, 401 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)643
Perlmutter, Not So Grand Alliance, 258.
(обратно)644
Литвинов М. М., ф. 06, архив секретариата Литвинова М. М., Архив внешней политики Российской Федерации.
(обратно)645
Litvinov memo, June 2, 1943, in Perlmutter, Not So Grand Alliance, 245–246.
(обратно)646
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, June 11, 1943, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 138–139; ф. 558, оп. 11, д. 365, бумаги Сталина.
(обратно)647
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Aug. 8, 1943, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 150–151; ф. 558, оп. 11, бумаги Сталина.
(обратно)648
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Aug. 22, 1943, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 155.
(обратно)649
“Talk with the German Author Emil Ludwig, December 13, 1931,” Bolshevik, April 30, 1932, (издание на русском языке: И. В. Сталин, Сочинения, т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы, 1951, с.113–114).
(обратно)650
Harriman and Abel, Special Envoy, 218.
(обратно)651
Там же.
(обратно)652
Montefiore, Stalin, 348.
(обратно)653
Deane, Strange Alliance, 226.
(обратно)654
Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 190.
(обратно)655
Harriman and Abel, Special Envoy, 214.
(обратно)656
Harriman to Franklin Delano Roosevelt, Dec. 26, 1943, Harriman Papers.
(обратно)657
Встреча в Кремле 2 февраля 1944 года, бумаги Гарримана.
(обратно)658
Feb. 3, 1944. U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Europe 1944, 4: 943.
(обратно)659
Встреча в Кремле 3 февраля 1944 года, бумаги Гарримана.
(обратно)660
Гарриман и Сталин, беседа 10 июня 1944 года, бумаги Гарримана.
(обратно)661
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Aug. 19, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 252.
(обратно)662
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Aug. 22, 1944, in ibid., 253.
(обратно)663
Harriman to Franklin Delano Roosevelt, telegram, Sept. 23, 1944, президентская библиотека Франклина Д. Рузвельта.
(обратно)664
Harriman cable, Oct. 10, 1944, Harriman Papers.
(обратно)665
Harriman to Franklin Delano Roosevelt, navy cable, Dec. 15, 1944, Harriman Papers.
(обратно)666
Harriman to Franklin Delano Roosevelt, Dec. 29, 1944, Harriman Papers.
(обратно)667
Gunther, Roosevelt in Retrospect, 338.
(обратно)668
Александр Осипов – псевдоним, под которым действовал заместитель руководителя внешней разведки НКВД Овакимян Гайк Бадалович. – Прим. пер.
(обратно)669
Борис Карлофф – голливудский актер фильмов ужасов; прославился в роли Монстра в фильме «Франкенштейн». – Прим. ред.
(обратно)670
Deane, Strange Alliance, 51.
(обратно)671
Harriman and Abel, Special Envoy, 293.
(обратно)672
Donovan to Harriman, Jan. 5, 1944, Harriman Papers.
(обратно)673
«Амторг» – акционерное общество, учрежденное в штате Нью-Йорк в 1924 году и выступавшее в роли посредника при осуществлении экспортно-импортных операций советских внешнеторговых объединений с американскими компаниями. – Прим. пер.
(обратно)674
Donovan to Leahy, memo, March 7, 1944, Управление национальных архивов и учетных документов США.
(обратно)675
Franklin Delano Roosevelt to Harriman, March 15, 1944, документы «Штабной комнаты».
(обратно)676
Harriman to Franklin Delano Roosevelt, March 17, 1944, Harriman Papers.
(обратно)677
Costigliola, Roosevelt’s Lost Alliances, 283.
(обратно)678
For Ambassador Harriman, Personal and Secret from the President, March 30, 1944. Harriman Papers.
(обратно)679
Persico, Roosevelt’s Secret War, 291.
(обратно)680
Franklin Delano Roosevelt to Harriman, March 15, 1944, Harriman Papers.
(обратно)681
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Europe, 1944, 4:950.
(обратно)682
Franklin Delano Roosevelt to Harriman, cable, March 30, 1944, Управление национальных архивов и учетных документов США. Генерал Маршалл впоследствии сообщил Доновану, что оба предложения в действительности были саботированы адмиралом Лихи. «Встретив генерала Маршалла в Вашингтоне, я обсудил с ним вопрос о том, почему Белый дом отклонил предложения об обмене миссиями и об обоюдной с Советским Союзом установке станций радиосвязи. Он сообщил мне с максимальной откровенностью и в качестве друга (при условии молчания с моей стороны), что, по его мнению, адмирал Лихи был лично настроен против меня. Он не знал, чем вызвано такое отношение, но считал, что причины могут заключаться скорее в симпатиях адмирала Лихи (как офицера ВМС) к адмиралу Стэндли, нежели в личной неприязни ко мне». Memo of Conversation, W. A. Harriman, General Marshall, Subject: Admiral Leahy, Washington, D.C., May 11, 1944, Harriman Papers.
(обратно)683
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 316.
(обратно)684
«Нью-Йорк таймс», 24 августа 1944 года.
(обратно)685
Приказ Верховного Главнокомандующего 1 мая 1944 года № 70, город Москва.
(обратно)686
Djilas, Conversations with Stalin, 73 (издание на русском языке: Милован Джилас, Беседы со Сталиным, М.: Центрполиграф, 2002).
(обратно)687
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, June 7, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 235–236.
(обратно)688
Harriman to Franklin Delano Roosevelt, cable, June 11, 1944, Harriman Papers.
(обратно)689
Werth, Russia at War, 775–776 (на русском языке: «Правда», 14 июня 1944 года).
(обратно)690
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, June 21, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 238.
(обратно)691
Blum, Years of War, 239.
(обратно)692
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, March 10, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 216.
(обратно)693
Предположительно, речь идет о встрече Сталина с авторским коллективом нового учебника политэкономии, состоявшейся 29 января 1941 года . – Прим. пер.
(обратно)694
Notes from the Meeting Between Comrade Stalin and Economists Concerning Questions in Political Economy, Jan. 21, 1941, Cold War International History Project, Digital Archive, working paper 33.
(обратно)695
Журнал с таким названием в СССР не выходил . – Прим. ред.
(обратно)696
Paraphrase of Harriman to Morgenthau, embassy cable, April 20, 1944, библиотека Конгресса США.
(обратно)697
Blum, Years of War, 250.
(обратно)698
Там же.
(обратно)699
Там же.
(обратно)700
Там же, 251.
(обратно)701
Там же, 258.
(обратно)702
Там же, 261.
(обратно)703
«Нью-Йорк таймс», 13 июля 1944 года.
(обратно)704
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1944, Europe, 4:996.
(обратно)705
Blum, Years of War, 275.
(обратно)706
«Нью-Йорк таймс», 21 июля 1944 года.
(обратно)707
Blum, Years of War, 277.
(обратно)708
Dunlop, Donovan, 450–451.
(обратно)709
А. А. Громыко, «По вопросу советско-американских отношений», 14 июля 1944 года, ф. 06, канцелярия Молотова В. М., оп. 6, п.45, дело 603 (Письма Громыко А. А. 14–24 июля 1944 года), стр. 22, Архив внешней политики Российской Федерации.
(обратно)710
Gromyko, Memories, 148 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)711
Там же.
(обратно)712
Diaries of Edward R. Stettinius, 130–131.
(обратно)713
Gromyko, Memories, 150 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)714
Diaries of Edward R. Stettinius, 131.
(обратно)715
Gromyko, Memories, 150 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)716
На русском языке книга была издана в 1988 году . – Прим. пер.
(обратно)717
Там же, 148.
(обратно)718
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Aug. 31, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 255.
(обратно)719
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Sept. 7, 1944, in ibid., 256.
(обратно)720
Stalin to FDR, Sept. 14, 1945, in ibid., 257–258.
(обратно)721
Пояснительный доклад о советской прессе за период с 28 августа по 12 октября от 17 октября 1944 года, Библиотека Конгресса США.
(обратно)722
Franklin Delano Roosevelt to Harriman, cable, Dec. 15, 1944, Harriman Papers.
(обратно)723
Harriman to FDR, speech delivered at the Joint Celebration meeting of the Moscow Soviet of Working People’s Deputies and Representative of Moscow Party and Public Organizations, Nov. 6, 1944 (издание на русском языке: И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, М.: Госполитиздат, 1953).
(обратно)724
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Dec. 25, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 278.
(обратно)725
Curtis Roosevelt, Too Close to the Sun, 277.
(обратно)726
«Энормоз» (англ. Enormous, букв. «нечто невероятное») – советская разведывательная операция по добыче материалов секретных атомных исследований США в рамках «Проекта Манхэттен». – Прим. пер.
(обратно)727
Holloway, Stalin and the Bomb (издание на русском языке: Дэвид Холловэй, Сталин и бомба. Советский Союз и атомная энергия 1939–1956 гг. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997).
(обратно)728
Rhodes, Dark Sun, 61.
(обратно)729
Sudoplatov, Special Tasks, 183 (издание на русском языке: П. А. Судоплатов Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы, М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997).
(обратно)730
Rhodes, Making of the Atomic Bomb, 529.
(обратно)731
Gordin, Red Cloud at Dawn, 139.
(обратно)732
Edward Teller, Memoirs, 147.
(обратно)733
Isaacson, Einstein, 474.
(обратно)734
Там же, 476.
(обратно)735
Nat Finney, “How F.D.R. Planned to Use the A-Bomb”, Look, March 14, 1950.
(обратно)736
Sherwin, World Destroyed, 29.
(обратно)737
Там же, 31.
(обратно)738
Franklin Delano Roosevelt to Churchill, Oct. 11, 1941.
(обратно)739
Sherwin, World Destroyed, 78.
(обратно)740
Franklin Delano Roosevelt to Vannevar Bush, March 11, 1942; Malloy, Atomic Tragedy, 55.
(обратно)741
Rhodes, Making of the Atomic Bomb, 526.
(обратно)742
Ferrell, Dying President, 34.
(обратно)743
Goodwin, No Ordinary Time, 501.
(обратно)744
Rhodes, Making of the Atomic Bomb, 530.
(обратно)745
Там же, 530.
(обратно)746
Freedman, Roosevelt and Frankfurter,731–735.
(обратно)747
Rhodes, Making of the Atomic Bomb, 536–537.
(обратно)748
Sherwin, World Destroyed.
(обратно)749
Kennedy, Freedom from Fear, 803.
(обратно)750
Stimson Diary, March 29, 1945.
(обратно)751
King Diary, Sept. 11, 1944.
(обратно)752
Hyde Park aide-mémoire, Sept. 18, 1944, in Sherwin, World Destroyed, 184.
(обратно)753
Gilbert, Road to Victory, 971.
(обратно)754
Там же, 970.
(обратно)755
Gunther, Roosevelt in Retrospect, 18.
(обратно)756
Malloy, Atomic Tragedy, 64.
(обратно)757
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, The Conferences at Malta and Yalta, 1945, 383.
(обратно)758
Stimson Diary, December 31, 1944.
(обратно)759
Sherwin, World Destroyed, 111–112.
(обратно)760
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 33. «Степень моего участия в атомном проекте определится в ближайшее время. Рузвельт позвал меня, чтобы сказать мне обо всем этом. Стимсон знал об атомном проекте – Хэлл нет». Stettinius to Walter Johnson, Oct. 9, 1948, Stettinius Papers.
(обратно)761
Stettinius to Johnson, Oct. 10, 1948, Stettinius Papers.
(обратно)762
Конференция в Ялте вместе с генералом Маршаллом: о чем следует поделиться с СССР в случае применения атомной бомбы. Stettinius to Johnson, Oct. 9, 1948.
(обратно)763
Churchill to Eden, minute, March 25, 1945, in Sherwin, World Destroyed, 135.
(обратно)764
Дневник Стимсона, 13 февраля 1945 года.
(обратно)765
Там же, 15 февраля 1945 года.
(обратно)766
Там же, 5 марта 1945 года.
(обратно)767
Дневник Кинга, 9 марта 1945 года.
(обратно)768
Дневник Стимсона, 8 марта 1945 года.
(обратно)769
Rosenman, Working with Roosevelt, 509–510.
(обратно)770
Harriman and Abel, Special Envoy, 390.
(обратно)771
Harriman to Franklin Delano Roosevelt, Dec. 6, 1944, библиотека Конгресса США.
(обратно)772
Franklin Delano Roosevelt to Churchill, Sept. 28, 1944, in Kimball, Churchill and Roosevelt, 3:339.
(обратно)773
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 138.
(обратно)774
Edward Delano Diary, 1841, courtesy of Diana Delano.
(обратно)775
Winston S. Churchill, Hinge of Fate, 209.
(обратно)776
Moran, Churchill at War, 159.
(обратно)777
Meacham, Franklin and Winston, 239.
(обратно)778
Winston S. Churchill, Hinge of Fate, 204.
(обратно)779
Kimball, Churchill and Roosevelt, 1:403.
(обратно)780
Stimson Diary, April 22, 1942.
(обратно)781
Mukerjee, Churchill’s Secret War, 18.
(обратно)782
Phillips, Ventures in Diplomacy, 343.
(обратно)783
Mukerjee, Churchill’s Secret War, 20.
(обратно)784
«Миддл-Темпл» – один из четырех «судебных иннов», британских школ подготовки адвокатов высшего ранга. – Прим. пер.
(обратно)785
«Уолл-стрит джорнэл» от 2 мая 2008 года.
(обратно)786
Mukerjee, Churchill’s Secret War, 10.
(обратно)787
Там же, 106.
(обратно)788
Там же, 139.
(обратно)789
Phillips, Ventures in Diplomacy, 350.
(обратно)790
Keneally, Three Famines, 96.
(обратно)791
Phillips, Ventures in Diplomacy, 394.
(обратно)792
Mukerjee, Churchill’s Secret War, 199.
(обратно)793
Hull, Memoirs, 2:1496.
(обратно)794
Mukerjee, Churchill’s Secret War, 232.
(обратно)795
King Diary, Sept. 12, 1944.
(обратно)796
Mukarjee, Churchill’s Secret War, 205.
(обратно)797
Colville Diary, Feb. 21, 1945, in Gilbert, Road to Victory, 1232.
(обратно)798
Hastings, Inferno, 412.
(обратно)799
Elliott Roosevelt, Look, Sept. 9, 1946.
(обратно)800
Kimball, Juggler, 144.
(обратно)801
Phillips Diary, April 29, 1943.
(обратно)802
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, April 21, 1943, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 126.
(обратно)803
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, April 26, 1943, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 126.
(обратно)804
Kathleen Harriman letter to Pamela Harriman, Jan. 28, 1944. Harriman Papers.
(обратно)805
Harriman to FDR, Jan. 25, 1944, Harriman Papers.
(обратно)806
Moran, Churchill at War, 271.
(обратно)807
C. E. Olsen, “Full House at Yalta,” American Heritage, June 1972.
(обратно)808
Harriman and Abel, Special Envoy, 393.
(обратно)809
Moran, Churchill at War, 277.
(обратно)810
Harriman and Abel, Special Envoy, 391–392.
(обратно)811
Costigliola, Roosevelt’s Lost Alliances, 234.
(обратно)812
Ай-Петри. – Прим. ред.
(обратно)813
Byrnes, Speaking Frankly, 21.
(обратно)814
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 390–391.
(обратно)815
Там же, 393.
(обратно)816
Asbell, Mother and Daughter, 187.
(обратно)817
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 393.
(обратно)818
Stettinius calendar notes, Feb. 2, 1945, Stettinius Papers.
(обратно)819
Rigdon, White House Sailor, 139.
(обратно)820
Byrnes, Speaking Frankly, 24.
(обратно)821
Stettinius to Walter Johnson, Feb. 2, 1945, Stettinius Papers.
(обратно)822
Eden, Reckoning, 592.
(обратно)823
Sarah Churchill, Thread in the Tapestry, 76.
(обратно)824
Reilly, Reilly of the White House, 209.
(обратно)825
Gilbert, Road to Victory, 1171.
(обратно)826
Там же, 1172.
(обратно)827
Sudoplatov, Special Tasks, 222–227 (издание на русском языке: П. А. Судоплатов, Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы, М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997); Доклады Молотову В. М. и переписка, ф. 06, оп. 7a, п. 57, дело 3, 32–33, 34, 36–42, 45–46; Доклады Народного комиссариата Военно-морского флота и НКВД тов. Молотову В. М. в связи с подготовкой к Крымской конференции, 10–27 января 1945 года, ф. 06, оп. 7a, п. 57, дело 4, 27–29, 45, 46–47, Архив внешней политики Российской Федерации.
(обратно)828
Дневник Молотова В. М., Прием посла США Гарримана 20 января 1945 года, ф. 06, оп. 7a, п. 57, дело 2 (Крымская конференция 1945 года), 10–11, Архив внешней политики Российской Федерации.
(обратно)829
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1943, 3:788–89.
(обратно)830
Blum, Years of War, 305.
(обратно)831
Громыко А. А. Вышинскому А. Я. 26 января 1945 года, ф. 06, оп. 7a, п. 57, дело 5 (Крымская конференция 1945 года), 10–22, Архив внешней политики Российской Федерации.
(обратно)832
Гусев Ф. Т. Молотову В. М., ф. 06, оп. 7a, п. 57, дело 5 (Крымская конференция 1945 года), 23–27, Архив внешней политики Российской Федерации.
(обратно)833
Pechatnov, Stalin, Ruzvelt, Trumen, 47 (издание на русском языке: В. О. Печатнов, Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. Документальные очерки, М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2006).
(обратно)834
Asbell, Mother and Daughter. 182.
(обратно)835
Montefiore, Stalin, 446.
(обратно)836
Музей Черчилля в Лондоне.
(обратно)837
Eden, Reckoning, 593.
(обратно)838
King Diary, Dec. 5, 1942.
(обратно)839
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 571.
(обратно)840
Там же, 572.
(обратно)841
Речь идет о медали «Золотая Звезда», знаке отличия звания Героя Советского Союза. – Прим. пер.
(обратно)842
Barbara Tuchman, “If Mao Had Come to Washington,” Foreign Affairs, Oct. 1972.
(обратно)843
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 83.
(обратно)844
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 574.
(обратно)845
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Dec. 25, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 278.
(обратно)846
Harriman and Abel, Special Envoy, 381.
(обратно)847
Birse, Memoirs of an Interpreter, 177.
(обратно)848
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Jan. 15, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 285.
(обратно)849
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 587.
(обратно)850
Reynolds, From World War to Cold War, 241.
(обратно)851
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 587.
(обратно)852
Gromyko, Memories, 109–110 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)853
King Diary, Dec. 4, 1942.
(обратно)854
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 114.
(обратно)855
Ibid.
(обратно)856
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 589.
(обратно)857
Ibid., 590.
(обратно)858
Ibid., 611–616.
(обратно)859
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 128.
(обратно)860
Ibid., 127; U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 628.
(обратно)861
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 120.
(обратно)862
Ibid., 130.
(обратно)863
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 620.
(обратно)864
Ibid., 634.
(обратно)865
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 134.
(обратно)866
Gromyko, Memories, 111 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)867
Ibid.
(обратно)868
Gilbert, Road to Victory, 1182–1183.
(обратно)869
Chuikov, End of the Third Reich, 117 (издание на русском языке: В. И. Чуйков, Конец Третьего рейха. М.: Советская Россия, 1973).
(обратно)870
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 139.
(обратно)871
Ibid.
(обратно)872
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 661.
(обратно)873
Ibid., 662.
(обратно)874
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Dec. 26, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 279.
(обратно)875
Diaries of Edward R. Stettinius, 242.
(обратно)876
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 665.
(обратно)877
Ibid., 669.
(обратно)878
Harriman, press conference, Claridge’s hotel, May 4, 1944, Harriman Papers.
(обратно)879
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 710.
(обратно)880
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Feb. 16, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 205; оригинал – ф. 558, оп. 11, дело 367, бумаги Сталина.
(обратно)881
Professor Lange, Mr. Hamilton, and Stalin, conversation, May 18, 1944, Harriman Papers.
(обратно)882
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, June 17, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 237.
(обратно)883
Report dated June 21, 1944, in Vladimir Lota, “The Secrets of the Polish ‘Tempest’, ” Russian Military Review, no. 12 (2009) (издание на русском языке: Владимир Лота, Секреты польской «Бури» (доклад от 21 июня 1944 года), «Российское военное обозрение», № 12 (2009).
(обратно)884
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, June 24, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 239–40.
(обратно)885
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Aug. 9, 1944, in Ibid., 249.
(обратно)886
Werth, Russia at War, 795.
(обратно)887
King Diary, Sept. 14, 1944.
(обратно)888
Isaacson and Thomas, Wise Men, 231.
(обратно)889
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, Dec. 27, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 281.
(обратно)890
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 671.
(обратно)891
Kimball, Churchill and Roosevelt, 2:591.
(обратно)892
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Feb. 6, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 292.
(обратно)893
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 710.
(обратно)894
Ibid., 712.
(обратно)895
Ibid.
(обратно)896
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 174.
(обратно)897
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 862.
(обратно)898
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 184.
(обратно)899
Ibid.
(обратно)900
Stettinius to WJ, interview, Oct. 10, 1948, Stettinius Papers.
(обратно)901
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 196.
(обратно)902
Оценка инцидента со стороны Э. Хисса, которую он изложил Ч. Болену вскоре после этого. Stettinius Papers; Diaries of Edward R. Stettinius, 252–253.
(обратно)903
William Manchester, Best American Essays, 498.
(обратно)904
Halberstam, Coldest Winter, 596.
(обратно)905
Joint Chiefs of Staff report, Jan. 18, 1945, Stettinius Papers.
(обратно)906
Rosenman, Working with Roosevelt, 536.
(обратно)907
Undated memo to the Joint Chiefs, Recommendation to FDR to present to Stalin, Stettinius Papers.
(обратно)908
Bullitt, For the President, 67.
(обратно)909
Pogue, Organizer of Victory, 526.
(обратно)910
От Гарримана. Лично Президенту США. Изложение телеграммы ВМС США от 14 декабря 1944 года. Бумаги Гарримана.
(обратно)911
Порто-франко (от итал. Porto franco – «свободный порт») – порт (или его определенная часть), пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. – Прим. пер.
(обратно)912
Гоминьдан – буржуазно-демократическая, националистическая партия в Китае, игравшая значительную роль в китайском национально-освободительном движении. – Прим. пер.
(обратно)913
Meiklejohn Diary, June 9, 1944, Harriman Papers.
(обратно)914
Meacham, Franklin and Winston, 317.
(обратно)915
Rose, Dubious Victory, 51.
(обратно)916
Byrnes, Speaking Frankly, 39.
(обратно)917
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 793.
(обратно)918
Ibid., 778–93.
(обратно)919
Stettinius undated interview. Stettinius to WJ; Stettinius Papers.
(обратно)920
Leahy, Diary, Feb. 8, 1945.
(обратно)921
Kathleen Harriman, Harriman Papers.
(обратно)922
Kathleen Harriman, Harriman Papers.
(обратно)923
Montefiore, Stalin, 483.
(обратно)924
Oct. 10, 1948, interview: Stettinius to WJ. Stettinius Papers.
(обратно)925
Bohlen, Witness to History, 182.
(обратно)926
McIntire, White House Physician, 215.
(обратно)927
Gromyko, Memories, 112 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)928
Byrnes, Speaking Frankly, 45.
(обратно)929
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 826.
(обратно)930
Gromyko, Memories, 116 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)931
Так написано в оригинале. Скорее всего, речь идет о 20 миллиардах долларов. – Прим. ред.
(обратно)932
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 836.
(обратно)933
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 224.
(обратно)934
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 842.
(обратно)935
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 865.
(обратно)936
Eden, Reckoning, 595.
(обратно)937
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 852.
(обратно)938
Ibid., 853.
(обратно)939
Ibid., 853–854.
(обратно)940
Ibid., 832.
(обратно)941
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 251–252.
(обратно)942
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 872.
(обратно)943
Ibid., 873.
(обратно)944
Монгольской Народной Республики . – Прим. пер.
(обратно)945
Moran, Churchill at War, 279–280.
(обратно)946
FRUS, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 907.
(обратно)947
Ibid., 908.
(обратно)948
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 859.
(обратно)949
Moran, Churchill at War, 280.
(обратно)950
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 263–264.
(обратно)951
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 266.
(обратно)952
Gromyko, Memories, 113 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)953
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 265.
(обратно)954
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 860.
(обратно)955
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 270–271.
(обратно)956
Stettinius notes, Yalta, Feb. 10, 1945. Этот разговор был немного по-разному услышан и застенографирован Чарльзом Боленом, Фрименом Мэтьюсом и Стеттиниусом. Здесь приводится запись Стеттиниуса.
(обратно)957
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 274.
(обратно)958
Ibid., 275.
(обратно)959
Ibid., 276.
(обратно)960
Ibid., 278.
(обратно)961
Eden, Reckoning, 594.
(обратно)962
Hopkins to Byrnes, Feb. 12, 1945, Hopkins Papers.
(обратно)963
Stettinius to Molotov, Feb. 14. 1945, from Cairo, Stettinius Papers.
(обратно)964
Salisbury, Russia on the Way, 318.
(обратно)965
Leahy Diary, Feb. 14, 1945; в настоящее время доступно также в источнике: U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 911.
(обратно)966
Byrnes, Speaking Frankly, 45.
(обратно)967
Bishop, FDR’s Last Year, 438.
(обратно)968
Не путать с личным секретарем – официальной должностью помощника президента США; генерал Эдвин «Па» Уотсон был назначен секретарем, отвечавшим за распределение времени президента и организацию его аудиенций и мероприятий; сама по себе должность секретаря при президенте США существовала с 1929 по 1981 год и в современном варианте соответствует должности главы администрации президента. – Прим. пер.
(обратно)969
Rosenman, Working with Roosevelt, 524.
(обратно)970
Франклин Делано Рузвельт, «Выдержки из пресс-конференции на борту корабля ВМС США «Куинси» на пути из Ялты» 23 февраля 1945 года, American Presidency Project, by Gerhard Peters and John T. Woolley, online, .
(обратно)971
Rosenman, Working with Roosevelt, 527.
(обратно)972
New York Times, March 2, 1945.
(обратно)973
American Presidency Project, by Gerhard Peters and John T. Woolley, online, .
(обратно)974
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 397.
(обратно)975
Beevor, Berlin, 137.
(обратно)976
Levering, Debating the Origins of the Cold War, 99.
(обратно)977
Cable, U.S. embassy memo, Feb. 19, 1945, Harriman Papers.
(обратно)978
April 12, 1945, Diary of Georgi Dimitrov, 368.
(обратно)979
Chuev, Molotov Remembers, 51 (издание на русском языке: Ф. И. Чуев, Сто сорок бесед с Молотовым, М.: «Терра», 1991).
(обратно)980
Order of the Day, Feb. 23, 1945, . html#s7 (на русском языке: Приказ Верховного главнокомандующего 23 февраля 1945 года № 5, г. Москва, И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, М.: Госполитиздат, 1953).
(обратно)981
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, Conferences at Malta and Yalta, 1945, 946.
(обратно)982
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 4.1945, 5:1085.
(обратно)983
Molotov to Harriman, March 13, 1945, Harriman Papers.
(обратно)984
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, March 3, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 298–99; Stimson Diary, March 3, 1945.
(обратно)985
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, March 5, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 299.
(обратно)986
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, March 17, 1945, in ibid., 300.
(обратно)987
U. S. Military Mission, Moscow, March 20, 1945, Harriman Papers.
(обратно)988
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, March 22, 1945, fond 558, op. 11, file 370. Stalin Papers in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 301.
(обратно)989
Harriman Papers.
(обратно)990
Harriman to Franklin Delano Roosevelt, March 24 and 26, 1945, Harriman Papers.
(обратно)991
Stimson Diary, April 2, 1945.
(обратно)992
Там же, 13 марта 1945 года.
(обратно)993
Telegram to the Combined Chiefs of Staff, March 11, 1945, Harriman Papers.
(обратно)994
Stimson Diary, March 12 and 13, 1945.
(обратно)995
King Diary, March 13, 1945.
(обратно)996
Montefiore, Stalin, 475.
(обратно)997
Franklin Delano Roosevelt to Stalin March 24, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 302–303.
(обратно)998
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, March 24, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 304.
(обратно)999
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, March 27, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 305.
(обратно)1000
Согласно оригиналу, далее в послании говорится: «…но они не могут открыть «второй фронт» советским войскам, так как этот фронт ушел от них далеко на запад…». – Прим. пер.
(обратно)1001
Согласно оригиналу, далее в послании говорится: «…Если немцы в Северной Италии, несмотря на все это, все же добиваются переговоров, чтобы сдаться в плен и открыть «второй фронт» союзным войскам, то это значит, что у них имеются какие-то другие, более серьезные цели, касающиеся судьбы Германии». – Прим. пер.
(обратно)1002
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, March 29, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 305–307.
(обратно)1003
Bohlen, Witness to History, 209.
(обратно)1004
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, March 31, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 308.
(обратно)1005
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, April 3, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 312, fond, 558, op.11, file 370, Stalin Papers.
(обратно)1006
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, April 4, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin.
(обратно)1007
Frank, Downfall, 111.
(обратно)1008
New York Times, April 6, 1945.
(обратно)1009
Leahy, I Was There, 342.
(обратно)1010
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, April 7, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 315–317.
(обратно)1011
Evans, Third Reich at War, 683; New York Times, Feb. 25, 1945.
(обратно)1012
Evans, Third Reich at War, 685.
(обратно)1013
Djilas, Conversations with Stalin, 110 (издание на русском языке: М. Джилас, Беседы со Сталиным, М.: Центрполиграф, 2002).
(обратно)1014
Axell, Marshal Zhukov, 138 (издание на русском языке: Альберт Аксель, Маршал Жуков: человек, победивший Гитлера, Олма-Пресс Гранд, 2005).
(обратно)1015
Khrushchev, Khrushchev Remembers, 221 (издание на русском языке: Н. С. Хрущев, Воспоминания. М.: Московские новости, 1997).
(обратно)1016
Beevor, Berlin, 147.
(обратно)1017
Meiklejohn Diary, March 31, 1945, Harriman Papers.
(обратно)1018
Stalin to Eisenhower, telegram, April 1, 1945, Harriman Papers (на русском языке: ф. 06, оп.7, п. 54, дело 683, л. 2, Архив внешней политики Российской Федерации).
(обратно)1019
D’Este, Eisenhower, 691–692; Report to the Combined Chiefs of Staff, reprinted in New York Times, June 24, 1946.
(обратно)1020
D’Este, Eisenhower, 695.
(обратно)1021
Neumann, After Victory, 133.
(обратно)1022
Greenfield, American Strategy in World War II, 19.
(обратно)1023
Khrushchev, Khrushchev Remembers, 220–221 (издание на русском языке: Н. С. Хрущев, Воспоминания. М.: Московские новости, 1997).
(обратно)1024
Churchill to FDR, April 1, 1945, in Kimball, Churchill and Roosevelt, 3:605.
(обратно)1025
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 414.
(обратно)1026
Айк – распространенное прозвище Эйзенхауэра. – Прим. пер.
(обратно)1027
King Diary, Dec. 5, 1942.
(обратно)1028
Inaugural address, Jan. 20, 1945, .
(обратно)1029
King Diary, Dec. 5, 1942.
(обратно)1030
Congressional Record (1941), vol. 87, pt. 1.
(обратно)1031
King Diary, March 13, 1945.
(обратно)1032
Roberts, Stalin’s Wars, 243 (на русском языке: И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, М.: Госполитиздат, 1953).
(обратно)1033
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, March 31, 1945, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 311.
(обратно)1034
Так в тексте; на самом деле речь идет о телеграмме от 4 апреля . – Прим. пер.
(обратно)1035
Stalin to Franklin Delano Roosevelt, April 7, 1945, in ibid., 320.
(обратно)1036
Ibid., 319–20.
(обратно)1037
Stalin’s Correspondence with Churchill and Atlee, 1941–1945, 313.
(обратно)1038
Kimball, Churchill and Roosevelt, 3:562.
(обратно)1039
Ibid., 563.
(обратно)1040
Ibid., 568–569.
(обратно)1041
Ibid., 593.
(обратно)1042
Ibid., 583.
(обратно)1043
Ibid., 618.
(обратно)1044
Stimson Diary, April 2, 1945.
(обратно)1045
Ibid., April 3, 1945.
(обратно)1046
Franklin Delano Roosevelt to Chester Bowles, March 20, 1945, Chester Bowles interview, Columbia Center for Oral History Archives.
(обратно)1047
«Выдержки из последней пресс-конференции в Уорм-Спрингсе, штат Джорджия», 5 апреля 1945 года, доступно по электронному адресу: .
(обратно)1048
Costigliola, “Broken Circle,” Diplomatic History 32, Nov. 2008, 712.
(обратно)1049
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 411.
(обратно)1050
Ibid., 412.
(обратно)1051
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 879.
(обратно)1052
Kimball, Churchill and Roosevelt, 3:631.
(обратно)1053
Ibid., 630.
(обратно)1054
Blum, Years of War, 17.
(обратно)1055
Harriman and Abel, Special Envoy, 439.
(обратно)1056
Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 322.
(обратно)1057
Бумаги «Штабной комнаты», библиотека Франклина Делано Рузвельта.
(обратно)1058
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 418.
(обратно)1059
Costigliola, Roosevelt’s Lost Alliances, 421.
(обратно)1060
Costigliola, “Broken Circle”, 712–713.
(обратно)1061
Pechatnov, Stalin, Ruzvelt, Trumen, 314 (издание на русском языке: В. О. Печатнов, Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. Документальные очерки, М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2006).
(обратно)1062
Там же, 313.
(обратно)1063
Harriman and Abel, Special Envoy, 440.
(обратно)1064
Harriman, America and Russia in a Changing World, 39.
(обратно)1065
Harriman memo, April 13, 1945, Harriman Papers.
(обратно)1066
Harriman and Abel, Special Envoy, 442–443.
(обратно)1067
Harriman to Truman, navy cable, April 14, 1945, Harriman Papers.
(обратно)1068
Pechatnov, Stalin, Ruzvelt, Trumen, 317 (издание на русском языке: В. О. Печатнов, Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. Документальные очерки, М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2006).
(обратно)1069
Письмо Сталина Гопкинсу от 15 апреля 1945 года, ф. 06, канцелярия Молотова В. М., Архив внешней политики Российской Федерации.
(обратно)1070
Hopkins to Stalin, cable, April 13, 1945, Hopkins Papers.
(обратно)1071
Pechatnov, Stalin, Ruzvelt, Trumen, 34, 35 (издание на русском языке: В. О. Печатнов, Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. Документальные очерки, М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2006).
(обратно)1072
Closest Companion, ed. Geoffrey C. Ward, 403.
(обратно)1073
Stimson Diary, April 23, 1945.
(обратно)1074
Elsey, Unplanned Life, 82.
(обратно)1075
Leahy, I Was There, 351.
(обратно)1076
McCullough, Truman, 376.
(обратно)1077
Miscamble, From Roosevelt to Truman, 120.
(обратно)1078
Gromyko, Memories, 122 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)1079
Там же.
(обратно)1080
Harriman and Abel, Special Envoy, 453–254.
(обратно)1081
Leahy, I Was There, 352.
(обратно)1082
Costigliola, Roosevelt’s Lost Alliances, 311.
(обратно)1083
Blum, Years of War, 402.
(обратно)1084
Любин родился в Вустере (штат Массачусетс) в семье иммигранта из Литвы. – Прим. ред.
(обратно)1085
Herring, Aid to Russia, 208.
(обратно)1086
Zubok and Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, 15.
(обратно)1087
Churchill to Eden, Jan. 4, 1944, Foreign Office, London.
(обратно)1088
Reynolds, From World War to Cold War, 251–252.
(обратно)1089
Truman to Acheson, March 15, 1957, in Affection and Trust, 162.
(обратно)1090
Feis, Between War and Peace, 126.
(обратно)1091
«Соглашение о процентах» – договоренность о разделе Юго-Восточной Европы на сферы влияния, которая была достигнута И. В. Сталиным и У. Черчиллем в октябре 1944 года во время московских переговоров «союзников». – Прим. пер.
(обратно)1092
Roberts, Stalin’s Wars, 221 (текст на русском языке имеется также в издании: Д. А. Волкогонов, Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина, М.: АПН, 1989).
(обратно)1093
Stephen C. Schlesinger, Act of Creation, 134.
(обратно)1094
Press conference, April 29, 1945, in ibid., 135.
(обратно)1095
«Нью-Йорк таймс», 30 апреля 1945 года.
(обратно)1096
Bohlen, Witness to History, 214.
(обратно)1097
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 320.
(обратно)1098
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 887.
(обратно)1099
«Нью-Йорк таймс», 29 июня 1945 года.
(обратно)1100
Feis, Between War and Peace 80–81.
(обратно)1101
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, The Conference of Berlin (The Potsdam Conference) 1945, 1:32.
(обратно)1102
Там же, 32.
(обратно)1103
Там же, 33.
(обратно)1104
Там же, 35.
(обратно)1105
Там же, 35.
(обратно)1106
Franklin Delano Roosevelt to Stalin, Feb. 7, 1944, in Susan Butler, My Dear Mr. Stalin, 202.
(обратно)1107
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, The Conference of Berlin (The Potsdam Conference) 1945, 1:42.
(обратно)1108
Речь идет о Мао Цзэдуне. – Прим. ред.
(обратно)1109
Maisky, Memoirs of a Soviet Ambassador, 183 (издание на русском языке: И. М. Майский, Воспоминания советского посла. В 2-х книгах, М.: Наука, 1964).
(обратно)1110
От Государственного секретаря – исполняющему обязанности Государственного секретаря, лично, без даты, бумаги Стеттиниуса.
(обратно)1111
Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 912.
(обратно)1112
Stephen C. Schlesinger, Act of Creation, 219.
(обратно)1113
“Forty– Fourth Day,” June 7, 1945, Stettinius Papers.
(обратно)1114
Stettinius Papers.
(обратно)1115
Стенограмма разговора от 7 июня 1945 года, бумаги Стеттиниуса.
(обратно)1116
Gromyko, Memories, 68 (издание на русском языке: А. А. Громыко, Памятное, М.: Политиздат, 1988).
(обратно)1117
Stephen C. Schlesinger, Act of Creation, 232.
(обратно)1118
Stettinius to Acting Secretary, June 5, 1945, Stettinius Papers.
(обратно)1119
Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). – Прим. ред.
(обратно)1120
Salisbury, Russia on the Way, 260.
(обратно)1121
Kennedy, Freedom from Fear, 857.
(обратно)1122
Roberts, Stalin’s Wars, 195.
(обратно)1123
Цитируется по изданию: «Нью-Йорк таймс», 27 июня 1945 года.
(обратно)1124
Harry S. Truman Papers, Harry S. Truman Presidential Library, Independence, Mo.
(обратно)1125
Khrushchev, Khrushchev Remembers, 221.
(обратно)1126
Stimson Diary, June 6, 1945.
(обратно)1127
Costigliola, Roosevelt’s Lost Alliances, 357.
(обратно)1128
Stimson Diary, July 3, 1945.
(обратно)1129
Gordin, Five Days in August, 46.
(обратно)1130
Rigdon, White House Sailor, 195–196.
(обратно)1131
Montefiore, Stalin, 496.
(обратно)1132
Reston, Deadline, 165.
(обратно)1133
Gordin, Red Cloud at Dawn, 8.
(обратно)1134
Montefiore, Stalin, 499.
(обратно)1135
Feis, Between War and Peace, 177.
(обратно)1136
Montefiore, Stalin, 501.
(обратно)1137
Rhodes, Dark Sun, 178.
(обратно)1138
Elsey, Unplanned Life, 90.
(обратно)1139
Levering, Debating the Origins of the Cold War, 93–94.
(обратно)1140
Costigliola, Roosevelt’s Lost Alliances, 366.
(обратно)1141
Elsey, Unplanned Life, 92.
(обратно)1142
Chuev, Molotov Remembers, 58 (издание на русском языке: Ф. И. Чуев, Сто сорок бесед с Молотовым, М.: «Терра», 1991).
(обратно)1143
Zubok and Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War, 27.
(обратно)1144
«Нью-Йорк таймс», 3 сентября 1945 года.
(обратно)1145
Stimson and Bundy, On Active Service, 643–645.
(обратно)1146
Stimson and Bundy, On Active Service, 643–645. Я признательна Фрэнку Костиглиоле за то, что он обратил мое внимание на свою книгу «Потерянные альянсы Рузвельта» (“Roosevelt’s Lost Alliances”) и в ходе бесед со мной на это заседание кабинета министров, состоявшееся 21 сентября, и на его неверное освещение в средствах массовой информации.
(обратно)1147
Notes on cabinet meeting, Sept. 21, 1945, Matthew J. Connelly Papers, Truman Library.
(обратно)1148
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1945, 2:55.
(обратно)1149
Forrestal Diary, Sept. 21, 1945, Mudd Library, Princeton University.
(обратно)1150
Matthew J. Connelly Papers, Truman Library.
(обратно)1151
Forrestal Diary, Sept. 21, 1945, Mudd Library.
(обратно)1152
Matthew J. Connelly Papers, Truman Library.
(обратно)1153
Ibid.
(обратно)1154
Ibid.
(обратно)1155
Forrestal Diary, Sept. 21, 1945, Mudd Library.
(обратно)1156
Matthew J. Connelly Papers, Truman Library.
(обратно)1157
Ibid.
(обратно)1158
Forrestal Diary, Sept. 21, Mudd Diary.
(обратно)1159
Matthew J. Connelly Papers, Truman Library.
(обратно)1160
New York Times, Sept. 22, 1945.
(обратно)1161
Time, Oct. 1, 1945.
(обратно)1162
Millis, Forrestal Diaries, 538.
(обратно)1163
Sept. 24, 1948, diary entry, in Ibid., 495.
(обратно)1164
Ibid., 95.
(обратно)1165
Isaacson and Thomas, Wise Men, 326.
(обратно)1166
U. S. State Department, Foreign Relations of the United States, 1945, 2:56.
(обратно)1167
Millis, Forrestal Diaries, 102.
(обратно)1168
New York Times, Oct. 9, 1945.
(обратно)1169
Elsey, Unplanned Life, 42.
(обратно)1170
В феврале 1946 года Дж. Кеннан в качестве советника посольства США в СССР направил в адрес госсекретаря США так называемую длинную телеграмму (объемом в 8 тысяч слов), в которой обрисовал невозможность сотрудничества с Советским Союзом и призвал правительство Соединенных Штатов решительно выступить против советской политики в Восточной Европе. – Прим. пер.
(обратно)1171
Bohlen, Witness to History, 175.
(обратно)1172
Doenecke and Stoler, Debating Franklin D. Roosevelt’s Foreign Policies, 73.
(обратно)1173
Salisbury, Russia on the Way, 260.
(обратно)1174
Бреттон-Вудские соглашения – международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции (США), состоявшейся в июле 1944 года; СССР подписал соглашение, но не ратифицировал его. – Прим. пер.
(обратно)1175
Thomas Paterson, “The Abortive American Loan to Russia and the Origins of the Cold War, 1943–1946,” Journal of American History 56, no. 1 (1969): 70.
(обратно)1176
Stettinius, Roosevelt and the Russians, 114.
(обратно)1177
Time, Oct. 1, 1945.
(обратно)1178
New York Times, March 3, 1946.
(обратно)1179
Arthur M. Schlesinger Jr., Cycles of American History,1.
(обратно)1180
Williams, Tragedy of American Diplomacy, 239.
(обратно)1181
«Советские новости», 24 сентября 1946 года, «И.В. Сталин о послевоенных международных отношениях», (1947), доступно по электронному адресу: #s7 (на русском языке опубликовано также в издании: И. В. Сталин, Сочинения, т. 16, М.: Издательство «Писатель», 1997, стр. 37–39. Ответы на вопросы, заданные московским корреспондентом «Санди таймс» господином А. Вертом, полученные 17 сентября 1946 года).
(обратно)1182
New York Times, April 13, 1946.
(обратно)1183
Interview, Aug. 22, 1946, Diplomatic History 32, Nov. 2008., Costigliola, Broken Circle.
(обратно)1184
Stimson and Bundy, On Active Service, 642.
(обратно)1185
Montefiore, Stalin, 486.
(обратно)

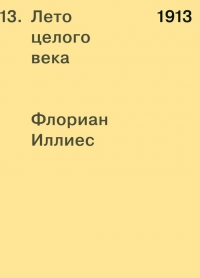

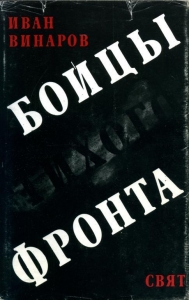


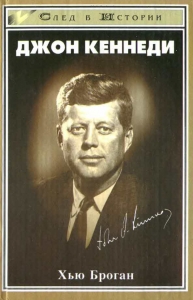


Комментарии к книге «Сталин и Рузвельт. Великое партнерство», Сьюзен Батлер
Всего 0 комментариев