Белорусский вокзал
Когда я слышу фразу «Белорусский вокзал», мне на память приходит уныло-зеленое здание, неопределенного стиля, зажатое между двумя выходами метро и обращенное полукруглым фасадом на площадь.
Архитектор Иван Струков может быть, и мечтал, и хотел построить что-то порядочное и красивое, но не удалось, поскольку строился вокзал в предвоенные годы (открыли его в 1912 году), когда Российская империя катилась к Октябрьскому закату, поэтому явно крали много и на всем экономили. Получился он и слишком приземистым и слишком коротким (занимай он четверть площади – от Петербургского шоссе до Грузинского вала – был бы монументален), а уж после строительства путепровода, который подавил всю площадь, невысокий, но расплющенный, Белорусский вокзал стал казаться каким-то маленьким сарайчиком.
Неправильная планировка площади, когда площадь оказалась выше вокзала, привела к тому, что вокзал как бы провалился в яму. И это не оптический обман! Вокзал действительно оказался внизу, за счет подсыпки грунта у Тверской-Ямской. Это хорошо заметно в дождь, когда к нему со всех сторон площади текут ручьи..
Курский вокзал тоже стоит ниже Земляного вала, но из-за своих гигантских размеров и огромной площади перед ним не выглядит настолько провалившимся. Мимо Рижского вокзала проходит путепровод, но он не так высок и не так прижат к зданию, да и сам протяженный фасад впечатляет, поэтому Рижский вокзал не выглядит «уродцем». Ну про площадь Трех Вокзалов я не говорю – это архитектурный шедевр, который не смогло испортить ни постройка метро, ни здания торгового центра.
Мало того, что Белорусский вокзал не виден издалека, так еще и вблизи его скромную архитектуру невозможно было разглядеть из-за огромного скопления людей. Не знаю куда в те годы они ездили, но вокзальные площади всегда были забиты плотной толпою. И Москва была меньше, и лимитчиков было меньше, и билеты были дорогие1, но вокзал упорно притягивал к себе массу народа. Нищие, сутенеры, спекулянты, аферисты и прочий сброд так и переливался вдоль фасада. Кого я только не видел, проходя вдоль вокзала – и будущих «челноков», а тогда – мешочников, и «среднеазиатских гостей», и хачей, и дачников, спешащих на электричку, и карманников, которые, как бы не маскировались, были заметны в разношерстной толпе цепкими, умными взглядами. Были еще и торговцы наркотиками и сутенеры, и прочие спекулянты и маклеры. Их отличало, прежде всего, постоянство места, то есть, в то время как вся толпа хаотично бурлила, они и не стояли столбами на одном месте, но кружили всегда вокруг одного и тоже «эпицентра» как привязанные.
Прибавив к этой чисто вокзальной толпе еще и тех, кто пересаживался с автобусов и троллейбусов на метро, можно представить какой хаос творился на площади под путепроводом, посредине которой стоял, уже в те времена, совершенно забытый памятник Максиму Горькому. До войны памятник окружали аккуратные подстриженные деревца, которые за годы застоя вымахали настолько, что создали вокруг памятника «зеленый щит», скрыв его от посторонних взглядов, да, заодно, и от вокзальной суеты тоже. Помимо того, вокруг него плотным кольцом стояли междугородние и экскурсионные автобусы с такси на пару, поэтому подобраться к нему было сложно.
Но оказывается на Белорусском вокзале можно было встретить не только карманников и спекулянтов. Были еще некоторые личности.
Педераст
Это была моя первая командировка.
Мы ездили в Гомель с Андреем Муховым, который в то время уходил, и от жены, и от сына, и по причине чего находился в несколько возбужденном, неуравновешенном состоянии. Я его, честно сказать, даже побаивался, поскольку загорался он от малейшей искры по поводу и без повода, а учитывая его феноменальную физическую силу, любая ссора, переросшая в драку, могла закончиться тяжкими телесными или даже убийством. Поэтому я вздохнул свободнее, когда он, севши в поезд, частыми и большими глотками в пять минут напился до положения риз и, слава богу, затих.
Наутро он отпивался холодной водой, протирал глаза, рыгал, но находился в каком-то отупевшее-безразличном состоянии, так что ни на кого не обращал внимания, а, следовательно, ни к кому не задирался. Он обращал внимание только на молодых женщин, которых на этом радозаводе было великое множество. Гомельские девки были высший сорт – глазастые, стройные да ляжкастые. Он пялился на них так откровенно и плотоядно, что многие реагировали на его призывные взоры, но… дальше взглядов у Андрюхи, почему то дело не шло. Видимо сказывался вчерашний перепой.
Руководство нам оплачивало, и плацкартные и купейные билеты. За СВ мы должны были доплачивать из собственного кармана. Конечно мы всегда ездили в дешевой плацкарте, а потом, на конечной, выпрашивали у попутчиков более дорогие билеты, чтобы немного украсть у государства себе на бутылку. Ведь в те годы, несмотря на общую несвободу, билеты на поезд были неименными.
Мне в жизни неоднократно приходилось видеть, как по вагонам шла целая вереница командировочных, собирающих купейные билетики. Иногда им помогали проводники, которые, за полчаса до прибытия раздавая билеты, спрашивали у пассажиров – нужны ли билеты тем или нет, а если кто-то отказывался, то его билет копеек за пятьдесят, а то и за рубль продавал командировочным.
Из этой командировке Андрей вернулся в Москву на день раньше, чтобы опохмелиться и протрезвиться, войдя в равновесное состояние, перед выходом на работу. Поэтому мы договорились встретиться с ним на следующий день после приезда у платформ, чтобы выпросить у прибывших билеты.
Приехав на вокзал, минут за пять до прибытия гомельского поезда, я увидел пустую платформу – поезд опаздывал на полтора часа. Андрей, конечно, с похмелья вовремя прийти не мог, поэтому мне пришлось коротать время одному и, скуки ради, я, покуривая, стал ходить взад-вперед по длиннющей платформе, на которой никого, кроме меня не было.
Неожиданно я увидел неподалеку какого-то мужичонку – невысокинького, полненького, лет пятидесяти с лишним, неплохо одетого с какой-то толсто-глупой улыбочкой на лице. Я не заметил как он подошел ко мне, а только обратил внимание на его странноватый взгляд – какой-то слишком ласковый, которым обычно мужчины не глядят на собеседников, а смотрят только на маленьких детей.
Не помню, с чего началось, но у нас завязался разговор. Кажется он спросил меня, что я здесь делаю, а я ответил: «Друга жду». Вот это многозначное в нашем богатом и могучем русском языке слово «Друг» и повернуло его в мою сторону. Скажи я, что жду своего коллегу или сотрудника, и он, быть может, не проявил ко мне никакого интереса, а слово «Друг», которым гомосексуалисты именуют своих половых партнеров, стало для него ключевым.
Он начал разговор откуда-то издалека, я сдура поддержал, и он продолжил его, расхваливая свою дачу, при этом как-то невзначай добавив, что там есть отличная сауна. Я ответил, что сауна это хорошо и приятно (поскольку в те годы сауна была редкостью).
Услышав такое он сразу стал приглашать меня к себе, приговаривая: «Давай, паренек, попаримся вместе!» Тогда-то до меня стало доходить кто передо мной и зачем. А после того, как он как бы невзначай провел рукою вдоль моих бедер и ягодиц – я точно понял, что ко мне ластится старый педераст!
Как избавиться от столь назойливого и неприятного собеседника? Звертелось у меня в голове. Первая мысль – дать ему в репу! Но в начале платформы у информационного табло маячил милиционер. Можно было повернуться и уйти, но надо было дождаться Мухова, который все не шел и не шел. А старичок, не встречая моего сопротивления, уже начал поглаживать меня по заднице, как бы примериваясь к ней…
…как вдруг, из-за здания вокзала вышел Андрей. Я понял, что это приближается мое спасение и, со словами, «а вот и мой друг», рванулся к нему навстречу, а старичок засеменил за мною. Быть может пораженный и завороженный атлетической фигурой Андрюхи. Поравнявшись с Муховым я услышал в свой адрес нелицеприятную фразу, в которой он как бы спрашивал меня, что я здесь делаю, раз объявили, что гомельский поезд опаздывает теперь уже на три часа, вместо заявленных полутора и почему со мною рядом щерится старый педик? Я только хотел ответить, но, тот выскочил вперед и стал приглашать в сауну нас, теперь уже обоих, «таких милых и очень разноплановых молодых людей».
«И как ты это терпишь» – сказал Андрей, ударяя пидара точно между глаз, после чего тот шлепнулся навзничь, пластом, даже не согнувшись в падении. Затем он толчком в спину направил меня в сторону метро.
– Ждать бесполезно – добавил он – переделаем числа на билетах или сдадим их так – авось не заметят.
– А что с этим? – спросил я, кося глазами на лежащего.
– Подметать будут – уберут – ответил Андрей со своей странной и очень неприятной усмешкой, когда у него кривился только левый уголок рта.
Я обернулся по сторонам и увидел, что мент, маячивший около табло, удаляется в сторону противоположную от нас…
Ветерана бьют!
В те годы удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны (ВОВ) открывало перед его владельцем многие, закрытые для других, двери (в основном магазинов) и давало возможность овладеть, без долгого стояния в очереди, многими чудесам науки и техники (например, к стиральной машине «Малютка», которую мечтали иметь все молодые семьи).
Большинство пользовалось этими привилегиями только для себя лично и своих близких. Но были и такие, которые превращали свое ветеранское удостоверение в источник наживы. Я сам, неоднократно, обращался к ним за помощью – и, когда надо было купить швейную машинку и, когда требовалось достать дефицитное лекарство.
В конце брежневизма, а особенно после него, когда количество и длина очередей резко возросли, во многих местах, стали появляться «помощники» с ветеранскими книжками, которые проходили (или проводили) без очереди за скромную оплату в виде (на дешевые товары) удвоенной цены. Особенно широко это развилось в билетных кассах. Благо билеты тогда были не именные.
И вот, как-то весной 1984 года, мне пришлось покупать билеты в кассах Белорусского вокзала. Я вошел в огромный, светлый от гигантских окон зал, вся противоположная стена которого, представляла собою длинный ряд кассовых окошечек из которых, по каким-то непонятным, принятым в те годы, соображениям, работало только два! Поэтому через весь зал, напоминая гигантского удава из мультфильма «38 попугаев», тянулась и извивалась огромная очередь, раздваивавшаяся только перед самыми кассами. И это еще больше усиливало сходство с удавом.
Приобретенный мною за несколько командировочных лет опыт подсказывал, что стоять не менее двух-трех часов – собственно говоря – на это я и рассчитывал. Как говорилось тогда в шутку, словами какого-то партийного деятеля: «нам не ждать милостей от природы». Поэтому я безропотно встал в конец очереди, осмотрел, постаравшись запомнить, своих соседей – на случай, если придется выйти покурить, а очередь за это время сдвинется, и стал ждать.
Ждать!
Одно из двух самых основополагающих в советской стране слов.
Присутствовать и ждать!
Два слова на которых держался весь уклад советской жизни. Присутствовать (именно присутствовать, а не жить, не учиться, не работать) надо было везде – дома, на работе, на собрании, в школе, в институте, в профкоме…
Присутствие, только присутствие и никакой деятельности.
Анюта Каменецкая называла наш МАДИ «присутствием». Она говорила: «иду в присутствие», поскольку от нас, особенно в те совершенно беспредельные андроповские времена, ничего, кроме присутствия не требовалось.
Ну, а ждать приходилось всю жизнь.
Сначала ждать поступления в школу, потом окончания школы, затем окончания института, вступления в партию, очередной должности, пенсии, смерти, некролога…
В годы застоя ценились не личные качества человека, а количество прожитых им лет (Брежнев всех клеил по себе), поэтому, чтобы заработать авторитет надо было не трудится, а ждать, ждать и ждать… К тому же, ждать приходилось во всех огромнейших очередях, как настоящих (в магазине, в кассе, в поликлинике), так и в виртуальных (не могу подобрать лучшего слова) очередях на улучшения жилья, на покупку автомашины, аккумулятора, пылесоса. Вся страна стояла в одной огромной длинной очереди и ждала… некоторые умирали, так и не дождавшись своей очереди, как деревья, стоя – например мой друг Сергей Иванович умер, но так и не достоялся до конца очереди на покупку аккумулятора в которой он стоял или вернее состоял целых три года. (В скобках замечу, что тогда приобрести новый аккумулятор можно было только сдавши старый).
Ходила такая побасенка, что вроде как Достоевский – не советский писатель – ведь он ДОСТОЯЛСЯ, а мы – нет.
Но вернемся в кассовый зал.
Ждать мне, естественно, не хотелось, но мы, совки – привычные к ожидации. Поэтому, хоть я, и заметил недалеко от входа пожилого невысокого мужчину в коричневом костюмчике с орденской колодкой на левой стороне груди и с красной книжечкой в руках, но подходить к нему не стал. А он зазывательно смотрел на каждого входящего, но никто не реагировал на его взгляды, поскольку видимо были командировочными, а им бы пришлось платить за срочную покупку пять рублей из собственного кармана, чего никому, конечно, не хотелось. Бухгалтерия такие расходы не оплачивала.
Когда я, простояв около получаса, возвращался, выйдя покурить, то заметил, что коричневый костюм уже отходит от кассы, держа в руке билет. Билет этот он передал молодому парню в джинсах, который сказал спасибо и ушел. Но, не прошло еще и пятнадцати минут, как коричневый костюм снова рванул к кассе. На этот раз ему пытались что-то возразить, напоминали о очереди, о совести, но он и слушать ничего не хотел – «я – ветеран – мне положено», и телом и руками разгребая народ от кассы.
А когда еще минут через десять, он снова направился за билетом, в очереди возникло возмущение – а имеет ли право ветеран покупать билеты без очереди каждые четверть часа?. На что он гордо ответил – сколько хочу, столько и куплю! Все замолчали и он гордо прошествовал с купленным билетом в руках к своему заказчику.
По прошествии двадцати минут он снова пошел за билетом, но теперь ему пришлось брать кассу штурмом. Стоящие особенно не сопротивлялись, но старались не пропускать его к окошку, а он, пользуясь тем, что невысок, лихо орудуя руками, все-таки пролез снизу. Хотя, когда он отходил обратно, было заметно, что он здорово устал и запыхался, но, несмотря на это, пытался сохранить бравый вид.
Зато, еще через четверть часа, подойдя к очереди он услышал в ответ: «пошел на…, обождешь…» В этот момент к окошку приблизилась компания достаточно крепких молодых парней с лицами, которые не сулили ничего хорошего. У одного был застарелый шрам на лбу, у другого несколько наколок в виде перстней. В общем – лучше было бы с ними не связываться. Но мужчина с орденскими колодками ждать не мог, поскольку его торопил заказчик, да, к тому же ему – фронтовику, не хотелось казаться напуганным какой-то шпаной. Поэтому он попытался оттеснить стоящих от окошек. Ему это не удалось, поскольку, как я отметил, ребята были крепкие. Тогда он попытался обежать очередь, чтобы подойти к окошкам с другой стороны, но и там его снова не пропустили. Он, как кошка, скреб их спины, руки, пытаясь сдвинуть с места, но ребята стояли как гранит, при этом не произнося не звука.
Еще раз обежав очередь и вернувшись на исходную позицию он воззвал к совести стоящих словами: «я имею право!», на которые не получил, никакого ответа. Поняв, что потерял контроль над кассой, очередью и билетами, он решился на отчаянный шаг – разбежавшись, нагнулся и попытался с разбега проскочить к окошечкам под руками стоящих парней. Но это ему удалось лишь отчасти – проскочить-то он проскочил, но до окошечка не добрался, а застрял между парнями так, что практически не был виден. Только задники ботинок выглядывали наружу. Ему бы сдаться и попросить, чтобы его выпустили обратно, а он, была-не-была, решил все-таки добраться до кассы. Раздались глухие звуки, какое-то смятение и душераздерающий крик: «ветерана бьют!»
Мне, да я думаю и почти всем, кто стоял в очереди, хотелось защитить этого несчастного, хилого пожилого человека, но каждый из нас хотел вернуться домой живым и невредимым, поэтому спорить с хулиганами никто не стал. Все стыдливо отвели или опустили глаза, сделав вид, будто бы ничего не происходит. Все мы, в тот момент, думали только о себе и о своем благополучии. Защита ближнего не входила в наши планы. А у некоторых даже пронеслась в голове подлая мыслишка: «а поделом тебе, гад, за мои лишние десять минут стояния» – я увидел среди стоящих несколько сволочных
ухмылок. Мне было ужасно стыдно за наше невнимание к несчастному ветерану, но трусость не позволяла… да, что говорить про трусость, сейчас, когда я пишу эти строки, я понимаю, что был даже не трусом, а подлецом.
Буквально через секунду-другую в зал ворвался милиционер, но, на его удивление в зале было все цивильно – очередь была спокойна, а кричавший стоял прислонившись к стене между двух наглухо закрытых и, по-моему, не открывавшихся с самой постройки, касс. Вот только дышал он слишком часто и прерывисто, при этом время от времени дрожащей левой рукой вытирая лоб. Правая его рука висела как плеть. Милиционер, покрутивши головой налево-направо, и, не видя никаких нарушений, вышел. Сразу же после этого к стоящему подскочил какой-то мужчина со словами: «Давай деньги назад, сука, билет купить не можешь, еще ветеран называется!»
Странно мы жили – вроде бы все стояли в одной очереди, вроде бы были прижаты плечом к плечу, а стояли – каждый за себя. Ну может еще и за своих близких. И все. На тех, кто рядом не обращали никакого внимания. Можно было подходить, убивать стоящих и никто бы не только не заступился, а даже бы и радовался, что очередь стала короче на одного человека.
Так я удостоверился, что нищета, голод и прочие житейские трудности не объединяют, а, наоборот, разобщают людей, поскольку каждый боится потерять свой кусок, исповедуя главный принцип общества дефицита – «меньше народа – больше кислорода».
Тишина и порядок
Минск в то время поражал меня своей провинциальной тишиной и патриархальностью нравов. Это ощущалось тотчас как мы выходили из дверей Минского вокзала. Внешний вид площади перед вокзалом, архитектура близлежащих зданий, все это, очень сильно напоминало наш проспект Мира, улицу Горького или же Красносельскую. Высокие помпезные здания, широкая площадь, но при всем при этом, в отличие от Москвы, – тихо и спокойно. Не скажу, что очень мало людей и мало транспорта, но все двигаются как то размерено и неторопливо. Никто не бежит, ни за уходящим поездом, ни за троллейбусом, не протискивается среди идущих, не толкается. Какая-то всеобъемлющая лень или всеобщая неторопливость, свойственная только чисто провинциальным городишкам, вроде русского Зубцова или Валдая, висела над этой «Столицей». Здесь люди, встретившись, могли пробеседовать полчаса на автобусной остановке, не поглядывая при этом на часы. Казалось что на каждом лице написано – «зачем делать сегодня то, что можно отложить на завтра».
Еще, Минск поразил меня отсутствием праздношатающихся жителей. Если люди шли по его улицам, то они шли с какой-то четко определенной целью. Может быть по делам, на работу, в магазин, в школу или детский сад за ребенком, но, ни в коем случае не просто так, чтобы пройтись-поглазеть по сторонам. Я много раз прогуливался по Минску, особенно по его центральной части и видел очень мало прохожих, особенно в дневное время. Даже в парке Горького, в самом центре города рядом с площадью Янки Купалы, днем было малолюдно. Заметилось мне, что не было, ни мамаш, ни бабусь с колясками. Встречались дети постарше, предшкольного, возраста, а маленьких – нет, не видел.
Даже вечером, когда народ возвращаясь с работы, заходил в магазины, шел в кафе ужинать, то все это не приводило к толчее. Происходило это как-то само-собой быстро и незаметно. Вышел из дома – в кафе, из кафе – домой. Все размерено. Никаких лишних движений. Раз – два, раз – два. Как в армии. Да люди могли встретится и поговорить, но стоять просто так и курить, разглядывая при этом окна соседнего дома – никогда.
В отличие от Москвы, на улицах Минска, очень редко встречались сильно пьяные люди. Подвыпившие – да, были. Причем достаточно часто. Но упившихся до «положения риз», блюющих, валяющихся на остановках транспорта, на газонах или просто лежащих поперек дороги, что повсеместно встречалось в те годы в Москве – такого не было. Не было даже и таких, которых называли «кривоходячими», «херами». Нет подвыпившие жители Минска шли достаточно ровно. И уж совсем исключение составляли выпившие дебоширы-драчуны. Одного такого мы встретили, но это был скорее анекдотично, чем опасно.
Для громкого названия «Столица» в Минске было удивительно мало автомобилей. Уж как не было слабо развито автомобилестроение тогда в СССР, но Москва, особливо в центре, была забита транспортом. А тут, по центральному (Ленинскому) проспекту, лениво двигались две-три машины. Хотя на каждом перекрестке были светофоры и, что непривычно, люди переходили улицу только на зеленый свет. За чем зорко следили местные милиционеры. Нас с Сергеем Ивановичем несколько раз они останавливали, когда мы игнорировали красный сигнал светофора, но получив достойный отпор (типа, мы московские, а ты – провинциальный мент, отстань со своей дурью или же – составляй акт и пришли мне на работу – вот уж москвичи посмеются) махали на нас рукой, как на полных отморозков. А в их «стране» такой акт действительно разбирался на общем собрании коллектива, человеку делали выговор за недостойное поведение в общественном месте. Поэтому многие считали, что лучше отдать штраф, а еще лучше – подчинится Закону и переходить улицу на зеленый сигнал светофора. Ужасно то, что после третьей поездки в Минск, я заметил за собой, что я в Москве начал переходить улицу на зеленый сигнал. Вот так на человека действует всеобщая законопослушность. Все же человек – скотинка стадная, куда все, туда и он.
Замечу, насколько неисповедимы пути господни – ведь нам тогда вся эта канитель с зеленым светом казалась большой-большой глупостью, а буквально через десять лет весь Минск, как и Москва был забит автомобилям по самое «не могу» и я думаю, что законопослушным минчанам было проще оставаться в живых, чем москвичам, привыкшим шнырять через дорогу в любое время и в любых направлениях. Возросшая автомобилизация не прощала этого.
Размах строительства
Второе, что поразило меня в этом городе – «планов громадье» – пространственный размах с котором велось строительство.
Москва всегда была скученным средневековым городом, сколь бы ее не называли «большой деревней» и что обидно – с такой же скученностью застраивалась и в новое время. Если вначале и пытались создать систему микрорайонов, то очень быстро дыры между микрорайонами заросли домами и город стал представлять сплошную застройку с изогнутыми улицами и хаотичным расположением зданий.
В Минске мне запомнился Проспект Пушкина в районе Матусевича. Проспект Пушкина – часть второго транспортного кольца – улица, сама по себе, неширокая, но жилые дома отстояли непривычно далеко от нее. Нечто подобное можно было увидеть и в Москве на Алтуфьевском шоссе в районе второй эстакады. Это хорошо, и для людей, и просто красиво, потому что не зажимает взгляд, но – мне было непривычно. Удивляли еще и большие интервалы между микрорайонами на Втором кольце. Особенно перегон над Свислочью.
Помню, как то раз, вечером, мы специально остановились там, чтобы посмотреть на город. Вдалеке виднелся яркими огнями проспект Машерова, чуть правее – Веснянка, а сзади – Нововиленская. А мы как будто бы находились в чистом поле. И вправду, левее Виленской начинался самый настоящий пустырь, тянущийся до самой Кольцевой дороги. Вокруг было черным-черно (снег еще не выпал или уже растаял). Все живое или жилое казалось страшно далеким от нас. Создавалось впечатление, будто бы стоишь на каком-то забытом богом полустанке и смотришь на город, находящийся вдали. Это ощущение усиливал тот факт, что при расширении Минска в его черту были включены и близлежащие деревни. Такое было и в Москве, но в Москве эти деревни были довольно быстро исчезли, уступив место многоэтажкам, и сохранялись только в тех местах «куда не ступала нога нормального человека». А в Минске на втором кольце было полно бывших деревень с разнообразными деревянными домиками, приусадебными участочками, где росли, то цветы, то огурцы, то картошка. Но, при всей своей патриархальности, белорусы то ли любили яркий свет, то ли жадничали – и во многих деревенских домах Минска я встречал люминесцентные лампы, заливавшие избу непривычным, магазинно-городским, ярким синевато-белым «пластиковым» светом.
В Минске строились широкие улицы и многоуровневые транспортные рязвязки. Интересно все это смотрелось при почти полном отсутствии автомобилей, но было ясно – работают «на будущее» – очень правильно. Белорусы явно смотрели вперед, в сегодняшний день. Молодцы.
Сытный город
Третье, что поражало меня в Минске, это обилие и высокое качество продуктов. Сейчас многим, особенно молодым, трудно себе даже представить, что такое – нет в продаже молока или мяса. А в те годы это было нормой. Но в Минске продукты в магазинах были, причем намного-намного вкуснее, чем в Москве. Именно там я впервые попробовал настоящий зельц – ох, это было объедение. Мой любимый продукт – сметана – там продавался практически всегда. Иногда вечером ее можно было и не встретить, но днем – завсегда была в продаже. Причем в разных магазинах она была разных заводов и, соответственно, разных вкусов. Для меня, москвича, это было удивительно, поскольку мы привыкли к одному заводу – невкусному. Сахар, мука, крахмал – эти продукты всегда были в магазинах Минска. Некоторые интересные случаи, связанные с продуктами я расскажу позже.
Без очередей
Еще один момент, связанный с магазинами это – отсутствие очередей! Что мне, москвичу, было ужасно непривычно. Как будто бы попал в другую страну, что, собственно говоря, и было. Но страна эта считалась советской, хотя не все советские «ценности» в ней присутствовали. В нашем городе за любым товаром надо было отстоять, как минимум, минут десять, а в Минске, не скажу, что очередей не было совсем, но либо они были очень короткие, либо продвигались достаточно быстро. За три года, что я ездил в Минск, я ни разу не видел, традиционных для Москвы, скандалов в очередях. Никто не толкался, не пихался, не пытался пролезть без очереди.
С одной стороны, Беларусь не испытала того «совкового» голода, который ощущала на себе Москва. Здесь люди, стоящие в очереди, не боялись, что им не хватит товара. Они просто тратили свое время. А москвичи всегда боялись остаться, как говорится, «при своих интересах». То есть и время потерять и еды не купить.
С другой стороны, жители Беларуси, во многом были европейцы в душе, и внешностью, и поведением, и мировоззрением выгодно отличаясь от нас – русских.
Товары
Минск поражал в те годы не только обилием продуктов питания, но и промышленных товаров. В отличие от Москвы, там продавалось все, хоть и понемногу, хоть и не везде, хоть иногда и по карточкам, но все же продавалось. А «модные» дорогие товары, там были практически всегда и без карточек.
В каждый приезд, я покупал в палатке у ЦУМа аудиокассеты «Сони» блоками. Когда по два блока, когда по три. И ни разу мне не отказали в покупке, наверное потому, что за ними не стояла длинющая, как в Москве, очередь, над которой, вроде « Nevermore » Эдгара По, гремело карканье пожилой продавалки: «По две в руки! Только по две!» В Минске они были по 9 рублей, а в Москве я их сбывал по 11. Навар небольшой, но все равно приятно было заработать 40 рублей. Для нас, инженеров, на окладе в 130 рублей, это была чистая полумесячная зарплата.
Наушники ТДС тоже продавались без ограничений и стоили всего лишь 25 рублей, когда на «черном рынке» в Москве их толкали по 40-50. Это было кается в магазине «Электроника». Не помню точно названия, вроде рядом с проспектом Машерова. Остался в памяти большой светлый магазин в котором мало народа и много товаров. Их я также привозил в Москву, но только по заказам – товар был не очень ходкий – не кассеты. По 35 рублей их у меня покупали, но, как-то, без энтузиазма – каждый квартал я продавал всего 3-4 штуки. Хорошие были наушники, прослужили мне честь-честью 10 лет до 1994 года, когда наша страна захлебнулась в импортных товарах. Хотя, если говорить честно, то на второй год у них потрескались амбушюры, а еще через год они стали сильно желтеть. По уму их надо было бы выбросить, но купить другие было невозможно и приходилось пользоваться вот таким, «полуисправным», товаром. А как иначе можно было жить в эпоху «тотального дефицита»?
Даже для мамкиной швейной машины «Тула», которая производилась в одноименном городе и работала так отвратительно, что сразу вспоминалась предсмертная фраза Лесковского Левши: «В Англии ружья кирпичом не чистят!», я покупал запчасти в Минске. В Москве запчастей к этой «Туле» было не сыскать. Анекдотично было то, что даже в самом городе Тула они отсутствовали, а вот в Минске на улице Червоноармейской (это я точно помню) – они были. Причем любые. Я накупил их матери про запас, который она использовала аж до двухтысячного года.
Интересно все-таки понять – только бытовые товары были в «совковый» период такие дрянные или же высокое качество советского оружия – это очередной миф, упорно раздуваемый КПССовской кликой. А на самом деле, и «калаши», и «макары», и «стечкины» (которые, к слову, почему-то отправили на длительную консервацию) были ничуть не лучше по качеству, чем тульская швейная машинка? Кто знает? Теперь, слава богу, нам на это наплевать.
Пиво разливное
Была еще одна особенность, отличающая Минск от Москвы – пиво! Да-да, обычное пиво. В Минске оно продавалось на каждом углу – не было ни одного мало-мальского кафе, где не торговали бы пивом. Где-то было только разливное, где-то, и бутылочное, и разливное, а на улицах, особенно летом, его наливали прямо из железных цистерн оранжевого цвета, таких из которых у нас, в Москве, когда-то продавали квас.
Здесь необычайно хорошо чувствовалась разница между польскоевропейской и русскосоветской культурой.
В Москве пивные именовались «гадюшниками» и очень справедливо – такая там царила обстановка! Люди из низов общества, грязные и смердящие, составляли костяк завсегдатаев «гадюшников». Грязь на столах, грязь на полу – это совершенно естественно для московского пивного зала 1984 года. Разлитое пиво, раздавленные чипсы, обрывки газет с завернутыми в них рыбьими останками. Табачный дым вперемешку с вонью прокисшего пива, запах перегара и немытого тела. Ух, какой был духман!
Ни царская Россия, ни уж тем более СССР не пытались привить своему народу культуру питья, относясь к спиртному то негативно, то безразлично, как к неизбежному злу, но не более того. Видимо, боялись власть имущие, что культура победит алкоголизм и народ задумается, что пора, в конце концов, стряхнуть с себя дурацкий колпак, который на него столько веков натягивали религия, самодержавие и крепостничество и продолжившие их дело коммунистическая идеология, тирания и паспортная система.
Русскому народу, преподносили, что пиво – это дешевый заменитель водки при опохмеле, то есть, когда денег на водку нет– выпей пива – полегчает. Простой народ не расценивал пиво, как напиток, как соус, как средство, улучшения пищеварения, помогающее размягчить пищу и скрасить обед. Не до красоты было в обществе тоталитаризма.
А вот белорусы считали пиво, по-европейски, типичным, наряду с вином, заобеденным напитком. Мне редко приходилось видеть, чтобы пиво пили просто так, за исключением очень жарких дней, когда мучила жажда. В основном, пиво пили за едой дома или в кафе.
Казалось бы всего семьсот километров, а какая разница мировоззрений, жизненных укладов и обычаев. России не повезло – она провела целое тысячелетие за «Железным занавесом» религиозных предрассудков, не идя на контакт с еретиками-католиками. Но мне кажется, что первопричиной такой изоляции России кроется в боязни русских правителей разглашения факта существования мира свободных людей, общества и общения. А религия в их руках была всего лишь инструментом отчуждения.
Кафе-столовые
Отмечу еще один момент, который мне тоже, как москвичу, был непривычен – любовь местного населения к общественному питанию. В Москве столовые, особенно заводские, назывались «тошниловками», которыми они, к сожалению, и являлись, поскольку поесть в таком заведении без ощущения тошноты было невозможно. Один запах чего стоил. Помню рабочую столовую на ЗИЛе, где я проходил практику. Б-р-р… Баландерка.
Не отрицаю – были в Москве хорошие и даже отличные кафе и рестораны, а также существовала общественная прослойка, которая пользовалась этими благами цивилизации. Но… не широкие народные массы. В русском народе, воспитанном на «Домострое» и домоткачестве, существовало, да и существует до сих пор, резкое неприятие общепита. Простой народ воспринимает кафе и рестораны, как места, где можно и нужно напиваться до одури. Все – ни о каких завтраках и обедах в России речи не шло.
Зато в Минске общепит был просто на высоте. Я посещал и фешенебельный ресторан в центральной гостинице (не помню названия, по-моему, «Минск»), и заводскую столовую, и всегда был поражен качеством кулинарии. Не скажу, что в заводской столовой был роскошный обед, нет, наоборот, была простая крестьянская пища – картофель, мясо, щи, сметана, но качество этих блюд соответствовало качеству хорошего московского кафе, куда надо было выстоять большущую очередь, чтобы попасть. (Да-да, такие были времена, что в кафе стояли очереди и достаточно долго. Помню с Анюткой Каменецкой в кафе «Космос» на улице Горького мы стояли в очереди около более двух часов). Во всех столовых, в которых мне приходилось быть, меня поражала чистота, опрятность и, главное, – вежливое обслуживание. Недаром в Москве официанток называли «халдейками», потому что официантками они не являлись. Неопрятные, а порою откровенно грязные, пропахшие табаком и перегаром, грубые и невнимательные, они могли любому привить отвращение к общепиту
Жители Минска, в отличие от москвичей, активно питались в кафе. Приехав перед началом рабочей смены на завод «Дормаш», я был поражен обилием народа в столовой (это в половину восьмого утра). Оказывается большинство сотрудников предпочитало, начать свой рабочий день с завтрака в столовой, чем мыть тарелки на собственной кухне.
По вечерам мы любили допоздна сидеть в кафе. Зимняя промозглая минская погода, да и ранняя темнота не располагала к прогулкам, а в гостиничном номере было скучно, тем паче, что ни я, ни Сергей Иванович телевизор смотреть не любили и в карты не играли. И я замечал, что остальные посетители, наоборот, подолгу не задерживаются. По всему чувствовалось, что они наспех выбежали из своего дома, чтобы перекусить и быстренько вернуться обратно.
Погода
Вот, что уж точно разительно отличало Минск от Москвы, так это погода.
Ох, как я не любил белорусскую зиму! Мокрая, промозглая, часто с сильным ветром, начиналась она, так же как и у нас, в начале ноября и заканчивалась в середине февраля, но, в отличие от Москвы, протекала без особых похолоданий и снегопадов.Три года подряд мы приезжали в Минск под Новый Год и все три раза – одно и то же – дождь… дождь со снегом… снег с дождем.. дождь без снега, но с ветром… Дождь… дождь… дождь… Мелкий… посильней… изморось, просто ливень…
Выезжаешь вечером из Москвы, на Белорусском вокзале прохладно, идет пар изо рта. Едешь, смотришь в окно – снежок лежит, все вокруг белым-бело, дым из труб деревенских поднимается. Снег искрится в свете вагонных окон – лепота! Приезжаешь утром – мокрый асфальт, сверху капает, под ногами хлюпает – ж-ж-уть! Снега почти нет, мокро, вечером город кажется невообразимо темным и пустым. Нет – пустым не кажется, он пуст на самом деле – кому охота топать по лужам.
Сколько раз в такую погоду приезжал в Минск, столько же раз привозил с собою на память «литовскую» ангину2. Если мое пребывание длилось более трех дней, то сначала я начинал кашлять, потом болело горло и в Москву я возвращался почти без голоса и температурой 38,5.
Зато весна и лето там были восхитительны. Весна приходила раньше, чем к нам, и как-то дружнее. Не было таких затяжных «откатов», которые часто случаются в Москве. Смотришь – солнышко выглянуло, потеплело, птички запели, капели зазвенели… Потом… Бац! И опять холодина, ветер, пасмурно… Ручейки замерзли, птички заткнулись, а почки погибли – обычная московская весна. Там, наоборот, как весна загорится, так и не угасает. Тепло как-то очень быстро и стремительно надвигается, я бы сказал – неотвратимо. Очень красивая, яркая весна… Мало пасмурных дней… Помню, солнце появлялось – сразу ручьи, лужи… и все это быстро высыхает, почки набухают, затем листья… и глядишь… несколько дней и все позеленело, похорошело. Красивая весна у белорусов!
Ну, лето, есть лето. Хорошо, тепло и солнечно. Благодатная пора. Хотя лето я видел только два раза. Лето – пора отпусков и в командировки мы почти не ездили.
Мне показалось, что оно ничем не отличается от Московского. Ни теплей, ни холодней, может подождливей, но дожди там какие-то незатяжные – пролился и закончился. Ветерком обдуло и подсохло.
Первое знакомство с минским общепитом
Случилось так, что мы поехали на каком-то другом поезде, чем обычно и приехали в Минск слишком рано. На завод мы пришли за полчаса до начала рабочего дня. Вдобавок у Сергея Ивановича остановились часы и мы немного потерялись во времени. Узнав от охранника, что работа еще не началась и нам еще полчаса валять дурака, скорчив достаточно кислую мину, я спросил: «А, чего это народ валит так рано? Энтузиазм и рвение… коммунистического труда…» «Э-э-э! Так вы не местные!» – воскликнул охранник – «Идите и вы побыстрее, пока работает наша столовая – позавтракаете! А то начнется рабочий день и столовую закроют. Бегите-бегите – после дороги покушать надо обязательно!» Нас, голодных, дважды просить не требовалось и мы направились в столовую. Действительно ее уже готовились закрыть, но нам повезло –- народа было совсем мало, а еды – навалом. Мы взяли себе простой крестьянский обед – щи до котлеты с картошкой – пахло великолепно, а на вкус было еще лучше. Приятно удивило наличие в продаже пива. В Москве пиво считалось алкоголем и в столовых, тем более рабочих, не подавалось, а здесь – пожалуйста. Помню, пиво было темное, бархатное с приятным, дымным, вкусом по типу «мартовского». И, конечно, моя любимая, густая, сметана. Не скажу о кулинарных достоинствах этих блюд, но это был настоящий трактирный обед. Вкусный и сытный, без шика и прикрас. Без кулинарных хитростей и изощренностей. Перец и соль – вот и все. Но, что еще надо простому, голодному, человеку, чтобы начать рабочий день.
Великолепно!
Правда, уставшие с дороги, да еще и плохо выспавшиеся под стук колес, от сытного горячего обеда и пива, мы размякли до непристойности. И нам потребовалось еще около часа, чтобы войти в форму.
Любимое кафе «Павлинка»
Ужинали мы с Сергеем Ивановичем почти всегда в кафе «Павлинка», находящемся где-то на окраине города3. Не помню по какой причине мы выбрали именно его. Может оно было недалеко от завода, а может быть – неподалеку от гостиницы. Совсем не помню. Но выбор был нами сделан правильно – кафе было приятное. Хотя мне еще запало в память название «Несцерка», но видимо мы там были всего несколько раз, поэтому никаких цельных воспоминаний о нем у меня не осталось – одни обрывки.
В кафе Минска меня всегда поражала атмосфера спокойствия и непринужденности, отсутствие табачного дыма, пьяных посетителей, чистота столов и опрятность персонала. Нет, я не хочу сказать, что все сидели чинно-трезвые, как на школьном утреннике. Да, посетители выпивали, кто пиво, кто вино, а кто и более крепкие напитки. Но вели себя непривычно, не по-русски: никто не качался, не падал, не голосил на всю округу и уж тем более не блевал и не лез в драку. Кое-кто, конечно, выходил покачиваясь, но, при этом, делал это как-то скромно и незаметно, стараясь не мешать ни сидящим ни идущим.
Было заметно, что очень многие пришли сюда поужинать (именно поужинать) после работы, некоторые, видимо, даже заходили домой, дожидаясь супругов, чтобы потом, вместе, идти ужинать. Их выделяла не по погоде легкая одежда. Было видно, что на улице они были очень-очень недолго. Они не задерживались в кафе и, быстро расправившись с едой, также быстро исчезали в дверях. Другие, явно одинокие, не торопились уходить, – все же в компании веселей, и просиживали за чашкой кофе или бутылкой пива более часа, встречали знакомых, соседей, сидели, разговаривали. Обстановка была приятная и душевная4. Мы всегда там отдыхали, и душою, и телом. Замечу, что, мне не нравилось в этом кафе только одно – отсутствие молодых одиноких женщин с которыми можно было бы познакомиться и пофлиртовать.
Зато кулинария здесь была более изысканная, чем в рабочих столовых – можно было заказать, и бифштекс, и поджарку, и мясо с карто шкой в горшочках, что очень радовало нас, голодных, москвичей.
И еще – только в кафе «Павлинка» я видел приготовление оригинального блюда – пива со сметаною – «Польского супа». Нет, в меню такого не было. Но один, пожилой уже, мужчина регулярно покупал большую кружку пива, отпивал ее. Потом добавлял туда стакан сметаны, размешивал и, не торопясь, выпивал полученную смесь.
Разбитые очки
Было бы глупо идеализировать Беларусь, будто бы она была начисто лишена «советских ужасов» в те годы. Нет, конечно, нет. Просто их там было поменьше. Хотя вот мне пришлось столкнуться с совершенно идиотской ситуацией, которая была возможна только в годы развитого социализма – я, будучи в командировке в Минске, разбил свои очки5.
Попутал меня черт забыть взять с собой запасные старые, еще школьных лет, очки с маленькими стеклами в толстой пластиковой (или как тогда по-старинному говорили: «черепаховой») оправе. Эти очки оказались «неразбиваемыми». Сколько раз они у меня падали, сколько я случайно садился на них, сбивал со стола рукой…, но, несмотря ни на что, они продолжали служить мне верой и правдой. Хотя… выглядел я в них не ахти. Маленькие стекла, казавшиеся еще меньше из-за толстой черной оправы, на моем широком лице, производили впечатление «свинячих» глаз.
Казалось – эка-невидаль, разбил одни, купи другие. Так вот нет! Нельзя было в советские годы просто так пойти и купить очки. Их можно было сделать только на заказ. А заказать очки – только предъявив рецепт и потом еще прождать две недели пока их сделают. Мрак! Советский мрак!
Рецепт, конечно, выписывал только врач. Поэтому надо было попасть на прием к врачу. А к врачу я никак не мог попасть, поскольку в Минске не был прописан. Вот такая интересная причинно-следственная цепочка советского идиотизма выстраивалась передо мною. Проще было бы подождать до Москвы, но командировка у нас была на десять дней. И ходить по улицам и работать как-то было надо. А для этого необходимы очки.
Сердобольные работники отдела вычислительной техники, к которым мы приехали в командировку, пытались найти для меня подходящие очки среди своих очкариков. Но не смогли, по причирне того, что народ там был немолодой, носивший очки «плюсовой» диоптрии, а у меня была близорукость, причем средняя. И все-таки нашелся в каком-то отделе подслеповатый молодой инженер, имеющий запасные очки прямо в ящике стола, которые он обещал с удовольствием дать напрокат, хоть до следующего нашего приезда в Минск. Я обрадовался, но зря… он действительно был подслеповат – его близорукость была слишком велика. В его очках меня качало, весь мир загибался в дугу и начинало подташнивать.
Попытки разжалобить продавщицу в отделе оптики продать готовые или заказать без рецепта очки успеха не имели. Хоть ее сердце и дрогнуло от моего страдальческого голоса, но готовых очков в магазине не было, а на изготовление, как ни крути, ушла бы неделя
Помаявшись денек без очков, как слепой котенок, я перебудоражил всех вокруг, включая и начальника отдела Берлинского – милейшего, добрейшей души человека, лет сорока пяти, который всегда, когда такая надобность возникала, приходил нам с Сергеем Ивановичем на помощь. Он дозвонился до замдиректора завода, который по своим каналам договорился с «своей» аптекой, где мне обещали продать очки.
Смешно, но факт, что я должен был прийти в аптеку с паролем «От Иосифа Самуиловича», как в каком-нибудь анекдоте про советское время. Назвав пароль в нужной аптеке, я получил желаемые очки в течение всего пяти минут. Все было здорово улажено, только гадкий-гадкий осадок от ненавистной советской системы остался на душе. С той поры, наученный горьким опытом, до бесславной кончины СССР, я всегда, в железной (!) коробочке то ли из-под чая, то ли из-под конфет (чтобы не раздавить, не дай бог) брал с собою в командировку запасные очки.
Промокшие носки
В один из приездов в Минск, случилось нам с Сергеем Ивановичем прождать своих минских коллег больше, чем полдня. Не помню, что у них там было – то ли совещание, то ли выставка, но приехав утром, мы никого на месте не нашли, а секретарша объяснила, что все будут не раньше четырех. Сидеть в здании было скучно и мы решили пошляться по городу. Тем более, что город красивый.
Отмечу один немаловажный факт. Мы приехали в Минск всего на один день, поэтому никаких лишних вещей с собою не брали. Только деловые бумаги и все. Нам предстояло провести переговоры, перекантоваться ночью в гостинице, утром подписать документы и навечер уехать домой.
Минская погода в тот день нас подвела и подвела конкретно. Когда мы преодолевали какое-то достаточно открытое пространство, неожиданно хлобыстнул дождь, да такой, что мгновенно залил все вокруг. Мы не ожидали от него такой прыти, поэтому вначале не спешили. А когда поняли, что дождь на глазах превращается в ливень, то было уже поздно. И пусть мы рванули как угорелые, козля и прыгая, меж лужами, но, и сами промокли, и насквозь промочили ботинки так, что они хлюпали у нас при каждом шаге.
Но самое гадкое было то, что мы замерзли. Дожди в нашей северной стране очень редко бывают теплыми, даже летом.
Надо было отогреться, но где?
Ну не в чужом подъезде же?
Пусть мы и достаточно часто бывали в Минске, но город, все же, знали плохо. Карты тогда были совсем примитивные – дай бог маршруты троллейбусов-автобусов понарисованы. Поэтому ходили мы по городу без карты, надеясь на собственный глазомер и подсказку местных жителей.
На наше счастье нам подвернулся кинотеатр «Современник», кот орый я тут же переименовал в «Своевременник»6, под радостный гогот Сергея Ивановича, который, как более старший, замерз сильнее. Поэтому вид теплого и сухого публичного здания привел его в неописуемый восторг. Мы зашли на уже начавшийся сеанс, сели где-то с краю на средних рядах (кинотеатр был почти пуст – время дневное, немного детворы, да старики со старухами), сняли куртки, ботинки и носки и развесили их для просушки на спинках кресел предыдущего ряда. Тепло, или скорее – духота, зала, усыпительно подействовала на нас и мы прикорнули, в надежде на то, что фильм не прервется и раньше времени свет не зажжется. Иначе зрелище будет великолепным!
Учитывая, что фильм идет вместе с журналом, почти два часа мы надеялись, что вся наша амуниция высохнет. Но оказалось не так – мои ботинки и носки почти не высохли и, хотя уже не хлюпали при каждом шаге, но были ужас какие мокрые и холодные. Запасного белья, как я уже сказал, мы не взяли, чтобы ехать налегке. Все, что у нас было, боло надето на нас. Требовалось купить новые носки, но мы то жили в «совковое» время, Купить носки тогда было непосильной задачей. И в столичной Москве это было сделать тяжело, а в отдаленном, пусть даже и близком к цивилизованной Европе, Минске еще тяжелей. В окрестных кинотеатру магазинах носки не продавались. В очередном магазине, куда мы зашли, (мы шли по какой-то центральной помпезной улице с множеством магазинов) продавщица сказала, что в ГУМе носки продаются, но, по ее мнению, по талонам, хотя, все равно, посоветовала нам съездить в ГУМ.
До ГУМА мы добрались достаточно быстро – менее чем за полчаса, хотя мне они показались вечностью, поскольку мокрые ноги на холоду, принесенному дождем и пасмурной погодой, стали коченеть. Ехать в неотапливаемом (все-таки лето) троллейбусе было труднее, чем идти, поскольку при ходьбе ноги согревались. В отделе «чулки-носки» мне сказали, что носки продаются действительно по талонам (карточкам), но, ради исключения (поскольку я не только объяснил, но и продемонстрировал создавшуюся ситуацию) с разрешения звсекцией одни носки в руки мне могут продать. Я разлился в благодарностях, и с такой скоростью сменил в магазине мокрые носки на сухие, что завсекцией разрешила мне купить еще одни, чтобы завтра я мог надеть совершенно сухие.
Вот такие милые люди. И такие страшные времена.
А ведь это был 1984 год – сорок лет с того момента, как закончилась Вторая мировая война, о ужасах которой любили вспоминать советские руководители.
Несмотря на это, разруха не только не уменьшалась, но, как чума, быстро разрасталась, уничтожая все новые виды товаров и захватывая все новые регионы. Прилавки пустели, а в обиходную речь входило похабное слово «карточки» или его благородный эквивалент «талоны»7. Но многие старики были даже довольны этим, вспоминая благодатные послевоенные годы, когда все выдаваемые карточки обеспечивали тютелька в тютельку и голод, возникший после их отмены в 1948 году.
Забытый зельц
Как-то раз, приехав в Минск в преддверии Нового Года, мы с Сергеем Ивановичем, вечерком, зашли в продуктовый магазин, находящийся неподалеку от гостиницы, и увидели там, на прилавке, зельц, и серый, и красный. Обалдеть!. Я в свои 24 года никогда в жизни не пробовал зельца, только слышал об этом продукте из свинских голов, сильно любимого немцами. Сергей Иванович заверил, что это будет настоящее объедение, если, конечно, он хорошо приготовлен. Надо было обязательно попробовать! Тем более, что я всегда возил с собою баночку горчицы. С одной стороны, я просто любил эту приправу (и до сих пор люблю), а с другой стороны, мать уверяла меня, что употребление горчицы – лучший способ не отравится при плохом питании. Насколько это, второе, соответствовало действительности – не знаю, но я, как бы, совмещал приятное с полезным. К моей радости тогда горчичные банки уже имели винтовую крышку и были очень удобны в дороге. Мы приехали в командировку на целых три дня, времени на дегустацию было выше крыши, поэтому купили небольшие кусочки одного и другого и побрели в гостиницу лакомится.
Съеденное мне невероятно понравилось. Может, сказалась бесколбасная юность или зельц на самом деле был очень хорош, теперь уж не узнаешь – его вкус я за давностью лет начисто забыл. Конечно мы решили накупить его про запас – побольше, тем более, что на носу Новый Год. На наше счастье в Минске продукты продавали без ограничений. Можно было купить килограмм, можно два, да хоть десять. Как сейчас. Никто бы не остановил.
Набив две увесистые сумки, мы потащили их на завод, поскольку в магазин могли зайти только утром. Ведь поезд отходил в семь часов вечера и после окончания работы у нас оставалось менее двух часов – время достаточное только для того, чтобы перекусив, не торопясь добраться до вокзала. А магазин был в другой стороне, как я сказал – около гостиницы. Собственно говоря – в этом ничего сложного не предвиделось – ну подумаешь сумки – донесем.
Но случилось именно так, как сказал Козьма Прутков: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить…»
Сумки наши, когда мы приехали на завод, я оставил в отделе, в холодильнике, дабы они не протухли. Да и забыл про них. Работы у нас было много, мы достаточно долго просидели с руководством отдела, потом распрощались, заметив, что подзадержались – уже скоро поезд, и, даже не перекусив, поехали на вокзал. Настроение было не очень – как всегда шел дождь – нормальная предновогодняя погода в Минске, от которой я всегда заболевал. Поэтому хотелось побыстрее в тепло, в уют, честно говоря, хотелось домой.
Мы без задержек добрались до поезда, залезли в вагон и только тогда поняли, что забыли сумки. «Ну сейчас съедим зельца, а то я жрать хочу» – начал Сергей Иванович, оглядывая купе. Но ничего, кроме своего портфеля и моей сумки на ремне не нашел. «У, еб твою мать!» – было его реакцией на случившееся. Я чувствовал свою вину, поскольку как самый молодой должен был следить за всем, за чем не успевает доглядеть старший, и по возрасту, и по званию, а я не доследил. Мне так надоела эта бумажно-словесная волокита в душном помещении, что я не чаял времени, когда это все закончится, чтобы бежать оттуда на улицу стрелой. Вот и убежал… Понимая вину, я все же оправдывался фразами типа – «Ты то же мог бы заметить, что сумок нет…» Но получалось это как-то фальшиво.
В расстройстве я, в ожидании отправления, решил выйти покурить на перрон, Сергей Иванович уныло пошел за мною – за компанию, хоть он и не курил. Мы шли длинным вагонным коридором вдоль вереницы слабо освещенных вокзальными фонарями окон, как вдруг Сергей Иванович воскликнул – «Вон твой зельц едет!» и, рассиявшись, обгоняя меня, ринулся к выходу. Я заспешил за ним и увидел, что к вагону подходит начальник отдела Берлинский с женой. В руках он держал обе наши сумки с зельцем.
Он рассказал, что после нашего ухода, открыв холодильник, чтобы достать что-то свое, заметил забытые сумки. Поскольку он не знал в каком вагоне мы поедем, то решил пройтись несколько раз вдоль всего состава – авось, либо мы заметим его, либо он нас. К тому же он предположил, поскольку знал, что я курящий, что я буду стоять на платформе. Поэтому он не волновался, что ему придется тащить эти тяжелые сумки обратно – не встретиться мы не могли. Как оно, в конечном итоге, и получилось.
Мы были очень благодарны ему за помощь. Потеряв зельц, мы лишались праздника, о котором так уже размечтались. Денег тогдамы не жалели, ведь они не давали права на покупку. Деньги были третичны, главное было – наличие товара, второе – разрешение на покупку товара, ну а денежки, а денежки – потом.
«Раздавлю, как вошь!..»
Я уже отмечал тот факт, что в Минске мы не видели в дугаря пьяных людей, а уж тем более – пьяных хулиганов, которые в Москве в то время были не редкость. Но подвыпившего дебошира однажды мы все-таки встретили.
Мы с Сергеем Ивановичем возвращались в автобусе после трудового дня на Железнодорожную улицу – где располагалась «Гостиница Коммунхоза №1, которая часто давала нам приют во время наших командировок. Автобус, номер которого я не помню за давностью лет) был почти пуст – жители сидели по домам, поскольку стояла типично минская погода – моросил мелкий холодный дождичек, было темно – зима стояла на дворе, да и времени уже было около 8 часов. Хоть свободных мест было навалом, но мы стояли на задней площадке о чем-то беседуя, когда заметили, что с последнего сидения, которое было повернуто против хода автобуса, какой-то «старичок-лесовичок» корчит нам рожи и пытается привлечь наше внимание. Не то, чтобы он был стар, просто одет он был во какие-то одежды неопределенного вида и цвета, и своим видом больше напоминал закутанную деревенскую бабу. Лицо его, покрытое глубокими морщинами, выражало нечто среднее между недоумением и непониманием. Роста он был низенького и, по-видимому, как все коротышки, необычайно хотел ощутить себя большим и сильным. Если бы он был трезв, может быть, он осознал бы смехотворность ситуации и утих, но, разогретый винными парами, он, в своих мечтаниях, взлетел, как Икар, до самого солнца. И даже – выше него. По этой причине, он решил задраться с нами – двумя здоровенными мужиками, которые, к тому же, были еще и значительно моложе его.
Сначала он просто корчил рожи, бормоча что-то себе под нос, как будто бы произносил заклинания. Но, поняв, что мы не обращаем на него никакого внимания, решил перейти к прямой атаке. «Ты, ты…» – вырвалось из его рта – «ты...» При этом свой грязный указательный палец с длинным мертвенно-желтым ногтем он направил в сторону Сергея Ивановича. Указание было ясным, даже несмотря на то, что палец «лесовичка» раскачивался в воздухе и описывал здоровенные дуги в пространстве, но центр этих фигур упорно приходился на грудь Сергея Ивановича. Павлов посмотрел на него как-то вопросительно и недобро процедил сквозь зубы – «Я?!» «Мудак!» – резко и громко пьяный и как-то резко-осторожно затих, поглядывая то на меня, то на Сергея Ивановича, в ожидании нашей реакции.
Стало одновременно, и смешно, и обидно. Если бы мы отмолчались, то этот «буян» в кавычках, сразу же, осмелел бы и обнаглел бы, приняв наше безразличие за испуг и начал бы хамить пуще прежнего. Но, как осадить такое чучело, которое как Ленин, всего метр с кепкой, да к тому же еще, и немолод, и глуп. Ну не бить же его в самом деле? Только напугать, чтобы он надолго затих. Для этого Сергей Иванович, расправивши перед ним свои богатырские плечи, размеренно оттягивая внушительной паузой каждый слог, произнес – «Раз-дав-лю… как… во-шь…» Для пущей острастки, закончив свою фразу тем знаменитым движением, которым давят гниду, со звучным щелчком. Пьяный передернулся, сначала потупив глаза, потом опустил и лицо, уставившись в пол автобуса.
Наш совместный хохот был великолепным финалом сцены.
Павлов произнес эту фразу так эффектно, что мне сразу же захотелось включить ее в свой лексикон, чтобы, так же эффектно, как-нибудь ею воспользоваться., Но сколько раз я не пытался ее повторить (а я тренировался перед зеркалом), у меня она получалась совсем тускло, плоско. Нет во мне такого артистизма!
Портвешок за 7 рублев
Однажды летом, мы шли по какой-то улице в центре города, только совершенно не помню по какой. Да дело и не в улице, а в том, что мы там встретили!
Прямо на тротуаре стоял небольшой лоточек, ломившийся от бутылок с пивом, вином и минеральною водою. В тот день было жарко и мне хотелось пить, поэтому я поспешил к нему. Выбирая минералку, (а там было что выбрать – «Ессентуки», «Нарзан», «Боржоми») я увидел ценник, который мне показался насмехательским – «Портвейн. Португалия. Цена 7 руб.»!
- Что-что?
- Портвейн?
- За 7 (!) рублей!
- Обалдели, да!
Я терялся в догадках, хотя и понимал, что раз вино импортное, следовательно дорогое, но все же это портвейн, а значит – перебор! (Хочу напомнить, что в те времена бутылка водки стоила 4=12, вино 1=90, венгерские вермуты (литр) 4=00, пиво 0=32 руб.)
Мы с Сергей Ивановичем, оба, вышли из народа, причем, хоть и вышли, но далеко от него и не ушли. Поэтому мы никоим образом не знали и не понимали, что такое «портвейн», название которого идет от страны происхождения, а не от того, что его пьют портовые забулдыги-рабочие. Мы же видели только СССРовскую подделку по кличке «портвейн», а скорее даже не подделку, а попросту говоря – обманку. Нам не приходилось пить даже массандровский портвейн, пусть и очень далекий от настоящего, но одновременно и далеко стоящий от мерзкой жижи под названием «Три семерки» или «Алушта». Мы и слыхом не слыхивали о том, что портвейн вкусный, оригинальный и дорогой напиток. Мы не знали, ни как пить портвейн, ни когда его пить, не понимая даже его отличия от вина.
Вообще, после Октябрьского переворота, эта страна8полностью уничтожила всевозможную культуру, видимо, как проявление буржуазного образа жизни, поскольку у простонародья никогда никакой культуры и в помине не было. Коммунисты не ладили с культурой, поскольку культура неразрывна с предметами роскоши9, а это не вяжется с постулатами их учения. Ну какую-то кость надо было бросить собакам? Вот и бросили – насаждали книжную культуру. С одной стороны, книги, все-таки, можно было уровнять по цене, чтобы не было слишком дорогих и слишком дешевых, а, с другой стороны, книги, уводя человека от суровых реалий жизни в призрачный мир читаемого, отвлекали от насущных проблем, не давая задуматься над сиюминутным, заставляли жить придуманной, жизнью, чужими чувствами, по законам условной логики и, самое главное, навязывали чужое мнение.
В частности, коммунисты полностью уничтожили культуру винопития. Их можно понять – дворяне пили, плебеи – упивались. Чтобы создать культуру пития надо было перевоспитать и выучить целую страну. Тяжелая задача! Проще было назвать винопитие алкоголизмом и, если не запретить, то приравнять к общественному бедствию. Сталин, как мне кажется, пытался перед войной возродить ее, судя по фильмам того времени, где вино уже пили не по-рабочему из стаканов, а из бокалов, где оно не осуждалось, а преподносилось как необходимый элемент Праздника.
Но Сталина не стало, а на СССРовский трон залезли бескультурные неучи (у Сталина было, и происхождение, и воспитание, и семинарское образование), которые губили любое проявление культуры (вспомним «плесень» и «бульдозерные» выставки), а культуру винопития поставили практически вне закона, испортив не только саму идею, но и опоганив продукты пития.
Будучи советскими людьми, мы и не догадывались, что это советская страна, превратила благородный по вкусу напиток в дешевую бурду, вырабатываемую, в основном, из плодовых отходов, для низов общества, которая по «убойной» силе превышала водку. Выпив стакан такого пойла любой нормальный человек терял ориентацию в пространстве, начинал лопотать что-то невнятное и, в общем-то, быстро валился с ног.
Поэтому в те годы слово «портвейн» было уничижительным термином. Портвеш, портик, ассоциировался с пропитым, трясущимся с похмелья рабочим, а не с благородным столом. Квадратными глазами смотрели мы на это «чудо», не зная что и делать.
- Смотри-ка» – сказал мне Сергей Иванович – неужели португальцы пьют портвейн?
- А может он и не плох? – бросил я фразу как бы в пространство, а сам подумал – Купить? Сука! Дорого!
С другой стороны, очень интересно узнать – какой же портвейн пьют иностранцы? Не собачью же мочу, как советские! Вот, если бы купить бутылку на двоих, то вроде бы каждый бутылку водки выпил! Но уговаривать Сергея Ивановича я постеснялся. Не вытягивать же с него трех рубля с лишним за невесть что.
Сергей Иванович тоже находился в смятении. Его удивляла и форма бутыли, и благородство черной классической этикетки, и корковая винная пробка (ведь наш портвейн часто закрывался пивной пробкой). По всему было видно, что ему, как и мне, хочется попробовать, но он, также как и я, жадничает.
Он еще раз взял бутылку в руки, повертел и… поставил на место. Но от прилавка не ушел. Я тоже стоял рядом не подавая никаких признаков нетерпения. Стоял и все.
В общем, мы как-то мялись-мялись возле лоточка, думали-думали, решали-решали… и решили – все-таки купить… Здесь определяющую роль сыграла бутылка – она выглядела как произведение искусства, тем самым, разительно отличаясь от наших. На что Сергей Иванович мудро заметил: «Гавно в такую бутыль не нальют!» И с этими словами достал кошелек и вынул из него трешку и рубль, добавив при этом: «С тебя трояк, но пустую бутыль мне»10.
Вернувшись в гостиницу, мы, поставив бутылку на стол, стали внимательно разглядывать ее со всех сторон. Интересно, однако!
Хотя понять ничего толком не могли – наши знания иностранных языков были очень скудными, если можно сказать, что они вообще были.
Приготовили закусь, тем более, что мы еще не ужинали и зверски хотели есть. Затем, со словами «авось не отравимся», открыли бутыль и понюхали из горла… Запах был… на удивление приятный…, что в какой-то мере даже напугало – ощущался какой-то подвох – ведь пьем-то портвеш! Разлили по стаканам, так как было принято у нас в СССР – до самого верха. Затем подняли стаканы на фоне окна, и на просвет убедились, что цвет «ихнего» портвейна не слишком отличается от нашего, только «ихний» прозрачный, а наш более мутный. Сказали: «ну, с Богом» и сделали первый глоток…
Хорошо, что не залпом! Я не знаю, какой портвейн мы пили, понимаю только, что не самый дешевый, поскольку в те годы 7 рублей приравнивалось по госкурсу к 9 долларам и за 30000 долларов можно было купить автодачу со всей обстановкой, а легковушка среднего класса стоила 10000. Это дало нам возможность ощутить вкус вина.
Нет, нет – конечно, с первого глотка мы совершенно не поняли вкуса портвейна. Единственное, что ощущалось – это совсем не то, что ожидалось. Мы пребывали в крайнем удивлении. Ведь для нас это был первый случай, когда выпитое давало какое-то наслаждение, но не опьянением, а именно вкусом.
Мы были воспитаны советской страною в духе того, что вино, пиво и водка – алкогольные напитки, необходимые только для того, чтобы задурманить себе голову. Вкуса у них, и нет, и не должно быть, поскольку главное градусы. Чем больше градус – тем лучше –крепче бьет по башке. Нам, рожденным в СССР, никогда даже не приходило в голову, искать вкус, что в пиве, что в вине, что в водке. Главным тогда было – не отравиться некачественным пойлом и захмелеть. О вкусе мы и не думали. А здесь… сказка…
Сразу смекнув, что блаженство не глушится стаканами, мы, за неимением мелкой тары, стали по глоточку цедить портвейн, негромко приговаривая – «ну, буржуины хуевы, из любого говна конфетку сделают», «во что портвейн превратили», «да… лепота…» Я покурил, заметив как изменился вкус моих сигарет, после выпитого портвейна. Потом мы выпили еще, находясь в благодушном настроении, поболтали на отвлеченные темы и как-то, незаметно, потихоньку, заснули.
Спали мы неестественно долго и проснулись на редкость отдохнувшие и полные сил, с твердым решением – пойти и купить сегодня еще одну бутылку этого «пролетарского» пойла. Пусть дорого – но живем же только раз11.
А, дальше все пошло, как в дурной сказке. Выйдя из гостиницы, мы, плюнув на завод, пошли по памяти на заветную улицу. Но никакой продавщицы, никакого лоточка нам не попалось. Испугавшись, что я перепутал улицы, мы, побегав по окрестностям, стали опрашивать местных, выходящих из соседних домов и просто проходящих мимо. Из чего выяснили, что этот лоточек здесь был! Но он появился вчера в первый раз. Ну, видимо, и – в последний.
Делать было нечего – на нет и суда нет. Мы отправились на завод, но, после работы, снова возвратились на «заколдованное» место в надежде увидеть там лоток с портвейном. Бесполезно… Лоток вместе с продавщицей, изчез так, будто бы его и не было вовсе.
В какой-то момент мы даже подумали – а не почудилось ли нам все это. Может и впрямь – черт или леший (скорей «городской») нас морочит. Водит-водит кругами вокруг да около. Может на самом деле, ни лоточка, ни продавщицы, ни вина, попросту не было.
Но в номере лежала недопитая бутылка портвейна! Значит не сказка! Значит быль! И мы решили тогда, что судьбе было угодно показать нам товар цивилизованной страны, чтобы знали мы, на что ориентироваться, дабы не опустились вконец в грязь советскую, в жизнь обманную. Вечером мы допили бутылку до конца, поболтали и завалились спать. И снова неестественно долго спали и неестественно хорошо выспались.
У нас был еще один вечер перед отъездом, который мы посвятили поиску понравившегося портвейна. Но… тщетно – ни в одном магазине его не было. Спрашивать – бывал или будет – не имело смысла, поскольку мы неместные-проезжие. Так и ушли не солоно хлебавши. Только ноги сбили.
Жаль, что я не переписал текст с этикетки, чтобы сейчас купить такой же, ну, или подобный портвешок. Как-то не досуг было. Не верил я, что настанет время и «португальский портвейн» будет продаваться в магазинах как русская водка. Слишком крепка была на вид красная диктатура. Что отойдут в прошлое «волшебные» лоточки с редкими и дефицитными товарами. Да и само слово «дефицит» канет в Лету. А хотелось было бы сейчас выпить его. Молодость вспомнить, да шефа моего, покойного, помянуть.
Зеркало
Я уже отмечал, что Минск по количеству и качеству продаваемых товаров стоял намного выше Москвы. Как говорили в те годы «в Москве в принципе все есть», да вот где найти этот самый «Принцип». А в Минске магазинов было меньше, а покупателей – еще меньше. Поэтому носиться по городу и искать какой-либо товар не имело смысла. Зашел в магазин и купил, если есть, ну, а нет – значит нет.
В то время, мой шеф, Сергей Иванович, делал у себя дома ремонт, поскольку сменял квартиру в новом панельном доме на квартиру в каком-то здании времен первых пятилеток, выиграв в площади, но проиграв в лифте (поскольку его там в помине не было), и качестве жизни (через фанерные потолки и дощатые полы зимой ужасно дуло, а при дожде текло). Поэтому ему пришлось приводить эту рухлядь в порядок. Ремонт в те годы, в отсутствии стройматериалов, рабочих и инструментов, в отличие от нынешних времен, тянулся годами. Вот и Сергей Иванович вел его уже второй год. Он был большой любитель поработать собственными руками и был хорошим мастером, делая все аккуратно и красиво. К тому же у его жены был художественный талант и они, вдвоем, создавали квартиру на свой лад и вкус.
Именно у них я, впервые, увидел стены, обитые ковровым покрытием. Прикоснуться к такой стене было на удивление приятно. Аэрографию в интерьере, я тоже увидел, в первый раз, у них. Сейчас подобное нередкость, но тогда, в 1984 году, это было необычайно и удивительно! Стены расписанные перемежающимися тонами. Выглядело это не только авангардно и необычно, но и попросту красиво
В одной комнате у них был тавернско-ковбойский стиль. Сначала шеф из найденного где-то в поле, неподалеку от дачи, тележного колеса сделал отменную люстру, а потом расписали стены по типу салуна, сделав даже раскреповку. Но остальных элементов интерьера под обстановку им явно не хватало. Это сейчас можно поехать в «Гранд» и купить мебель любого, даже самого экзотического стиля – от Тибетского монастыря до обстановки пиратского судна, а тогда – шиш!
И вот, мы совершенно случайно в Минске заходим в хозяйственный магазин, а там продается зеркало в огромной плетеной раме. В общем, такое, которое надо по стилю. Купить бы? Но трудности перевозки зеркала из одного города в другой на «перекладных» были очевидны. Поэтому Сергей Иванович, как-то менжевался – купить, не купить? И решил сначала посоветоваться с женой.
История с этим зеркалом с самого начала пошла как-то косо. Чтобы позвонить в Москву, нам пришлось искать междугородний телефон, ибо Сергей Иванович стеснялся позвонить по личным делам с завода. Но ведь мы никогда им прежде не пользовались. Мы в Москву-то почти не звонили. Так – буквально раз – Баловневу на кафедру – и все. Поэтому где находятся переговорные пункты не знали и проще было бы съездить на почтамт, чем искать переговорный пункт поблизости от магазина. На это ушло бы больше времени.
На почтамте нас, как обычно, встретила очередь из таких же командировочных как мы. Некоторые звонили семейским, а большинство – своему руководству. Поэтому разговоры были затяжные, порою на повышенных тонах. Было шумно, душно и неуютно. Время шло, а очередь не подходила.
Дождавшись кабинки, мы, как назло, никак не могли соединиться с Москвой, то занято, то нет ответа. А когда, наконец, соединились, то оказалось, что ни черта не слышно. Помню, что Сергей Иванович, то кричал в трубку, то по нескольку раз переспрашивал одно и тоже. Кошмар, в общем. Но стало ясным, что, несмотря на очевидные трудности с перевозкой, зеркало покупать все же придется.
Выйдя из переговорного пункта на долгожданный свежий воздух, мы с облегчением вздохнули, а, взглянув на часы, расстроились – пока мы ждали разговора магазин уже закрылся. Тогда, по европейскому шаблону, наши промтоварные магазины заканчивали свою работу в 19-00, и только крупные универмаги работали до 21-00. Получалось, что покупать зеркало придется завтра, но завтра мы как раз и уезжаем. Что делать? Некрасиво было бы с утра купить зеркало и потом таскаться с ним по всему заводу. Значит, надо купить его перед отъездом и сразу тащить на вокзал. Этот путь казался самым удобным, а об возможных осложнениях мы не думали и не подозревали. Единственное, что беспокоило Сергея Ивановича – не купил бы кто его зеркало раньше него!
Завтрашний день не сложился совершенно. Не помню, что там вышло, то ли вычислительная машина забарахлила у заказчика, то ли электричество кончилось – не помню! Но задержались мы с завершением работы на очень долго. И выскочили с завода, когда уже до поезда оставалось менее двух часов. Мы рванули в магазин. И тут, словно по чьему-то злому умыслу, сломался троллейбус. Проехал одну остановку и встал. Вот незадача! Пришлось стоять и ждать следующего. Вроде бы мелочь, но она уже как-то настраивала нас на не очень хороший лад. Примета, примета – дороги не будет. Стали волноваться – стоим гадаем – купил кто-нибудь зеркало или нет, купил или нет? Влезем в следующий троллейбус или нет? Он же не пустой придет! Но тут, наконец, появился троллейбус и мы, выдохнув воздух, влезли. Эх! Только бы он не сломался
Волновались-волновались, а – зеркало никто не купил! Значит не зря мы так к нему торопились. Ура! А надо сказать, что зеркало было не маленьким – само стекло более метра в диаметре, да еще вокруг него плетенка. Получался диск метра полтора в диаметре. Не хилый кусочек! В те годы упаковки не было, липкой ленты не существовало, оберточных материалов тоже. Везде все заворачивали в старые (а порой и новые12) газеты. Поэтому и наше зеркало закрутили в них и обмотали сверху веревкой, которую мы сами купили в соседнем отделе. Ладно – довезем, решили мы и, поглядывая на часы, торопливо вышли из магазина, неся в руках хрупкий предмет.
А время шло… До поезда уже оставалось около часа – вообще-то достаточно, чтобы добраться. Но, что косо началось, так косо и продолжилось – повалил мокрый липкий снег. Откуда его черт принес? Газеты намокли и стали превращаться в какой-то студень. А автобуса все не шел. Что произошло с этим дурацким автобусом? Неизвестно. Мы несколько раз ездили этим маршрутом и он ходил как часы. А сегодня – на тебе! Нет его и нет. Становилось все мокрей и холодней, на остановке народа все больше и больше, не дай бог ветер начнется, тогда вообще это зеркало не удержать. Стоически мокнем, закрывая собою его от мокрого снега.
Проходит еще минут пять и мы задумываемся – а хватит ли нам, вместе с зеркалом, в автобусе места? Или нет? И не придется ли нам еще один автобус пережидать? Тогда уж точно на поезд не успеть! Чертовщина!
Сергей Иванович кинулся ловить такси. Но, хотя таксист и соглашался отвезти нас на вокзал, да зеркало было настолько велико, что, ни в салон, ни в багажник оно не помещалось.
Ну, наконец, еще минут через пять, когда мы уже совершенно отчаялись вернуться в Москву, появился автобус, да какой! Сочлененный, с вертящейся площадкой! Таких в Минске были единицы. Это нас обнадежило, что мы все влезем и даже зеркало затащим. Так оно и получилось. Минчане – ребята компанейские – видя нас с таким габаритным грузом, расступились, чтобы дать нам встать на вертящейся площадке, у которой было одно очень большое преимущество – перила, между которыми и стенкой автобуса оставался промежуток, куда «не ступала нога человека». Вот туда мы и засунули зеркало, чтобы его не раздавила толпа. Держали с каждой стороны двумя руками. Справа – я, слева – Сергей Иванович.
У вокзала выходили почти все, поэтому мы вытащили наш груз без проблем. Быстро-быстро, через площадь, почти бегом, а это было сложно, поскольку зеркало, обладая большой парусностью, нас сильно тормозило и вертело из стороны в сторону, мы ринулись к поезду. И добрались до вагона, когда оставалось несколько минут до отправления. Вот и вроде бы все – конец приключениям! Да, нет!
В вагон влезали какие-то бабы с тюками. Нам бы постоять, подождать, пока эти мешочницы зайдут поглубже в вагон и только тогда садится. Но Сергей Иванович хотел поставить зеркало в купе до отправления, чтобы случайный толчок не застал его в проходе. Я убеждал, что торопиться не надо – поезда всегда трогаются на редкость плавно и мы, в движении, когда все угомонятся, спокойно пронесем зеркало по проходу до нашего купе. Не помогло! И Сергей Иванович, держа зеркало впереди себя как щит, полез в вагон, прямо за бабами. (Здесь надо заметить, что посадка производилась с «низкой платформы», когда, чтобы попасть в вагон, надо подняться по трем, достаточно высоким ступеням). И как назло, только вступив на площадку, одна из баб, вдруг резко повернула назад, желая что-то крикнуть стоящим на перроне товаркам и едва не сломала своей жирной задницей зеркало. «Коза, едрючая…вали…» это все, что мог и должен был сказать ей Сергей Иванович.
Слава Богу, мешочницы довольно быстро втянулись в вагон и мы успели войти в купе до отправления поезда, где засунули это дурацкое зеркало в узкую промежность между нарами и стенкой, так, чтобы оно находилось в стоячем состоянии. И… перевели дух, решив, что все уже позади, успокоились… А зря…
В Москве мы только вынули зеркало как оно с треском отвалилось от рамы. Е-к-м-н! Протащить зеркало через весь Минск, в набитом автобусе, держать его под мокрым снегом, спешить, волноваться, радоваться. И разбить его уже почти в двух шагах от дома!
К счастью, ничего страшного не случилось – мы успели схватить зеркало прежде, чем оно ударилось об пол, но все же, зацепившись за раму, оно поцарапалось оставшимся на ней клеем. Царапина была не столь велика и не столь заметна, но как же было обидно. Столько препон мы прошли, думали, что обхитрили судьбу, ан – нет! Несильно, но она ударила нас.
Потом до нас дошло, что мы, не содрав намокшие газеты, промочили соломенную раму насквозь. И клей раскис. Хорош клей – нечего сказать! Вот такая, не очень веселая история. Насколько я помню, им удалось заклеить царапину фольгой от шоколадки и она стала практически не видна.
Ты, что? Целку рвал?..
Как-то в Гостинице № 1 Коммунхоза (я пишу это так официально, поскольку меня всегда восхищали советско-социалистические названия) нам достался самый крайний номер. Нет, крайний не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Он был самым последним на этаже и боковая его стена была внешней стеной здания и отличалась по форме от таких же стен в соседних номерах – посередине нее проходила колонна каркаса здания, образуя довольно значительный выступ. Соответственно – расположение кроватей в этом номере также отличалось от соседних – колонна мешала поставить кровать вдоль стены. Но! Зеркала во всех номерах висели на одних и тех же местах! Видимо, когда гостиницу ремонтировали, сначала пришпандорили зеркала, а потом уже стали расставлять мебель. И в «крайнем» зеркало попало прямо над кроватью..
Я описываю все это так подробно, поскольку зеркало является главным героем этого рассказа.
Надеюсь, что среди читающих есть люди, которые помнят старые советские зеркала, представляющие собою всего лишь кусок стекла прикрепленного к фанерке. Никаких рам в те годы не существовало. Даже в партийных учреждениях встречались подобные зеркала. Вот и над кроватью Сергея Ивановича разместилось творение советских мастеров – тяжелое громоздкое с неровной поверхностью, придающей зеркалу некое сходство с «комнатой смеха». Пошевелишь головой – и твое лицо начнет колыхаться и колебаться. Качнешь вправо – глаза меньше, рот больше, качнешь влево – глаза больше, рот меньше. Класс! Я очень любил советские зеркала за «комнатосмехость». Поэтому Сергей Иванович и выбрал себе это место. Зеркало висело прямо над ним и его там не было видно.
Чтобы придать этому полуфабрикату вид настоящего зеркала у него сняли фаску. Такое допустимо, когда зеркало вставляется в раму. В нашем случае на раме сэкономили и все бы было ничего, не имей зеркало углов, но… наше было прямоугольным и каждый его угол представлял тонкое и острое лезвие.
Кстати, в детстве, я поражался обилию овальных зеркал. Мне, воспитанному не на правилах красоты и гармонии, а на принципах полезности и рациональности, это казалось глупым – в прямоугольном зеркале видно больше, чем в овальном! Но, пришло время и я на себе прочувствовал главное достоинство овальных зеркал – отсутствие острых углов.
Еще учась в начальной школе и играя на какой-то помойке мы отыскали старое прямоугольное зеркало в сломанной раме. Зеркало было драное: местами поцарапаное, местами облупившееся, но нам, мальчишкам, оно казалось необыкновенно древним. Для нас, тогдашних, лет пятьдесят казалось такой временной пропастью, что ее можно было бы назвать вечностью. Мы, прожив на свете менее десяти лети, еще не ощущали разницы между пятьюдесятью годами и пятью сотнями лет. Мы знали, что пятьдесят лет назад произошла революция, до этого были баре, царь, мы знали что была одна война, потом другая… Насыщенный полтинник годов, насыщенный… Поэтому мы решили, что это зеркало какого-нибудь «фон-барона» и его надо спрятать в заветном месте, чтобы, глядясь в него, тоже чувствовать себя «фон-баронами»… Здорово… Но – не получилось!
Как только я попытался поднять это зеркало, то почувствовал резкую боль в ладони левой руки. Я вскрикнул, встрепенулся и уронил его. Ну не хотело «фон-баронское» зеркало отражать рожи плебейских детей! Из ладони у меня текла кровь, да так сильно, что ребята не стали меня мордовать за разбитое зеркало, а закрутили какими-то листьями рану и погнали домой – лечиться. Там, где сходятся две фасочных стороны, образуется очень острый угол, по типу пики, порезаться о который – пара пустяков.
Так, вот – возвращаясь к тому с чего я начал – над кроватью Сергея Ивановича висело это злосчастное прямоугольное зеркало без рамки. Ну висело и висело – не мешалось. Но стоило только выключить свет как раздался крик и дикая ругань. Я включил свет и увидел Сергея Ивановича, сидящего на кровати с пальцем во рту. Он зализывал рану. «Во, блядь, – сказал он мне – стал натягивать одеяло и налетел на край этой херовины (при этом он пальцем другой руки указал на зеркало) и порезал палец». Я предложил дезинфицировать его водкой и замотать. Что мы и сделали, не отказав себе в удовольствии пропустить по третьстакашки.
Но самое потрясающее случилось утром, когда Сергей Иванович, отбросив одеяло, встал с кровати. Под ним, на простыне было громадное пятно запекшейся крови, располагавшееся очень смачно, по типу того пятна, которое можно наблюдать в деревнях на послесвадебных простынях, вывешенных на всеобщее обозрение.
– Ты, что? Целку драл, пока я спал» – скорее выкрикнул, чем произнес, я и залился долгим и громким хохотом.
Но Сереге было не до смеха. «Куда же я с такой простыней? Срам-то какой!» ─ причитал он снова и снова бегая по номеру. Заменить простыню нельзя! В те годы купить постельное белье можно было исключительно по карточкам. Выстирать также не получится! Во-первых, негде стирать, а, во-вторых, тогдашние стиральные порошки, кровь не отстирывали!
Перебрав все возможные способы, мы решили, что надо скрыть пятно, скомкав простыню, когда будем сдавать номер. И точно – все получилось как никак лучше – горничной оказалась бабушка пенсионного возраста, слепая как курица, сумевшая разглядеть только то, что белье мы не сперли. Поэтому никаких проблем не возникло. Но, в поезде, Сергей Иванович сказал мне, что ноги его, после этого, в той гостинице не будет. Мало кто поверит, что мы целку драли, скажут, что друг друга в жопу трахали. Фу! Срам-то какой!
А виною всему – халтурное советское зеркало, да наша безалаберность, что сделали плохую повязку, ну и, конечно, водка, разжижившая нашу кровь.
Догоняю поезд
Один наш выезд в Минск пришелся на начало октября, и таким образом, свой 24-ый день рождения я был вынужден провести в командировке. Поэтому я решил отметить его заранее, несмотря на расхожее мнение, что этого делать нельзя, также как нельзя заранее справлять поминки. Удачи – не будет. Но человек я не суеверный и смотрел на это «сквозь пальцы». Что ж, пришлось убедиться на собственной шкуре, что некоторые приметы, к сожалению, сбываются.
Тогда я встречался с Мариной Макаренко, симпатичной блондинкой с красивой грудью, учащейся на 5 курсе, и предложил ей, по случаю моего дня рождения, сходить в ресторан. Она согласилась, но… могла встретиться со мной только в день отъезда.
Меня это не смутило – в день отъезда, так в день отъезда! Лишь бы с ней, а когда – не важно!
Мне нравился в те годы ресторан Минск на улице Горького. Не скажу, что кухня у него была отменная, не скажу, что обстановка была шикарная. Нет – простенький ресторанчик, со стеклянными стенами, окрашенный внутри светло-серой краской, с обычными столами и стульями. Но зато без веселящегося простонародья, которое напивается до свинячьего хрюканья, без ушераздирающей музыки, как в «Арагви» и без грязных официантов, как в «Антисоветской», которых официантами-то назвать было трудно, халдеи – и только. Обстановка в ресторане царила спокойная и душевная. Никто не спешил, официанты не суетились, с одной стороны, но, с другой стороны, их не приходилось выкрикивать. Метрдотель внимательно следил за залом и стоило только махнуть рукой, как официант появлялся. Люди туда приходили, в основном, взрослые, серьезные, пообедать, поужинать, многие с дамами.
Бутылка белого вина, Марина Макаренко и вся эта уютная атмосфера стали причиною того, что только за полчаса до отхода поезда я вспомнил, что сегодня уезжаю. Надо было спешить! Опоздать на поезд я не мог! Не имел права! Поскольку мы решили, что я беру с собой всю демонстрационную часть, то есть программы, а Сергей Иванович – бухгалтерские документы. Без меня в Минске ему нечего было показывать.
Долг и мужская дружба – превыше всего, поэтом с Мариной пришлось быстро распрощаться и устремиться к вокзалу. До вокзала всего лишь одна остановка метро – вроде бы рядом, но… спускаться-подниматься. А что еще? Пешком не успеть, такси не поймать, троллейбуса пришлось бы ждать, а потом еще идти и идти до вокзала – через две улицы! Долго… долго… Оставалось – метро!
Я рванул изо всех сил к Маяковской. Ударившись о стеклянные двери, расползаясь ногами на скользком мраморном полу и скатившись вниз по эскалатору как колобок, я сел в поезд и за 18 минут добрался до Белорусской13. Оставалось выбраться наверх и добежать до поезда.
Мне показалось, что эскалатор движется слишком медленно, и я точно не успею на поезд. Было бы очень обидно потратить столько сил и опоздать. Поэтому я рванул по эскалатору вверх, проскакивая через ступеньку и расталкивая нерасторопных руками и криками «отойди!», да «пропусти!». Добежав до середины пути, я почувствовал дурноту и остановился, чтобы перевести дух. Как только темнота в глазах отступила, я снова ринулся вверх. Вокзальная площадь кишила народом, я за кого-то зацеплялся, спотыкался, задыхался, в висках стучало, в глазах отчаянно темнело, но я неуклонно продвигался к перронам.
Вот и перроны. Но где поезд? Надо было найти на табло номер платформы, а я не мог! Ведь у меня глаза затуманены от бега. Что делать? Я согнулся в пополаму, раза три глубоко вдохнул и приложил все скрытые возможности на то, чтобы понять – на какой платформе стоит мой поезд.
Нашел! Нашел-то, нашел, но прошло уже целых четыре минуты, как я вышел из метро!
Я из последних сил кинулся к поезду, на деревянных от усталости ногах. Увидев хвост состава, на всякий случай, на бегу, закричал: «Стой, стой!»
Когда я с невидящими глазами и с билетом в руке ввалился в самый последний вагон, падая от усталости на руки проводниц, поезд тронулся.
Проводницы заперли двери, а меня оставили отдышиваться в тамбуре. От усталости, я, на самом деле, не мог пошевелить, ни ногой, ни рукой, поэтому стоял около окошка, повесив голову, и пытался восстановить равномерное дыхание. На все это ушло, наверное, минут пятнадцать, потому что, когда туман в глазах рассеялся, я увидел в окне вагона платформу «Рабочий поселок».
Придя в себя, я отправился по вагонам – путь мне предстоял неблизкий. Всего в поезде было 21 вагон, я садился в самый последний поезда, а в билете значился 6 вагон. Следовательно, надо было пройти 15 вагонов. Ох! Нет ничего более поганого, чем тащится по поезду после его отправления, пусть даже через пятнадцать минут. Каждый вагон напоминает пчелиный улей. Кто-то идет за бельем, кто-то за чаем, кто-то укладывает мешки и чемоданы, в сортир стоит очередь! Кажется, что многие садятся в поезд только для того, чтобы там поссать. И вот между них, а порой и через них, мне приходилось проталкиваться, протискиваться, пролезать. Постоять и переждать это «смутное время» я не мог – настолько сильно было желание завалится на вагонные нары, вытянуть ноги и лежать.
Сколько времени я шел по вагонам – не представляю. Кажется целый час! И вот я наконец в своем вагоне! Ползу (не иду, потому что не чувствую ног) к четвертому купе, дверь закрыта…
Ну думаю – сюрприз! Набираю в легкие побольше воздуха, резко отодвигаю дверь и выпаливаю: «Что! (здесь я из приличия делаю паузу, но понятно, что я опускаю слово «бля») Не ждали!»
И тут замечаю, что на левых нарах сидит какая-то очень тихая и скромная пожилая семейная пара, с выпученными от неожиданности глазами, а на правых – Сергей Иванович, с глазами грустного котика, ложечкой помешивающий в стаканчике чай. Видимо состояние его было настолько гадким, что он не расслышал моего вопля, а встрепенулся только тогда, когда я тронул его за плечо.
Что тут было!!!
Сергей Иванович, в одно мгновение, из грустного котика превратился в разъяренного льва. Схватив то ли подушку, то ли какую папку с документами, он начал дубасить ею меня, приговаривая: «Сволочь! Бабоеб! Я его жду, проклял все на свете! Еду как дурак в Минск пустой, как барабан, а он прохлаждается с шлюхами! Заставляет меня нервничать! Сука!...». Ну и так далее, и тому подобное.
Сергей Иванович знал, что я иду в ресторан и мы договорились встретиться, ни как обычно, в метро, а уже в самом вагоне.
Бедные старички еще больше вытаращили свои глаза и вжались в угол купе – настолько сильно подействовала на них та гневная энергия, которую Сергей Иванович излил на меня.
Минут через пять его энергия наконец иссякла и он уже не злился на меня, а радовался, что я все-таки успел и теперь наша поездка не будет напрасной. Мы заказали еще один стакан чая. Я свалился на нары, вытянул ноги и стал беседовать с Сергеем Ивановичем. А пожилая семейная пара потом всю дорогу смотрела на нас не то укоряющими, не то непонимающими глазами.
Шах-Эмирова (изображаю Джеймса Бонда)
Возвращаясь из Минска в Москву зимою в купейном вагоне скорого поезда, мы с Сергеем Ивановичем вышли подышать в вагонный коридор – находиться в самом купе было невозможно – так сильно натопили вагон проводники. Считалось (а может и сейчас считается), что в поездах все мерзнут, поэтому в фирменных поездах топили нещадно. На линии Минск-Москва мне неоднократно приходилось спать, отогнув занавеску с окна, чтобы получить хоть чуть-чуть столь необходимой прохлады. Иногда, на мое счастье, попадался дырявый вагон и можно было найти у межкупейной перегородки место, откуда дул свежий ветер. Тогда путешествие было совсем не тяжелым. Когда я ездил один, я старался выбирать плацкартные вагоны, поскольку в них прохладней из-за отсутствия дверок и стенок.
Удивительно то, что многие в поездах на самом деле мерзли. Не знаю, почему мне было всегда душно и жарко. Вероятно причиной была – беспросветная молодость и жеребячье здоровье. Но в этот раз – мы, оба, перегрелись в купе конкретно и охлаждали себя, прикладывая лбы к холодному вагонному стеклу. До Москвы уже оставалось совсем немного – около часа и Сергей Иванович взял с собой чемоданчик с документами, чтобы и не возвращаться в купе.
Метрах в пяти от нас, тоже около окна, стояла молодая черноволосая женщина лет двадцати с тонкими и стройными ногами, которые бывают только у восточных женщин. Ее круглые ягодицы эффектно обтягивали, модные в то время, джинсы. Рост ее был невелик, но она, по своей стройности, казалось высокой. Когда я впоследствии подойду к ней, то буду сильно удивлен – насколько же она ниже меня. Я подолгу задерживал на ней взгляд и это заметил Сергей Иванович, сказав, что я буду полным дураком, если немедленно не познакомлюсь с ней.
Тогда в молодости подойти вот так, к незнакомой женщине и познакомиться, было для меня очень сложно. Удивительно, как молодость все усложняет или, правильнее сказать, не умеет упрощать. Вместо того, чтобы подойти к ней и сказать: «подруга у тебя отличные ноги, милая мордашка – хотелось бы с тобой познакомиться на предмет перепихнуться», я начал «Ab Ovo».
Подошел, как бы невзначай.
Для этого, я сперва прошел мимо нее на два окна вперед, внимательно! вглядывался в него целую минуту, а потом стал возвращаться назад всем своим видом говоря, что не замечаю ее. Проходя мимо, чуть-чуть не наткнулся на нее и чтобы сделать вид, будто бы я увлечен разглядыванием чего-то там далекого за стеклом, встал у соседнего окна и продолжил свои наблюдения.
Теперь, когда я приблизился на «расстояние знакомства», надо было выполнить самое заковыристое – заговорить. Для этого я сначала, как бы в пространство, сказал, что поезд опаздывает на целых пять минут. Она, естественно, не обратила на это никакого внимания. Тогда я стал повторять эту фразу в разных вариантах трагическим шепотом с методичностью автомата, время от времени срываясь с места, делая несколько шагов по проходу и снова возвращаясь к окну.
Я добился своего – после шестого или седьмого раза, она наконец повернулась ко мне и сказала: «неужели вы так торопитесь?» Здесь бы мне и надо было бы остановиться, перевести дыхание, и спокойно приступить к знакомству. Но ее лицо было настолько нежно и прекрасно, что я потерялся. Я забыл все и вообще – того, что хотел. А ведь я хотел познакомиться. Но вместо этого меня понесло и совсем не в ту сторону, в которую следовало. Не мог я так просто заговорить – надо было поддать туману. И я поддал!
Я начал тихим голосом, поминутно оглядываясь, как бы боясь что меня подслушают, рассказывать ей о том, что сильно тороплюсь, но скорее даже не я, а мой руководитель. При этом я краем глаза махнул на грустно смотревшего в окно Сергея Ивановича с чемоданчиком в руках. Я понимал почему он грустит – еще бы – бросил друга, променял на бабу, треплюсь здесь вовсю, а ему даже и поговорить не с кем.
Дальше пошел обстоятельный рассказ о том, что мы везем очень важные документы, которые срочно нужны в Москве, а поезд опаздывает. Где-то в глубине души в тот момент я ойкнул, подумав, что если мы так торопимся – зачем же едем поездом, а не летим самолетом? Но не увидев на лице своей собеседницы ни вопросительной гримасы, ни усмешки, продолжил врать дальше.
Чувствуя, что меня уж очень сильно заносит, что надо бы повернуть разговор в более реальное русло, я на минуту замолк… но, к сожалению, по юношеской горячности, не смог остановиться. Ведь это был первый случай в моей жизни, когда я действительно забивал женщине баки. И она мне, похоже, верила.
Ощущение того, что мне верят, придало сил и толкнуло на новое и новое вранье.
Мы превратились в дипломатических работников среднего звена. Но сообразив, что я не знаю ничего о дипломатической работе, не представляю даже дипломатических рангов, кроме пресловутого посла-осла-осла, осекся…что-то перехватило мне горло. Наверное страх того, что я теряю линию вранья, что начинаю путаться. На этом месте мне б остановиться и перейти к знакомству. Но… как всегда в жизни, сказанная однажды ложь никогда не породит правду. Пришлось, изворачиваясь, городить, городить и городить… Я договорился чуть ли не до Джеймса Бонда. Сам не помню, что врал. Наверное чувство стыда стерло этот ужас из моей памяти, чтобы впоследствии мне не было стыдно за свое поведение, а только смешно.
Девица слушала мои фантазии без усмешки и ни разу не прервала меня, могущим поставить меня в тупик, вопросом. Я врал, врал. Врал, как вдруг, неожиданно, фонтан лжи иссяк и я резко примолк, не зная, что еще наврать.
Это было очень кстати, поскольку теперь могла говорить она. Не обращая внимания на мою гоп-прелюдию, она по-простецки рассказала о себе. И выяснилось, что ей почти уже двадцать лет, работает она в детском садике, неподалеку от парка Челюскинцев в Минске, что она замужем за дагестанцем и у нее полуторагодовалая дочь. А едет она в Подмосковье в войсковую часть на побывку к мужу. И служить ему еще более полутора лет. Девица была очень прагматична и, решив, что если я, затуманенный своим враньем, еще ничего не понял из того что она мне сказала, добавила, что скучает в одиночестве поскольку все приятели разбежались, так как муж-дагестанец обещал зарезать каждого, кто хоть даже посмотрит в ее сторону, в его отсутствие.
Девица все ясно мне изложила, после чего требовалось записать ее телефон или, там, адрес и распрощаться. Но я, видимо от успеха (победа с места в карьер), совсем потерял голову и продолжил врать (что меня, дурака, в конце концов и сгубило). Я похвалился, что у меня фотографическая память и мне не нужно ничего записывать – достаточно только увидеть и это запомнится на всю жизнь. Услышав такое, она не удивившись, раскрыла паспорт показалв имя, потом перелистнула страницы до прописки, в довершении назвав номер домашнего телефона и детского сада, где она работает.
В это время поезд сбавил скорость и стало ясно, что через несколько минут мы приедем. Я, полушепотом, сказал: «до встречи через три месяца» и направился к Сергею Ивановичу, который с нетерпением ждал меня.
Пока мы шли по платформе и спускались в метро я все рассказывал и рассказывал, что я городил этой девице и даже сам смеялся над собственным враньем. Мне кажется, что я, от счастья, повторил ему это дважды. Меня распирала гордость – ведь получилось-то закадрить девицу. Вот какой я! Дон Жуан, не иначе, однако! Но, когда мы пришли на Белорусскую и нам надо было садиться в разные поезда, Сергей Иванович спросил меня, не пора ли мне записать на бумажку адрес и телефон. А то, не дай бог, за три месяца забудешь!
И тут меня, как серпом по яйцам! Я забыл! Забыл все, что она мне говорила, что прочел в ее паспорте! Забыл начисто, пока бахвалился своей легкой победой. Запомнилась только фамилия «Шах-Эмирова» и все. Даже имя и то вылетело из головы. Пиздец! Я прекрасно помнил все то, что наврал ей, но ни одного ее слова не запомнил! Глухарь на току! Иначе не скажешь! «Глухарь» – упаднически вымолвил я, покраснел и затих.
Я понимал, что лучше было бы мне на месте провалиться сквозь землю, Дон Жуану, хренову. Никогда я не чувствовал себя таким идиотом, выставленным на посмешище, будучи то, что называется «по уши в дерьме». Сергей Иванович, конечно, любил меня и обижать не хотел, но комичность ситуации не давала ему возможности сдержать ухмылку. «Иди, мудак, догони ее! Куда она едет в войсковую часть? На электричке? На автобусе? С какого вокзала?» – твердил он мне. Я его не слушал. Зачем мне это! Я, так упивался своим враньем, что не спросил ее об этом. Я не знал, ни куда она едет, ни на чем, ни с какого вокзала. У меня оставалась только одна маленькая надежда разыскать ее в Минске.
Но она не сбылась. На адресное бюро уповать было не чего. Я знал только фамилию и возраст. По таким скудным данным искать не стали. Я попробовал обойти детские сады в районе парка, но, к сожалению, нигде такая не нашлась. Быть может я не все садики обошел, поскольку перечня у меня не было и я просто ходил, как дурак, спрашивая у прохожих «где здесь детский садик?» А может фраза «рядом с парком Челюскинцев» имела совсем иной масштаб, чем был выбран мною.
Так и остался я от своей глупости, похвальбы и хвастовства и, еще конечно, от юношеского максимализма и неумения не только знакомиться с женщинами, а просто от неумения общаться, без сладкого. А какие стройные у нее были ноги… у-у-у…
Но, когда я начал плакаться об этом Сергею Ивановичу, он успокоил меня одной очень простой фразой: «Ну теперь тебя точно никакой муж-дагестанэц нэ зарэжэт!», закатившись при этом от хохота.
Теннисный матч
Как-то раз, перед нами закрыли двери всех гостиниц из-за республиканского съезда КПСС. И нам ничего не оставалось, как поселится в гостевой комнате заводского общежития, расположенной на втором этаже. Получив ключи у вахтера, мы прошли к лестнице через огромный полутемный холл первого этажа, в котором стояло только несколько кресел и два стола для настольного тенниса. Две пары играли, а еще двое или трое парней стояли рядом. Все были настолько увлечены, что не обратили на нас никакого внимания, а может просто и не рассмотрели нас в темноте, поскольку лампы были включены только над столами.
Поднявшись наверх и покидав сумки на пол, мы решили отдохнуть, развалившись на кроватях. Я попробовал почитать какую-то дежурную книгу (а я всегда брал с собою в дорогу что-нибудь тупо-классическое, вроде Льва Толстого, Тургенева или Островского, которое, будучи все-таки интересным, не захватывало бы меня настолько сильно, чтобы от книги нельзя было бы оторваться), точнее – стал тупо смотреть в нее, с усталости, с трудом разбирая буквы. Это было не чтение, а видимость чтения, но она заставляла пребывать в относительном покое и тело отдыхало. А вот у Сергея Ивановича явно не получалось отдыхать. Он никак не мог найти себе удобного положения – то вертелся с бока на бок, то вставал с кровати и поправлял постель, а потом снова ложился. В общем, вел себя так, будто бы был чем-то обеспокоен.
Здесь следует отметить, что Сергей Иванович очень любил настольный теннис. Я слышал, что в студенческие годы он занимал места на первенствах, но какие и на каких соревнованиях – не знаю. Для меня это были «дела давно минувших лет» и я многое пропускал мимо ушей. Но дело не в этом – важно то, что он был великолепным игроком, несмотря на свою полноту, на которую часто ловились многие самоуверенные игроки. Они не представляли, что такой толстяк сможет порхать вдоль стола и его невозможно будет не то что обыграть, а даже попросту измотать. Поэтому подобные типы вступали в игру с легкой ухмылкой, а завершали, с закушенной от обиды, губой.
По всему было видно, что шеф не желает валяться на кровати, а хочет размять руку в настольный теннис.
- Как ты думаешь – нас побьют? – обратился он ко мне.
- За твой выигрыш – да, за мое поражение – нет – ответил я.
А что я мог еще ответить? Я не сомневался в том, что какие бы сильные игроки здесь не были, Серега разложит их как котят. Ну, а я? Может быть и смогу у кого-то выиграть, а может – проиграю всем.
Сергей Иванович встал и прошелся по комнате. Лицо его было мрачным.
- Побьют, побьют» – сказал он – «молодые горячие…»
И снова заходил взад-вперед по комнате.
Он так долго мучился раздумьями, что наконец-то зацепил и меня. Мне захотелось покидать шар с местными. Даже усталость куда-то сама собою улетучилась. Меня уже не волновало – побьют-не побьют, проиграю-выиграю, главное было – показать себя, посостязаться силою. Ведь не дело для молодого мужчины, сидя весь вечер в комнате, читать книгу – ну разве это отдых. И я решил поднадавить на шефа – сыграть на его гордости.
- Ты что? Боишься проиграть? – нахально спросил я, когда он, погруженный в свои мысли, очередной раз прошел мимо меня. – Не бздил бы – давно бы уж играл!
Павлов побагровел. «Что ты брешешь, сучок!» – выпалил он – «пойдем»! И рванул к двери, схватив с тумбочки ключ. Класс… Получилось отменно – два раза его распалять не пришлось – завелся с пол-оборота.
Мы спустились в полутемный холл и вначале просто постояли рядом и посмотрели на две игры. Играли не скажешь слабо, ну и не так сильно. Так скажем – средне, поближе к слабо. Расклад был ясен – Серега обыграет всех, да и я смогу треть партий выиграть.
Скоро ребята, заметив нас, стали вопрошающе оглядываться. Пора было подписываться на игру. И ясно, что это дожжен был сделать я.
- Ну что? Сыграем!» – развязно, по-жигански гнусаво, начал я, при этом встав между столами и, опершись руками о края, стал немного покачиваться. – А то грустно как-то в номере сидеть.
- Давай, если умеешь!» – последовал ответ.
Мы встали к столам таким образом, чтобы видеть друг друга.
У меня игра складывалась отлично. В том смысле, что бить меня было не за что. Хотя я и оказывал сопротивление, но перевес был явно на стороне моего противника, что его, естественно, очень радовало. А вот у Сергея Ивановича дела шли, в этом плане, не столь благополучно – он выигрывал и выигрывал конкретно. Пока я вел одну партию, он сменил уже трех партнеров. С одним парнем игра была вообще очень коротка. Его подача – щелк и парень идет за шариком. Подача Сергея Ивановича – парень идет за шариком. Получалось, что нас все-таки будут бить.
К тому же, я, каким-то образом, с минимальным перевесом, но свою партию выиграл. А Сергей Иванович остался без соперников, потому что тот, который проиграл мне не собирался с ним играть.
- Все, пиздец! – сказал парень, который пустил нас поиграть –
Пойдем за Рябым и Костиком. После этих слов все как-то разошлись по темным углам зала и притихли. Игра остановилась. Я мигнул шефу – «Ну, держись, сейчас начнется!»
Первым появился Костик, он сам нам так представился.
- Ну, че? Поиграем?» – озорно выпалил он прямо в лицо Сергею Ивановичу, вертя пальцами шарик. Парень был совсем молодой, моложе меня, видимо, только что пришедший из армии. Телосложения крепкого, роста высокого и, как говорится, руки как грабли. По виду – серьезный игрок.
Сергей Иванович неторопливо пошел к столу с каким-то «нейтральным» видом. По его лицу было не понять – хочет он играть или нет, опасается ли он соперника или нет, рассчитывает на легкий выигрыш или на поражение. Он умело скрывал свои мысли и настроение, что заставило соперника заволноваться.
Поэтому Костик, чтобы прощупать что его ждет (ведь игры шефа он не видел), набравшись наглости (все-таки Сергею Ивановичу было уже под сорок), ухмыльнулся и сказал, как плюнул: «Может форы, дать».
- Себе – процедил сквозь зубы Сергей Иванович с каменным лицом – себе возьми…
Воцарилась тишина – дело шло к драке. Все молчали.
И тут, как-то совсем по-мальчишески, неуверенно, Костик спросил – Ну играть-то будем?
- А-то – парировал Сергей Иванович – Моя подача.
Видимо Костик считался здесь лучшим игроком (забегая вперед, скажу, что через полчаса, он притащит Рябого со словами – «не выиграешь, так хоть поучишься – такой мастак!») потому, что все окружили стол и стали смотреть.
Сергей Иванович, показал ребятам класс игры. И хотя Костик был упорный соперник (я с ним и играть не стал – не имело смысла) и сопротивлялся на славу, но все равно проиграл.
- Вы очень хорошо играете – произнес Костик, закончив партию. Осознание собственного поражения заставило его резко перейти на «Вы». Он почувствовал себя уже не рядом с соперником, а рядом с тренером. «У вас интересные приемы...» – потянул он – «а давайте еще сыграем».
В общем, гоняли они Павлова больше часа, так, что он под конец и ног не волочил. Как я уже сказал, привели и Рябого, который как-то сразу резко проиграл и затих. А Сергей Иванович, поскольку устал и играть уже не мог, и ему, и всем остальным показывал некоторые приемы игры в настольный теннис.
Вечер прошел – лучше не придумаешь, хотя мы и устали как собаки, но вокруг присутствовало какое-то ощущение праздника. Нет не победы, а именно праздника, потому что я, к примеру, выиграл меньше, чем проиграл, но зато смог применить свой любимый прием – пустить шарик вдоль сетки от одного края стола до другого, таким образом, что пытаясь его перехватить, противник, ударился животом об стол.
Мы перезнакомились, рассказали, что приехали из Москвы в командировку на завод Дормаш. Ребята как раз работали на этом заводе. А а когда уже собрались уходить, то нас спросили – «А завтра? Сыграем?» «Конечно, мы здесь на четыре дня» – ответили мы.
И так все вечера мы проиграли в холле общежития. Хорошие ребята – приятные воспоминания. Им теперь уже по пятьдесят, так же как и мне. Интересно помнят ли они нас и эти наши матчи.
Чуть не задушили
Однажды, возвращаясь домой, мы приехали на вокзал задолго до отправления поезда, зашли в купе, положили свои немногочисленные пожитки под нары и стали ждать отправления. Как говорят – ждать и догонять – ничего хорошего. Хотя в догонянии есть еще какой-то азарт, какое-то волнение «поймал–не поймал», а в ожидании нет ничего интересного. Скука смертная. Затаиваешься, как охотник в лесу, и ждешь. Секунды, минуты, часы проходят, а ты, словно окаменел, ты уже не понимаешь сколько прошло и сколько еще осталось – времени не существует, тебя не существует, все вокруг перестает существовать, остается только ожидание.
Чтобы немного развеяться я пошел в тамбур покурить. Сергей Иванович не курил, поэтому я отправился в одиночку. Вагонный опыт подсказывал, что поездах, как раз перед отправлением, в тамбуре собирается компания командировочных, которым совсем нечем заняться. Для них постоять, покурить, потравить байки – именно то, что нужно. За разговорами время летит быстро. Не заметишь – уже и спать пора. Поспал – а там утро – кому домой, кому – на службу.
В таких компаниях знакомились, чтобы расстаться навсегда через несколько часов, рассказывали друг другу то, что не рассказали бы и близкому другу, говорили, и правду, говорили и ложь. Но больше всего делились тем, кто где жил или откуда приехал, про то, где побывал и что повидал. Для молодого человека, коим я был тогда, такие беседы были очень и очень полезны и познавательны. Пусть во многих рассказах присутствовала доля вымысла, но все равно, они содержали то, что шло, как говорится «из первых уст», не приукрашеное или морализированое пером книжного борзописца.
Итак, я вошел в тамбур, где стояло и курило уже человек шесть. Все они были значительно старше меня. Младшему, на мой взгляд, было около сорока, а старшему вероятно за шестьдесят. Табачный дым стоял плотно, как говорится, топор можно было вешать. Но, несмотря на это, завязался какой-то увлекательный непринужденный разговор, то ли про вечно мокрую минскую погоду, то ли про жизнь командировочную.
Время понемногу шло, сигарета скуривалась… И вдруг в тамбур вошел мужчина очень неопределенного возраста. По одежде и движениям, он был похож на молодого, если только чуть-чуть постарше меня, но лицо его худощавое, желтое и, я бы сказал, изможденное, наводило на мысль о значительно старшем возрасте. В разговор он как-то не вклинился – сказал что-то пару раз очень кратко и отрывисто, а продолжить не сумел – разговор пошел мимо него. Видимо поэтому он стал привлекать к себе внимание не словами, а жестами и гримасами, как малолетний ребенок в компании взрослых, говорящих на свои «взрослые» темы. Но ему опять никто не уделил внимания, поскольку, то о чем он пытался сказать, никакого интереса ни для кого не представляло.
И вдруг он резко сел на пол. Все замолчали, глядя на него. А он сидел в середине круга, который образовали мы, стоя в тамбуре, сидел, молчал и улыбался какой-то загадочной улыбкой, которой улыбаются только малые дети, глубокие старики и безумцы. Стало ясно, что парень не в себе, но обижать его и прогонять никому не хотелось, поэтому разговор продолжился опять помимо него. Этого он не стерпел, вскочил и, прихлопнув по большому животу самого старшего из нас, сказал – «Толстый! Дай курнуть!». Тот стоял и как-то уничижающе смотрел на парня, видимо соображая, что делать. Выбросить его куда подальше или пожалеть идиота. Выбрав второе, он дал ему сигарету, но парень резво повернулся на одной ноге и, обратившись к высокому худому мужчине, сказал – «Дылда! Дай огоньку!»
Стало ясно, что добром от него избавиться не получится. А я, как самый молодой, и горячий, решил закрыть этот вопрос. Поэтому, правой рукою повернув его за плечо лицом к себе, сказал – «Негоже, так себя вести со старшими! Извинись!» Он молчал, глядя на меня каким-то безмозглым взглядом, словно не понимал, что происходит и чего от него требуют. Глаза у него были такие пустые, что казалось сквозь них можно было увидеть внутреннюю стенку его черепа. Какой-то гадливый холодок пробежал по мне от этого.
И тут случилось то, чего я меньше всего ожидал – он поднял свои руки и не спеша направил их к моей шее – я понял, что меня собираются задушить. К удару я был готов, но не к удушению. Резким ударом изнутри кольца его рук, я попытался раскидать их, но не тут то было – мои руки стукнулись об его, но не сдвинули их ни на сантиметр. Оставалось одно – попытаться удержать его руки до тех пор, пока остальные его не нейтрализуют.
Меня поразило то, что я совершенно не мог противостоять ему, казалось, что я изо всех сил борюсь не с человеческими руками, а с какими-то холодными железными трубами, которые медленно, но уверенно сжимают мое горло. Его руки были какими-то мокрохолодными, тем самым усиливая сходство с металлическими трубами и производили такое же неприятно-отвратительное чувство, как будто бы это была лягушка или жаба. Я понимал, что против такого мощного противника продержусь несколько секунд – не более.
В спасении я мог уповать только на тех, кто стоял со мною рядом. Сам себя я спасти уже не мог. Какое сопротивление, когда я еле-еле удерживал натиск его рук. Я не мог даже ударить ногой от страха пошатнуться и потерять контроль над его руками.
Секунды шли, тек пот по спине, я еще сопротивлялся, но чувствовал, что мои силы были уже на исходе… И тут – началось. Я только успевал считать удары. Первый удар в ухо провел тот самый толстяк, у которого парень просил закурить. Глухо – голова качнулась туда-сюда, но сразу же выпрямилась, ослабления его рук я не ощутил. При следующем ударе парень харкнул на меня кровью из разбитого рта, но рук не ослабил. Удар, еще удар! Ничего – хватка не ослабевает… При пятом ударе он опять оплевал меня кровью. Я смотрел на него – все лицо было залито кровью, и верхняя, и нижняя губы – начисто разбиты, из уха текла кровь, кровью был даже забрызган его лоб и все равно – железная хватка. И взгляд ничего не видящих глаз сквозь кровавые подтеки.
Шестой удар… – руки обмякли и он повалился на пол. Рядом с ним на пол сел и я – стоять просто не было сил.
Потом пришел вокзальный мент и, обнюхав парня, сказал, что он наркоман и что мне крупно повезло, что рядом было столько сильных мужиков. Наручников у мента не было и проводница дала ему веревку, которой связали руки и ноги парня. Потом подъехала санитарка и его забрали. Когда его выносили он уже очнулся, но видимо кураж из него вышел, потому что глаза его стали совсем другими.
Я посмотрел-посмотрел, пошел умыться, покурил еще, а тут и поезд тронулся, а я пошел спать – сил у меня больше не было.
Сергей Иванович удивился, где я так сильно охрип? Вроде бы не холодно! А я рассказал ему правду только через день, когда ужас от происшедшего выветрился из меня.
Сотрясение мозга
Во время одного из летних приездов в Минск, Сергей Иванович предложил мне съездить на денек-другой к его тетке, проживавшей почти на границе с Россией, под городом Оршей. Обремененый семьей, двумя малолетними детьми, он редко приезжал на свою историческую родину – в Белоруссию. Отчасти из-за того, что приезжать туда всем кагалом и стеснять семью сестры своего отца он не хотел, а одного его – жена не отпускала14.
Позвонив на кафедру, Сергей Иванович, по-наглому, сослался на неизвестно откуда взявшуюся, в такой, в общем-то теплый сезон, температуру – быть может от выпитой с устатку холодной воды и попросил продлить командировку на два – максимум три денька, дабы не ехать больным и разбитым в Москву. Обратных билетов у нас действительно не было и, уезжая, нам пришлось бы весь вечер носиться по перрону в надежде на подсадку или тащиться на «перекладных». Не знаю поверил ли Владилен Иванович тому, что мы ему наплели или нет, но остаться на три дня разрешил без вопросов. Хороший был начальник – понимал, что мы, в СССР, живем ниже некуда и поэтому казенных денег на своих сотрудников не жалел. Какая ему разница – сколько заплатит государство за нашу поездку: на двадцать рублей больше или на двадцать рублей меньше – не его же деньги. Зато подобные случаи значительно усиливали нашу любовь и уважение к заведующему кафедрой. К тому же мы все чувствовали себя как бы обязанными Владилену Ивановичу и отказаться, например, от какой-то его просьбы, пусть даже личной, уже не имели никакого морального права. Рука – руку моет.
Обрадовавшись выпавшей нам удаче, мы кинулись на автовокзал, чтобы купить билеты на автобус до Орши. Нам повезло – ждать отправления оставалось совсем недолго – чуть больше часа и мы скоротали это время, прогуливаясь вокруг автовокзала.
Мы решили садится в автобус последними, поскольку практически все пассажиры были мешочники с огромными тюками-баулами. Точно так же как российская деревенщина за всем чем можно ездила в Москву, белорусская деревенщина ездила в Минск. Не хотелось находиться в салоне, когда они таскают взад-вперед свои мешки и закидывают их на полки, можно сказать, тыча ими тебе в лицо. Когда до отправления оставалось несколько минут мы отправились искать свой автобус и достаточно быстро нашли его, но, к сожалению, посадка еще не закончилась.
Рядом с дверью автобуса стояли три толстые пожилые бабы с кучей баулов, которые они никак не могли пропихнуть в узкую дверь Львовского автобуса. Не знаю, какая это была за модель, наверное очень старая, поскольку я очень редко видел автобус, где передние двери были не из одной и не из четырех, а из трех створок.
Увидев меня они заголосили, чтобы я, как самый молодой, помог им втащить поклажу в салон. Я согласился… и зря! Надо было послать их к черту, но что-то такое, глупо-интеллигентское, вдолбленное школой в образе Павлика Морозова, взяло надо мною верх. И как я жестоко поплатился за это!
Я встал на ступеньку, нагнулся, взял в руку первый тюк, поданный мне толстой теткой, и, не успев даже повернуться, выпрямился… почувствовав страшный удар по голове! Все загудело, закрутилось, замутилось, ноги мои ослабли…
Плохо помню, как Сергей Иванович усадил меня. Зато хорошо рассмотрел, поскольку мы сидели на третьем сидении от входа, как мешочницы преспокойно затащили свои узлы в автобус, бросив их прямо на проходе и главное – ни одна из них не поинтересовалась мною и не вызвалась мне помочь. Хотя, чем они могли помочь мне? Разве что добрым словом! Но даже этого я не услышал от жлобовок.
Возвращаться в гостиницу я не хотел – зачем валяться одному, к тому же мы сдали номер и меня могло ждать классически совковое «Мест нет». В больницу еще больше не хотелось. Поэтому мне оставалось только одно – ехать с Сергей Ивановичем в деревню.
Дорогу я не запомнил совсем, знаю, что несколько раз мы останавливались, когда меня рвало. Потом, доехав до Орши я где-то сидел, пока Сергей Иванович искал машину в свою деревню. Как-то меня везли и куда-то привезли. Какие-то обрывки в памяти…
Для деревенских сотрясение мозга не проблема – многим пришлось пережить его, да и порою не по одному разу. Меня уложили в темный угол, чем-то гадким поили, тетка Сергея Ивановича то приходила, то уходила, что-то мне приносила очень дурно пахнущее – все это было как в тумане, по-моему, я просто спал и спал… Но через три дня я был в совершенно нормальном состоянии, за исключением того, что ноги были какие-то не то, что слабые, а неустойчивые и голова, конечно, болела. Но боль изменилась, она перестала быть внутренней, а стала внешней – то есть болело, по идее, только место удара.
А на дорогу меня угостили таким квасом! Я закачался, зарыгал и почувствовал себя абсолютно здоровым. Вот только ничего не видел в Серегиной деревне. Мы собирались съездить туда еще раз, да так и не пришлось. А жаль!
Жеребенок в тумане
Как-то раз, я возвращался вечерним поездом из Минска. Стоял июль – макушка лета. А мы закрывали второй квартал и пришлось ехать во время отпуска. Ночи были короткие, дни длинные и светло почти до полуночи. Поэтому, несмотря на то, что поезд отходил часов в десять вечера, да и отъехали мы от Минска достаточно далеко – почти на целый час, то, что происходило за окнами было, может не так хорошо, но видно.
Я стоял у окна, где-то в середине вагона. В купе идти не хотелось, там было душно и жарко – окна, из боязни простудится нежарким летом, попутчиками не открывались, а ночная прохлада только спускалась на землю. Часа через два-три после отправления купе обычно продувалось и там становилось уже достаточно комфортно. В ожидании этого, я коротал время, разглядывая пейзаж за окном.
Не знаю почему, но Белоруссия мне всегда казалась какой-то более красивой, чем Россия. Сейчас я понимаю – не более красивой, а более ухоженной. Земли мало, людей много, поэтому ни один клочок земли не обойден человеческим вниманием. А у нас можно проехать сутки-другие и видеть в окно только дикий лес, да бурелом. Это тоже по-своему красиво, но такую красоту надо понимать, даже не понимать, а чувствовать, и сердцем, и душою. А я был молод и не во всем еще разбирался в жизни15.
Я наслаждался красотою Белорусской земли. Особенно меня восхищали их хутора, как мне казалось, затерянные на широких просторах полей. Вот смеркается за окном – синева заливает пейзаж, понемногу расплываются контуры деревьев, пригорков, лесов… и вдруг… маленький теплый одинокий огонек на иссиня-черном фоне! Там – жизнь! Кто-то ужинает, а может быть готовится ко сну или собирает инструмент для завтрашней работы. Кто его знает – может быть даже собирается идти по этой бескрайней темноте на ночной клев, чтобы не остаться назавтра без обеда. Сплошные догадки… Верно только одно: там – жизнь, там – люди! И, не знаю, как у других, а у меня, при взгляде на подобную картину, всегда возникало какое-то щемящее чувство одиночества. Сосало под ложечкой так, как будто бы я остался один-одинешенек на этой огромной планете и никогда, никогда не увижу своих соплеменников.
Но, с другой стороны, меня охватывало и теплое чувство дома, куда ты приходишь после долгой дороги. Радость встречи, запах обеда, тепло очага – все это проносилось в моей душе, когда я рассматривал маленький, мерцающий в окошке огонек. Наверное такое же чувство должен испытывать умирающий, когда он возвращается в природу, из которой он вышел став индивидуумом.
Поезд неожиданно сбросил ход. Кто его знает почему. Такое редко случалось с поездами Минск-Москва. Мне кажется, что Бог или Провидение (кому как нравится) сделал это для того, чтобы я мог рассмотреть интересную сцену.
За окнами холодало и на поля ложился туман. На возвышениях, где дул ветерок, его еще не было, а в ложбинках-низинках уже сформировался достаточно плотный «молочный» слой. Поезд неспешно вышел на дугообразный участок в насыпи, под которой раскинулось большое, до самого горизонта, поле. Насыпь была достаточно высокая, а дуга – протяженная, что создавало впечатление будто бы я нахожусь в римском амфитеатре гигантских размеров, а то, что я вижу в окно – сцена.
Приглядевшись, в сгущающихся сумерках, я заметил подводу с крестьянином или крестьянами, резво спускающуюся с холма в левой стороне «сцены». А правее, практически у самой железнодорожной насыпи – дерево и нечто рядом с ним. Что-то такое небольшое и темное, меняя формы, копошилось возле дерева. Я никак не мог распознать что же это такое, и даже, сняв очки, протер глаза, чтобы лучше видеть, но и это не помогло. Тогда я прижался лицом к вагонному стеклу, загородившись руками справа и слева от света. И тогда я увидел и понял…
что это жеребенок, наполовину скрытый севшим на землю туманом. Туман доставал ему до середины туловища, поэтому мне видны были только голова и хвост, которыми он беспрерывно вертел и поминутно дрыгал, то задними, то передними ногами так, как будто бы пытался сорваться с привязи, при этом дико крутя головой, подобно тому, как это делают люди, когда они чего-то не понимают.
Поезд подвозил меня все ближе и ближе к нему и, глядя на подводу, которая, к тому времени, уже спустилась с холма в долину и сама частично стала пропадать в тумане, я понял, что это хозяева жеребенка. Но не от радости встречи с ними он так прыгал и вертелся! Ведь он смотрел не в их сторону, а на свои ноги!
О, боже! Он первый раз видит туман и не может понять, что это такое! Куда исчезли копыта? Ведь еще совсем недавно он их видел! Видел и траву на земле. А теперь невесомое молоко скрыло, и то, и другое. А вдруг ноги исчезнут навсегда? Он взбрыкивает ими – они появляются! Но, опустившись в туман, снова пропадают. Удивительно, непонятно и очень страшно. Жеребенок явно очень боялся расстаться с ногами, поэтому дрыгал и дрыгал, то передними, то задними ногами, каждый раз убеждаясь в том, что туман только прячет, но не отнимает.
Поезд объезжал вокруг жеребенка, а он все не прекращал своей борьбы с туманом, утопая в нем все глубже и глубже. Отъехав уже на значительное расстояние, я с трудом смог заметить как к нему подъезжает подвода, а он дико вертит головой, потому что туман полностью скрыл его, оставив виднеться одну голову и гриву…
Очень интересное наблюдение!
И вот уже почти тридцать лет, когда мне хочется подумать о чем-нибудь приятном, прогнать внезапно нахлынувшую грусть, я всегда вспоминаю поезд, поздний вечер, туман и жеребенка в тумане.
Не хочешь быть отцом – станешь мертвецом
Несколько раз мне приходилось возвращаться из Минска «на перекладных», то есть, или на электричках, или на первых попавшихся под руку проездах, вне зависимости от того, куда они идут – лишь бы подобраться поближе к Москве, в надежде пересесть еще на какой-либо поезд и, таким образом, рано или поздно дотащиться до дома.
В советское время вся страна куда-нибудь ехала. Билеты на поезда распродавались на месяц-другой вперед, а в наличии оставались какие-то крохи, которые при счастливом стечении обстоятельств, можно было купить. Но на поезда прямого сообщения с Москвой билетов почти никогда не было. Если ты не купил обратный билет заранее, то точно возвращаться приходилось на перекладных. Отсутствие билетов отчасти было вызвано тем, что партийная номенклатура бронировало половину поезда под своих чиновников.
Например, когда в конце 80-х годов я смог доставать билеты через ОблГАИ, то оказалось, что в каждом вагоне ЦЕЛОЕ купе бронировалось для сотрудников милиции16. Но в Москву хотели все, поэтому места в поезде бронировались даже для Министерства Народного Образования. В общем, чинушей много, а поезд – один, всего-то 700-800 мест. Оставшиеся места раскупались «мешочниками» или, как их тогда еще называли, «колбасниками» – спекулянтами, покупающими дефицитные товары в Москве (в основном продукты) и перепродающими их в провинции. Тогда подобная спекуляция приносила фантастическую прибыль17. Поэтому у них были связи и в билетных кассах, а у многих и выше18.
А то, что не раскупали «колбасники», доставалось командированным. В те годы, сотрудники многочисленных заводов и ведомств катались по стране взад и вперед. Насколько я понимаю, в социалистической синекуре, тем самым, создавалась видимость кипучей деятельности. Страна, неспособная создать электрочайник и обеспечить население стиральными машинами, должна же была как-то показать себя. Вот и мотались по городам люди с совершенно идиотскими заданиями. Большинство, в том числе и я, составляли так называемую «живую почту» – развозили какие-то документы в различные организации, потому что единственная в стране Почта СССР работала из рук вон плохо. О быстрой почте мы даже и не мечтали. Письма могли доставляться неделями, особенно в организации19, а могли и просто-напросто бесследно исчезнуть. Иногда приходилось проехать двое-трое суток только для того, чтобы поставить какую-нибудь подпись или отвезти какую-либо бумажку – работа кипела – пар уходил в свисток.
И вот я еду один (Сергей Иванович подхватил грипп) из Минска в Москву на электричках, пересаживаясь каждые два-три часа пути с одной на другую. Их расписание составлял какой-то очень добрый человек, поскольку на конечной станции ждать следующей электрички приходилось не очень долго. Например, приехав в Оршу, я ждал отправления на Смоленск всего сорок минут – как раз столько сколько необходимо для того чтобы отдохнуть от стука колес и от тряски на жестком сидении.
Поскольку я выезжал вечером, у меня то ли на Вязьму, то ли на Гагарин приходился ночной перерыв – с часа до четырех с половиной часов ночи, когда электрички не ходили. Времени было масса – я старался не засыпать, поскольку с устатка можно заснуть так крепко, что проснуться поздно, когда в электричках будут забиты народом, а в четыре утра сидячих мест было предостаточно.
И вот, в самый «разгар» перерыва мне потрбоваплось зайти в вокзальный буфет. Обычно я обходился «неприкосновенным запасом», который всегда возил с собой, но в этот раз, был что-то особенно голоден и все съел еще проезжая Оршу.
Ох, советские станционные буфеты, не описать словами, что это был за ужас, с их вечно черствыми булками, чахлым прокисшим салатом и жидкой, пахнущей несвежей водой, бурдой, в насмешку называемой какао. Но голод не тетка – пришлось идти. Была еще одна причина по которой я не любил буфеты – СССР недаром называли «страной очередей»! Даже ночью! Даже на какой-то далекой станции к буфету тянулась длиннющая очередь. Странно и страшно!
Я тоскливо пошел становится в хвост очереди. Меня обуревали два противоположных чувства – чувство голода и нежелание стоять. Хотя, собственно говоря, мне совсем нечем было заняться. Моя электричка уходила еще почти через два часа, но ноги за долгий день и половину ночи настолько устали, что больше хотелось посидеть-поотдохнуть. Многие так и поступали – занимали очередь, а сами садились на какую-нибудь свободную лавку. Поэтому, чтобы узнать нет ли за стоящим в конце очереди пожилым человеком нерусской внешности никаких «мертвых душ», я спросил: «Отец – вы последний?»
Не знаю почему я назвал его «отец» – обычно в очередях я просто спрашивал: «Вы – последний», не загромождая вопрос излишними словами. Выросший без отца, я наверное не ощущал в этом слове того сакрального смысла близкородственных уз, которое знакомо всякому, кто вырос в нормальной семье и поэтому беззастенчиво употреблял его «всуе» к незнакомым людям значительно старше меня. Стоящий передо мной человек был явно немолод и мне захотелось, таким образом, подчеркнув его старшинство передо мною, выказать ему свое уважение. Хотя я часто обращался к ровесникам: «братишка», «сестренка», а к старшим: «отец» или «мать», «бабу шка» или «дед»20. Не знаю кто меня к этому приучил – уж точно не мать. Она всегда всем говорила только безлико-бесстрастное «вы», «товарищ», или «гражданин», сильно возмущаясь обращением «мужчина» или «женщина».
Я делаю на это упор, поскольку слово «отец» явилось поворотным моментом в трагическом развитии такой, в общем-то, спокойной ситуации.
Что произошло со впереди стоящим я не знаю. Может быть этот человек очень устал, был голоден и его раздражало все, что угодно. Может ему осточертела чужбина и он вспоминал свой родной дом, как раз в тот момент, когда я ему задал этот, невинный, в общем-то, вопрос. Но, как бы там не было, реакция его была совершенно неадекватной. Он весь встрепенулся, вздрогнул, как-то подскочил, можно сказать, вспорхнул на месте. Видимо ему захотелось оказаться ко мне лицом к лицу, поскольку он был невысок. И грубо, с ужасающим акцентом, не сказал, а буквально прошипел: «Какой я тэбэ отэц? Что ты такоэ говоришь!»
Если бы я мог представить, что произойдет дальше, то извинился бы и замял разговор. Но мне было скучно, мне было необходимо любой ценой отогнать надвигающийся на меня, как девятый вал, сон. Оттянуть свое засыпание до того момента, когда я сяду в электричку. Ну, а интересная беседа, а тем более спор – лучшее средство для этого, поэтому я разговорился…
возразив ему, что совершенно не желал его обидеть и что «отец» в нашей стране – обращение, подчеркивающее мое уважение к старшему собеседнику. На что он возразил опять весьма грубо: «Какой я тэбэ отец? Я не трогэл твою мать! Я ее никогда не видэл! Как ты смэешь меня так называть!»
Меня разобрало не на шутку и я целых пять минут в разных выражениях и примерах старался объяснить ему, что у нас, в России, у младших принято так называть старших по возрасту. В этом нет намека на родство и близость, а это просто такое уважительное слово. Тут я вспомнил фильм «Белое солнце пустыни» и добавил «как, например, аксакал». Он разсвирипел еще сильнее и сказал, что ему плевать на то, что у нас, собак, принято и, вообще, договорился до того, что сказал: «шакал тэбэ отэц!» Здесь следовало обидеться, остановиться и, поскольку я всегда уважительно относился к старшим, даже, если они меня оскорбляли, не набить морду, а закончить дискуссию. Но я был настроен очень радушно, поскольку наконец-то нашел «интересного» собеседника, в споре с которым время летит намного быстрее, чем в молчаливом одиночестве.
Я намекнул, что живя в чужой стране надо придерживаться ее традиций и порядков – никуда не деться – недаром говорят, что «с волками жить – по волчьи выть». Посему обижаться на мои слова не надо, а надо понять и принять наше, русское, обращение, даже если оно ему и не нравится – ну, потерпеть.
От этих слов он как будто ошалел. Видимо его гордость не позволяла ему принимать и понимать чужое. Его голос стал еще более злобным и хриплым. Он уже не говорил, а выкрикивал, что такой шакал, как я, не имеет права называть его отцом, что ему это противно, противен я, противен мой язык, противно это дурацкое слово и что он хочет, чтобы я от него отстал. Мне следовало расслышать это слово «отстал», и может быть тогда все пошло бы по иному, но я, распалившись, отстаивал мнение, что он не только должен, а просто обязан соблюдать чужие порядки, если хочет жить в чужой стране. После чего он начал выкрикивать что-то уже совсем непонятное из смеси своих и русских слов.
Разговор пошел совсем не по тому руслу, как я его себе представлял. Я примолчал, а мой возбужденный собеседник все продолжал что-то выкрикивать в мой адрес, как вдруг я почувствовал, что он
тоже замолчал, но замолчал как-то странно, будто бы захлебнулся в воде, Я глянул на него – глаза его вылезли из орбит, лицо покраснело, а фигура, дотоле стройная, перекосилась и правая рука легла на грудь под пиджак, как раз в том месте где у человека бьется сердце.
Я понял – доигрались, доспорились! Какой ужас. Не хватало, чтобы этот старик еще и умер по моей вине, поэтому я не стал раздумывать, а понесся в медпункт за фельдшером. Когда мы вернулись, ему стало получше и мы отвели его в медпункт. Причем он уже не шарахался от меня, не ругался, а покорно сносил тот факт, что поддерживая его одной рукой за плечи, а другой – под руку. Усадив его на кушетку, я убежал из медпункта, боясь того, что мое присутствие разволнует его снова.
Прошло минут пятнадцать и я увидел, что врачи приехавшей скорой помощи осторожно ведут его к выходу.
Я уже стоял у высокого мраморного круглого столика в задумчивости помешивая куском пирожка с капустой (ложек не было) остывшее противное какао и размышлял над причинами заставившими этого пожилого человека пойти на откровенное самоубийство. Вот он стоял в очереди среди ночи, вероятно хотел поесть, отдохнуть, чтобы потом поехать куда-то по своим делам, а теперь валяется где-то в больнице, а может быть уже умер. И все – ради чего?
По совести, надо было поинтересоваться его состоянием и, может быть, не поленившись, сопроводить его в больницу, тем более что он безропотно принял мою помощь, когда шел в медпункт. Но я был настолько испуган случившимся, увидев первый раз в жизни, как внешне здоровый человек в одно мгновение может стать мертвецом, что страшился новой встречи с ним.
Мне было ужасно стыдно за себя – ведь я видел, что он немолод, зачем же продолжал этот никому не нужный спор? Просто так? Чтобы не заснуть? Чтобы поболтать-развлечься, потренироваться в софистике? Спор ради самого спора? Ну, в принципе, да. Именно так. Но у меня есть одно оправдание и сейчас я об этом хорошо знаю – я был молод и даже не подозревал, что у людей бывает плохо с сердцем.
Считается, что в спорах рождается Истина, но в моем споре чуть было не появилась Смерть. Почему? Потому что Смерть и есть вечная Истина! Ведь в жизни нас может миновать многое – и болезни, и увечья, и наслаждения, и богатство, лишь только смерть случится обязательно, рано или поздно, но случится.
Есть прекрасное высказывание: «если бы молодость знала»!
Теперь я стар и, иной раз, сойдясь с кем-то в словесной полемике, я вспоминаю этот случай, пожилого мужчину, который стоял в буфет, а попал в больницу только из-за того, что спорил со мной – молодым балбесом, и… замолкаю. Пусть меня сочтут трусом, пусть дураком, но жизнь – дороже. Хочется еще подергаться.
Открытие метрополитена
В 1984 году мы были в летней(!) командировке в Минске, которую Сергей Иванович долго и упорно пробивал и для себя и для меня. Нам хотелось хотя бы раз побывать там в хорошую летнюю погоду. Провести, как минимум, неделю, отдохнуть, съездить на водохранилище. В общем, воспользоваться возможностью за казенный счет. Сергей Иванович, был родом из-под Орши – городка на границе с Россией. Ему хотелось побывать на родине. В общем – командировка была нужна позарез и Сергей Иванович ее выбил на целых две недели.
Мы хорошо провели время (не считая легкого сотрясения мозга, полученного мною при ударе о низкую притолоку дверей автобуса, следовавшего в Оршу, закончившуюся легкой тошнотой и прошедшей дня через два), как вдруг узнаем, случайно прочтя местную (или как я всегда говорил «местечковую») газету, что открывают метрополитен. Недавно я прочел, что открытие Минского метрополитена состоялось 29 июня 1984 года. Значит, наш отъезд был назначен на 26-27 число. И жди осенней командировки целых четыре месяца. Непорядок.
Ну, мы и решили, как раз в день отъезда, пройтись по городу – посмотреть, а вдруг что-то удастся увидеть, поскольку подземные переходы были уже открыты и, через прозрачные двери метро, можно было увидеть внутренность станции – ведь почти все они были неглубокие.
Не помню, к какой станции мы подошли. Может быть к «Площади Победы», может к какой другой. Один ее выход оканчивался в подземном переходе, к которому мы и направились. Но, уже спускаясь по лестнице, заметили чуть впереди красную ленту, которая перегораживала проход. «Ага! Вот почему в переходе никого нет» – пронеслась мысль. На несколько секунд мы, мысленно, как бы зависли в неопределенности, хотя ноги продолжали спускаться по лестнице..
Поворачивать обратно было обидно и стыдно – сдрейфили-струсили – народа никого нет, можно все хорошо рассмотреть, а мы, увидев мента рядом с ленточкой, взяли да убежали. Идти вперед – было страшновато – вдруг нас проводят отсюда в шею. Мы же не были, ни корреспондентами, ни ответственными работниками, но – мы были Москвичами! А это, как показывает вся моя жизнь, очень заметно в провинции. Наш единственный козырь – своими московскими рожами придавить провинциального мента. Авось он, не захочет связываться с нами (и так видно – из столицы прибыли) и не потребует от нас никаких документов.
Несколько секунд мы размышляли, делая вид, что рассматриваем внутреннюю отделку подземного переход, стоя на последней ступеньке лестницы, и… не знаю, кто из нас сделал первый шаг, наверное, все-таки Сергей Иванович, как более взрослый и более опытный. Ну а я, на ходу пытался сыграть маленькую пьеску с названием «Начальник и подхалим». Что получилось?.. Получилось!
- Не утруждайте себя, Сергей Иванович» – произнес я елейным голосом, взяв из его руки увесистый, модный в то время, чемодан-»дипломат». Кейс был действительно тяжел, поскольку там были не только все наши бумаги и перфоленты, но и какие-то личные вещи…
- Смотрите, какая отделочка хорошенькая… стеночка-то… ровненькая… а, загляденье… – нудел я, проводя рукою по кафельной стенке подземного перехода в направлении стоящего на своем посту мента. Но глядел я, при этом, только на Сергея Ивановича, спиною повернувшись к представителю закона, показывая тем самым, что не замечаю его совсем. Сергей Иванович осознал мою идею и начал подыгрывать. Утерев лоб ладонью (а день был действительно жаркий), он громко раза два выдохнул, как бы готовясь к вынужденной и не очень желанной работе – рассматриванию качества построенного подземного перехода. Затем усиленно поморгал глазами, как бы настраивая их на полумрак перехода после пребывания на ярком солнце, еще раз громко вздохнул и не торопясь пошел за мною. Мы приближались к заветной ленточке. По ходу движения я еще раз обратил внимание Сергея Ивановича на хорошее освещение, чистоту и сухость. На что тот громко заявил: «Да, вытерли все! Вытерли! Небось, только что закончили. Подожди – скоро снова натечет. Ну-ка, Владимирыч, посмотри-ка по углам нитки от тряпок не валяются?» «Никак нет» – ответствовал я. «Ох, все подчистили, сучата! Ну, молодцы…, молодцы…, хорошие ребята! На совесть трудятся!»
Эти похвальные слова, добродушно улыбаясь, Сергей Иванович произнес в тот момент, когда подошел к красной ленточке, загораживающей проход. Он точно рассчитал, чтобы похвала была слышна менту, которого я практически притер к стене своей спиной.
Перед ленточкой Сергей Иванович остановился, как бы не замечая ее, и отер лоб рукою… А я заверещал: «Жарко! Да, сегодня жарковато! Лето красное на дворе, даже здесь в тени и то жарит. Давайте, спустимся вниз – там и попрохладнее – под землей все-таки»
С этими словами, я приподнял красную ленту как можно выше над головой Сергея Ивановича. Спиною я чувствовал милиционера и думал – пройдет или не пройдет? Я намерено не поворачивался к нему лицом. Спина у меня тренированна на прямую осанку – она не выдаст моего волнения. А вот лицо…? Лицом я бы мог и спасовать. Вытянувшись, как по команде «смирн-а-а», я стоял, держа в левой руке «дипломат», а правой – красную ленточку. Буквально секундная пауза и… типа – «нас не бьют!», Сергей Иванович шагнул вперед. Молчание милиционера, говорило о том, что пьеска удалась.
Продолжая спектакль, я опустил ленточку пониже и согнувшись, как будто бы перед Сергеем Ивановичем, прошел под ней. Выпрямился и засеменил перед ним, частя: «Проходите… проходите… давайте посмотрим, что там внизу… аккуратней… не споткнитесь… новые сапоги – всегда жмут, а на новых ступеньках – всегда спотыкаешься» Так мы прошли через стеклянные двери и начали спускаться на платформу. Теперь можно было отдохнуть и расслабиться.
Обратно мы выходили уже без такой наигранности, но, по принципу «береженного бог бережет», я продолжал нести «дипломат» и устало твердил: «рад… рад… что Вам понравилось… красиво… тема… народ-победитель…» и еще какую-то чушь, опять повернувшись лицом к Сергею Ивановичу и спиною – к менту. Лестница на поверхность была совсем невдалеке, там ярко и весело светило солнце. Я радовался тому, что все так удачно сложилось и, напоследок, не смог, не сдержался и посмотрел на, стоящего на посту милиционера. От этого я испытал некоторое разочарование, поскольку он стоял с такой постной, скучной и тоскливой рожей, на которой было написано «ешьте меня комары с мухами», что, кажется, не обратил бы внимания пройди мимо него человек двести без приглашений. Хотя, подумавши, я решил, что может быть это такая же маска, как и моя прямая спина! И не так уж он и спит как делает вид, но как только – так сразу! Не знаю, не знаю. Во всяком случае, наш веселый розыгрыш удался и мы посмотрели минский метрополитен еще до официального открытия.
А вот впечатлений от самой станции не осталось – метро, как метро. Такое же, как все новые станции в Москве. Платформы открытые, лестницы вместо эскалаторов, стенки мрамором, пол гранитом, рельсы – здесь, рельсы – там. Ничего особенного, выдающегося не помню.
Когда мы были на станции, то по радио прозвучало, что пробный поезд ожидается через пятнадцать минут, но прокатиться мы не решились, боясь быть втянутыми в какие-то мероприятия, что могло, и затянуться надолго, и, что самое страшное, раскрыть наш маленький обман.
Ведь нам хотелось только посмотреть, что собственно мы и сделали.
«Маленький Изя»
Хочется вспомнить и помянуть добрым словом Изю – Иосифа, фамилию и отчество, которого я позабыл, а может быть и не знал вообще. Работал он, по-моему, заурядным программистом или электронщиком, но имел потрясающее хобби – он коллекционировал анекдоты про «маленького Изю», которые, непременно в каждый наш приезд, рассказывал мне. Знал он этих анекдотов немереное количество, рассказывал великолепно – то, что называется, в лицах и красках, с правильным произношением и с идеально расставленными паузами.
Ему бы выступать с ними на сцене – был бы намного лучше платных юмористов тех времен. Тем более, что сама внешность его располагала к юмору. Маленького роста (как Ленин – метр с кепкой), полненький, с пухлым улыбчивым лицом, с добрыми лучезарными глазами, Изя распространял вокруг себя какую-то светлую, веселую энергию. Увидев его, на душе сразу становилось как-то теплее, хотелось улыбнуться, вспомнить, что-нибудь доброе и смешное, пошутить-посмеяться. Не знаю, каким он был программистом, но человеком был очень душевным.
Почему-то именно во мне он нашел благодарного слушателя. Видимо, местные ребята, то ли были намного больше меня заняты делами, чтобы слушать его байки, то ли все его анекдоты уже слышали по нескольку раз и они им наскучили. Не знаю. Сергею Ивановичу то же было не до разговоров, ведь на нем лежала вся административно-денежная ответственность по договору. Короче, получалось так, что я был единственный, кто, во-первых, имел свободное время для того чтобы слушать Изю, а, во-вторых, практически не был знаком с анекдотами про «маленького Изю».
Изя всегда с нетерпением ждал нашего приезда (во всяком случае, так говорил нам Берлинский) и готовился к нему. Когда мы приезжали, и у меня появлялась свободная минута, чтобы выйти покурить, Изя следовал за мной с заговорщицким видом и мятой замусоленной тетрадочкой в руках.
Я заметил, что тетрадочки у него все время разные. В них он записывал анекдоты, причем делал это очень скрупулезно, на хорошем уровне.
Он никогда не писал более одного анекдота на странице (несмотря на расхожее мнение о еврейской жадности), а оставлял внизу листа свободное место, куда впоследствии записывал различные варианты этого анекдота, когда ему удавалось их от кого-то узнать. Его тетрадки были сильно заношены, ведь записи он начал еще учась в школе, когда узнал о существовании «маленького Изи». А поскольку он сам был и «маленький» и «Изя», то решил, что в этом божий промысел и взял на себя обязанность собрать и сохранить эти анекдоты. На протяжении всей своей жизни, он дописывал варианты, делал ссылки на похожие, классифицировал их, переписывая из одной тетрадки в другую. Но читал он их только по замусоленным черновикам, сохраняя чистовики как зеницу ока. В общем, подходил к этому делу очень серьезно не только как практик-рассказчик, но и как теоретик-литературовед-исследователь.
Мы уединялись где-нибудь подальше от посторонних глаз – в курилке или на дальней лестнице и Изя начинал лицедействовать. Каждый свой рассказ он начинал с того, что брал меня левой рукой за локоть. Что это был за жест? Не знаю. Может быть просто – стиль, а может быть, как сказал в свое время Сергей Иванович, ему нужно было соединить, через прикосновение, свою ауру с аурой слушателя или просто – почувствовать слушателя. Кто знает?
Как я уже говорил, Изя читал свои анекдоты с листа и никогда не наизусть. Не воображая себя артистом, Изя всегда боялся забыть, перепутать или случайно переставить местами слова. Он считал, что в анекдоте важны не слова, а последовательность слов. Изменив слово, можно не так далеко уйти от идеи анекдота, но поменяв слова местами – можно значительно изменить смысл, причем даже и на обратный. По этому поводу он приводил такой анекдот
Рассказывая про Великую Отечественную войну маленький Изя на уроке истории сказал: «Всего Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев». «Неверно!» – выкрикнул Вовочка – «Гитлер уничтожил всего 6 миллионов евреев».
Точность передачи смысла была его главным правилом при чтении. Поэтому, держа в правой руке тетрадку, он рассказывал, поглядывая попеременно, то правым глазом на страницу, то левым на слушателя. При этом левая его рука совершала какие-то непонятные волнообразные движения, как будто бы он дирижировал невидимым оркестром. Но колебания его руки совершенно не совпадали, ни с ритмом произносимых слов, ни с тем действием, о котором Изя рассказывал. Видимо, он дирижировал какой-то только ему ведомой музыкой. Только он один ее слышал.
Как-то я заглянул в его тетрадку и увидел там, помимо слов, какие-то корявые значки, отдаленно похожие на ноты. «Это что – для пения?» – спросил я, узнав крещендо, диминуендо и басовый ключ. «Нет» – ответил Изя – «это для рассказывания. Это паузы, форте-пиано голоса, оттенки произношения – когда в нос, когда в крик, тембр речи и многое другое. Я пользуюсь и обычными музыкальными знаками и некоторыми своими собственными. Тут я впервые увидел и смайлики (так модные сейчас в электронных письмах) Ими он показывал, какую рожу надо скорчить, читая данное место текста.
Многим покажется это слишком натянуто – да, сейчас есть магнитофоны, да были они даже и в те далекие шестидесятые, когда Изя начал записывать свои анекдоты. Но – во-первых качество оставляло желать лучшего, во-вторых, надежность тогдашней пленки не шла ни в какое сравнение с бумагой. А главное оказалось в другом, в том, что я сразу, и не понял, и не прочувствовал до конца, когда предложил Изе не мучиться со значками, а записать анекдоты на магнитофон. «Вова…» – сказал он добродушно-мягким голосом – «Вова – так намного удобнее работать над дикцией. Я же не просто фиксирую, я улучшаю!»
Интересный был человек, увлеченный своей идеей и, что главное, доведший свою идею до совершенства. Не просто коллекционировавший анекдоты (ведь, поверьте, это делали многие), а систематизирующий, классифицирующий, потративший много усилий на совершенствование исполнительского мастерства и, главное, попытавшийся донести до будущих поколений интонационно-мимическую часть исполнения.
Вот только не знаю – где теперь его тетрадки? Жив ли сам Изя? Была ли у него семья, дети? Обо всем этом мы никогда с ним не говорили. Дай бог, чтобы его записи очутились в нужных руках, и в нужное время, и не дай им бесславно сгинуть в потоке времени.
Анекдоты про «маленького Изю» я здесь писать не собираюсь, поскольку «изменишь слово – изменишь смысл», а наизусть я их не помню, да и не записывал я их никогда – только слушал. Слушал то, что называется «раскрыв рот» и остались в памяти только общий смысл, да смеющиеся глаза «маленького Изи».
Гавном, да в морду
В поезде Минск-Москва произошла как-то со мной пренеприятнейшая, но очень забавная история.
Я много общался в людьми, частенько ездивших поездами, но ничего подобного ни от кого никогда не слыхивал. Видимо, мне повезло больше всех. Я, можно сказать, в этом плане единственный и неповторимый.
А началось все с сытного обеда в минской заводской столовой. (Тот, кто читал предыдущие рассказы, не удивится сочетанию фраз «сытный обед» и «заводская столовая».) Затем, уже в вагоне, этот обед был размочен полбутылкой водки, которая, не только создала радостное настроение, но и способствовала скорейшему перевариванию пищи. Качание вагона только усиливало это. В общем, часа через полтора-два после отъезда, я захотел «по большому делу».
Отмечу, что пользоваться туалетом в поездах я не любил. Ни по «малому», ни по «большому». А по «большому» уж тем более. Не та обстановка в гремящем, трясущемся, качающемся вагоне. Но, как говорится, против силы не попрешь и приходилось идти в туалет.
Так и в этот раз ─ чертыхнувшись, сквозь зубы, помянув мать, я поплелся в дальний конец вагона, где размещался туалет, при этом держась за обе стенки, чтобы не упасть ─ действовала выпитая водка, да и поезд шел с очень высокой скоростью ─ Минское направление было тогда самым скоростным в стране. Даже в Ленинград поезда ходили медленнее. На Варшавском поезде мы доезжали из Минска за шесть (!) часов. Но у этого была и обратная сторона ─ болтало вагон, как в шторм на море.
А теперь пару слов о том, как был устроен унитаз в вагонах того времени (хотя я думаю сейчас ничего не изменилось). Это было всего лишь овальное ведро из нержавейки, откидное донышко которого приводилось в действие ножной педалью. Когда пассажир нажимал педаль, дно наклонялось вниз и экскременты, через недлинную трубу вываливались прямо на рельсы. Примитивно просто, но, как бывает, иная простота ─ хуже воровства.
Не могу понять, что стало причиной происшедшего со мной казуса ─ но наверное сочетание направлений ветра и движения поезда стали тому причиной. Не знаю! И не хочу знать!
Короче ─ стоило мне только нажать на педаль и услышать звон открывающегося донышка, как я ощутил снизу, из трубы, сильный порыв холодного ветра. Я не успел сообразить, что произошло, но инстинктивно дернулся в сторону, к сожалению, не снимая ноги с педали. В это время ветер превратился в ураган, выбросивший мое «большое дело» из трубы назад, то есть, подкинув вверх. Ветер был такой силы, что нечистоты хлопнулись о невысокий потолок и стену вагона, прилипнув к ним. Ну и немного попачкали меня.
От неожиданности я шарахнулся к двери, тем самым, отпустив педаль и прекратив ветер. «Ой, бля»,─ подумал я, глядя на прилипшее к потолку дерьмо ─ «вот так перепой! На потолок насрал!» Испугавшись, что снаружи, кто-нибудь уже ждет своей очереди в туалет, я, с быстротой молнии, выбежал вон. Ведь если бы кто-нибудь вошел, то точно бы принял меня за сумасшедшего, мажущего гавном стены.
Уф! Слава богу! Там никого!
Теперь ситуация стала казаться даже забавной. Никаких доказательств моего участия в загрязнении туалета не было, значит можно было и посмеяться.
«Серега… Серега…» ─ позвал я, немного приотодвинув дверь купе,─ «Чего тебе» ─- ответствовал Сергей Иванович, удобно развалившись на нижней полке. После полбутылки выпитого, ему совершенно не хотелось вставать. «Я, перебрал…» ─ трагическим шепотом произнес я, ─ «Ну и ложись!» ─ ответствовал Сергей Иванович, тембром своего голоса выражая одновременно, и возмущение, и приказ. ─ «Поди сюда, не пожалеешь» ─ заканючил я. ─ «Такого ты в жизни никогда не видел».
Нехотя, Сергей Иванович встал и потащился за мной с лицом полным недовольства и безразличия. Он всем видом пытался выказать мне насколько подло я поступаю, поднимая старшего товарища с удобной лежанки.
Но насколько же изменилось его лицо, когда он увидел, что творилось в туалете. «Как это ты на потолок насрал?» ─ спросил он меня, захохотав. «Ты что ─- головой в толчок упал, а жопу кверху выставил!» ─ заржав на всю катушку, добавил он. Я сбивчиво вкратце попытался объяснить ему как это все произошло и даже, в подтверждение, нажал на педаль унитаза, но ветра оттуда не вырвалось. Потом я нажал еще раз – ветер все равно не дуванул. Со злости я замолотил ногой по педали – никакого дуновения! Получалось, что я все соврал и, видимо, действительно, упал головой в унитаз, задом кверху. Серега, желая проверить правдивость моих слов, смял сортирную газетку, кинул ее в толчок и нажал на педаль. О Боги! Бумажка провалилась вниз без помех.
- Нет, ну ты точно головою в парашу свалился и срал жопой кверху» ─ засмеялся Сергей Иванович, выходя из сортира.
Вернувшись в купе он продолжал время от времени глупо похихикивать, удивляя тем самым наших спутников, семейную пару среднего возраста, которые и так скорчили «козью морду», увидев, как мы быстренько и весело раздавили на двоих бутылку водочки. Этому они, наверное, и приписывали, беспричинный, по их мнению, хохоток Павлова. Но, бедные, они аж подпрыгнули на своем сидении, когда мы, услышав визгливые, полные отчаяния, голоса проводниц, гоготнули так, что стекла затряслись сильнее, чем от вагонных колес. Сквозь вопли и ругань можно было разобрать слова «звери, гады, идиоты…» и что-то вроде того.
Видимо они оценили ситуацию, но по-своему, по-проводничьему.
Поехали в Удомлю?
Дело было в Сафоново.
Я уже писал о том, что порою мне приходилось возвращаться из Минска в Москву на перекладных. Вот и в этот раз я умудрился уехать из Минска на каком-то вечернем почтово-багажном, который довез меня только до Смоленска, поскольку сворачивал на Брянск. Время было позднее, но мне очень хотелось домой, поэтому я не остался в Смоленске, а сел на последнюю электричку, которая правда шла не до Вязьмы, а только до Сафоново, но в расписании было указано, что с Сафоново на Вязьму утром пойдет первый электропоезд, раньше, чем со Смоленска на Вязьму.
Итак я оказался в Сафонове, чуть ли не в два часа ночи. Осень, хотя и не поздняя, все равно, осень – на улице холодно. Поэтому я поначалу забился в теплый полутемный зал ожидания небольшого провинциального вокзала. Но, согревшись и отдохнув от тряски и стука колес, решил выйти на волю – покурить, походить, размяться, поскольку, как я уже ранее отмечал, в таких «злачных» местах я больше всего боялся заснуть и проспать свой поезд, зная за собой склонность, с усталости, к «богатырскому» сну.
Выйдя на платформу я прошелся по ней пару раз туда-сюда, выкурил две сигаретки, завистливо посмотрев на проезжающие составы – вот, надо же, едут, гады, а я стою, застряв здесь, на маленьком полустанке (хотя в натуре это совсем не маленький полустанок), но так – романтичнее и торчать мне здесь еще почти полтора часа. Прохладный воздух давал себя знать – вначале остыло лицо, а потом и по спине начал бегать какой-то неприятный холодок. Такое часто бывает оттого, что хочется спать и хоть спать мне было нельзя, но я все же решил вернуться в зал ожидания. Если там не будет свободных мест, то просто постою у стенки или сяду на пол – авось ночью ментов не будет21.
Я уже было направился к вокзалу, как вдруг обратил внимание на группу мужчин, которые гужевались среди чахлых деревцев, росших за платформой. Их было человек тридцать – целый взвод. Все какие-то на удивление одинаковые – крепкие, высокие, плечистые и я бы посчитал их за военных, если бы не были они одеты как-то кургузо – по-деревенски топорно. Как это называется в России – добротно. Да и держались они расхлябано-нестроево. Чувствовалось, что это ребята «от сохи», причем не просто «от сохи», а только-только «от сохи». Разговаривали они вполголоса, хриплыми, грубыми голосами, многие их них курили, поминутно сплевывая, кашляя … и вообще – веяло от них какой-то невыразимой тоскою, которая всегда возникает на душе, при виде тюрьмы, заключенных или «столыпинского вагона»22.
Я заметил, как от них отделился один человек и направился к платформе. Мне показалось, что он идет именно ко мне. Не прошло и минуты, как он легким прыжком перескочил через перила платформы и подошел совсем близко. Стало видно, что он разительно отличался от тех, кого я видел прежде. Хоть видел – это крепко сказано – ведь в полумраке были заметны только силуэты. Тогда скажем так – его силуэт резко отличался от остальных. Во-первых, он был выше. Может и не намного, но держался на удивление подтянуто, в отличие от остальных, что на взгляд прибавляло ему роста. Во-вторых, он был иначе одет – по-городскому. На нем были немешковатые брюки и куртка по фигуре, а не ватник с чужого плеча.
«Браток! Не подскажешь ли который час, а то я тут со своими гавриками так закрутился, что и часы не заводил. Теперь не знаю сколько до поезда осталось? А у них ведь и часов-то нет» – обратился он ко мне. Мне сразу резанула по ушам фраза: «который час», которая выдавала в нем воспитание, если уж не столичное, то, по крайней мере, областного центра. Обычно простой народ произносит: «скоко время?» или в лучшем случае: «сколько времени?»
А он продолжал: «Вот хотел с автоподзаводом купить, да фиг их у нас купишь, надо в Москву ехать, а я не успеваю никак – работа!»
С автоподзаводом – подумал я – ничего себе. Такие часы рублей пятьдесят-шестьдесят стоят, а то и поболе. Фартовый пацан. У меня тогда были позолоченные часы и без автоподзавода, но я их покупал в комиссионке и они стоили всего сорок восемь рублей.
Я ответил. Он поблагодарил и, встав под станционным фонарем, начал крутить стрелки. Не знаю почему, но я остановился и молча стоял рядом. Мне почему-то не хотелось уходить. Пацан, видимо, почувствовал какую-то неловкость в наступившем молчании и заговорил первым.
Он рассказал, что едет с бригадой строить Удомельскую атомную станцию и по профессии он – вербовщик – который ездит по деревням и набирает людей на стройки. Работа тяжелая, поскольку все уверяют, что хотят работать, а на деле, либо хотят получить деньги на выпивку, либо любой ценой сбежать от осточертевших жен, матерей, детей и от мерзостей деревенской жизни. А ему такие не нужны. За что неоднократно с ним пытались разобраться «по-свойски» обиженные отказом мужики. Но ему это не впервой, так как он офицер, попавший «за речку», где его немного, как он выразился, «подранили», теперь работающий в атомной энергетике и сражаться привык.
Я удивился тому, как у него так складно получалось говорить – речь его струилась ручьем. Вроде бы и простонародная, устная, не письменно-книжная, зато удивительно красиво и аккуратно сложенная. Я заметил ему, сказав, что он говорит прям, как пишет. На что он усмехнулся и сказал, что разговор в его профессии – самое главное. Он ведь – вербовщик. Ему ведь уговорить надо, а хорошего работника с места сорвать сложно. Кочуют-то, в основном, бездельники и пропойцы. Просто есть в некоторых людях авантюрная жилка, которая дремлет до поры до времени где-то там – в потемках его души, и если ее разбудить, то завербовать его пара пустяков и из него получится отличный работник
Мы закурили. Времени до отправления моего поезда было предостаточно, а его поезд отправлялся еще и позже моего, поэтому торопиться было некуда и мы продолжили беседу.
Неожиданно для меня самого, разговор у нас получился очень задушевный. Почему-то мы рассказали друг другу то, что, вероятно, не рассказывали даже самым близким людям. Видимо, что-то такое объединяющее промелькнуло между нами. Возникло невесть откуда взявшееся понимание. Мы разговаривали друг с другом так, как будто бы были знакомы с пеленок, хотя на самом деле, познакомились меньше часа назад. Я слышал о любви с первого взгляда, но никогда с подобным не встречался. А у нас, насколько я понимаю, возникла дружба, нет, даже не дружба, а братство с первого взгляда.
Он был старше меня на пять лет, поэтому мне казалось, что я общаюсь со старшим братом. По ходу беседы я несколько раз ловил себя на том, что хочу ему сказать: «а помнишь?», но тут же осекался, вспоминая, что мы едва знакомы. Но от этого ощущение внезапно возникшего братства не исчезало, а, наоборот, только становилось крепче.
Мы вели разговор, а я смотрел на него и думал о том, что с таким парнем можно было бы подраться с целым кварталом. Достаточно было встатьо прядом и выкрикнуть: «Ну, кто на нас, с братом!» Я ведь моложе его. А мне всю жизнь не хватало старшего друга, товарища, мужчины, того, в кого я бы мог безраздельно верить, чтобы не страшась идти по жизни; того, кто бы подсказал, правдиво, по-мужски, и правильное слово, и правильное дело. Ведь я вырос, и без отца, и без старшего брата, с одной только матерью. Я испытал на себе весь идиотизм материнской любви и заботы. А ему, видимо, очень не хватало того, кто бы впитывал тот опыт, который он накопил за свою, хоть и недолгую, но довольно бурную жизнь. Детей у него еще не было, да и жены тоже, а ведь тридцать лет – это возраст, когда уже пора начинать делиться тем, что познал23. Наверное это и сблизило нас.
Время пролетело незаметно, я даже разогрелся за дружеской беседой и перестал ощущать холод, как вдруг услышал отдаленный гудок. Электричка – подумал я и глянул на часы – до моего отправления оставалось четверть часа.
«Ну вот и мой поезд» – сказал я и, впервые за эти два часа, замолчал. Повисла какая-то оглушительная тишина, нереальная, воистину театральная, показушная. Но она была! И мне стало страшно, поскольку я понял, что наше случайное братство сейчас закончится и закончится навсегда. Мы никогда уже не увидим друг друга… Никогда! Я ощутил, что теряю близкого человека. Друга… нет… не друга, а все-таки, брата.
Он тоже молчал. Молчал и вертел сигарету в руках. А потом прикашлянул, качнул головой и сказал: «Поехали со мной в Удомлю! А?»
Я этого ожидал и боялся! Одна моя часть говорила: «Да! Поехали! Начнешь новую жизнь, перечеркнув все, что у тебя было раньше. Табула раса судьбы. Боятся нечего – с тобой будет старший брат – надежная рука рядом». Но другая часть противоречила: «куда тебе на стройку, тебе уже двадцать пять и ты никогда толком не работал, не работал физически, не работал с людьми, и особенно – с простыми людьми. Ты не выдержишь. Не выдержишь работы, не выдержишь тягот кочевой заунывной жизни, сдашься, сломаешься, завалишь работу, а потом сбежишь, опозорив человека, который в тебя поверил». Да… ситуация… действительно – и хочется, и колется, и мамка не велит. Я оказался промеж двух стульев.
Хотя реально понимал – мне НЕЛЬЗЯ ехать! Романтику строек надо было начинать лет в восемнадцать-двадцать, но не после вылощеной институтской жизни. Не привыкну я к этому никогда! Геологи–романтики с промерзшими-продутыми вагончиками и туалетом под кустом – не мое. Не так воспитан, не так жил. Не потяну, а на карту поставлена честь другого человека. Своя голова не бедна, а бедна так одна! Но нас-то теперь двое. Я не могу подвести своего новоявленного брата.
Я все понимал, а сказать вслух никак не мог. Не решался. Он тоже молчал. В холодном утреннем воздухе, то, что называется, «повис вопрос» и продолжал висеть «весомо, грубо, зримо.
Подошла электричка, совершенно пустая, в ней, пусть не ярко, но очень тепло, горел электрический свет. Распахнулись двери и в холодок осенней ночи вырвалось тепло салона – повеяло родным домом…
Я посмотрел на состав, освещенный станционным прожектором – до рассвета еще было далеко, посмотрел на вербовщика, снова перевел глаза на состав и сказал: «Прости, братан, но романтик из меня никакой, не получится из меня шабашник, слишком уж маменькин я сынок…». Он помолчал, вздохнул, как-то криво махнул головой, как бы показывая тем самым – «А, ну тебя на хрен!» и проговорил: «Нормально, брат, это ведь не каждому дано, не считай себя слабым и убогим – с ЭТИМ надо родится, чтобы ЭТО в крови было. У тебя просто ДРУГАЯ натура». Потом обхватил руками меня за плечи: «Прощай, брат, прощай – вряд ли встретимся еще. Прости, коль что не так…»
Я пошел к вагону и думал только об одном – не оглядываться… не оглядываться… не оглядываться. Я чувствовал, как какая-то частичка моей души навсегда остается с этим человеком, моим названным старшим братом.
До Москвы оставалось три перегона.
===========================
Прошло более десяти лет. В компании малознакомых и совсем незнакомых мне людей, я рассказывал этот случай и уже почти добрался до конца, как некая дама прервала меня, задав вопрос: «А как звали твоего случайного собеседника? Ты рассказываешь про него уже минут десять, а так ни разу и не назвал его по имени».
Интересный вопрос! Мне задали его впервые, хотя многим я рассказывал этот случай, и никто никогда не обращал внимания на то, что я не знал имени своего случайного собеседника. Слова «брат» хватало. Ну, а задумайтесь – разве брату нужно имя. Мы произносим «брат» и этим все сказано. Никаких уточнений не надо.
Но удивительно не это. Удивительно то, что я сам НИКОГДА не задумывался над тем, почему мы не назвали друг другу своих имен. Только вопрос, заданный незнакомой мне дамой, заставил меня покопаться в собственной памяти. И что? И – НИЧЕГО! Я не мог вспомнить, что мы называли имена друг другу.
Значит это действительно было «братство с первого взгляда». Каждый из нас говорил другому «ты», подразумевая «ты, брат». Разве нужны братьям имена? Конечно, нет! И так, все понятно.
Комментарии
1 К примеру, купированный билет в Саратов стоил 15 рублей, поэтому только на дорогу туда-обратно у меня уходило около 34 рублей, вместе с бельем. А в аванс от зарплаты в 135 рублей я получал 36=40.
2 В 1990 году, мы с женой, под Новый Год, поехали на экскурсию в Литву – там отмечали Рождество, хоть и под Советским гнетом, но все-таки отмечали. На обратной дороге ангиной заболела почти вся группа, кроме меня и еще пары человек. С той поры жена прозвала ангину от мокрой зимы «литовской».
3 Роясь по карте современного Минска я этого кафе не нашел, не нашел я и «Несцерку» - может их и закрыли, вернее всего – переименовали.
4 Типичная европейская обстановка кафе или паба, которая в те годы, для нас, москвичей, была в диковинку.
5 Очки, тогда делались только из стекла. Первые пластиковые очки я увидел в 1985 году, чему посвящен рассказ «1985 г. Лева Аджиашвили, пластиковые очки и книжка из «Березки»«
6 Эту кличку я, впоследствии, перенес на все подобные названия, включая и знаменитый московский театр.
7 Помните: знаменитый «Сильвестр с Талоном».
8 Я часто пользуюсь этим термином для России, потому что не знаю как ее называть. Когда-то она была «Россия», потом стала «РСФСР» (о чем очень многие забыли), затем получила кличку «СССР», потом снова стала называться «Россия», хотя сохранила Гимн СССР. Вот и остаются шутливые «Тетя Рейзя», «Рашка» и нейтрально-неопределенное «эта страна»
9 Любая культура подразумевает красоту, красота требует излишеств, а излишества всегда повышают цену.
10 В те годы было принято коллекционировать «западные чудеса» - пачки от выкуренных (а то и не выкуренных) сигарет, пустые бутылки из-под виски, бренди и тому подобного. В иных домах от этого мусора ломились полки. Их можно понять – это было экзотикой.
11 Не задумывались мы в то время над быстротечностью жизни… а зря – Сергей Иванович так и не дожил до того момента, когда такой «португальский портвейн» можно будет купить на каждом углу.
12 Тогда товар пачкался черной типографской краской. Помнится, как на батоне белого хлеба отпечатался текст какой-то статьи.
13 Если читателю это время покажется слишком длинным, то напомню, что за 18 минут до этого, я сидел в ресторане и, потягивая вино из бокала, держал за руку Марину.
14 Удивительно, что жена преспокойно отпустила его в «последний путь» даже не почувствовав своим женским сердцем, что жить ему остается менее двух часов.
15 Сейчас я стар, но все так же мало разбираюсь в жизни.
16 Проехав раз пятьдесят милицейской бронью, я всего два раза встретил милиционеров. Остальные мои попутчики были такими же как я – родственниками, или знакомыми, или знакомыми знакомых работников милиции.
17 По своему опыту – Бородинский хлеб, стоимостью 18 копеек, я продавал до рубля!!! Кофточку за 48 рублей по 140-160, зонтик «Три слона» за 21 рубль в районе 70-100 в зависимости от состоятельности покупателя. Сейчас это кажется фантастикой – но это – было! Так что некоторым ужасы советской действительности оборачивались в баснословную прибыль.
18 Если кто еще помнит этих плохоодетых темных личностей, осаждавших московские магазины и стоящих в десятке очередей одновременно, то ему может показаться странным тот факт, что у них могли быть какие-то связи. Естественно – это были всего лишь исполнители. Сами спекулянты сидели по домам и организовывали работу. Точно так же как мы после СССР работали с «челноками».
19 Частным лицам письма доставлялись лучше, поскольку почты ежедневно разносили газеты, а с газетами и остальную корреспонденцию. А для организаций ждали, когда побольше писем накопится – не нести же две-три штуки – и ожидание складывалось в месяцы и годы.
20 С тех пор прошло тридцать лет, я стал намного реже обращаться к людям словами «отец» и «мать», зато стал употреблять доселе неведомые мне слова: «сынок», «дочка», «внучек». «Бабушка», «дедушка» полностью вышли из моего лексикона и, если не умру, скоро не буду ни к кому обращаться словами «отец» или «мать».
21 Очередной ужас советской действительности – лавок в залах ожидания было всегда планомерно меньше, чем ожидалось народа – как говорится, чтобы не засиживались. Многие были вынуждены сидеть на своих сумках или чемоданах. Поскольку я никогда с собой ничего подобного не брал, то садился на пол. А вот это не допускалось. Меня несколько раз, и в Москве, и в иных городах поднимали за плечи менты и, так скажем, легонько прикладывали спиной об стену, чтобы я невольно выдыхнул на них, вместе с криком. Убедившись, что я не пьян, они обычно уходили, помахав кулаком у меня под носом.
22 Вагонзак – вагон для перевозки заключенных, в память о использовании сталинскими палачами переселенческих вагонов появившихся при Столыпине, для транспортировки арестованных.
23 Интересно, что и Христос, и Будда, и Мухаммед начали пророчествовать в возрасте старше 30 лет, Будда в 35, Мухаммед в 40.





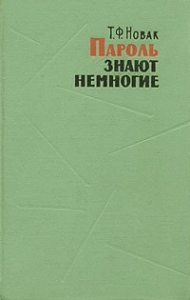


Комментарии к книге «Командировки в Минск 1983-1985 гг.», Владимир Владимирович Юрков
Всего 0 комментариев