Элис Токлас
Алиса Бабетт Токлас (Alice Babette Toklas; 30 апреля 1877, Сан-Франциско — 7 марта 1967, Париж) — американская писательница, многолетняя возлюбленная Гертруды Стайн. В 1907 встретила в Париже Гертруду Стайн, с которой прожила вместе сорок лет, включая годы нацистской оккупации.
В их парижском салоне на улице Флёрюс бывали Ш. Андерсон, Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Торнтон Уайлдер, Пол Боулз, художники Пикассо, Матисс, Брак. После смерти подруги Токлас опубликовала «Поваренную книгу Алисы Б. Токлас» (1954), в которой воспоминания о совместной жизни смешивались с кулинарными рецептами. В 1963 издала книгу мемуаров «То, что запомнилось». Похоронена на кладбище Пер-Лашез, рядом с Гертрудой Стайн.
Илья Басс — автор биографии американской писательницы Гертруды Стайн (Жизнь и время Гертруды Стайн. Москва, Аграф, 2013) и нескольких переводов ее произведений. Другие работы автора:
Книги:
— И. Басс (совместно с Хансом Оуном). Кьеркегор С. Жизнь. Философия. Христианство, СПб. Дмитрий Буланин, 2004.
— И. Басс. Женщины в жизни Францо Кафки. СПб, Алетейя, 2009. (Книга вошла в список 50-ти лучших за 2009 год по версии «НГ-Ех Libris»).
— И. Басс. Секретная миссия в Марселе. Один год из жизни Вариана Фрая, СПб, Алетейя, 2011.
Переводы:
— С. Киган — Невеста Ветра. Жизнь и Время Альмы Малер. СПб, Композитор, 2008.
— Гордимер Надин. Письмо отца Францу Кафке. // Время и Место. Выпуск 3, Нью-Йорк, 2009.
— Г. Стайн — Q.E.D. Тверь, Kolonna Publications, 2013.
— Г. Стайн — Автобиография каждого. Тверь, Kolonna Publications, 2014.
— Г. Стайн — Войны, которые я видела. Тверь, Kolonna Publications, 2015.
Штрих к биографии Элис Б. Токлас
Я — ничто, лишь память о ней.
Из письма Элис Токлас Ван Вехтену 21 мая 1958 г.Так писала Токлас спустя 12 лет после смерти Гертруды Стайн — о своей любви, своей спутнице по жизни и подруге по лесбийскому союзу.
Увы, слишком многие авторы различных публикаций особенно интернетовских, отводят Элис малозначительное место почти 40-летней совместной жизни этих двух женщин, характеризуя Элис всего лишь как малообразованную секретаршу, домохозяйку, кухарку, а то и гораздо хуже — содержанку и т. п. А ведь Токлас была неординарной личностью сама по себе — образованной, интеллигентной и интеллектуальной. Напомню, что у нее было музыкальное образование со степенью бакалавра (даже концертировала короткое время), она была членом литературного клуба в Сан-Франциско (ее переделка романа Генри Джеймса в пьесу приветствовал сам автор). Не чужда она была и интереса к философии — с детства читала Ницше, с юностью пришел Паскаль. Если она и держалась в тени Гертруды, то совсем не в силу ее интеллектуальной несравнимости со Стайн — такой жребий она выбрала себе сама вследствие огромной любви и преданности Гертруде Стайн.
Русскоязычному читателю, интересующемуся жизнью и творчеством Стайн, личность Элис Токлас известна по книге автобиографических произведений писательницы. В ней Элис отодвинута на второй план и представляется читателю послушной спутницей, не имевшей собственного голоса. Это далеко не так. Посмотрим на некоторые факты. Когда при появлении в Париже Элис заметила интерес Гертруды к себе, она немедленно предприняла шаги, ведущие к их сближению. Надо было печатать текст, она освоила машинопись. Надо было избавиться от подруги, висевшей у нее на хвосте и мешавшей проводить время с Гертрудой, она нашла способ это сделать. Внесла она свою лепту и в уход Лео Стайна из квартиры на улице Флерюс. А уж когда на Майорке она и Гертруда объяснились и создали семейный союз, Элис вела твердой рукой семейный корабль, отваживая всех, кто каким-то образом мог внести разлад в их союз. Многие посетители, искавшие дружбы со Стайн, обвиняли Элис в разрушении дружеских связей. Обвинение верное, но в каждом конкретном случае у Токлас были на то серьезные причины. Хемингуэй был отлучен из-за того, что его дружба с Гертрудой перешла дружеские рамки. Такая же судьба и по той же причине постигла аристократку (и бисексуалку) Мейбл Додж. Получали от ворот поворот и те, кто, по мнению Элис, переступал неписаные законы их дома. Художника Эжена (Евгения) Бермана выставили из их загородного дома, застав его в спальне с горничной. Писатель Брейвиг Имс, пытавшийся пристроить свою беременную жену рядом с дачным домом Стайн в расчете на помощь при рождении ребенка, получил от Элис звонок с недвусмысленным отказом. Можно сюда добавить и конфликт с французским поэтом Жоржем Унье, в котором Элис отстаивала равные права Гертруды в ее авторстве с Унье и многое другое. Да, Элис не забывала о собственном и Гертруды благополучии, вставала рано утром, следила за питанием, за уборкой в доме, отвечала за звонки, вела финансовые дела, редактировала рукописи и отправлялась спать в 11 часов вечера.
При жизни Гертруды Стайн Токлас предпочитала не участвовать в творческих разговорах и обсуждениях, придерживаясь «женской» половины собравшихся, занимая ее светскими разговорами.
Не давала она также интервью и не писала никаких статей или книг.
Лишь спустя несколько лет после смерти подруги, в 1950 году появилась в печати ее первая заметка, а затем последовали и книги — впервые Элис Б. Токлас заговорила своим голосом.
На русский язык переведена лишь одна книга Элис Токлас — The Alice В. Toklas Cookbook[1] (русское название — довольно странное — «Поваренная книга жизни»). Теперь русскоязычному читателю представляется возможность узнать о жизни и мыслях Элис Токлас по ее собственным воспоминаниям, письмам и интервью.
В данную книгу включены:
— Автобиография «То, что помнится» (What Is Remembered, 1963), заканчивающаяся смертью Гертруды.
— Избранные письма.
— Два интервью. В одном Токлас объясняет причины разрыва с Хемингуэем. Во втором — впервые признает свое участие в написании «Автобиографии Элис Б. Токлас».
— Статья-воспоминание «Они приехали в Париж ради свободы творчества» (They who came to Paris to write).
— Список публикаций Токлас.
* * *
Автобиография «То, что помнится» опубликована в 1963 году, когда Токлас было 86 лет. Несмотря на преклонный возраст, она сообщает многие подробности о своей жизни в детстве, юности и совместной жизни с Гертрудой Стайн. Поначалу издательство пригласило в помощь Элис писателя Макса Уайта, но после нескольких недель работы Уайт отказался от сотрудничества, ссылаясь на нежелание Токлас сообщать многие интимные детали, постоянно сворачивая беседу на личность Гертруды. В итоге издательство прислало другого литературного помощника. Первоначально автобиография продолжалась до 1951 года, но затем, по настоянию Элис, повествование сократили, закончив смертью Гертруды.
Автобиография «То, что помнится» включает тот же период жизни, что и «Автобиография Элис Б. Токлас», и любопытно сравнить, как описываются те же события разными (а может быть и не совсем разными!?) авторами. Не случайно многие литературоведы до сих пор пытаются анализировать оба текста, стараясь подтвердить или опровергнуть участие Токлас в написании «Автобиографии Элис Б. Токлас». Ведь последняя, написанная осенью 1932 года, резко отличается от всего, до тех пор написанного Г. Стайн, что неизбежно приводит читателя, биографов и исследователей творчества писательницы к заключению о возможном участии Токлас в написании этой книги. Особенно следует отметить огромный исследовательский труд[2], выполненный литературоведом и переводчиком Анне Линзи (Anne Linzie). Проанализировав три текста — The Autobiography of Alice В. Toklas (1932), The Alice B. Toklas Cookbook (1954) и What Is Remembered (1963), используя основные и общепринятые принципы литературоведения и литературного критицизма, Линзи бросила вполне обоснованный вызов авторству Стайн, во всяком случае, единоличному. Не ясно только, в какой степени заключалось участие Э. Токлас. Эта неясность, видимо, так и останется неясностью, а авторство книги всегда будет приписываться Стайн.
* * *
В связи с тем, что автобиография Токлас исключает описание ее собственной жизни после смерти Гертруды, мне показалось логичным дополнить ее письмами Элис к различным людям. Тем более, что они все в той или иной мере касаются жизни и творчества Стайн. По свидетельству Эдварда М. Бернса, крупнейшего биографа Стайн и Токлас, количество писем Токлас, находящихся в частных руках и архивах, превышает три тысячи. Многие письма Токлас — к отцу и подругам не сохранились.
Из доступного количества писем Э. Бернс отобрал, отредактировал и подготовил к печати около 400, написанных после смерти Гертруды Стайн, руководствуясь, по его словам, их литературной и биографической ценностью. Эти письма были изданы в 1973 году под названием Staying on alone — «Жизнь в одиночестве»[3]. На русском языке эти письма не издавались и в данной книге печатаются впервые.
Включить все письма не представлялось возможным, пришлось ограничить их количество — в книге приведено 90 писем. Не посчитал я уважительным к Токлас и воспользоваться сокращением или выдержками. Письма покрывают период 1946–1967 гг. и подобраны таким образом, чтобы можно было вкратце проследить стиль и характер жизни Элис в одиночестве.
В своих письмах к друзьям и знакомым Элис отмечала, что если бы не долг по отношению к Стайн, любовь к ней и преданность ее памяти, ей бы не было смысла продолжать жизнь. А пожелания писательницы и соответственно устремления самой Элис сводились к следующему:
— Добиться передачи портрета Гертруды работы Пикассо на постоянную экспозицию в Метрополитен Музей.
— Издать все неопубликованные произведения писательницы.
— Сохранить картины Стайн как целостную коллекцию и предпочтительно в стенах своей квартиры — в конце концов, это ведь была память Элис о Гертруде.
— Способствовать освобождению из тюрьмы и помилованию одного из ближайших друзей Стайн, французского профессора литературы Бернара Фая.
Какими бы фантастическими не казались эти цели для одинокой, без малого семидесятилетней женщины, она их достигла, приложив невероятное упорство, настойчивость и изворотливость. Правда, коллекция картин «выскользнула» из рук уже немощной 80-летней Элис, но, в конечном счете, целиком оказалась в Америке, хотя многие — в частных руках.
Односторонние, да еще выбранные письма неизбежно содержат в тексте неясности. С этим, увы, приходится считаться. Я счел нужным дать следующие пояснения по содержанию писем:
— Гертруда завещала свой портрет работы Пикассо Музею Метрополитен. Однако на него претендовал и музей Современного искусства (оба музея в Нью-Йорке) в силу соглашения между ними о разделе артистической направленности приобретаемых картин. Потребовалась бесконечная переписка, обращения к юристам, пока наконец в 1948 году Токлас не получила сертификат Метрополитен Музея, свидетельствующий о том, что Гертруда Стайн является меценатом музея.
— С 1951 по 1958 год в издательстве Йельского Университета вышли восемь томов неопубликованные произведений Стайн — ежегодно по одному тому. Все это требовало обширной переписки с куратором Йельского университета Дональдом Гэллапом, литературным душеприказчиком Карлом Ван Вехтеном, и авторами предисловий к каждому тому.
— Для сохранения целостности коллекции Элис предпринимала всяческие юридические и иные ухищрения, чтобы оберечь ее от притязаний наследников Стайн. Все дела по наследию вела юридическая фирма в Балтиморе. Боясь, что племянник Гертруды Аллан Стайн, а затем и его вдова, Рубина Стайн, доберутся до коллекции Гертруды, она проштамповала на обратной стороне каждой картины «Собственность Гертруды Стайн». Все предосторожности оказались излишними, поскольку сын Майкла, Аллан, умер в 1951, и Рубине Стайн самой пришлось долго «подбираться» к наследию своих детей. В последние годы Элис вынуждена была проводить длительное время в Италии для лечения, картины оставались без присмотра, и на этом основании и по решению суда Рубине в 1960 г. удалось изъять коллекцию с улицы Флерюс и пометить в сейфы банка. В конечном итоге коллекция была целиком куплена в 1969 г., уже после смерти Токлас, консорциумом из 6 американцев (включая братьев Рокфеллеров) за 6,25 миллионов долларов. Деньги были поделены между тремя детьми Аллана Стайна (внуками Майкла Стайна).
— В середине 20-х годов Стайн подружилась с Бернаром Фаем, французским литератором и ученым, прекрасно знакомым с американской литературой. Фай способствовал публикации произведений Стайн на французском языке. Их сотрудничество переросло к длительную и теплую дружбу, основанную на общности моральных и политических взглядов. В течение Второй мировой войны Фай был назначен Директором Национальной библиотеки и подчинялся Маршалу Петэну. Есть определенная заслуга Фая в том, что две еврейки-американки уцелели в период немецкой оккупации Франции. Увы, ярый противник масонства Фай собрал и передал Германии все имевшиеся материалы по масонской деятельности в стране, в результате чего сотни масонов подверглись гонениям и физической расправе. После войны за сотрудничество с германской администрацией Фай был приговорен к пожизненному заключению, замененному впоследствии двадцатью годами тюрьмы. «Святым делом» во имя Гертруды назвала Элис спасение Фая. Она обращалась к различным политическим и общественным деятелям Франции и Америки с просьбой помочь Фаю. Что не сделали бесчисленные письма, мольбы и просьбы, сделали деньги. Элис продала рисунки Пикассо, а вырученные деньги пошли на организацию побега и переправки Фая в Швейцарию.
После смерти Гертруды Стайн многие журналисты, литераторы и исследователи творчества писательницы пытались брать интервью у Э. Токлас. Обычно она была немногословна, воздерживалась от эмоций и избегала сообщений частного характера. Однако в нескольких беседах-интервью, она, как это бывает с людьми в глубокой старости, разоткровенничалась. Два интервью (одно — отрывочно) здесь приведены.
Газетно-журнальных публикаций Э. Токлас немного, в основном по кулинарии, несколько по литературе, одна — на политические темы. Здесь включена статья-воспоминание в газете «Нью-Йорк Таймс» о литературном Париже первой половины XX века.
В конце книги приводится индексный указатель имен в русской и оригинальной транскрипции. Это даст возможность искать в случае необходимости более подробную информацию в различных интернетовских и других источниках. Включение такой информации в саму книгу потребовало бы значительного увеличения объема книги. Исключение сделано для адресатов писем.
В письмах в основном сохранена пунктуация Токлас — она стремилась писать длинные предложения, оформляя их как абзацы — не иначе, как помнила выражение Стайн: «Предложения не эмоциональны, абзацы — да».
Илья БассМОЯ ЖИЗНЬ С ГЕРТРУДОЙ СТАЙН
То, что помнится[4]
1
Я родилась и выросла в Калифорнии. Моего деда с материнской стороны можно считать первопроходцем. Он появился там до того, как Калифорния стала 10-м штатом, принятым в Юнион. Дед приобрел участок по добыче золота и поселился в Джексоне, графстве Амадор. Спустя несколько лет он опять пересек Истмус, Панама, и добрался до Бруклина, где женился на моей бабушке. Там родилась и моя мама. Когда ей исполнилось три года, семья вернулась в Джексон.
В день их прибытия в Сан-Франциско во всем городе звонили колокола. Моя бабушка объяснила, что звонят не по случаю праздника. Что же отмечали? На Лоун Маунтин повесили двоих — таков был ответ. Это был малоприятный прием, и это событием навсегда осталось в памяти бабушки.
Золотой прииск деда оказался малоудачным, он его продал и приобрел большой участок земли в долине Сан Хоакин, превратив его в ферму. Позднее муж его сводной сестры прикупил рядышком другой участок. Именно они организовали сопротивление проекту железнодорожной компании Саут Пасифик по прокладке железнодорожных путей, для перевозки на восток урожая долины Сан Хоакин. Они яростно сопротивлялись попыткам подорвать их монополию, завалили дорогу сельскохозяйственным инвентарем. Рельсоукладчик вынужден был остановиться. На следующий день он, однако, прорвался сквозь баррикады, и рабочие уложили рельсы, обеспечив себе проезд. Фрэнк Норрис использовал этот эпизод в первом романе своей трилогии «Спрут: Калифорнийская история» о хлеборобах Калифорнии.
Подходящих школ в графстве Амадор для моей матери и ее сестры не нашлось, как и возможности для бабушки совершенствоваться в музыке. Поэтому мой дед перевез семью в Сан-Франциско и пока он строил семейный дом, женщины жили в Нуклеас отеле. В доме, который он построил на О’Фарелл стрит, семья прожила долгие годы. Обе дочери выросли там, вышли замуж. Там родилась и я, там же позднее умерли бабушка с дедушкой.
Моя мать вместе с группой других женщин пригласила в Сан-Франциско Эмму Маруэдел, ученицу Фребеля, и под ее руководством в большом саду было построено здание школы, создан первый в США детский сад. Туда я отправлялась по утрам, научилась читать и писать по-немецки и по-английски, а также приобретала знания в географии и по арифметике.
Мне было семь или восемь лет, когда бабушка заговорила со мной о музыке и взяла меня на концерт. Первой прослушанной певицей на моей памяти была Жюдис, веселая, хотя и престарелая опереточная певица. На ней сверкала огромная бирюзовая брошь, окантованная по краям бриллиантами — подарок Императора Луи Наполеона. Это было мое первое знакомство с войной 1870 года.
С тех лет компания Тиволи Опера Хаус круглогодично ставила оперы от «Аиды» до «Корневильских Колоколов». Я с одинаковым удовольствием слушала и оперы и оперетты. Там же я впервые услышала «Лоэнгрин». Луиза Тетраццини пела Виолетту в Тиволи. Ее каденции стали сенсационными и ее пригласили петь в Метрополитен Опера в Нью-Йорке. Бабушка стала давать мне уроки музыки на пианино и рассказала, что она и ее три сестры были учениками Фридриха Вика, отца Клары Шуман. Одна из сестер стала в Вене концертирующим пианистом, за что родители лишили ее наследства. Она вышла замуж за армейского офицера, и это был последнее, что мы услышали о Tante Berthe[5].
В девятилетием возрасте отец взял меня с ночевкой к бабушке с дедушкой. Наутро он позвал меня и сказал: «У меня для тебя сюрприз, ты увидишь своего братика». «Это Томми?» — спросила я. Так называлась небольшая мраморная статуэтка — бюст времен Ренессанса, хранившаяся у мамы, и к которой я была особенно привязана. «Нет, не думаю, — ответил отец. — Увидишь». Увидев маленькое красноватое создание, я готова была расплакаться. Я хотела обнять мать и признаться ей в своем страхе. «Он красный как рак, — сказала я. — Ты будешь любить его?». Обняв меня руками, мать ответила: «Не так, как тебя, милая моя, ты всегда будешь главной». Меня это успокоило[6].
Именно в то время мои родители решили отправиться в Европу, чтобы отпраздновать золотую свадьбу родителей моего отца.
Мать и я нашли Нью-Йорк чересчур холодным. Мой кузен прокатил меня на сиденье с полозьями по льду замершего озерца в Центральном парке, в то время как мой отец и его кузены выписывали фигуры на льду.
Чтобы добраться до парохода следовало сесть на паром в городе Хобокен. Сам паром вмерз, необходимо было высвободить его ото льда. Но на пароходе в Атлантическом океане светило солнце и все двенадцатидневное путешествие я играла на палубе.
В Гамбурге, где корабль пришвартовался, мы отправились в цирк Ренц, где не только дрессированные лошади, но и слоны танцевали под звуки большого духового медного оркестра.
Из Гамбурга мы поехали в Кемпен, Силезия, где нас приветствовала многочисленная отцовская родня. Там же к нам присоединился и нью-йоркский брат отца с семьей, а также двое других братьев из штата Нью-Мехико.
Мой дедушка с отцовской стороны был мягким, добрым человеком. Он читал мне сказки братьев Гримм, страшные по сравнению со сказками Ганса Кристина Андерсена и Перро, которые я уже знала. Молодым человеком дед покинул родительский дом и отправился в Португалию, а в 1848 году тайно от жены направился в Париж участвовать в баррикадных боях. Бабушка, не одобрявшая его эскапады, упредила банк в Париже не принимать чеки за его подписью. Оставшись без денег, он вынужден был вернуться в Кемпен.
Мой дед увлекался живописью и подарил одну свою картину моему отцу. Это была чудная картина, изображавшая двух польских всадников в окружении распростертых на земле раненных и мертвых русских солдат. Поляки кромсали оставшихся русских широченными саблями.
Бабушка была крупной, приятной властной женщиной. Она носила очень длинные бриллиантовые серьги. В высоко подобранных седых волосах виднелись искусственные цветы сирени. Мои бабушка с дедушкой прожили за 80 и умерли с разницей в один день.
Из Кемпена отец отвез нас в коляске, запряженной четверкой лошадей, в Штетин навестить своего приятеля лицейских дней. В Штетине, в ресторане какие-то польские офицеры упросили мою мать разрешить мне бокал шампанского, чтобы все могли выпить за Соединенные Штаты.
Из Кемпена наш путь лежал в Вену, а оттуда в Пешт, где родители встречались со своими друзьями. В музыкальном салоне молодежь танцевала с венгерскими офицерами. Я для них станцевала качучу и вальсировала с дочерями хозяина, Стефани и Мелани. Голова у меня заметно закружилась, потому, что они не умели вальсировать в обратную сторону.
Из Пешта мы направились в Англию через Вену и Дрезден. Мать нашла в Кемпене молодую гувернантку — польку. Гувернантка оказалась приятной подружкой, но поскольку прекрасно изъяснялась по-английски, мне не удалось расширить знание польского языка выше уровня, полученного от отца — «Молитвы Богу» и «Боже, храни Польшу», которые я забыла по прошествии половины столетия.
В Англии мы остановились у дяди моей матери, который женился на шотландке. Жили они в сельской местности и у них были две дочери, Вайолет и Адель, моего возраста. Через несколько дней родители решили меня оставить с ними и посмотреть Лондон. Сестренки оказались славными подружками. Одна из них, Вайолет, как-то разбудила меня и сказала: «Пойдем быстро, Адель ходит во сне на балконе без ограды». Глаза у Адели были открыты, но было очевидно, что она не понимает, где она и что происходит. Это было страшным, но романтичным зрелищем.
Не таким пугающим, но таким же романтичным, было желе из слонового хобота, поданного детям к чаю. Желе приготовил индус-полковник, когда мы нанесли ему визит.
Из Англии мы вернулись в Гамбург. На сей раз остановились у другого маминого дяди, доктора, жившего с женой и овдовевшей дочерью. В семье было два больших черных пуделя, неподвижно сидевшие на копчиках, пока мы управлялись с охлажденными пудингами, первыми в моей жизни. Я запомнила название пудингов: Нессельроде и Гималайя. Каждому пуделю дали большой поднос с кофе и молоком. Когда они кончили, слуга удалил эти подносы и заменил их другими. Много лет позже, когда у нас с Гертрудой Стайн был свой пудель, я поняла, что такая система позволяла контролировать их аппетит.
В Гамбурге я и моя полька-гувернантка со слезами расстались, родители забирали меня в Америку на том же самом пароходе, которым мы плыли в Европу. Генерал Лью Уоллес, первый из прочитанных мной авторов, оказался с нами на борту. Генерал был послом в Турции и презентовал мне экземпляр своей книги «Бен Гур»[7] с автографом.
Вскоре мы вернулись в Сан-Франциско и меня определили в школу мисс Мэри Уэст. Девчушка в моем классе поинтересовалась, не миллионер ли мой отец. Я сказала: «Не знаю». «А яхта у вас есть?» — продолжала она. Узнав, что у нас яхты нет, она перестала мной интересоваться. Мать решила, что настало время пристроить меня в другую школу, где маленькие девочки не так снобистски воспитаны.
Новая школа мисс Лэйк показалась мне веселой и интересной. Я тут же познакомилась с излучающей тепло жизнерадостной девочкой Клэр Мур, ставшей на всю жизнь моей подругой. Клэр умерла лишь несколько лет тому назад. В свободное от учебы время мы читали те же книжки, рассказы Джулиан Юинг и Луизы Олкотт, отвратительный и унылый английский роман «Фонарщик» Марии Камминс[8] и рассказ «Честное Благородное», который я безуспешно пыталась раздобыть для Гертруды Стайн. Затем мы увлеклись Диккенсом, начав с «Давида Копперфильда». Мне больше понравились «Повесть о двух городах» и «Большие Надежды».
Мать устроила мне членство в библиотеке Торговой Биржи и вскоре рассказы и романы сменились биографиями и мемуарами. Дома у меня появился Шекспир и кое-что из поэзии.
Я посещала школу мисс Лэйк четыре года. Затем мой отец решил, что мы переедем жить в Сиэтл. Два пожара и спад в промышленности серьезно ухудшили финансовое состояние отца, и там он рассчитывал выкарабкаться из трудной ситуации.
Вскоре после нашего переезда комитет Сан-Францисских банкиров приступил к расследованию финансовой ситуации сложившейся на Северо-Западе. Один из них поинтересовался у моего дяди в Спокане, как обстояли дела с его акциями в горнодобывающей отрасли. «Спасибо, очень благоприятно и ровно» — ответил мой дядя, не будучи склонным к разговорам.
Той осенью я посещала школу мисс Мэри Кокрэйн. Мисс Мэри и ее две сестры составляли штат школы, и все хорошо знали предметы, которым учили. Они были родом из Шенандоа Вэлли, хорошо помнили Гражданскую войну, и это временами вызывало заметную неприязнь между сестрами и их учениками, выходцами с Севера.
Во время моей учебы в школе мисс Кокрэйн армия генерала Кокса двигалась к Вашингтону. Мой отец был членом комитета, который пытался удерживать мужчин на фермах, снабжая их сельскохозяйственным инвентарем и поддерживая цены на урожай от падения.
Мать была страстным садоводом. Она окружила цветами дом и устроила на вершине холма, где мы жили, небольшие клумбы с разнообразными цветами. Она любила составлять оригинальные букеты, особенно из роз Гомера, украшая их сережками хмеля. В небольших клумбах, плотно засаженными цветами, где хватало места лишь для прополки сорняков и срезания цветов, росли различные сорта, ее любимые — карликовые желтые анютины глазки, барвинки и различные сорта сладкого горошка. Однажды я сказала ей: «У тебя такие замечательные голубые глаза, все равно как у водяных барвинок». Цветы заполняли своим запахом и красками весь дом.
Однажды осенью мы жили несколько недель на высоко расположенной ферме в Сноквалми Вэлли. Пришла молодая индианка и попросила пару обуви похоронить своего ребенка, всегда ходившего босиком. Красивая девушка-южанка, жившая на той же ферме, отдала ей пару белых сатиновых босоножек на высоком каблуке.
Мать с моим маленьким братом несколько недель в году проводила у моего дедушки в Сан-Франциско. У него же отдыхала и я во время своих каникул. Однажды, будучи там, я получила телеграмму от матери с сообщением, что миссис Кокрейн закрыла свою школу и мне необходимо немедленно увидеть Сару Хэмлин. Предполагалось, что она теперь будет готовить меня к вступительным экзаменам в университет. Сара Хэмлин привезла в Соединенные Штаты Пандиту Рамабай, призывавшую в Индии юных вдов отказываться от приношения себя в жертву при сожжении их умерших мужей. Каждое утро Сара Хэмлин занималась со мной алгеброй и тригонометрией в объеме, достаточном, чтобы рекомендовать меня в Университет штата Вашингтон.
Зимний семестр в университете оказался приятным периодом: новые друзья, танцы, пикники на озере, когда позволяла погода. Тот год можно было бы отнести к радостным, не будь беспокойства за здоровье матери.
Следующей весной мать перенесла неудачную операцию. Отец решил, что нам следует вернуться в Сан-Франциско для консультации с хирургами. Упаковали мебель и вся компания — моя мать, отец, братишка, специальная медсестра и отцовская охотничья собака погрузились на поезд, Устроились в довольно комфортабельном доме.
Еще одна операция, рекомендованная лучшими хирургами, опять оказалась неудачной, моя мать так никогда не оправилась. Один из ее дядьев часто приглашал нас проехаться к нему в Клифф Хаус. Это стоило больших усилий моей матери, и следующей весной она умерла. Ужасный удар для нас.
Мой дед убедил нас переехать в его дом, где он проживал со своим братом Марком. Дом частенько посещали двоюродные братья, жившие в долине Сан Хоакин. Вскоре после того как мы переехали, разразилась Испано-американская война. Когда солдаты маршировали от Президио по Ван Несс авеню, чтобы погрузиться на корабли, отправлявшиеся на Филиппины, до меня доносились звуки труб оркестра. И я мчалась по Ван Несс авеню, попрощаться с солдатами из полков штатов Вашингтон и Калифорния. Это были те же ребята, с которыми я танцевала. Они были юны и веселы, в отличие от солдат двух мировых войн. Ребята из долины Сан Хоакин получали увольнительную, чтобы отобедать у нас дома. Кухарка и я готовили огромное количество сладких пирожков, чтобы ребята взяли их для своих товарищей в казармах.
Мой дед взял меня в Южную Калифорнию на встречу со своими друзьями-первопоселенцами. Мы добирались туда в карете, на телеге, верхом на лошади и на муле — увлекательно, но утомительно. Дед же мой, похоже, никогда не уставал. По возвращению на День Благодарения мы отправились в долину Сан Хоакин обозревать его владение.
Я получила диплом на пергаментной бумаге, свидетельствующий о присуждении мне степени бакалавра по музыке. Я приступила к урокам игры на пианино с Отто Бендиксом, учеником Листа, и гармонии с Оскаром Вейлем. Их ученица, талантливая и славная Элизабет Хансен стала моей подругой.
Миссис Мур с детьми вернулась из Европы. Когда Клэр готовилась к поступлению в колледж, произошла трагедия. Дженни, вторая дочь, обгорела до смерти. Ее кружевное платье загорелось от свечи, стоявшей на туалетном столике, и помощь подоспела чересчур поздно. Дженни была красивой, очаровательной и пленительной девушкой. Миссис Мур впала в прострацию, и Клэр пришлось взвалить на себя обязанности главы семьи. Вскоре после этого они вновь отправились в Европу.
Я продолжала занятия с Отто Бендиксом. В Сиэтле, где жила Элизабет Хансен, мы дали совместный концерт. То была довольно амбициозная программа. Помню только, что она включала вариации Шумана для двух фортепиано. По возвращению в Сан-Франциско я играла «Странника» Шуберта с оркестром. Вскоре после этого Отто Бендикс умер, и моя музыкальная карьера оборвалась.
Мой дед простудился, болезнь перешла в воспаление легких и в течение недели он умер. В своем завещании Ул своего наследства он завещал моей тете, и по ¼ каждому из своих внуков. Мой отец предложил поехать на юг для отдыха, продать большой дом деда, а по возвращении переехать в меньший по размеру. Мы нашли приятный дом с видом на Президио[9].
Жизнь была приемлемой, я часто встречалась с Элеанор Джозеф, подругой Клэр. Клэр обладала язвительным умом и как-то выразилась о старом школьном приятеле: «Он сказал: „Приходи в сад, Мод“, и Мод пошла»[10]. Я прозвала ее «Калифорнийская Нелл»[11] и обращалась к ней «Нелли».
Гарриет Леви, жившая рядом с нами по соседству, вернулась из Европы, где во Флоренции встретилась с Гертрудой Стайн и ее братом Лео. Оба интересовались живописью Сезанна. С картинами Сезанна их познакомил Чарльз Лозер. Лео планировал отправиться в Париж и учиться живописи; там они с Гертрудой занялись коллекционированием картин. Гертруда частенько посещала художественные галереи Питти и Уфицци, и бывало разморенная летней жарой, засыпала прямо на одной из скамеек. Она говорила: «Приятно проснуться в окружении картин».
В Египте Гарриет познакомилась за обедом с одним англичанином, который спросил ее: «Скажите, сколько вы платите в Калифорнии за убийство китайца?». Гарриет пришла в ужас: «Я никогда не слышала о подобном!». «В Сан Хосе убить китайца стоит 10 долларов» — ответил англичанин.
Семья Муров опять вернулась из Европы. Старшая дочь Пола, выйдя замуж за доктора Уикстида, осталась в Лондоне. Когда он и его братья были еще малышами, некто подъехал к ним, когда они играли в саду, и спросил: «Здесь живет мистер Уикстид?», они хором ответили: «Мы и есть мистер Уикстид».
Семье нужен был глава, и Клэр вышла замуж за Уильяма де Груши, франко-канадца, выросшего в Бостоне, но переехавшего жить в Сан-Франциско.
Жизнь текла спокойно и неторопливо, пока однажды утром нас и наш дом тряхануло землетрясение. Произошла утечка газа, я поспешила в спальню отца, раздвинула занавески и шторы, открывая окна. Отец, по-видимому, еще спал. Я разбудила его: «Вставай, город в огне». «Это, — произнес он со своим обычным спокойствием, — ничего хорошего Востоку не принесет».
Наша служанка подогревала воду в кухне на спиртовке, чтобы приготовить кофе. Дымоходная труба свалилась, водопроводные трубы вышли из строя, ванны не будет. Я поднялась по холму к входу в Президио, там предрассветным утром генерал Фанстон со своим отрядом направлялся в город, где уже начались пожары.
Отец, который, наконец, поднялся, отправился в финансовый квартал города, чтобы убедиться в безопасности ли банковские сейфы. Убедившись в их целостности, он вернулся домой с четырьмя сотнями сигарет — все, что мог купить. «Для Нелли, для Клэр и для тебя», — объяснил он.
Я отослала служанку за продуктами, какие сможет достать, а сама пошла к Нелли, посмотреть, как обстоят дела у нее. Ее обе служанки — китаянки — готовили еду на импровизированной печке на улице. Нелли находилась в своей потемневшей комнате-библиотеке, занимая свой ум, как обычно погрузившись в какой-то роман.
Когда я вернулась домой, там были Клэр и Гарриет. После ленча на тротуаре Клэр поторопилась к матери и брату в Саусалито, а Гарриет отправилась в Окленд.
Пол Коулс из Ассошиэйтед Пресс встретился с журналистами в полдень в Фэрмаунт отеле на Ноб Хилл. На их вопрос, встретятся ли они завтра опять, он ответил: «Если будет завтра».
Во второй половине дня я уложила семейное серебро в китайский сундучок, попросила брата выкопать глубокую яму в саду, в которую и опустили сундучок. Мы насыпали в яму достаточно много земли, чтобы предохранить серебро в случае, если пожар распространится. Работая в саду, я временами ощущала подземные толчки.
Отец с братом устроились на ночь недалеко от Президио, а я должна была провести ночь в Беркли с друзьями одной знакомой женщины. Света не была и прогулка к парому оказалась долгой и трудной.
Когда мы подошли к парому, город погрузился в темноту. Я спросила, идут ли поезда на той стороне залива. «Конечно», — раздался голос из темноты. Люди толпами поднимались на паром, но беспорядка не было. По счастью, у меня не было возможности на переполненном пароме обернуться назад и взглянуть на горящий Сан-Франциско.
В Беркли предстоял длительный подъем по холму к дому Сиднея Эрмерса, где нас приветствовали, накормили горячей едой и выделили удобные кровати. Я спала урывками и проснулась рано. Газеты в Беркли сообщали тревожные новости. Связь с Сан-Франциско отсутствовала, поэтому я тут же вернулась в Сан-Франциско, оставив мою подругу на попечение Эрмерсов.
Путешествие поездом и на пароме оказалась более нормальным, чем предыдущей ночью. Пассажиры не толпились, португальские музыканты на пароме играли развлекательную музыку. Я повстречала двух своих бывших учителей из школы мисс Лейк; они торопились назад, посмотреть, что осталось от их небольшого дома.
Город еще горел. Прибрежные строения и вся дорога к Ван Несс авеню лежали в руинах. Люди советовали каждому, как пробираться короче и безопаснее, и однако потребовался почти час, чтобы добраться до дома.
Отец с братом оставались в Президио недолго, казалось, сохраннее для имущества находиться рядом с ним и они вернулись домой.
Обмывшись губкой с холодной водой, я вышла на улицу. Проходя мимо дома Анни Фабиано, я остановилась и спросила, как они поживают. Она слыла большим специалистом по гвоздикам, вывела много ее новых сортов. Жара от пламени пожаров привела к тому, что цветы расцвели быстрее, чем в оранжереях. Анни не смогла остановить цветение и разрешила мне унести цветов столько, сколько смогу. Я так и поступила и отнесла их к Нелли.
Там собрались Нелли, ее сестра и оба брата, Клэр и Фрэнк Жако, за которого потом Нелли выйдет замуж. Старший брат Нелли, который управлял делами наследства матери, был в подавленном состоянии. Их доход сгорел в пламени пожара. Ничего не осталось, кроме их собственного дома. На ренту от него жить четверым было невозможно.
В Саусалито Клэр нашла пару пачек сигарет «Венус де Мило», которые мы понятно никогда не курили. Я достала несколько пачек, полученных от отца, и мы все с удовольствием ими воспользовались.
Повар-китаец, служивший у Нелли, приготовил нам замечательный ленч. Лишь спустя несколько недель он признался Нелли, что человек тридцать, его кузенов, чьи дома горели, появились у него в поисках убежища. Он раздобыл мешки с рисом, китайские полуфабрикаты и поместил всех пришедших вместе с продуктами в погреб, где они жили несколько недель и вели себя настолько тихо, что никто в доме не заметил их присутствия.
Когда я вернулась домой, отец сообщил, что владелец нашего дома договорился с рабочими отремонтировать дымоход. Для этого потребуется несколько дней, гораздо больше времени понадобится для восстановления водопроводной сети.
Вместе с нашей служанкой я принялась за чистку дома. Из-за дыма все было черно. Очищая шкафчик, я обнаружила два билета на спектакль «Федра» в греческом амфитеатре Калифорнийского университета с участием Сары Бернар. Я совершенно забыла об этом. Я решила, что отправлюсь в Окленд, перекушу, приму ванну у сестры Гарриет и возьму с собой ее племянницу. Не могла решить, что больше привлекало — театр или ванна.
Восхитительный голос Бернар запомнился мне со времен моей юности. Но тот день был особенно показателен. Оставшись одна в конце первого акта, Федра издает мучительный крик, покидая сцену. Очевидно, Бернар не репетировала и не ознакомилась с большой сценой. С протянутыми руками и пронзительным криком она, казалось, вечно направлялась к выходу. Она продлевала крик, ее золотой голос не кончался. Аудитория затаила дыхание. Наконец она добралась до занавеса и исчезла. Я видела ее во многих трагических ролях, но никогда не была так потрясена. После представления, спасибо удачному случаю, мы оказались вблизи Сары Бернар, когда она садилась в открытый фаэтон, собираясь уезжать. Студенты университета распрягли лошадей и собирались тащить фаэтон сами. Она бесстрашно подставила лицо калифорнийскому солнцу, откинув назад голову и украсив лицо знаменитой сияющей улыбкой.
Жизнь после ремонта дымохода и водопровода показалась нормальной, хотя это было далеко не так. Нелли, как обычно, большую часть времени проводило в своей полутемной библиотеке. Она отбирала книги для продажи.
Клэр с мужем сняли квартиру на Пасифик авеню вдали от пожарищ. Мы продолжали жить экстравагантно, но экономно. Фрэнк Жако позже обозвал нас «компания необходимой роскоши». Мы посещали театры, катались на машинах, пропадали в «Литтл Пэлас Кафе и Отель», ставшим модным торговым центром, где можно было купить парижскую одежду и духи, если позволяли средства, да и если не позволяли.
Майкл Стайн, старший брат Гертруды, вместе с женой спешно приехали из Парижа, чтобы проинспектировать свои доходные дома и определить, что нуждается в ремонте. С собой они привезли «Портрет с зеленой полосой» — мадам Матисс с зеленой, простирающейся вниз линией на лице. Эта картина и остальные были первыми картинами Матисса, пересекшими Атлантический океан. Портрет произвел на меня огромное впечатление, такое же как «Женщина в шляпе» на Гертруду Стайн, когда та впервые увидела ее на вернисаже в Осеннем Салоне 1905 года и тут же приобрела ее.
Мисс Стайн, жена Майкла, последовала примеру Гертруды, приобретая Матисса, но картины Пикассо ей не нравились, как не нравились они и Матиссу. Ни изображения на картинах, ни сами картины не были в его вкусе. Миссис Стайн слепо следовало Матиссу, а Майкл верил жене и тому, во что верила она.
Мистер Стайн был джентльменом. Как-то я одела серебряный пояс с голубым камешком в пряжке, купленный на курорте Саут Си Айленд. Когда взгляд Майка Стайна упал на голубой камень, он вытащил из карман небольшое увеличительное стекло. Обследовав камень, он сказал, что это старинное азиатское стекло.
Мой отец встретил меня однажды на Ван Несс авеню, идущей вместе с супругами Стайн. Позже, уже дома он допросил меня с характерной для поляка предвзятостью: «Кто, ты говоришь, этот германский монументальный памятник, с которым ты была сегодня?»
Миссис Стайн, услышав как-то, что Гарриет и я собираемся когда-нибудь вместе в Париж, предложила мне вернуться с ними. Я прохладно отнеслась к этому предложению, и они подобрали себе более подходящую очаровательную молодую девушку.
Гарриет часто обсуждала нашу поездку в Париж. Сейчас подошло время поговорить о наших планах с отцом. В тот день, когда я ему об этом сообщила, он уклончиво вздохнул. Наконец сказал, что закроет дом и поселится в своем клубе. Мой брат вполне мог жить оставшиеся два университетских года в Калифорнии, в Беркли.
Мы смогли отправиться лишь в сентябре 1907 года. Нам предстояло в сильную жару пересечь весь континент, и пока проводник приводил наше купе в порядок, Гарриет и я сидели в салоне, где Гарриет и глава отделения психологии Эдинбургского университета впервые завязали разговор. Этот разговор перешел в длительные беседы.
В Нью-Йорке мы остановились в приличном отеле, на крыше которого был сад, где обедала Лилиан Рассел. Там же обедали и мы. Нелли к этому времени уже была замужем и вместе с Фрэнком Жако поселилась в Нью-Йорке. На следующий же день Нелли повела меня смотреть Назимову в «Кукольном доме»[12]. Ее славянский темперамент не подходил для роли Норы. Это была последняя постановка Ибсена, которую мне довелось увидеть.
Назавтра мы отправились на пароход и проехали мимо огромной стройки, где трудились мириады рабочих на месте, которое вскоре станет станцией Грэнд Рэпид. Почти библейское зрелище.
Нелли послала на корабль цветы, книги, журналы и фрукты. Мне достались письма Флобера, Гарриет — Lord Jim[13], которую она расценила как бестактный выбор со стороны подруги, пославшей книгу.
Среди публики на корабле выделялся командир корабля, человек в годах. Однажды он заговорил со мной, когда я на палубе после обеда читала книгу. Мы провели большую часть путешествия вместе. Гарриет не обсуждала со мной этот эпизод, но я видела, что она считала меня недостаточно благоразумной. Командир и я спокойно попрощались, когда мы пересаживались на катер, доставивший нас к зданию порта Шербур.
Был праздничный день, люди танцевали прямо на улицах. Мы решили переночевать в Шербуре и утренним поездом отправиться в Париж. Под окном отеля в мягком французском воздухе раздавались французские голоса, певшие французские песни.
2
Проснувшись, в ожидании, когда принесут кофе, я открыла ставни и высунулась из окна. Внизу, в скверике напротив, люди чистили территорию, орудуя какими-то странными метлами и ведрами с водой. По сравнению с уборкой улиц в Сан-Франциско, это напоминало скорее домашнюю уборку.
Мы сели в поезд, состав судорожно дернулся, и отправился в путь. Нам достались места у окна. Кондуктор сказал, что имеется вагон-ресторан, где для нас тоже зарезервированы два места.
Пейзаж, мелькавший за окном, был восхитителен, в полях виднелись красные маки, белые нивяники, васильки и над всем этим распростерлось божественное голубое небо. Миниатюрные деревеньки, домики, жмущиеся друг к другу, церковь, коровы, волы, вспахивающие землю — полная благодать. Гарриет задремала. Во второй половине дня, когда осталась позади Нормандия, появился кондуктор, отрезал часть наших билетов и сообщил, что через полчаса прибудем в Париж.
Конечная станция была запружена и оживлена — ничего подобного в жизни я не видела. Люди входили, выходили, одни торопились — направо, другие — налево. Понадобилось довольно много времени, чтобы привыкнуть к французской суматохе.
Получив на таможне багаж, мы решили вместо большого и закрытого дилижанса нанять два фиакра и по дороге к отелю присмотреться к Парижу. Нелли посоветовала нам снять номер в «Магеллане», недалеко от площади Этуаль и Булонского Леса. Его ресторан был хорошо известен и славился отменной едой.
Номера оказались просторными — для каждой из нас имелась спальня, ванная и туалетная комната. Тут же зашла Гарриет — оказывается, она уже позвонила Майку Стайну, дала знать о нашем прибытии и о намерении, не откладывая, навестить их.
Мы снова оказались в этих удивительных фиакрах. Улицы не походили одна на другую, один квартал никак не напоминал другой; даже каждый дом внешне отличался от соседнего. Роскошные жилища могли соседствовать с продуктовыми лавками или прачечными. В те дни не требовалось покидать свой район, чтобы сделать покупки. Повсюду встречались цветочницы и цветочные магазины и вообще много интересного.
Семья Майкла Стайна проживала тогда (как и многие годы впоследствии) на улице Мадам, в здании, прежде принадлежавшем протестантской церкви. Огромная гостиная когда-то служила местом богослужения и занятий воскресной школы. Освещалась комната дневным светом благодаря нескольким огромным окнам, расположенным на одной стороне, и выходящими в сад; стены были увешаны множеством картин.
Нас встретили супруги Стайн [Майкл и Сара] и Гертруда Стайн. Гертруда Стайн целиком завладела моим вниманием, и это продолжалось в течение долгих лет нашей совместной жизни, и далее, в мои опустошенные годы после ее смерти. Вся бронзовая, загоревшая под солнцем Тосканы, с золотым оттенком теплых каштановых волос — такой она предстала предо мной. На ней был теплый вельветовый костюм с большой круглой коралловой брошью. Говорила очень мало, но много смеялась. Мне казалось, что ее голос исходит из этой броши. И ни на какой другой этот голос не был похож — глубокое, сочное, бархатное, замечательное контральто, как два голоса. Она была крупной, грузной с небольшими деликатными руками и необыкновенно прекрасной, будто вылепленной, головой. Ее голову часто сравнивали с головой римских императоров, но позднее Дональд Сазерленд утверждал, что ее глаза характерны скорее для древних греков.
Нам подали чай, и вскоре после этого мы ушли. Гертруда Стайн пригласила меня на следующий день посетить ее квартиру на улице Флерюс и вместе отправиться на прогулку.
От всех событий, в один день случившихся, голова моя шла кругом. Вкусно отобедав, я принялась за книгу, но вскоре заснула. Утром распаковала вещи. Гарриет хотела перекусить на свежем воздухе в одном из ресторанов в Булонском лесу. На случай возможного опоздания мне показалось разумным послать petit Ыеи[14]. Я таки опоздала на полчаса.
Когда я добралась до улицы Флерюс и постучала в громадную входную дверь во дворе, ее открыла сама Гертруда Стайн. По сравнению со вчерашним днем она выглядела по-иному. В руках — моя записка, на лице — ни следа от прежней ободряющей улыбки. Ныне она предстала мстительной богиней, и я испугалась. Я не знала, что случилось или чего ожидать.
Даже сейчас не могу описать. Походив вдоль длинного флорентийского стола, удлиненного еще больше двумя прилегающими столиками, она остановилась передо мной и сказала: «Ну вот, теперь вы понимаете. А сейчас забудем об этом. Еще не поздно отправиться на прогулку. Пока я переоденусь, можете посмотреть картины».
Стены комнаты — с cimaise[15] до потолка — были покрыты картинами. Мебель и предметы окружающей обстановки восхитили меня. Вот и сейчас напротив меня — большой тосканский стол, тосканский же старинный восьмиугольный столик с тремя массивными изогнутыми ножками-лапами, двухэтажный буфет в стиле Генрих IV с тремя вырезанными орлами на верхней части. Только после того, как мне довелось протирать пыль с этой и другой мебели, я по-настоящему оценила ее красоту, детали и пропорции. Здесь, в комнате на улице Кристин[16], от предметов, что были на улице Флерюс, осталось лишь несколько: терракотовые, XVII века, фигурки женщин, да несколько артефактов итальянской керамики.
К тому времени, когда я разглядела мебель и всю обстановку, в комнату вернулась Гертруда Стайн, на сей раз более похожая на вчерашнюю. Улыбка пробилась сквозь хмурость, а из броши, как прежде, исходил ее глубокий смех. Она поинтересовалась Гарриет, ее здоровьем, настроением и способностями, говоря о Гарриет фамильярно, как о знакомой. Затем мы совершили нашу первую прогулку. В окрестностях Люксембургского сада она обратилась ко мне со словами: «Элис, посмотри на осеннюю лиственную ограду». Но я не решилась ответить ей той же фамильярностью.
Люксембургский сад был заполнен; одни ребятишки пускали кораблики в искусственном водоеме-озере, другие — вертели обручи с колокольчиками, точно такими же, какими я играла в детстве в парке Монсо. Няньки все еще носили длинные пелерины и накрахмаленные белые чепчики с длинными и широкими лентами. Гертруда Стайн провела меня садами через Малый Люксембург на бульвар Сен-Мишель. По дороге расспрашивала, какие книги читала на корабле, и переведены ли на английский язык письма Флобера. Она предпочитала не читать и не разговаривать на французском и немецком языках, хотя владела и тем и другим.
То тут, то там можно было видеть студентов с цветными ленточками, свидетельствующими о принадлежности к тому или иному факультету Сорбонского Университета. Гертруда Стайн знала хороший кондитерский магазин на Левом берегу [Сены], где продавали пирожные и мороженое, и предложила полакомиться, что мы и сделали, заказав миндальное мороженое, точно такое же, как в Сан-Франциско. Мы поедали сладости на свежем воздухе, сидя за столиком на тротуаре. Гертруда пригласила меня и Гарриет непременно поужинать у них в субботу и встретиться с художниками.
На следующее утро я отправилась на Правый берег, намереваясь получить рекомендательное письмо и забрать возможную почту в банке, что на Вандомской площади. Я обнаружила довольно неприятное письмо от капитана, на которое и не собиралась отвечать. Положив письмо в сумочку, я пошла к Тюильри. Там, присев около искусственного озерка, разорвала письмо на мелкие кусочки, и, надеясь, что меня никто не увидит, бросила их в воду. Затем через Елисейские поля вернулась в отель. Ладно, с этим эпизодом покончено.
Я предприняла несколько утренних и послеобеденных прогулок по разным местам, находя Париж все более и более очаровательным. В Лувр не заходила и не собиралась этого делать до следующей недели. Прежде всего, следовало поближе познакомиться с городом, которому предназначалось стать моим домом.
В субботу я постучала в дверь студии. На сей раз то была не Гертруда Стайн, а ее брат Лео. Вряд ли я бы признала его, сравнивая с сестрой — они совершенно не были похожи. Гертруда походила на родственников с отцовской стороны, братья — друг на друга. Внешне Лео весь, как и Гертруда, Стайн, казался золотисто-бронзовым; борода тоже отсвечивала золотом. Эдит Ситуэлл рассказала мне, как ее отца спросили, похожа ли дочь на него. Он ответил: «Да, но ей недостает „этого“», — и указал на бороду. Как и Гертруда, Стайн, Лео был одет во все коричневое. И одинаковые сандалии, сделанные во Флоренции по модели дизайнера Раймонда Дункана. Дункан скопировал модель с греческой вазы в Британском музее. У Лео была красивая пружинистая походка, он нес свое высокое тело с неподражаемой грациозностью. В то время он вел себя вполне дружелюбно. Но позднее, когда они с Гертрудой Стайн разошлись в оценке Пикассо и ее литературного творчества, он стал необоснованно критичным и невыносимым.
В студии вместе со Стайнами присутствовал и невысокий, очень смуглый и крайне оживленный молодой человек, Альфред Морер, американский художник; близкие звали его Альфи. Веселый и остроумный, он любил шокировать друзей. Однажды вечером, будучи в гостях у Стайнов во Фиезоле, он глядя с террасы вниз, на долину Арно, вздохнул: «Должно быть, там десять тысяч гурий». «Но десять тысяч чересчур много», — заметила Гертруда Стайн. «Но не для меня», — ответил Альфи.
Служанка Элен энергично постучала в дверь, призывая к обеду. Гертруда Стайн вывела нас из студии, закрыв ее на американский замок[17]. Расположенная рядышком дверь в павильон была открыта, и узким коридором, через первую же справа дверь, мы проследовали в столовую. Столовая была небольшая по размеру, да еще уставленная вдоль одной стены книжными полками. По обе стороны от двойных дверей — одна напротив другой — во всю их высоту висели акварели и рисунки Пикассо.
Когда мы сидели за столом, послышался громкий стук в дверь. Элен объявила о прибытии месье Пикассо и мадам Фернанды и в то же мгновение они вошли — возбужденные, не переставая говорить. Пикассо, очень смуглый, черноволосый, с удивительными сверкающими, всевидящими черными глазами, над одним из которых нависла узкая челка, доказывал своим резким испанским голосом: «Вы же знаете, как испанец, я предпочитаю приходить вовремя, таков я всегда!». Фернанда же своим характерным жестом — в наполеоновской манере с поднятой над головой рукой и указательным пальцем, направленным вверх, попросила у Гертруды Стайн извинения[18]. Новый костюм на ней, сшитый к завтрашнему вернисажу в Осеннем Салоне, не был доставлен в срок и, разумеется, не оставалось ничего другого, как подождать посыльного. Фернанда была грузной женщиной с необыкновенным, естественного цвета maquillage[19], черными, узкими глазами. Вылитая одалиска. Внимание, которое она привлекла, польстило ей и она, умиротворенная, уселась.
Ужин был прост, но вкусно приготовлен. Элен не умела, да и не любила готовить сложные блюда или те, которые требовали большого времени. Она бы не рискнула приготовить восхитительные французские блины. Но все, требующее жарки, она доводила до совершенства. Баранья нога неизменно оказывалась редкостно вкусным угощением. Элен обычно ставила ее в духовку, отправлялась по делам поблизости от дома, но в нужный момент возвращалась, чтобы облить жиром мясо.
За столом велся оживленный разговор. Во время десерта появилась Элен с сообщением: в студии очередные гости. Гертруда Стайн заторопилась из-за стола. Вскоре мы последовали за ней и обнаружили ее сидящей в высоком кожаном тосканском, в стиле Ренессанс, кресле: ноги покоились на нескольких седловатых подушечках, наставленных одна на другую.
Она представила нам привлекательного рыжеватого человека, Пьера Роше, который, коверкая слова, говорил на нескольких языках, включая венгерский; Ганса Пуррманна, немецкого художника, адепта Матисса; Патрика Генри Брюса, убедившего (вместе с Майклом Стайном) Матисса открыть свою школу; Сайена, талантливого инженера-электрика, расставшегося с карьерой в фирме Томпсон-Хьюстон, чтобы приехать в Париж учиться искусству рисования; группу обитателей Монмартра, окружавших Пикассо, как квадрилья тореадора; Жоржа Брака; и некоего Кремница, который мог петь песню «Старая Кентская дорога» с заметным французским акцентом. Также присутствовали: француз Аполлинер, испанский художник Пишо и некий, похожий на Греко, ювелир.
Фернанда и Брак затеяли игру в des incroyables[20]. Брака я приняла за американца. Но настоящим американцем оказался Уильям Кук, который рисовал портреты английских герцогинь, затем деятелей Римской империи, включая многих кардиналов, но оставил живопись и переключился на гравюры.
К тому времени, когда Гарриет переговорила с каждым из представленных (а также непредставленных), она уже была готова уйти. Гертруда Стайн договорилась с нами о встрече завтра на вернисаже в Осеннем Салоне. Она также спросила, не хотела бы я взять уроки французского языка у Фернанды, которая получила хорошее образование и читала вслух басни Лафонтена, пока Пикассо рисовал портрет Гертруды Стайн.
Мы выбрались на вернисаж рано и безо всяких трудностей разыскали salle des fauves[21], диких животных, как их называли. Пикассо окружала его квадрилья, за исключением Брака, проявлявшего двойную лояльность — он находился в толпе, окружавшей Фернанду. Заметив Гарриет и меня, она подошла к нам своей тяжеловесной походкой и представила своих друзей: Алису Дерен, чья невозмутимо-спокойная красота заработала ей прозвище La Vierge — Дива, и Жермен Пишо, чья внешность была полной противоположностью.
Я переговорила с Фернандой и выразила желание брать у нее уроки французского языка. Не смогла бы она приходить по утрам в отель и заниматься там? Она назвала меня Миис (Мисс) Токлас и сообщила плату: за урок — два с половиной франка (пятьдесят центов). Я предложила оплачивать извозчика. «О, нет, — засмеялась она. — Я поеду автобусом или на метро». Мы выбрали день на следующей неделе. Подошла Гертруда Стайн, поболтала с тремя обитателями Монмартра и поинтересовалась, договорились ли мы об уроках. «Она будет приходить по утрам в 10 и оставаться до часу дня», — ответила я.
Помещение постепенно заполнялось. Присутствовали не только французы, но и русские, несколько американцев, венгры и немцы. Шли оживленные, хотя и не всегда дружелюбные дискуссии. Хрупкая русская девушка объясняла свою картину: обнаженная, держащая в воздухе отрезанную ногу. То было начало русских ужастиков. Она была студенткой в школе Матисса. В первый же день, когда Матисс пришел осмотреть картины, он, как обычно, спросил ее: «Что вы пытались изобразить, мадмуазель?» Она ответила, ни минуты не колеблясь: «Модерн, новизну». Класс зааплодировал.
К нам подошел Пикассо. «Вы будете брать уроки у Фернанды?» — спросил он и добавил: «Она очень образована, но скучна, постарайтесь не заразиться этим от нее. Гертруда должна привести вас ко мне». И закончил со смехом, похожим на ржанье жеребенка: «Я тоже живу на Монмартре».
На следующей неделе семья Майкла Стайна пригласила нас на ленч. В приглашении была приписка, сделанная рукой Майкла: «После ленча я возьму Элис в Лувр. Это скандал, что она еще не удосужилась туда сходить. Я полагал, она интересуется живописью». Возможно, я и интересовалась, но мой главный интерес заключался не в этом.
Ленч состоялся в гостиной. Аллан, маленький сынишка Стайнов, вертелся тут же. Когда мать замечала его присутствие, то не упускала возможности погладить; отца же заботило больше, как доставить ребенку удовольствие. Оба, Матисс и Пикассо, уже сделали его портреты — самая большая награда, которая выпала в жизни на его [Аллана] долю.
После ленча Майкл и я направились к реке, прошли пешеходным мостиком, и скоро очутились в Лувре, у постамента Ники Самофракийской. Майкл быстро провел по этажным пролетам в Квадратный зал. Меня ожидал удивительный сюрприз: картина Джорджоне «Сельский концерт». Но удалось постоять у нее лишь мгновение, меня в спешке тащили вдоль длинной галереи. «Чтобы ты знала, — объяснял Майкл, пока мы неслись мимо километров картин, — как найти то, что надо». Я была изнурена.
Напротив, на улице Риволи мы отведали мороженого в неповторимой венгерской кондитерской.
Гарриет и я, две калифорнийские девушки, почувствовали, что нуждаемся в более спокойной, чуть ли не в домашней обстановке. Гарриет предложила снять меблированную квартиру. В газете «Фигаро» я нашла скромное объявление: граф К. желает сдать в аренду этаж в своем доме для двух персон. Гарриет отнеслась к объявлению более скептически, чем я, но посоветовала немедленно проверить.
После ленча я направилась на улицу Фэзандери. Дверь небольшого каменного домика отворил очень вежливый дворецкий и отвел меня в салон, уставленный мебелью XVIII века, с большим роялем и вазами с оранжерейными цветами. Почти тут же появился молодой человек и представился: месье де Курси. Он говорил на английском, оксфордском английском. «Вы пришли по поводу квартиры? — спросил он. — Она состоит из трех комнат и ванной». По его мнению, квартира была вполне подходящей для двух дам.
Узкая лестница вела на следующий этаж, где находился салон, менее изысканный, чем внизу, но меблированный с тем же вкусом, телефон и две спальни, выходящие окнами на маленький внутренний дворик, где видна была конюшня и кучер, моющий двуколку. Месье де Курси показал мне ванную, разделявшую спальни. Мы спустились на первый этаж, и я спросила, какова плата за показанную мне квартиру на втором этаже. Он поинтересовался, в каком отеле мы остановились и сколько за него платим. «Я ожидаю, — объяснил он, — взимать на одну треть меньше». «Подходит, — ответила я, — если включить сюда и питание». «О, — воскликнул месье Курси. — Моя мать, которая, кстати говоря, гостит у друзей на Луаре, исключительный гурман. У нас прекрасная кухарка, к тому ж тут много хороших магазинов». Я договорилась привести на следующее утро свою подругу. После чего попрощалась и помчалась в отель сообщить Гарриет о моей, как я уверилась, находке.
Гарриет удивилась и обрадовалась. Ранним утром следующего дня мы поторопились на улицу Фэзандери. Комнаты, предназначенные для нас, были уставлены красивыми цветами. В ванной висели полотенца. Гарриет пришла в восторг от всего и спросила, можно ли въехать завтра. «Приходите к ленчу, — ответил месье де Курси, — в час дня».
Вернувшись в гостиницу, мы оповестили администратора о наших планах. Она благожелательно пообещала, что горничная поможет нам упаковать вещи. У Гарриет было полно картонок — набор для шитья, писчие принадлежности, украшения, туалетные принадлежности — она все начала укладывать и перевязывать для надежности резиновой ленточкой.
Мы перебрались в наше новое жилище на улице Фэзандери следующим утром. Не успели целиком распаковаться, как позвали к ленчу. Повар был действительно великолепен, стол сервировали серебром и резным хрусталем. Ленч включал салат из моллюсков, отбивные из баранины, обжаренные в сухарях, со свежим зеленым горошком, а на десерт — мороженое с земляникой. Запивали еду тонким белым вином с виноградников их друзей в долине Луары. Кофе подали в салоне. Месье Курси поинтересовался, не музыкант ли кто-либо из нас, и выразил готовность сыграть что-нибудь из Шопена. Он технически хорошо сыграл несколько этюдов с интересной интерпретацией.
Наш хозяин поинтересовался, не хотим ли мы пойти вечером в «Фоли Бержер». Гарриет предпочла отложить посещение на завтра. Она также попросила, если нетрудно, сделать ужин легким — чашка бульона, овощи и компот или свежие фрукты — и принести его в нашу гостиную.
Я написала несколько писем и записку Гертруде Стайн, извещая о нашей находке и приглашая к нам на ленч в удобное для нее время. Ужиная в нашей комнате, мы поздравили друг друга с удачным решением проблемы.
На следующее утро мы наняли фиакр, объехали Булонский лес, водопад, спустились к реке, огибавшей ипподром, к ресторану Прэ-Каталан и вернулись к себе. Месье де Курси собирался позвонить в «Фоли Бержер» и заказать билеты на вечернее представление.
После ленча Гарриет легла отдохнуть, а я прогулялась вдоль улицы Виктора Гюго, поглазела на витрины, и вернулась, чтобы пообедать и переодеться. Представление в «Фоли Бержер» было красочно поставлено. А то, что было непонятно, все равно воспринималось с удовольствием. Собралась многонациональная публика. Во время антракта в фойе разодетые молодые женщины прогуливались в одиночку и парами, стараясь привлечь внимание мужчин. Одна из них, услышав, что мы говорим по-английски, заметила: «Я тоже говорю по-английски». Месье де Курси это не обескуражило. После представления наш молодой хозяин пригласил нас на ужин в ресторан Пейяр, после чего Гарриет почувствовала себя усталой. И на следующий день за ленчем, когда месье де Курси заговорил о посещении «Комеди Франсез», мы обе запротестовали, решив пропустить один вечер. Что и сделали. А уж потом посмотрели классическую постановку «Рю Блаз» с Жаном Муне-Сюлли в главной роли.
Гертруда Стайн пришла на ленч и положила конец нашей жизни в этой квартире. Она рассматривала продолжающееся отсутствие мадам де Курси объяснимым лишь одним: неведением, что у сына в ее доме проживают две девушки. А потому нам следует в конце недели съехать с квартиры, прежде чем возникнут осложнения. «Найдите отель в нашем квартале и немедленно переезжайте, — заявила она. — Если у вас будут трудности, пошлите мне petit Ыеи, но я не думаю, что они будут».
Итак, мы опять стали паковаться и за обедом объявили о нашем решении месье де Курси. Бедный юноша! Он все повторял: «Но я полагал, что вас здесь все устраивает, что вы вполне довольны, даже счастливы. Моя матушка будет разочарована, не найдя вас по возвращению. Что я ей скажу?». Гарриет молча улыбалась — мы договорились не давать никаких объяснений. Никто из всей троицы не ощущал себя свободным в выражении своих чувств. После обеда мы извинились и отправились заканчивать сборы. Отъезд существенно отличался от прибытия.
На следующее утро мы, возможно чересчур игриво, попрощались с месье де Курси. От Гертруды Стайн пришла petit Ыеи с советом попробовать удачу в отеле Юниверс на бульваре Сен-Мишель. Туда мы и поехали.
Отель был приятно расположен между садом Малого Люксембургского дворца и садом Института глухонемых. В этом отеле останавливался Стриндберг. Гарриет досталась большая комната с окнами, выходящими на Малый Люксембургский дворец, а мне — меньшая, с видом на сад Института. В номере имелись две ванны.
Мы только начали распаковывать вещи, и в комнатах еще царил беспорядок, когда появилась Гертруда Стайн с небольшим букетом цветов для Гарриет и шоколадом для меня. С порога она сообщила, что, по ее мнению, мы сделали удачную замену. Экономически выгодную, во всяком случае, ибо плата за номер составляла половину платы за квартиру и четвертую часть от стоимости пребывания в отеле «Магеллан». К тому же требовалось лишь 20 минут, чтобы пересечь Люксембургский сад и дойти до улицы Флерюс, 27. Гертруда Стайн и я могли теперь вместе совершать прогулки и посещать разные мероприятия.
То было началом моей дружбы с Гертрудой Стайн, и с тех пор я должна была обращаться к ней только по имени. Но никогда не приспособилась называть жену Майкла Стайна «Салли» — она так и осталась Сарой. С Майклом все обстояло проще. Мне доводилось больше встречаться с ним, чем с Сарой, но чаще всего я виделась с Гертрудой.
Гарриет и я навещали улицу Флерюс по субботним вечерам. Трижды в неделю у меня были уроки французского. Поскольку Фернанда проявляла мало интереса к чему-нибудь, кроме одежды и духов, я вскоре стала брать ее на выставки картин и встречаться с ее подругами — Алис Дерен и Жермен Пишо в ее квартире на Монмартре. Квартира была меблирована с большой тщательностью арендованными вещами: пианино, турецкие покрывала для кровати и стола, чаши из матового стекла и пепельницы. Испорченный вкус. Я предложила Фернанде пригласить подруг к нам в отель на чай, но она отложила визит. Гертруда объяснила: Фернанда считает высказывания Алис Дерен чересчур откровенными и не для ушей Гарриет. Я так не находила.
Фернанда оказалась трудной знакомой, завидовала другим женщинам, их красоте, вниманию со стороны мужчин. Но была без ума от Эвелин Зо — маленькой, бесцветной, невыразительной актрисы и модели, которая в то время не сходила со страниц газет.
Фернанда привораживала Пабло своей внешностью. Гораздо позже, когда они расстались окончательно, он выразился о ней так: «Мне никогда не нравились ее фокусы, но ее красота всегда удерживала меня». Во время болезни Фернанды, Пабло оплатил большую часть расходов за ее пребывание в отличной частной лечебнице. Когда я посетила там Фернанду, то поразилась ее красоте.
Фернанда поведала мне превеликое множество историй о Ван Донген, Жермен Пишо, Мари Лорансен. Мари Лорансен в те ранние годы выглядела простоватой девушкой — близорукие, навыкате глаза, чересчур толстые губы, а по темпераменту и поведению напоминала нам некое странное мифологическое животное. Фернанда говорила, что Мари, словно маленькое животное, издавала шипящие, диковатые звуки, и Пабло не мог выносить ни их, ни ее саму.
Гертруду одолевало желание узнать, носит ли Фернанда свои большие золотые испанские серьги в виде колец. Лишь несколько недель спустя мне открыли смысл этой заинтересованности. Фернанда поссорилась с Пикассо, и сейчас, по прошествии некоторого времени, снесла их в ломбард. Это означало, что для нее наступило безденежье, и они скоро помирятся.
Фернанда отказалась от своей квартиры и переехала в студию Пикассо на улице Равиньян. Именно в этот период я стала брать ее с собой за покупками, на выставки собак и кошек, на все, что могло бы послужить ей темой для разговоров. Пабло остался благодарен мне, сбыв с себя заботу о Фернанде.
Я встречалась с ними по субботним вечерам на улице Флерюс. Там же, среди множества прочих, увидела и Луиз Хейден. Луиз собиралась стать концертным пианистом, готовилась в Мюнхене, но устав от города, переехала с матерью в Париж. Они нашли хорошо отапливаемую квартиру на бульваре Распай и я часто их навещала. Вскоре Луиз стала одним из любимейших учеников Филлипа[22], известного в Париже наставника и пианиста. Гертруда считала, что именно он научил ее играть чересчур быстро.
Однажды пересекая Люксембургский сад, я встретила Лесли Хантера, художника из Сан-Франциско, крупного, упитанного шотландца. Он навещал меня и брал с собой в длительные, холодные, зимние прогулки. Я показала ему картины на улице Флерюс, он был глубоко шокирован. Он пожалел, что пошел смотреть их. Ведь его стиль вырабатывался под влиянием сэра Томаса Лоуренса.
В этот период произошел новый и тревожный инцидент. Еще в Сан-Франциско Гарриет попала под влияние миссис Кинг, обладавшей мощным интеллектом. Миссис Кинг, жена викария Высшей Церкви, пыталась вбить в голову Гарриет концепцию своего мужа о Боге. Бедняжка Гарриет, терзаясь, поделилась своими проблемами с Гертрудой. Между ними состоялись продолжительные дискуссии, и однажды Гертруда сказала девушке, что у нее ничего другого не остается, как покончить с собой. Это расстроило меня больше, чем саму Гарриет, которая впала в глубокий транс. Гертруда отправилась домой, а я — обедать. Вернувшись, я обнаружила в своей комнате на письменном столе записку, нацарапанную Гарриет. В ней содержалась просьба не будить ее утром — она сама даст знать, когда проснется. Я уснула за чтением одного из тридцати томов о жизни Жорж Санд, который приобрела в лавке поддержанной литературы на улице Вожирар.
Ранним утром Гарриет разбудила меня, повторяя: «Элис, быстренько иди ко мне». Набросив платье, я поторопилась к Гарриет. Она сидела на кровати, ее маленькие выразительные глаза блестели как никогда прежде. «Я видела Бога! — сказала она блаженным голосом. — Он явился мне в виде капли воды с небес». «Очень рада за тебя», — начала было я, но она жестом прервала: «Иди к Гертруде и немедленно приведи сюда. Я неотлагательно должна ее видеть».
Одевшись, я спустилась в холл, наняла фиакр и попросила отвезти на улицу Флерюс, и там подождать. На часах было половина девятого. Элен предупредила, что мадмуазель Гертруда еще спит, а будить себя не позволяет. Но этим утром было неотложное дело. Элен отправилась наверх, и я услышала сильный стук в дверь. Наконец, служанка вернулась с известием, что мадмуазель одевается и скоро спустится, а пока она приготовит для нас кофе. Добрая Элен!
Когда Гертруда появилась, я рассказала, что произошло. Гертруда разразилась смехом: «Гарриет предпочла видеть Бога, а не убивать себя. Что же мне делать с ней? Придется найти того, кто возьмет на себя решение ее проблемы. Может, Салли».
В отеле я оставила их наедине, а сама приняла ванну, оделась и выпила еще кофе.
В течение нескольких последующих дней имели место таинственные беседы Гарриет с Сарой, адептом Научной Церкви Христа. Уговаривали ли ее присоединиться к этой церкви? Со мной не делились, но в тех редких случаях, когда я видела Гарриет, она стала прежней.
В эти же дни Гертруда рассказала мне, что Салли не потерпит ее участия в духовном спасении Гарриет. Да, и сама Гертруда не желала этим заниматься. Поэтому мы уходили гулять или посещали картинные галереи.
Но вскоре Сара решила, что Гарриет отнимает чересчур много времени, от чего страдают ее занятия рисованием. Как раз в то время Сара стала любимой ученицей Матисса в школе, которую она и Патрик Генри Брюс убедили его открыть. Они же нашли и очень большую студию недалеко от квартиры Матисса и его собственной студии. Студия была дешевой даже по тем временам. Гертруда всегда величала Матисса le cher maitre[23], в насмешку, конечно.
Школу посещали иностранцы — три американца, несколько чехов, молодые венгры, итальянец, группа немцев. Молодая и привлекательная русская девушка, Ольга Мерсон липла то к одному, то к другому юноше. Ее не трогало их безразличие к ее прелестям. В конце концов, она проявила особый интерес к самому cher maitre. Он был светловолос, носил очки с позолоченной оправой, что делало его похожим на немецкого профессора. Возможно, в память о его студенческих годах в Германии?
Среди студентов существовала большая разобщенность во мнениях и серьезная ревность к близости Сары Стайн и Матисса — результат приобретения его картин Майклом Стайном. Пат Брюс обычно появлялся на улице Флерюс по субботним вечерам после визита на улицу Мадам. У него был острый глаз и не менее острый язык. Он считал, что Сара Стайн обожала Матисса скорее как мужчину, чем художника, ибо Брюс был искренним поклонником и последователем школы Матисса. Отзываясь о том времени, он говорил, что достойна сожаления борьба не великих художников, а второстепенных. Не был ли он одним из таких?
Брюс был несимпатичен как человек, ничтожен как художник, но соглашался с мнением Матисса о Пикассо. Матисс утверждал, что симпатия Гертруды к Пикассо и ее визиты на улицу Равиньян были вызваны скорее спектаклем, который она имела возможность наблюдать. Гертруда, услышав это, разразилась характерным для нее приступом смеха, даже не рассердилась. У меня же начинало складываться собственное мнение о cher maitre.
Сара Стайн сообщила Гертруде, что отказалась от духовной опеки Гарриет. По их мнению, эту проблему следовало передать Дэйвиду Эдстрому. Дэйвид Эдстром был привлекательным молодым шведским скульптором. Живя во Флоренции несколько лет, он знавал многих американок, но ни одной, подобной Гарриет, прежде не встречал. Вскоре он поведал Гертруде интересные истории о духовной жизни Гарриет.
3
Пока я встречалась с женщинами Монмартра, Гертруда вносила последние правки в гранки повести «Три Жизни» и продолжала работать над монументальным произведением «Становление американцев»
[24]. Она дала мне прочесть несколько страниц. Произошло это тогда, когда она заметила, что ее теория о зависимых независимых и независимых зависимых натурах увлекла меня и что я сама анализировала нескольких знакомых мне людей. Она заставила меня рассказать, что я знала и как я пришла к этому пониманию. Это было так удивительно и увлекательно, ничего подобного до сих пор я не испытывала. Я даже сказала, вызвав у нее смех, что это куда интересней, чем будущие картины Пикассо.
Изучение характеров для «Становлении Американцев» привело Гертруду к теории двух групп натур у мужчин и женщин: независимых зависимых и зависимых независимых, основанных на характеристике, которую она назвала «глубинной натурой». Это связано со сходством и различием людей, но более всего их поведением в различных ситуациях[25].
«Самая сильная черта каждого и есть его фундаментальная глубинная натура. Почти в каждом мужчине и почти в каждой женщине наличествуют и другие виды натур, но все они смешаны с глубинной натурой индивидуума. Некоторые мужчины несут в себе агрессивность, у некоторых характер представляет смесь глубинной натуры с другой натурой или другими видами натур с их собственными. Существует два типа мужчин и женщин: те, у кого зависимая независимая натура и те, у кого независимая зависимая натура. Первые всегда каким-то образом „обладают“[26] теми, в чьей любви нуждаются; вторые обладают властью над другими, но только тогда, те, другие начинают немного любить первых и эта любовь придает им силу для доминации. Многие мужчины и женщины таят в себе силы сопротивления, многие хранят в себе силы, характерные агрессивностью. Натура каждого индивидуума всегда проявляется от рождения до смерти, повторяясь, т. е. постоянно проявляется в каждом. Таким образом, существуют два типа мужчин и женщин: зависимый независимый и независимый зависимый. У первого вида внутренняя сражающаяся сила заключается в сопротивлении, у вторых — в агрессивности».
«Признавая и наблюдая различные типы людей [зависимые/независимые и независимые/зависимые], изучая их различные стороны бытия и деятельности, такие как познавание мира и жизни, движение от размышления к чувствам, осознавая смысл бытия, признавая разнообразие чувствительности, эмоций и что представляет собой глупость в бытии, разнообразие способов изложения своих мыслей, способов изучения жизни, способов быть похожими — все эти стороны бытия всегда во мне, наполняют меня способностью видеть, чувствовать, учат понимать, иногда наделяют меня возможностью рассказывать. Некоторые из них творят из себя целостную личность [независимые натуры], некоторые представляются целостными по отношению к другим [зависимые натуры].
Это интересно, поскольку иногда служит объяснением мелодрамы. Иногда личность предстает для меня сразу целиком и полностью, иногда исторически, т. е. в развитии. Все, что люди делают в жизни тогда, для меня абсолютно ясно, их жизнь, любовь, пристрастия в еде, удовольствия, курение, брань, питье, страдания, танцы, ход мыслей, работа, походка, манера разговора, смех, сон, страдания, шутки — все в них ясно, для меня они предстают целиком и полностью. И такими предстают они мне. Постоянное проявление натуры составляет для меня ее историю».
Роман «Становление американцев», хотя был написан в период 1906–1911 гг., опубликован только в 1925 г. Первоначально характеры, описанные в книге, были взяты из семьи Стайн во время их проживания на Страттон в Восточном Окленде.
Когда в 1935 году Гертруда читала лекцию в Миллз Колледже, мы пытались найти старый Страттон, но его снесли и место застроили небольшими домами. Грустным для Стайн оказалось свидание с детством.
Издательство «Графтон Пресс» предприняло попытку опубликовать «Три Жизни» на деньги Гертруды. Прочитав рукопись в издательстве, они решили послать своего представителя переговорить о книге.
Американец, живший в Париже, встретился с ней и сообщил, что его попросили отредактировать текст для «Графтон Пресс». Гертруда ответила: «Нет необходимости редактировать». Он настаивал: «Они полагают, что вы не образованы и необходимо просмотреть рукопись вместе с вами». «Ошибаетесь, — сказала Гертруда, — я не безграмотная. У меня больше образования и опыта, чем у них и у вас». После чего представитель ушел.
Зима началась забавно. Гертруда охарактеризовала меня как старую деву, да еще русалку, чем я, разумеется, была возмущена[27]. «Старая дева» уже достаточно оскорбительно, но «русалка» — просто невыносима. Не могу вспомнить, каким образом это чувство негодования исчезло, но в конце испарилось полностью. К тому времени, когда лютики были в полном расцвете, «старая дева» и «русалка» ушли в забвение, а я собирала дикие фиалки. Подснежники, незабудки, гиацинты, которые мы собирали в лесу Сен-Жермен, были более нежного цвета, чем калифорнийские; те были покрепче и даже пахучее.
В магазине на улице Риволи я нашла красиво отделанные малинового цвета кораллы из Сан-Франциско. Я купила их с намерением подарить Гертруде. Но они показались мне никчемными по сравнению с ее китайским ожерельем из ляпис-лазури, поэтому носила сама. Они особенно шли моим светло-серым платьям из Сан-Франциско. Наступил неизбежно день, когда я отдала кораллы Гарриет. Окончательно я потеряла к ним интерес, когда Майк и Сара приделали к ним бусинки, превратив их в четки.
Майк Стайн занимался изготовлением ювелирных украшений, колье и брошей в стиле моих кораллов из Сан-Франциско. Он хотел, чтобы я продавала их людям, с которыми встречалась. Для меня было затруднительным как принять его предложение, так и отказать, но к счастью Стайны выяснили, что французские законы не позволяли продажу предметов собственного изготовления без официальной регистрации и соответственно, уплаты государственного налога. Чересчур сложное дело и они отсылали ювелирные изделия в Соединенные Штаты или продавали американцам, возвращавшимся домой. Затея эта продолжалась несколько лет. Майк находил материал, а Сара изготовляла по собственному дизайну.
Трудности этой зимы скрасил неожиданный и короткий визит Эйды Джозеф из Лондона. Она привезла мне великолепный меховой палантин из рыси, длинный и просторный, и такую же муфту, которые я носила долгие годы. Эйда вознамерилась таскать меня по всем известным ей ресторанам и театрам, и мы весело кочевали от одного к другому, начиная с «Лаперуза»[28]. Она была одета во все английское, я называла ее одежду убранством герцогини, все парижане диву давались ее совершенному французскому языку.
Эйда своей чудной улыбкой очаровала Гертруду, но когда Эйда вернулась после замужества, уже с Гэрри Брэкеттом, Гертруда остыла к ним. Нужно обладать особым качеством, чтобы полюбить Гэрри Брэкетта. Эйда могла простодушно смириться, в самой чете Брэкетт ничего простодушного не было.
Эйда и я посещали самые лучшие рестораны и сомнительного содержания комедии. Эйда была к ним привычна, я — шокирована. На первом же представлении я предложила уйти из театра в конце первого акта. «Ерунда, — заявила Эйда, — это всего лишь цветочки».
Пища в ресторанах напоминала хорошую пищу в Сан-Франциско — в Палас Отеле, Пудл Дог и Пап, где готовили на французский манер.
Проведя лишь неделю в Париже, Эйда вернулась в Лондон, а я посетила несколько пьес Анри Бернстайна с Гитри (отцом) в главных ролях. На одном из представлений я увидела первые переносные телефоны. Раньше их всегда прикрепляли к стене. Аудитория зашевелилась от возбуждения, увидев их, как только занавес поднялся. Игра актеров была блестящей, как и сами пьесы.
Я просмотрела много хороших пьес, а потом в Шатле открылся «Русский балет». Одним теплым вечером Гарриет и я отправились туда в открытом фиакре. В то первое представление показывали «Видение Розы» на музыку Вебера, «Приглашение к танцу» с Нижинским, выполнившим свой потрясающий прыжок, — высокий и длительный. Кордебалет танцевал «Сульфиды» под вальс Шопена, в котором дебютировала Ольга Хохлова, позднее жена Пикассо. Все было восхитительно и захватывало дух. Мадам Марвел, художница, остановилась около нас обменяться мнениями, она и я в перерыве между балетами сходили в кассу и приобрели билеты на следующий вечер.
Всю зиму Гарриет проводила время только с последователями Церкви Христовой Науки, регулярно, дважды в неделю, посещала их собрания недалеко от площади Этуаль. Одной из ее церковных друзей была мисс Кора Даунер[29] из [города] Каламазу, женщина светская, модно одетая, обладавшая большим кругом знакомых в мире моды. Зимой 1908 г. давали оперу «Борис Годунов» с великим Шаляпиным. Аудитория в то первое исполнение состояла исключительно из бомонда, и мисс Даунер показала нам многих, присутствовавших там известных людей. Особенно выделялась поразительной красоты полька, жена посла, с бриллиантовым колье на шее и бриллиантом в волосах.
Прошла зима, становилось жарко, потом душно. Я проводила утро, гуляя в галереях Одеона, осматривая все вокруг, покупая книги. Читала я их вечерами.
Одним вечером супруги Жако должны были взять меня в кабаре. Фрэнк зашел за мной, но Нелли чувствовала себя не очень хорошо и не пошла. Когда Фрэнк и я зашли к Луиджи, Фрэнк представил меня: «Школьная подруга моей жены». «О, да», — скептически отреагировал Луиджи.
Гарриет и я познакомились с мисс Этель Марс и мисс Скуайр, которые послужили прототипами для новеллы Стайн «Мисс Фэр и мисс Скини»[30], а также с Джо Дэйвидсоном и его красавицей-женой Ивонн. Подружились мы и с Гэрри Фелан Гиббом и его прелестной женой Бриджет.
Часто ли встречалась Гарриет с Дэйвидом Эдстромом, я не припомню. Но однажды Эдстром затеял со мной разговор. Я выходила из Кафе Лиляз, который посещала раз в неделю, чтобы написать длинное письмо отцу. Эдстром, улыбаясь, подошел ко мне и сказал: «Вернитесь и выпейте со мной». «Я заказываю кофе только, чтобы занимать столик». «Ладно, могу ли в таком случае проводить вас до отеля?»
Как только мы вышли на бульвар Сен-Мишель, он выпалил: «Знаете ли вы, что моя жена в городе?». Я не знала, что у него есть жена, но признание этого факта повлекло бы трату времени, и я отрицательно покачала головой. «Я пока не хочу встречаться с ней, — сказал Эдстром. — Разрешите пройтись с вами».
«Я ее опасаюсь, — продолжил он, очевидно весьма встревоженный. — Один Бог знает, что она скажет, встретив меня одного. Может до нее дошли слухи, что я хочу развода?». «Перестаньте! Уж не думаете ли вы, что я послужу защитой?» «Да, да», — выдохнул Эдстром. Я начинала испытывать симпатию к жалкому Эдстрому, но не собиралась защищать его.
Гарриет и Гертруда знали кое-что о его жене, Гертруда встречалась с ней во Флоренции. Миссис Эдстром выглядела старше Эдстрома, была интеллектуалкой, простой в обращении. Она носила мужскую одежду: шляпы, сапоги, перчатки. Ее отец был мировым судьей в Швеции и охранил бы ее от любых фокусов Эдстрома.
Гертруда посчитала, что он не представит свою жену Гарриет, хотя мы обе заметили, что Гарриет заказала несколько платьев у портнихи, рекомендованной мне Нелли.
Но суматоха прошла, ибо одним утром к нам в отель пришла Гертруда и сообщила, что мы можем арендовать особняк Каса Риччи во Фьезоле на летние месяцы. Майк арендовал большую виллу Барди для Сары и себя с Алланом и для Лео с Гертрудой. Каса Риччи таким образом, освободилась. Гарриет и я обрадовались такой перспективе и спешно начали приготовления к лету.
В жуткую жару поездом мы отправились в Милан и там провели ночь. На следующее утро отправились во Флоренцию. Было так жарко, что я в туалете избавилась от своего светло-вишневого пояса, выбросив его в окно. Когда я вернулась в наше купе, Гарриет сказала: «Что за странное совпадение, я только что видела, как твой вишневый корсет промелькнул в окне».
Из Флоренции прохладным вечером мы приехали на машине во Фьезоле, где нас поджидала Гертруда.
Гертруда взяла за привычку появляться по утрам в Каса Риччи и забирать меня на прогулку во Флоренции, где она меняла книги в библиотеке Вузье, а я занималась своими делами. Я заказала себе сапоги, прекрасно сделанные — единственная роскошь, которую я, точнее Майк, себе позволила[31].
Во Флоренции Гертруда свела меня на ленче с сестрами — доктором Кларибель и мисс Эттой Коун, которых она знала по Балтимору и Парижу. Доктор Кларибель была привлекательной и изысканной, мисс Этта совсем не такой. Она и я разошлись во мнении, кто должен платить за ленч.
Гертруда представила меня Бернарду Беренсону, жившему в Сентиньяно. Там я встретила его жену Мэри, ее брата Логана Пирсолла Смита и двоюродную сестру Эмили Даусон. Познакомила она меня и с супругами Хотон, которые жили во дворце XV века, и супругами Торолд. Одна из их маленьких дочерей сказала, что совершила святотатство — допустила рождение котят от своей кошки в их часовне. Однажды мы посетили виллу Гамберайя, принадлежавшую мисс Флоренс Блад и принцессе Гика. Удивительные сады на вилле были возрождены благодаря мисс Блад. Именно тогда, взбираясь по холму по дороге от Сантиньяно к Фьезоле, порвалась нитка моих красивых старых кораллов. Нам удалось подобрать все бусинки, кроме одной.
Есть замечательные снимки Стайнов на террасе виллы Барди с супругами фон Хайрот. Она — красивая блондинка, финка, замужем в третий раз, он — примечательный русский, в молодости совершенно бедный. Он мастерски играл на пианино, его сестра клала ему на пианино деньги в благодарность за доставленное удовольствие. Он был хорошим фехтовальщиком, и часто фехтовал с Лео.
Гертруда продолжала работать над «Становлением Американцев» и все чаще передавала мне листы рукописи для чтения. Некоторых из друзей, посещавших Фьезоле и Флоренцию, она использовала в качестве героев книги. Среди них — необычайный портрет Гарриет.
Другим прототипом стала Бэрд Ганс, красивая двоюродная сестра Гертруды, в книге — Джулия Денинг.
Бэрд Ганс была одной из первых социальным работников, особо интересовалась классами по вопросам материнства. Она воспринимала их очень серьезно, придавая им большую значимость. Гертруда писала статьи, которые мисс Ганс зачитывала на занятиях. Она была глуповатой персоной с претензией на интеллектуальность. Гертруда сказала, что Бэрд во многом полагалась на ее мысли.
Однажды во Флоренции мы встретились с Томасом Уиттмором. Он был приятелем Гертруды в Рэдклиффе. Когда в Бостонский музей прибыла большая коллекция китайской живописи, ему было поручено принять и описать коллекцию. Он попросил тогда Гертруду помочь. Удовольствие от той совместной работы навсегда запечатлелось в ее памяти. Они стали близкими приятелями, обращаясь к друг другу на «ты». После Освобождения[32] Гертруда по-прежнему с любовью говорила о нем, называя его «Томми». Он часто приходил в неотапливаемую квартиру, одетый в пальто, отороченное мехом, и прислонялся к маленькому электрическому радиатору, который был единственным источником тепла в нашем распоряжении.
А сейчас мы случайно встретили его во Флоренции. Возбужденным голосом, захлебываясь, он сообщил: «Разве вы не знаете, что сегодня опубликованы „Три Жизни“?». Щеки Гертруды порозовели от удовольствия. «Мы встретимся здесь через час», — сказал он. Когда мы встретились опять, мистер Уиттмор ждал нас с небольшим, но очень элегантным букетом цветов, который вручил Гертруде, поцеловав ей руку.
Гертруда увлекала меня с собой в длительные прогулки. Мой отец научил меня бродить по лесу в окрестностях Сиэтла, делая при этом длинные шаги. Гертруда была отличным ходоком, любила ходить под жарким итальянским солнцем. Устав, она ложилась на песок, вытягивалась, устремив глаза к солнцу.
Некоторые прогулки незабываемы. Особенно мне запомнились две: паломничество на вершину горы, где встретились Святой Франциск и Святой Доминик. Это был длинный подъем в обжигающе горячий день. Подъем начинался постепенно, потом стал круче, ноги скользили на высохшей земле. Гертруда сняла свои сандалии, советуя и мне поступить также. Чем выше мы поднимались, тем прекраснее представала долина внизу. На вершине нас окутали облака. После небольшого отдыха перекусили сэндвичами, которые я захватила. Спустя годы я нашла в Мадриде изображение этих двух святых, Святого Франциска и Святого Доминика — замечательная лепная работа в красках и в позолоченной рамке. Сейчас она висит на стене при входе в квартиру на улице Кристин.
Другое паломничество включало несколько походов. Мы поехали электричкой в Ареццо посмотреть картины, затем в Губбио — города Волка Святого Франциска[33] — самого обворожительного из городков на Тосканских холмах с его удивительной городской и церковной архитектурой. Мы не могли оторвать глаз от нее, но время улетучивалось, а у нас была назначена встреча с Гарриет в Ассизи. Мы направились в Перуджию, где остановились в отеле, бывшем прежде дворцом, где комнаты 16-го века украшены были сценами охоты на фоне местных пейзажей. В местном музее мы посмотрели картины Фра Анжелико. Парк, нависший над долиной, заполонили после захода солнца светлячки и жуки-светляки, шумные стрижи и ласточки. Мы поели в отличном ресторане, заказав прекрасное фритто-мисто из креветок.
Один дорожный саквояж я отослала во Фьезоле, другой — в Ассизи. Гертруда была одета в вельветовую юбку, чесучовую блузку, я — в узорчатое платье из голландского хлопка, и мы шли и шли часами. Солнце палило ужасно, поэтому, укрывшись за кустами, я избавилась от шелковой комбинации и чулок — это все что я могла сделать.
Теперь нам предстояло совершить самую длинную часть подъема. Мы поравнялись с крестьянами-пилигримами со всех уголков Италии. У Гертруды был дар к итальянским диалектам и она заговаривала с разными группами. У меня же не было даже смелости вступать с ними в контакт. Крестьяне были невыразимо прекрасны, но зловонны, что улавливалось при малейшем дуновении ветра. Мы глубоко вздохнули и оторвались от пилигримов, упорно взбираясь выше, пока не показался собор в Ассизи. Прошло еще несколько часов, прежде чем мы очутились у его ворот. Я решила помолиться, а Гертруда — взглянуть на великого Чимабуэ, после чего отправились в опрятную гостиницу, где нас поджидала Гарриет.
В сентября уже следовало подумать о возвращении в Париж. Я решила приобрести сделанные по заказу туфли. Я объяснила Майку, который следил за моими финансовыми делами, что они лучше, комфортабельнее и дешевле, чем готовые в магазине в Париже. Майк разрешил мне купить их. Он также посоветовал купить простой тосканский столик, кресла и комод. В то время антикварные магазины во Флоренции были забиты самыми соблазнительными сокровищами.
Возвращаясь в Париж, Гарриет и я решили не селиться в отеле, а снять квартиру. Мы временно остановились в Отеле де Сан Перес, где проживали сестры Коун. Как мы нашли квартиру на улице Нотр Дам де Шам, не могу вспомнить, но это было точно то, что мы искали. Четыре комнаты и кухня были светлыми и солнечными, на первом этаже. Не было лифта и ванны, но рента была небольшой.
Изящному столику в стиле Ренессанс, который купила Гарриет, была оказана честь красоваться в гостиной. Гарриет купила также несколько хороших ковриков. Я сшила занавеси из легкой ткани, строгой, но элегантной, как выразились бы приверженцы викторианского стиля, и купила верблюжьи подушечки для спины, ныне покоящиеся в нафталине в комоде на улице Кристин.
Надо было найти служанку. Консьерж дома, где жила Гертруда, порекомендовал свою племянницу. Как узнать, может ли она готовить? Я посоветовалась с Гертрудой. «Спроси, может ли она готовить омлет», — сказала Гертруда. Девушка ответила утвердительно. Когда она появилась у нас на следующее утро, я вручила ей блокнот и карандаш, кошелек с деньгами для мелких покупок и корзинку. У нее был сконфуженный вид — она никогда не делала покупки, поэтому мы отправились вместе. Омлет, с которого должен был начаться наш ленч, подгорел. Предстояло сказать ее дяде, что она недостаточно опытна, а мне — найти более компетентную замену.
Мари Энц была типичной швейцарской, старой девой, аккуратной, честной, кокетливой. Кухаркой она была средней, но хорошо ориентировалась в ценах на базаре. Иногда Гертруда неожиданно оставалась на обед, и вначале это приводило бедную Мари в растерянность, она летела в ближайшую кондитерскую за мороженным или тортом. Она провела у нас зиму, а потом сообщила мне по секрету, что летом собирается выйти замуж. Венец из белых и оранжевых цветов и кружевная вуаль послужили подходящими подарками от Гарриет и меня.
Появились рецензии на «Три жизни». Я подписалась в бюро газетных вырезок «Ромейк», рекламу о котором читала еще в Сан-Францисском журнале «Аргонавт». Толковый и теплый отзыв в канзасской газете «Стар» удивил и обрадовал нас, удивил потому, что мы не знали о существовании такой газеты. Те дни, когда мы получили первые вырезки, наполнили нас радостью и гордостью.
Те немногие друзья, которым Гертруда послала экземпляры книг, ответили с теплотой. Джорджана Кинг из колледжа Брин Мор, старая приятельница из Балтимора, не только ответила письмом, полным энтузиазма, но, начиная с того времени, включила работу Гертруды в свои лекции. Послала Гертруда один экземпляр и Герберту Уэллсу. Он поблагодарил ее гораздо позднее коротким, признательным ответом. Письмо очень тронуло Гертруду. Сейчас оно находится в архиве Гертруды Стайн в Йельском университете.
Я начала печатать «Становление американцев» на поношенной маленькой пишущей машинке «Бликенсдорфер». Гертруда решила приобрести лучшую машинку, и Фрэнк Жако рекомендовал купить «Смит Премьер». Мы заказали одну такую, это была чудовищная затея. Настырный человек, который поставил ее нам, убрал многие из дополнительных деталей, и сунул их в свой саквояж; мне было интересно, высчитали ли их из общей стоимости.
Я стала учиться навыкам эффективной работы и постепенно достигла точности и скорости профессиональной машинистки. Я усвоила технику Гертруды Стайн — все равно как играешь Баха. Мои пальцы привыкли только к работам Гертруды. Позднее, когда нас начали издавать в «Плейн Эдишн», печатать деловые письма стало трудным. Мой собственный текст пришлось печатать приятельнице или профессионалу. После смерти Гертруды пишущая машинка оставалась неиспользуемой, и я отдала ее какому-то молодому человеку.
Я приходила на улицу Флерюс и печатала в утренние часы, до того как Гертруда просыпалась. В то время она вставала очень поздно, съедала завтрак, пила кофе за столиком в час дня.
Иногда приходил Лео, он флиртовал с Нелли Жако. Я была близкой ее подругой долгие годы и возмущалась его приставаниями. Я высказалась как-то довольно резко, но он только усмехнулся. Нелли не принимала Лео серьезно.
Время работы над «Становлением американцев» стало радостным для меня. Гертруда днем рассказывала о написанном отрывке, который я перепечатывала на следующее утро. Часто в тексте фигурировали участники и события предыдущего дня. Все равно как живая история. Я желала, чтобы этот процесс продолжался вечно.
Наша близкая приятельница Милдред Олдрич была полна опасений, что «Становление американцев» не доставит ей ту радость, какую принес сборник «Три Жизни». Гертруда не желала обсуждать написанное ни с кем. Она повторяла, что пишет для незнакомых людей. Но когда один из главных действующих героев умер, она рассказала Милдред. Та была в шоке и спросила: «Ты должна так поступать? Очень печально, Гертруда».
В то время у меня уже выработалась привычка уходить по вечерам на улицу Флерюс. Гарриет не одобряла мои походы в одиночку по вечерам. До поры до времени ничего не случалось, но одним вечером на улице Вавин с ее узкими тротуарами я столкнулась лицом к лицу с каким-то человеком. «Eh bien[34], не уступите ли вы мне дорогу?». «Ни за что» — ответила я. «Как невыносимы креолки!» — сказал он и отступил в сторону. Когда я рассказала о происшествии Гарриет, та не нашла ничего смешного. Она полагала, что я должна быть дома до наступления полуночи.
В первую зиму, которую мы жили на Нотр Дам де Шам, из Флоренции приехала мисс Блад и сказала Гертруде, что хочет познакомиться с Пикассо. Гертруда попросила его и других гостей посетить ее вечером. Поскольку мисс Блад собиралась как бы на прием, то одела розового цвета платье и свой прекрасный жемчуг. Пикассо прозвал ее femme de ménage[35] принцессы Мюрат, поскольку она и принцесса Гика жили в Гамберайе. Она спросила его, что он считает своим вкладом в изобразительное искусство. Он ответил: Je suis le beс Auer[36]. Гийом Аполлинер блистал умом как всегда, но мисс Блад предпочла бесцеремонную испанскую манеру Пикассо.
На моей памяти было несколько вечеринок. Самым забавным был банкет в честь Анри Руссо в студии Пикассо. Лео, Гертруда и я встретились с Гарриет в кафе на Монмартре, недалеко от улицы Равиньян, где, уже несколько навеселе, пребывала Мари Лорансен. Она то висела на Гийоме Аполлинере, то пыталась упасть, и он водворял ее в кресло, хотя в следующее мгновение, она уже опять оказывалась в его руках. Затем ворвалась Фернанда с трагическим известием: Феликс Потэн не прислал обед, который она заказала. Я посоветовала ей перезвонить и напомнить о заказе, что она и сделала, обнаружив только, что было слишком поздно — никто не отвечал, магазин был закрыт.
Фернанда сказала, что наварила огромное количество riz à la Valencienne[37], чему выучилась в Испании, и докупит к нему дополнительную еду в Латинском квартале. Лео поможет Гийому дотащить в гору Мари; Гертруда, Гарриет и я последуем за ними. Мы проделали свой путь по крутому холму к студии Пикассо, где уже собралось много народа. Пальто и шляпы мы оставили в соседней студии у Андре Салмона.
Фернанда накрыла стол на досках и подставках, уверив что он вполне надежен, если на него сильно не опираться. Стол украсили плющом. Мари Лорансен с одной щекой, покрасневшей (шлепок от Гиойма), обещала после обеда спеть старые французские песни. Фернанда объявила, что riz à la Valencienne готов и будет подан, как только появится Руссо. По прибытии Руссо предоставили почетное место в центре стола против большого портрета женщины его работы. Пикассо купил этот портрет, покупка и стала поводом к празднованию.
Огромное блюдо с рисом было и в самом деле великолепным по вкусу. Было поглощено заметное количество недорогого вина. Внезапно у двери из своего кафе, что напротив студии, появился Фредерик с ослом. Фернанда величественно вывела незваных гостей, говоря, что их не приглашали и они нежелательны.
Аполлинер взобрался на стол, чтобы произнести хвалебный стих à notre Rousseau[38] и все хором его подхватили. Руссо был ошеломлен и сиял. В конце стихотворения Аполлинер соскочил со стола. В этот момент Салмон исчез.
Руссо достал из футляра скрипку и начал наигрывать бесконечную и скучную музыку. Лео, сидевший рядом с Руссо, охранял его от радостного энтузиазма гостей. Мари Лорансен спела песни. Аполлинер попросил Гарриет и меня исполнить национальный гимн краснокожих индейцев. Он изумился и расстроился, узнав, что по нашему мнению такого не существует. Уже было поздно, когда мы зашли в студию Салмона забрать наши шляпы и пальто. Моя шляпка, которой я очень гордилась, лишилась отделки из желтых перьев. Салмон сжевал ее, как и телеграмму и коробок спичек. Он, казалось, не замечал нашего присутствия.
Мы взяли Руссо домой, Гертруда, Лео, Гарриет и я. Все вместились в одном фиакре, Лео устроился рядом с кучером. Когда мы спускались с холма, мимо нас с диким криком пробежал Салмон и растворился в темноте.
Вскоре после банкета Руссо, в конце дня я шла по улице Ренне. Стало довольно темно. Внезапно я ощутила сзади шаги, приближавшиеся ко мне. Ничего подобного прежде со мной не случалось. «Мадмуазель, мадмуазель», — обращался ко мне человек. Возмущенная, я обернулась лицом к говорящему: это был Руссо. «Мадмуазель! — повторил он. — Вам не следует быть на улице одной с наступлением темноты. Позвольте мне проводить вас до Нотр Дам де Шам». Не думаю, чтобы он заглядывал к нам туда, но временами я встречала его на субботних вечерах на улице де Флерюс. На одном из тех вечеров он сказал, что я напоминала ему жену, давно умершую.
4
Я работала по вечерам у Гертруды, оставаясь допоздна на улице Флерюс, что беспокоило Гарриет. Гарриет хотела, чтобы я возвращалась на Нотр Дам де Шам до полуночи. Я понимала, что оставаясь одна, она ощущала себя одиноко. Наконец она призналась, что написала Керолайн Хелбинг, прося ее провести зиму с нами — ночевать в маленьком отеле около нашей квартиры, а обедать и ужинать с нами. Она уже приняла предложение и скоро прибудет.
Когда она приехала, я рада была встретиться с ней опять. Я знала ее по Сан-Франциско. Она сохранила свою девичью привлекательность. По возвращению домой она должна была выйти замуж, за человека, с которым была обручена 25 лет тому назад. Она шутила, что когда они, наконец, поженятся, это будет их серебряная свадьба.
По театрам мы ее не водили, она плохо понимала по-французски, но выводили в свет когда только могли. После обеда она и я отправлялись побродить по Парижу или посидеть в кафе Суфле около Сорбонны.
Мы с Гарриет пригласили Фернанду и Мари Лорансен на ленч, чтобы познакомить с Керолайн. В ответ Мари пригласила нас к себе на квартиру познакомиться с ее матерью. Прежде никого к ней домой не приглашали. Возможно, лишь Гийом Аполлинер встречался с ее матерью. Как бы там не было, Мари оставила вопрос об его отношениях с ней без комментариев.
Фернанда зашла за нами, и все — она, Гертруда, Керолайн, Гарриет и я сели в метро, хотя ни у меня, ни у Гертруды не было привычки ездить на метро. На первой же остановке Гертруда заявила: «Кончайте, выходим здесь, и берем фиакр». Метро не должно было стать для нас привычкой.
Мари жила в самом конце улицы Фонтэн. Мы увидели всего две комнаты, напоминавшие монастырские кельи — белый цвет, исключительный порядок, никаких украшений, за исключением нескольких рисунков Мари. Мари попросила мать показать нам свои вышивки. В основном обезьянки. У Мари была слабость к обезьянам. Позднее у нас были обои, сделанные по рисунку Мари — там были обезьяны на дереве, прыгающие с одной ветки на другую.
Фернанда вела себя весьма прилично и тихо, чтобы угодить Мари и ее матери. Керолайн сидела с открытым от удивления и удовольствия ртом при виде, как все устроено в такой маленькой квартире. Мари и мать угостили нас очень приятным чаем. Мари, видимо, пришлось наведаться в хорошую кондитерскую по ту сторону реки.
История жизни матери Мари довольно необычная. В юности у нее был роман, по слухам с префектом дю Норда. Она же была родом из Савойи. Со времени рождения Мари, мать не видела ее отца. Не встречалась она впоследствии и ни с каким другим мужчиной. Поэтому, когда они поселились в Париже, ни одному мужчине не дозволялось быть в квартире. Мари этой идеи не разделяла.
Накануне отъезда Керолайн в Америку Гарриет предложила: «Мы должны взять Керолайн в какой-нибудь ресторан и угостить ее отменным французским обедом». Так мы и поступили, зайдя в ресторан в нашем районе. Когда Гарриет начала заказывать, я заметила, что она заказывала для Керолайн блюда, хорошо известные в Америке: холодный лосось — деликатес во Франции, но не в Калифорнии, кукурузу целым початком. Бедная Керолайн ужаснулась, поэтому мы перезаказали другие блюда, отменив заказ Гарриет.
Я провожала Керолайн к поезду и по дороге сказала: «Дорогая Керолайн, ты должна позаботиться, чтобы Гарриет, посетив Америку, не вернулась обратно в Париж. Уже договорено, что я переберусь к Гертруде и Лео на улицу Флерюс». «Я подозревала это, — сказала Керолайн.
— Можешь на меня положиться». После чего она меня поцеловала, и я посадила ее на поезд.
Не знаю, как она это сделала, но Гарриет, вернувшись в Америку с семьей Майка Стайна, написала вскоре, что мне следует сдать квартиру, а картины, особенно картину Матисса «Женщина с голубыми глазами» и небольшой пейзаж Гэрри Фелана Гибба тщательно упаковать и отослать ей, поскольку она, вероятно, останется в Калифорнии. Когда я сообщила мадам Бугеро, хозяйке квартиры на Нотр Дам де Шам, что заплачу за квартиру до весны, а картины, как и мебель, будут отправлены в Сан-Франциско, она яростно запротестовала: квартиру невозможно оставлять пустой, по закону я должна оставить квартиру меблированной. Я посоветовалась с home d’affaires[39], он обещал встретиться с ней и устроить все в соответствии с моим намерением. Что и сделал.
Лео помог мне составить письма юристу, чтобы я ясно объяснила что хочу. И после этого переехала на улицу Флерюс, где мне отвели маленькую комнатку, которую мы позднее называли salon des refuses[40]. Там я провела эту зиму и следующую, не так уж некомфортабельно. По утрам я печатала, а во второй половине дня Гертруда и я навещали друзей.
Мы как-то посетили с Милдред Олдрич ресторан на Монпарнасе. Когда уходили, Милдред заметила за столиком двух мужчин. Она показала в их сторону и сказала: «Девушки, идите ка сюда, я хочу познакомить вас с моими друзьями». Когда мы подошли к столику, где они сидели, Милдред представила: «Роджер и Генри, это Элис и Гертруда». Она не знала их фамилии, она звала каждого по имени. Эту привычку она выработала, имея дело с театром. Так началось знакомство с Роджером Фраем и Генри МакБрайдом, которое продолжалось долгие годы.
Генри МакБрайд был одним из первых нью-йоркских газетчиков, кто придал известность Гертруде в связи с картинами и ее произведениями. «Смейтесь, коль хотите, — говорил он своим противникам, — но смейтесь вместе с ней, а не над ней».
Гертруду в то время занимало происшествие с Сильвией Панкхерст, которую арестовали за ее активные действия в поддержку права женщин голосовать. Мисс Панкхерст обязали присутствовать на суде, когда тот начнется. Она сказала: «Я буду там», но не появилась. Когда суд начался, она находилась в другом месте. И заявила: «Это и было место, где находится „там“».
Частенько встречалась Грейс Лонсбери, давняя знакомая Гертруды со времен учебы в университете Джонса Гопкинса. Она была близкой подругой двух других подруг Гертруды. Гертруда полагала, что ее появление ничего не означает[41].
Она была маленькой и не такой уж посредственной, по своему забавной, считала себя специалистом по греческой культуре, писала пьесы по греческой истории. В юности она приехала в Париж и влюбилась в Жана Кокто. В обществе тех лет за ними укрепилась слава талантливых детей. Ее пьесы ставились в полупрофессиональных коллективах, и она получала полное удовлетворение от этого.
Грейс Лонсбери интересовала меня, но Гертруда находила ее утомительной. В те дни она жила в квартире на улице Буассонад, выкрашенной в модный тогда черный цвет. Она относила себя к эстетам и гурманам. Затем Грейс переехала вместе с красавицей Эстер Суайсон в очаровательный павильон на улице д’Асса. Эта Эстер основала Общество поддержки старых людей. На улице она кланялась пожилым джентльменам, что льстило и доставляло им удовольствие.
У миссис Юджин Поль Улльман мы встретили испанскую инфанту Юлялию. Инфанта обладала типичным испанским голосом, только с королевским оттенком. Он совсем не был хриплым, и когда она звала свою фрейлину, звучал захватывающе. Она была сводной сестрой инфанты Изабеллы, с которой мы встречались в Пальма де Майорка, но обе были непохожи.
Миссис Улльман привела Инфанту на улицу Флерюс, чтобы познакомить с Гертрудой и коллекцией картин. Когда ее привели во двор, Инфанта повернулась к миссис Улльман и спросила: «Куда вы меня привели? Что это за место?». Пришлось ее успокаивать, что это не засада.
Мы встречались с Инфантой несколько раз у миссис Улльман. Через несколько лет, уже после войны я делала покупки на улице де ля Пэ (Гертруда оставалась в машине), и неожиданно оказалась напротив Инфанты. Я немного замешкалась, не зная как себя вести по этикету. Должна ли я представиться или безмолвно пройти мимо? Но она мгновенно, несмотря на промежуток в четыре военных года, признала меня: «Здравствуйте, мисс Токлас. Как поживает мисс Стайн?». Я сказала, что она сейчас в машине и чувствует себя вполне хорошо. «Я приду навестить вас», — сказала она.
Однажды вечером Лео привел Пикассо в свою студию. Когда он отпустил Пикассо, тот в ярости заявился к нам: «Он не оставляет меня в покое. Ведь он сам сказал, что мои рисунки важнее Рафаэлевских. Почему он не может оставить меня в покое с тем, что я делаю сейчас?». Лео разошелся, как и Пикассо, и, придя, хлопнул дверью, что соединяла две комнаты. Это стало началом расхождения Лео и Гертруды — его отношение к творчеству Пикассо и к ее творчеству. Когда Лео пришел объяснить свою позицию подробнее, она швырнула книги на пол, чтобы прервать его.
Летом Гертруда, Лео и я отправились в Каса Риччи. Гертруда работала, а я болтала с Маддаленой, кухаркой, об итальянской кухне и способах приготовления пищи. Ее дочь, Евгения, помогала и обслуживала нас за столом.
У Гертруды исписалась авторучка, и она выбросила ее в мусорную корзину. Маддалена подобрала и спросила: «Можно мне взять ее и отдать жениху Евгении?». Маддалена объяснила, что он работает в почтовом отделении и будет счастлив иметь авторучку.
Мы с Гертрудой предприняли короткую поездку в Рим. Там ей приглянулась очень изящное черное блюдо в стиле Ренессанс, которое я нашла у ловкого торговца антиквариатом, искавшим старинные ковры для Пирпонта Моргана. Я спросила, продается ли блюдо, он ответил, что будет рад, если мы станем его владельцами и упомянул цену. Гертруда кивнула мне, давая знать, что мы согласны. Мы тщательно обложили блюдо соломой и поместили в деревянный ящик. Я привезла его во Фьезоле. Там мы открыли ящик и осторожно поместили блюдо в высокий комод, где оно находилось в безопасности. И Гертруда и я попросили Маддалену не трогать блюдо.
На следующее утро Маддалена принесла кофе Гертруде в спальню, а у Гертруды случился приступ икоты. Маддалена в спешке оставила комнату, но вернулась назад, рыдая: «О, синьора, я только что уронила черное блюдо на пол, и оно разлетелось на мелкие кусочки!». Мы весьма расстроились, а Маддалена, заметив, что от испуга икота пропала, сказала: «О, синьора, я сказала так, чтобы вылечить вас, ничего не случилось с тарелкой».
Лето мы провели отлично, хотя были заняты. Гертруда работала и встречалась со своими флорентийскими друзьями. Среди них была и Мейбл Додж. Ее к нам в Париже привела с год тому назад Милдред Олдрич, чтобы познакомить с Лео и Гертрудой. Мейбл Додж жила на вилле Курония в Арцетри, в которой ее второй муж, Эдвин Додж, архитектор, очень искусно переделал огромную гостиную.
Маленький сын Мейбл от первого брака хотел полетать и залез на перила террасы, вытянув свои руки. Мейбл подстрекала его: «Лети, мой дорогой, лети, если хочешь». Но мальчишка не послушался, слез вниз. Эдвин сказал Мейбл: «Что за спартанская мать!».
Как-то Мейбл попросила меня сходить на железнодорожную станцию и встретить Констанцию Флетчер, приезжавшую из Венеции, где она проживала. «Вы узнаете ее, потому что она глухая и будет одета в пурпуровое платье», — проинструктировала Мейбл. На станции мисс Флетчер подошла ко мне. Она была одета не в пурпурное платье, а в ярко зеленое, была не глухой, а почти слепой и всматривалась через монокль.
Вернулись мы в Париж после этого лета на улицу Флерюс. Плотно трудились всю зиму. Гертруда работала до тех пор, пока птицы не начинали щебетать поутру — тогда она выключала свет в комнате и отправлялась в постель.
Пикассо и Фернанда к этому времени разошлись окончательно. Незадолго до разрыва они вместе с Ивой, новой подругой Фернанды, одним вечером нанесли нам визит. С ними был и художник Маркусси, с которым Ива прежде жила. Когда они ушли, Гертруда сказала мне: «Неужто Пикассо оставляет Фернанду ради этого юного создания?». Так и случилось, и поначалу они были очень счастливы.
Пикассо перебрался с Монмартра и никогда больше там не жил. Сменив ряд мест, он нашел павильон на бульваре Распай. Все двигались на Монпарнас из различных частей Парижа и он стал центром обитания современных художников. В этом-то павильоне одним вечером Аполлинер назвал брошь Гертруды — большой темный коралл, вставленный в большой камень зеленого малахита — «яичницей, но чересчур жирной». В тот вечер Гийом сказал еще что-то, на что я остроумно ответила, но что — не помню. Пикассо сказал мне: «Лучшая часть Гийома проявляется, когда он немного под мухой».
С бульвара Распай Пикассо и Ива переехали в квартиру на Шольшер, выходящую окнами на кладбище Монпарнаса. Когда мы их навестили, Иве принесли чашку шоколада и она пила его. Пабло такой недостаток гостеприимства оскорбил.
У Ивы позднее резко ухудшилось здоровье, она ушла в приют, где и умерла.
Следующим летом Лео решил отдыхать в Сеттиньяно и арендовать небольшой домик на вилле Гамберайя, предложенный мисс Блад. Ему поставили условие — он не должен быть женатым. У него уже была подружка, девушка Нина из Латинского квартала, но женат он не был. Мы недоумевали; как отреагирует мисс Блад, ведь он поселился в домике с Ниной. Мисс Блад в данном случае по-видимому примирилась с ситуацией.
Мы с Гертрудой решили не арендовать Каса Риччи, а провести время в Испании. Милдред Олдрич пришла к поезду провожать нас. Она была в возбуждена, почти как и мы, хотя Гертруда уже была в Испании в 1903 г., с Лео.
Первая остановка в Бургосе. Великолепный готический собор стал первым знакомством с Испанией и испанским бытом. Рядом с собором находилась группа детей, которые постепенно стали досаждать. Одна девочка готовилась войти с нами в собор, покрыв голову небольшой вуалью. У нее были зеленые глаза, она попросила у меня денег. Я сделала вид, что не слышу. В соборе она следовала за нами по пятам и сказала: «Пенни, добрый сэр?». Мы покинули собор, выйдя через боковую дверь, незаметно от нее. Зеленые глаза и манеры напоминали Бэки Шарп[42].
В Вальядолиде я увидела на одном из алтарей собора два чеканных окрашенных орнамента в арабском стиле с изображением цветов, Меня они так поразили, что я попросила служку дать мне адрес потомков человека, сотворившего эти орнаменты. Мне подумалось, что у них в мастерской еще сохранилось что-нибудь подобное. В конечном счете, я нашла два орнамента подобных тем, что в соборе, только не окрашенных. Я купила их за небольшую плату, и они теперь висят над камином в обеденной комнате на улице Кристин.
По дороге на юг у нас была остановка в Авиле. Из окна поезда невдалеке виднелся город с древними стенами и собором. Гертруда сказала: «Вот город, где родилась святая Тереза». Святая Тереза послужила источником вдохновения для либретто оперы «Четверо святых».
На станции поджидала нас повозка, запряженная четырьмя мулами с бубенцами на упряжи, чтобы доставить в гостиницу. Поездка по булыжным мостовым дорогам Авилы была шумной и тряской, но, добравшись до гостиницы, мы приятно удивились, найдя ее чистой и опрятной. Наши вещи поставили в холле, объяснив, что комнаты должны быть тщательно очищены, прежде чем мы туда войдем. Пока одна комната подсушивалась с открытыми окнами, я услышала игру механического пианино, игравшего внизу на улице. Оказалось, в столовой проходил свадебный вечер. Мне понравилась музыка и я бросила несколько монет, чтобы музыканты не уходили.
Я обратилась к Гертруде: «Я не собираюсь отсюда уезжать, я остаюсь». «Что ты имеешь виду?». «Я покорена Авилой и предлагаю остаться». Гертруда ответила: «Хорошо, я останусь на две недели вместо двух дней, но работать здесь я не смогу, ты это знаешь». На некоторое время я успокоилась.
После великолепного обеда мы побродили по городу. Испанская кухня в Авиле получше, чем в других городах. Утром мы посетили церковь Св. Терезы и часовню, полностью покрытую чеканным золотом с коралловым орнаментом, привезенным из Америки в XVII веке. Я обнаружила кондитерскую, до сих непревзойденную по вкусу. Мы вернулись как раз к ленчу. За обеденным столом сидел полковник, квартирмейстер местного полка, обещавший мне предоставить лошадь для прогулки верхом. Каждый старался сделать что-нибудь для нас. Мы отправились за город, куда полковник гражданской обороны послал двух своих человек сопровождать и охранить нас от докучливого местного населения. Нам повезло оказаться в Авиле в это время, потому что предстояла месса в честь приезжего епископа, а после мессы прием — ленч с епископом Авилы.
В кондитерской мы видели блюда, приготовленные для ленча. Всевозможная еда, фантастически украшенная овощами, салаты, декорированные в виде собора, отдельные детали в карамели и безе. Мороженое они не осмелились показать нам из опасения, что оно растает.
Зрелище большого собора, поющего в сопровождении полного оркестра, было величественным. Священники были в одеждах, вышитых в Китае в 16-м веке. В конце дня нам показали эти и другие одеяния.
Наконец наступило время покинуть Авилу. Мы заказали ленч в кондитерской, чтобы взять с собой на дорогу в Мадрид. Мадрид был не менее прекрасен и интересен, как и три северных города, которые мы до сих пор увидели. В Мадриде мы часто посещали Прадо, проводили долгие утренние часы, обозревая Гойю, Веласкеса и Греко.
Одним утром мы столкнулись с Пишо. Он сказал: «Чем же я могу вам помочь здесь, в Испании?». Я спросила: «Где можно посмотреть хорошие танцы?». «О! — сказал он. — Замечательно, вы попали в самое время, чтобы посмотреть великую танцовщицу, подобную которой Испания давно не видела — Ля Аргентину!» Пишо рассказал, где и когда она выступает. Я поинтересовалась и боем быков. «О, великие тореадоры будут на следующей неделе». Вот так для нас все было приготовлено.
Аргентина танцевала в небольшом музыкальном зале, вмещающем не более трехсот человек. Ее выступление состоялось после короткой программы, которую нам пришлось просмотреть, чтобы занять хорошие места, поскольку они не резервировались. Помню, что в первый вечер выступал американский велосипедист и выступал довольно интересно. Аргентина, женщина лет тридцати, простая, но полная обаяния. На ней был классический испанский танцевальный костюм: довольно длинная пышная юбка, отороченная шариками из синели, рукава до плеч, умеренный вырез на корсаже платья, огромный гребень в волосах, будто из панциря черепахи. Со своей знаменитой улыбкой она танцевала классический испанский танец, при котором едва ли двигалась больше полуметра-метра от центра сцены. Аудитория сидела тихо, завороженная, и будто сорвалась с цепи, когда танец кончился. Представление началось в 8 часов вечера, а в полночь должно было состояться второе выступление. Гертруда предложила отправиться в отель и вернуться в концертный зал на последнее представление Аргентины.
Когда мы вернулись, то оказались единственными женщинами в публике. Нас охватила неуверенность, но ничего не произошло, аудитория, как и мы, была заворожена волшебством танцовщицы. Зрители хлопали в такт ее каждого притопа. Атмосфера была более наэлектризована, чем при представлениях «Русского балета».
Впервые я видела и бой быков. Гертруда, будучи с Лео в Испании раньше, уже посещала корриду. На мне был черный костюм, сшитый в испанском стиле, чтобы не выделяться среди зрителей; я прозвала его «испанским камуфляжем», Он состоял из черной в перьях шляпе, черной сатиновой накидке, черного веера и перчаток.
Билеты мы раздобыли утром в кассе, где получают билеты регулярные посетители-подписчики. Я сказала кассиру: «У нас билеты не заказаны, но я должна иметь самые лучшие места в первом ряду в тени, прямо под ложей Президента». Он ответил «да-да», и дал мне два билета.
Когда бык вонзал рога в лошадь, Гертруда повторяла: «Не смотри!», а когда лошадь убирали: «А теперь смотри».
В одном кафе мы слушали Пресиосию, певицу изумительной красоты и великолепия. Ее глаза блестели как огромные бриллиантовые серьги. Впоследствии мне удалось купить запись одной из ее песен, и когда я пересказала Пикассо слова хора, он ответил: «К счастью, ты недостаточно знаешь испанский язык, чтобы понять их». Позже Гертруда написала ее портрет[43].
Наш отель находился на улице Сан Херонимо. Когда мы вернулись поздно, швейцар с ночным фонарем открыл нам дверь огромным ключом. Консьерж, укутавшись в одеяло, спал, и нам пришлось переступить через него, чтобы добраться до наших комнат.
Два или три антикварных магазина, расположенных вблизи отеля, привлекли мое внимание. Мы приобрели в них неисчислимое количество всяких безделушек для себя и на подарки. Среди них аптекарский кувшин, который я поместила в деревянный ящик с ручкой, чтобы при возвращении во Франции его можно было нести, ведь наша ручная кладь с каждой покупкой становилась все весомее..
Когда сезон Аргентины закончился, мы решили направиться в Толедо. В Мадриде при упоминании Толедо, нам сказали: «Маленький город, за один день все увидите». Но мы оставили Мадрид и уехали в Толедо, где нашли Греко, замечательный отель и красивые церкви.
Процессия в честь праздника тела Христова в Толедо была в полном разгаре и шествовала под навесом, растянувшимся над узкой улицей. Участники несли большие длинные зажженные свечи, их свет на фоне дневного создавал странную картину. У нас были места на балконе отеля под навесом. Все балконы вдоль пути следования были задрапированы красивыми старинными гобеленами. По улице спешили люди: одни — занять место и наблюдать за процессией, другие — участвовать в ней. Маленькие дети стояли со свечками и пели духовные песни в ожидании, когда им скажут влиться в процессию.
В комнате Гертруды стол стоял неровно, и Гертруда под укороченную ножку подложила монеты, чтобы выровнять (она по утрам писала) и сказала мне: «Забери-ка монеты до завтра». «О, нет, — сказала я, — никто их не тронет. А если и тронут, то вернут опять на место». Вернули.
Из Толедо мы направились в Эскориал, с его мрачным ландшафтом и архитектурой — самой впечатляющей в Испании. Картина «Обращение Святого Маврикия» в галерее — одна из самых замечательных больших полотен Эль Греко, мною виденных. Первое впечатление переполняющей красоты не уменьшилось за прошедшие пятьдесят лет.
Наш путь лежал в Куэнко, который нам рекомендовал Гэрри Фелан Гибб. Мы добрались туда поздно, затемно, и обильно поели обедом из дичи. Гертруда выразила желание держать окна в обеих комнатах закрытыми, боясь внезапных и сильных порывов ветра из лежащей внизу долины. И поскольку она не выносила высоты, я согласилась и спала из-за отсутствия свежего воздуха, урывками. Утром мы выглянули из окон и выяснили, что они выходили на гору, а ветер бушевал на обратной стороне отеля.
Когда горничная принесла подносы с завтраком, я попросила ее принести два кувшина с горячей водой. Она принесла один и я сказала: «Но я просила два». «О, — ответила горничная, — я не знала, что иностранцы используют горячую воду, я думала, только испанцы моются».
Во время прогулок в окрестности к нам подходили очаровательные мирные дети, трогали мое платье и говорили друг другу: это не шелк. Это и был не шелк, а голландский узорный хлопок. Одна девочка спросила, как так выходит, что у меня на шляпе свежие цветы за час до прибытия поезда из Мадрида, на котором их привозят. Я сказала: «Потрогай, они из шелка и бархата, они не живые, а искусственные». Молодые девушки тоже подходили одна за другой потрогать цветы.
На прогулке в небольшой приятной долине к нам присоединились общественные охранники. И здесь нас охранял губернатор провинции.
Из Куэнко путь лежал в Кордову. Собор еще не был восстановлен как ныне. Стояла жара, ночью я не могла спать. Гертруда устроила мне таз с холодной водой и всю ночь я губкой обтирала все тело. Собор в Кордове казался скорее арабским, т. е. более мусульманским, чем христианским.
Из Кордовы мы последовали в Севилью, было очень жарко и я бесконечно глотала лед, Гертруде лед испортил желудок. Мы остановились в отеле, рекомендованном Матиссом — комфортабельном и с отменной едой.
Собор в Севилье представлял собой настоящее хранилище богатств. Высокая чугунная ограда при входе в собор увенчана потускневшими кардинальскими шапками. Высокий алтарь тоже огорожен высокой чугунной решеткой, дверь которой открывалась только для мессы. Звучала прекрасная музыка. Один раз, когда мы стояли у алтаря во время мессы, ведший мессу епископ внезапно спустился по ступенькам и направился к алтарю. Мы с Гертрудой посторонились, дав возможность епископу пройти.
В Севилье имелась одна длинная и узкая улица, где члены различных клубов сидели за столиками, расставленными на тротуаре и на улице. Спустя 40 лет, когда я вновь побывала в Севилье, я смогла найти знакомую книжную лавку на этой улице.
У реки собралась толпа цыган, и пара незнакомок не очень приветствовалась ими.
У Гертруды начался серьезный приступ колита. Я испугалась и спешно отвезла ее в Гибралтар, где она благополучно выздоровела. На небольшом кораблике мы пересекли пролив по направлению к Танжеру, и остановились в отеле, где останавливались Матисс с женой — любопытном и вполне комфортабельном.
В то время в Фез въехать нельзя было из-за происходивших там военных действий. Мы не имели намерения посетить Фез, но хотели побывать в Танжере. Договорились с мусульманином по имени Мухаммед, который провел нас безопасным путем. Мухаммед был усыновлен султаном Танжера, у которого было много приемных детей. У него было европейское образование, он бегло говорил по-французски и немного по-английски. Когда мы собирались уезжать и попрощались с Мухаммедом, он сказал: «В следующем году, когда вы приедете на побережье, будет ходить трамвай и это будет замечательно». Он назвал нам дату, когда султан собирается отречься от престола и сколько денег он получит за это от французского правительства. Дата совпала с днем рождения моего брата, потому я и запомнила… Как-то в газете я с удивлением прочла, что султан отрекся, и за сумму, точно предсказанную Мухаммедом. Впоследствии, когда мы жили в Пальма де Майорка, то рассказали эту историю французскому консулу, месье Маршану, служившему посредником между маршалом Лиоте и арабами. Он простонал: «Если бы вы только рассказали нам тогда! Удивительно, вы знали то, что мы очень хотели знать».
Вернувшись из Танжера, мы направились в Ронду, небольшой город, который я прозвала елизаветинским из-за архитектуры небольших домиков. Во время одной из прогулок Гертруда потащила меня к реке и начала переходить ее, прыгая с камня на камень. Мне она сказала: «Ну, чего ты колеблешься?» «Потому что камни — не ступеньки, они отстоят друг от друга». Тем не менее, я, в конце концов, перешла речку.
Мы оставались в городе несколько дней и поехали в Гранаду. Гертруда там была, а я — нет. Стоял август, полная луна перед равноденствием. Английский консул, видя, как мы без толку болтаемся, брал нас с собой прогуляться по крышам некоторых домов.
Мы без ума влюбились в Гранаду. Там наблюдали цыганок, танцующих, величественно вышагивающих в своих широких юбках, покачиваясь при ходьбе. Там Гертруда приступила к написанию [словесных] портретов цыган.
Наконец, с неохотой мы вернулись во Францию. Но ненадолго, а осенью посетили Мейбл Додж на ее вилле Курония.
Там и тогда Гертруда написала «Портрет Мейбл Додж»[44]. Констанция Флетчер пришла в восторг от портрета и сказала Мейбл: «Вы должны его немедленно напечатать. Я отредактирую, отпечатать много времени не займет». Мейбл предложила переплести небольшие брошюры в современных печатных мастерских, используя для обложек старые флорентийские гравюры. Констанция хотела исправить правописание слов honor и sailor как honour и sailour, на британский манер, хотя родилась и воспитывалась в Америке.
Мать Констанции сбежала из городка Ньюберипорт, Массачусетс, с ней и молодым учителем ее брата. Они уехали во Флоренцию, где учитель стал художником. Затем они провели зиму в Каире, там, в 18-летнем возрасте, Констанция написала свой первый роман. Один из ее романов, «Кисмет», стал бестселлером. После его публикации Констанция на короткий период поселилась в Лондоне и написала пьесу «Канарейка», тоже имевшую большой успех. Там она встретила и обручилась с лордом Лавлейсом, потомком Байрона, но он к ней охладел, и они не поженились. Констанция переехала в Венецию, где и жила почти до самой смерти. Позднее я узнала, что ее семья была родом из Швейцарии, туда она уехала, там и скончалась.
Художник Хоуэйс и его жена, позднее взявшая псевдоним Мина Лой, в то время жили во Флоренции. Мина была красивой, умной, симпатичной и веселой. Мы присоединились к ним за ленчем, с чего началась наша длительная дружба с ней.
Однажды Мина сбежала от Хоуэйса и их маленького сына в Мексику, чтобы встретиться с Крейвеном, племянником жены Оскара Уайлда. Крейвен был вызывающе красивым англичанином, написал памфлет о салонных картинах, чем вызвал скандал, а также боксировал ради удовольствия. Он таинственно исчез с мексиканского побережья, дабы избежать английского закона о воинской повинности, когда Англия объявила войну в 1914 году. Мина всю жизнь утверждала, что он утонул, но никаких доказательств этому нет.
Мейбл познакомилась с Андре Жидом и пригласила его на обед. Когда подошел час обеда, Мейбл послала мне сообщение: «Если ты одета, приходи сейчас же. Если нет, поторопись и приходи, чтобы встретить Андре Жида, он появится с минуты на минуту». Так я и сделала, заведя с ним беседу, пока не появилась Мейбл. После обеда, Мейбл разлеглась на одном из длинных диванов и негромко беседовала с месье Андре Жидом, который, сидя напротив, наклонялся к ней. Мина полагала сцену крайне смехотворной и танцевала с воображаемым партнером. Это не трогало Мейбл. Не беспокоило и месье Жида, не замечавшего шутовства Мины.
5
Мира Эджерли рекомендовала побывать в Лондоне и побеседовать с тамошними издателями касательно публикации произведений Гертруды. Она посоветовала предварительно списаться, объяснив положение Гертруды в мире искусства, что, полагала я, не имело никакого отношения к публикации ее работ. Мира обещала попросить своих друзей, полковника Роджерса и его жену, встретить нас и ее в выходные на станции Риверхилл, в городке Сурри.
Мира была необыкновенно красивой калифорнийкой, хотя родилась не там. В Англии она добилась исключительного социального положения и артистического успеха как художник-миниатюрист и создала много портретов, членов королевской семьи. В Англии она была всесильной.
На коронации короля одна леди из антуража внезапно почувствовала себя плохо, и Мира ее заменила, благо официальное по такому случаю одеяние подошло Мире. Она была высокой и статной. Раньше она натягивала бечевку под носом, чтобы заострить его, говоря, что она — Кэтрин Киддер, великая артистка шекспировских пьес.
Мира порекомендовала небольшой отель, недалеко от Национальной Галереи. Там мы остановились, там она подобрала нас по дороге в Риверхилл. На станции Риверхилл нас ожидал экипаж. В этом мире не привечали автомобили.
Миссис Роджерс была женщиной утонченной красоты. Когда она отвела нас в предназначенные для нас комнаты, я увидела изящный французский фарфор и воскликнула: «Какой прекрасный фарфор, где вы его приобрели, ведь это музейный экспонат?». «Мне ничего об этом неизвестно, — ответила она, — фарфор уже был, когда я здесь появилась».
Многочисленные дети были весьма славными. Одна маленькая девочка привязалась к Гертруде, ее нельзя было отделить от Гертруды, она была как прилипшая конфетка.
На ленч и обед собралось много людей. Нам пришлось пройти изрядное расстояние до столовой, их было даже две. В маленькой помещалось только 12 человек. В самом доме обслуга была только женская, служанки — высокие, в шуршащих накрахмаленных передниках и головных уборах. Гертруда сказала, что они выглядят как архангелы.
Полковник Роджерс взял нас в поездку по окрестностям. Сады в Риверхилле, очень большие, не шли ни в какое сравнение с садами в Севен Оукс, куда нас повели осматривать дом и комнаты, подготовленные когда-то для визита королевы Елизаветы I. Убранство осталось нетронутым. Особенно мне запомнилось очень большое зеркало в серебряной раме. Показали комнату, из которой видны были крыши нескольких крыльев здания, расположенные ступенчато. Существовала легенда, будто кто-то из родственников прятался на крыше, но от чего, я не знаю.
На следующее утро полковник Роджерс повел нас на подготовительную к охоте встречу. Саму охоту он вынужден был пропустить из-за нашего присутствия, но мы познакомились с распорядителем охоты, бывшим вице-королем Индии, лордом Хастингсом.
У Миры была назначена встреча в Лондоне и она уехала во второй половине дня. Мы же вернулись в Лондон следующим днем и начались наши посещения издателей, которым я предварительно написала из Парижа. Они были исключительно обходительны, но ничего не собирались делать с работами Гертруды. Благодарили меня за присланные письма, но не обещали никаких публикаций. Только один, Джон Лейн из издательства «Бодли Хед», говорил обнадеживающе.
Роджер Фрай, посетивший нас на улице Флерюс, попросил провести один день с ним за городом. Квакер, потомок изготовителей шоколада, он получил солидное наследство, мог позволить себе покупать картины и создал центр искусства в Лондоне. Он обнаружил для себя Пикассо.
Именно Роджер Фрай привел Клайва Белла и его жену к Стайн в Париже. Миссис Белл была простой в обращении, сестрой очень красивой Вирджинии Вульф. Обе были дочерями сэра Лесли Стивена, обе выдавали себя за индийских принцесс и однажды их принял адмирал на военном корабле, в их честь был дан салют из пушки. Типичная английская выходка.
В те дни Клайв Белл был остроумен и увлекателен, пока не возомнил о себе. Он рассказал, что когда путешествовал с Роджером Фраем и его женой, те всегда хотели приобретать только первосортные картины, он же — только второсортные.
У четы Белл было двое маленьких, очень милых детей, похожих на херувимов — в отличие от родителей. Мальчика убили во время испанской революции, а дочь замужем за Эдвардом Гарнеттом.
Мы уехали в Париж, но на следующий год вернулись в Лондон, уже после покушения на эрцгерцога, не подозревая, что война неизбежна. Мы рассчитывали встретиться с Джоном Лейном. Он же в это время прибыл в Париж для встречи с Гертрудой. Жена Джона Лейна была американкой. Лейн в большой степени полагался на суждения жены и дал ей прочесть копию «Трех жизней». Не придем ли мы к ним домой на следующей неделе, когда нас смогут принять?
Принарядившись, мы отправились в воскресенье. Милдред Олдрич охарактеризовала Джона Лейна как орла или змею, но не знала, кого предпочесть: «В любом случае он будет вас защищать». Именно он открыл Обри Бердсли и издавал «Желтую книгу»[45].
Когда мы добрались до квартиры на улице Парк Лейн, комнаты были заполнены людьми. Миссис Лейн выглядела как моя старая учительница по фортепьяно — француженкой из Сан-Франциско. Была ли у нее французская кровь, я так никогда и не узнала. Она, не медля, сказала Гертруде: «Я посоветую мужу печатать вашу книгу, ее в Англии ждет успех». Услышанное так отличалось от сказанного издателями в прошлый приезд!
Предметом обсуждения стала война. Один из издателей лондонской газеты «Таймс», присутствовавший на встрече, помню, сказал: «Я не смогу есть фиги в этом году в Провансе».
Мы приняли приглашение матери Хоуп Миррлис нанести ей визит в Кембридж. Пришло также приглашение посетить Логана Пирсола Смита, но мобилизация не дала возможность воспользоваться поездами — они были реквизированы для передвижения войск.
Миррлис устроили несколько приемов с обедом в честь Гертруды. На одном из них я сидела рядом с А. Е. Хаусманом. Он попросил: «Поскольку вы из Калифорнии, не расскажете ли вы мне о вашем известном ихтиологе, докторе Дэйвиде Старр Джордане». «О, — сказала я, — он был другом моего деда». И рассказала все, что мне было известно о президенте университета Леланд Стенфорд.
У Миррлис я встретила также доктора Альфреда Норта Уайтхеда и его жену. После обеда он спросил меня, не откажусь ли пройтись с ним в сад и попить кофе. Я не признала его в тот момент, и только разглядев лицо при свете лампы, узнала. У него была очень доброжелательная ласковая улыбка, простота в обращении — сочетание, характерное только для гениев. По моим критериям он являлся третьим гением в моей жизни после Гертруды и Пикассо.
Вторично мы обедали с Уйтхедами уже в Лондоне, и миссис Уайтхед предложила посетить их в следующее воскресенье в загородном доме в Локридже. Мы и не подозревали, что визит продлится и перейдет в следующий месяц. Луиз Хейден потом сказала: «Вас пригласили на выходные, а вы остались на шесть недель».
Когда объявили войну, доктор Уайтхед зачитывал пугающие новости из газет, но хранил молчаливую безмятежность.
Нанес визит Бертран Рассел и упорно отстаивал пацифизм. Миссис Уайтхед, будучи хозяйкой, не могла ничего возразить, но Гертруда, знакомая с Расселом еще во время визита с Лео в Англию, резко ему возражала.
У Уайтхедов была два сына, один еще весьма юный, старший — призывного возраста, и юная дочь. Старший, Норт, выздоравливал после болезни в сельской местности, и миссис Уайтхед беспокоилась, как бы он не записался в армию, поэтому послала телеграмму, прося его вернуться немедленно домой. Он и в самом деле пытался записаться. Она считала, что он должен предстать перед комиссией и быть назначен офицером и поэтому отправилась в Лондон поговорить с Китченером. Китченер когда-то был близким другом ее брата, епископа Англиканской Церкви в Индии. Миссис Уайтхед вернулась с подтверждением чина для Норта.
Мы предложили отправиться в Лондон за багажом и получить деньги по переводам. Миссис Уайтхед поехала с нами. Ей хотелось выяснить, может ли она как-то помочь бельгийцам. На пересадочной станции нам повстречалась леди Эшли, с которой мы познакомились благодаря Мире Эджерли в Париже. Она приехала попрощаться с сыном, который был приписан к одному из кавалерийских батальонов и их отправляли во Францию. Так мы впервые узнали, что Англия направляет войска во Францию.
В Лондоне железнодорожная станция была переполнена юношами, оставившими школу, чтобы отправиться на войну.
Мы поспешили вернуться. Новости с фронта становились все более тревожными. Гертруда отказывалась вставать, предпочитая оставаться в постели, бодрствуя с закрытыми глазами. Когда, наконец, немцев остановили у Марны, я поторопилась в спальню Гертруды с новостью, но она мне не поверила: «Ты уверена?». «Да, уверена абсолютно. В данную минуту нет необходимости волноваться».
Битва при Марне полностью изменила наше настроение, будущее казалось уже не таким страшным. Пришла телеграмма от Нелли Жако: Tout va bien nullement danger t’embrasse Nellie[46]. Мы показывали эту телеграмму всем в доме Уайтхедов. Они не восприняли телеграмму как смешную (как ее поняли мы), а как ободряющий знак.
Среди людей в доме Уайтхедов повстречали Литтона Стрейчи, ближайшего соседа. Мы познакомились с ним годом раньше у Этель Сандс, тогда же видели и Джорджа Мура. Его тонкий писклявый голос в первые дни войны зазвучал еще пронзительней, чем прежде. Его сестра находилась в Германии, и он беспокоился, как бы вытащить ее оттуда. Эвелин Уайтхед посоветовала ему: «Вам следует обратиться к британскому послу в Германии».
Мы получили в посольстве в Лондоне наши документы и пересекли канал. В офисах посольства слышалось разноязычие, но более всего германской речи, что ужасало нас.
Секретарь в посольстве спросил: «Чем я могу вам помочь». «Дайте нам временный паспорт для возвращения домой». «Не могу». «Но раньше вы давали». «Нет, не могу, невозможно». Гертруда вспылила: «Я не хотела использовать имя моего друга, но поищите-ка Милдред Олдрич и посмотрите, какие документы вы ей выдали». Секретарь исчез, немного погодя вернулся и сказал довольно смиренно: «вы правы», — и выдал нам документы.
Он сказал: «Встаньте пожалуйста и присягните на верность своей стране». «С радостью», — сказала я с энтузиазмом. «Ну вот», — произнес он деловым тоном.
Я вернулась в отель, чтобы уложить наши сундуки. И в спешке лишилась чудесного старинного блюда Веджвуд[47], пагубно уложив его под тяжелую малахитовую чашу. Вспоминая об этом сейчас, удивляюсь, как мы смогли довезти наш огромный сундук Инновейшн[48] до Франции.
На пароходе, пересекавшем канал, находилось много огорченных бельгийских офицеров, покинувших Бельгию и ныне направляющихся во Францию. Их глаза были настороженными, хотя усталыми. То было наше первое знакомство с глазами солдат.
Поездка на поезде была странной. Поезд извивался по территории страны, чтобы избежать французских войск и добрался до Парижа уже в темноте.
Париж был пустынен. Милдред Олдрич из-за экономических трудностей вынуждена была закрыть парижскую квартиру, отдать своих канареек и перевезти мебель и книги в Юри, местечко на вершине горы у Марны. Она не успела там устроиться, как объявили войну. Мы ее навестили, и она поведала нам о битве на Марне.
На военную службу призвали многих наших французских друзей. Дерен и Брак были призваны сразу же. Пикассо попрощался с ними, как испанец он не подлежал призыву. Позднее он сказал: «Это был последний раз, когда я их видел, когда они вернутся, это будут не те самые друзья, с которыми я прощался».
Эрбена, слабого художника, слабого во всех смыслах, от армии освободили, поскольку он был не в состоянии нести вещевой мешок. Он был дружен с Роджером Фраем и остался у него в Лондоне. Анри Маршан вернулся с Ближнего востока и был мобилизован. Делоне был в Испании и таинственным образом избежал призыва. Матисса мобилизовали в охранные войска поддерживать безопасность железнодорожных мостов. В действующую армию его не взяли из-за слабого зрения.
Гийом Аполлинер не принимал французского гражданства. Он родился в Италии от матери-польки и отца-итальянца, а учился в южной Франции. Когда объявили войну, он пошел добровольцем во французскую армию, офицером в артиллерию. После того, как несколько раз свалился с лошади, его послали на передовую, где в самом начале войны он получил ранение в голову и подвергся трепанации черепа. Мы с ним ненадолго встречались на чаепитии в Париже в 17-м, у Шанель, в саду ее дома в Фабур Сан-Оноре. Голова его была забинтована, но выглядел он привлекательней, чем когда-либо.
Весной 1915 года мы отправились в Пальма де Майорка. До этого мы провели там два лета и нам понравилось. Доехали поездом до Барселоны, оттуда пароходом по Средиземному морю до Пальмы. Нам рассказали, что за нами гналась германская подводная лодка, но рано утром мы благополучно добрались до места.
Мы наведались в пансионат, который рекомендовали некоторые англичане, но нашли его неудовлетворительным. Мы уже собирались уезжать но нас встретил Уильям Кук, прибывший на корабле с Жанной, подругой из Бретани. Он хотел знать, может ли нам помочь. Я сообщила, что мы собираемся в отель Медитерранео, а Гертруда остается с багажом, как заложница, пока я присмотрю комнаты в отеле. Отель выглядел обещающе. Мы с Куком вернулись и освободили Гертруду из ее плена.
Мы устроились, наконец, в одном из флигелей отеля Медитерранео, выходившим фасадом к морю, с видом на порт и собор. Кук и Жанна брали нас в длительные прогулки в Женова и в оливковые рощи. Собор вместе с дворцом архиепископа в Феналуч привел нас в восторг. Кук также повел нас и на бой быков в Инке, где Жанна впервые стала свидетельницей убийства быка. Она думала только о том, сколько могло стоить животное такого размера.
Возвращаясь в Пальму, в ожидания поезда на маленькой станции в Инке Кук разговорился с местным жителем, который предложил выпить aqua vitae[49]. Зная, как пить из бутылки, не дотрагиваясь до нее губами, Кук сказал: «Женщины пусть тоже попробуют». Я попробовала, но пролила на подбородок, Гертруда отказалась.
На станции была часовня, небольшой грот Девы Марии, очень тронувший меня. Когда мы покидали городок, все ветряные мельницы работали. Приближался вечер, Жанна сказала, глядя из окна поезда: «Вот время для поэта и его творений».
Мы арендовали меблированный домик в Терреньо, в пригороде Майорки у вышедшего в отставку майора. Он пришел со старшей дочерью описать имущество, но она сказала, что разучилась писать. «Как так вышло? — спросила я. — Никогда не училась?». «О, — сказала она, — я научилась писать в монастыре, но с тех пор не представилось случая писать, и я разучилась».
Мы купили охотничью собаку местной породы, красно-рыжую с черными поперечными полосами. Она с трудом поддавалась дрессировке, не чувствовала привязанности к дому. Когда мы посещали дантиста в Барселоне, то покупали обычно дюжину тубероз с цветочного базара на Рамбласе. Гертруда велела мне научить Полиба нюхать цветы, а не есть их, как он обычно делал. Я учила его, но он не слушался и продолжал попытки их съесть. Гертруда посоветовала: «Пошепчи ему». Но и это не помогло.
Лето стояло жаркое, мы оставляли двери и окна открытыми, ночью собака перепрыгивала через железную калитку и убегала. Однажды ночью, отправившись в Женова с Куком и Жанной, мы увидели, как Полиб и несколько других собак, его приятелей, танцевали при лунном свете на вершине холма Я никогда прежде не видела собак, танцующих по кругу при лунном свете и пришла в восторг от их «представления».
Позднее Кук сказал мне, что мы неправильно тренировали Полиба. Он гонялся, так утверждал Кук, за козами и овцами по всей Пальме и крестьяне грозились прикончить это животное, если поймают. Мы стали привязывать бедолагу, он лаял и выл так, что сосед бросил на нашу террасу записку: «Если пес не прекратит свой вой, я убью его». Нам пришлось защищать Полиба от ярости жителей Майорки, которые, как и арабы, не любили собак.
Маленький кораблик доставил нас в Валенсию. Мы пригласили Кука, как гостя, провести недельный праздник крестьянского танца и великих тореадоров. Мы увидели Галлито и Галло, его старшего брата, несколько их замечательных приемов на арене. Как обычно, я достала хорошие билеты в тени, ниже президентской ложи для всех троих. Король и королева тоже пришли смотреть бой быков, но королева отворачивала глаза от арены, В день ее бракосочетания произошел неприятный инцидент: в ее коляску бросили бомбу в попытке убить короля. Кровь от небольшого ранения короля залила ее белое свадебное платье.
Крестьянские танцы были интересны, хотя и не профессиональны, в основном, традиционные, и зрители хлопали в такт.
Вернувшись в Пальму, мы обнаружили, что Жанна и наша кухарка-бретонка сблизились и ушли на прогулку, унеся с собой, еще горячий, бараний окорок, приготовленный кухаркой. Подобная близость усложнила ситуацию.
Когда нам приходилось посещать Барселону — чтобы наведаться к дантисту или закупить теплую одежду к наступающему похолоданию, мы отмечали, что проститутки были удивительно красивы, прекрасно одеты и вели себя с достоинством. Ничего подобного во Франции не было. Наш дантист, по-видимому, единственный дантист-американец в Испании был дантистом и Короля. Он поведал нам, что сам король сказал ему: только простой народ, и он сам поддерживает союзников — все остальные симпатизируют немцам.
Мы готовились оставить Пальму и вернуться в Париж. Обратились к американскому консулу за визами, но он отказался, говоря: «Откуда я знаю, что ваши паспорта законные? Пусть прежде всего французский консул выдаст вам визы». Мы обратились во французский консулат. «О, — сказал консул, — все в порядке. Может, вы меня не помните, но я помню вас. Вы были в Мадриде в 1912 и 1913 гг., и я выдал вам деньги по чеку в банке. Теперь я слишком стар и малоподвижен, меня одолжили консулату». Заполучив его визы, мы вернулись к нашему консулу, и тот, безо всякого смущения, подписал их: «Будьте осторожны, чтобы немецкие шпионы не выкрали их. Положите под подушку и спите на них».
Гертруда, которой всегда не хватало книг для чтения, подписалась в свое время на библиотеку Муди в Лондоне. На меня легла приятная обязанность составлять список книг и паковать, те которые надлежало вернуть. У Гертруды был какой-то вселенский интерес к чтению, но особенно ей нравились не имеющиеся в продаже экземпляры автобиографий английских офицеров — эти книги вызывали в Испании неприятную реакцию.
Маленький береговой корабль, на котором мы отплыли из Пальмы, сделал остановку в Картахене, где содержались пленники испанской войны в Африке. Люди толпились около тюрьмы, чтобы поймать момент и переговорить с родными. Когда мы сошли с корабля, чтобы пересесть на поезд в Гранаду, нас задержала испанская полиция Картахены и допросила. Были они довольно грубы и тыкали в парусиновый мешок, содержащий книги из библиотеки Муди. Достав одну, полицейский указал на страницы с картами и спросил: «Что вы собираетесь с этим делать?». «Она читает их, потому что интересуется историей английских офицеров». «Какое это имеет отношение к вам?». «Это — история». Он позвал капитана. Я решила, что приключение зашло чересчур далеко, и попросила капитана объяснить полицейскому, что мы — невинные путешественники, а книги — просто книги по истории. Так капитан и поступил. Объяснение было принято, и мы были свободны. Мы вернулись в растревоженную Францию.
6
Мы решили включиться в добровольческую деятельность в военной сфере. Идя как-то по улице Пирамид, на противоположной стороне я внезапно увидела грузовик Форд, за рулем которого сидела молодая американская женщина в униформе. Я сказала Гертруде: «Минуточку, пойду-ка я поинтересуюсь». Меня отвели к председателю Американского Фонда помощи раненым французским солдатам, миссис Изабель Лэтроп, приятной женщине в розовой шляпе, какую носят на пикнике. Несмотря на ее несерьезный вид, она обладала страстью в работе и способностью к эффективному управлению своей организацией.
Она выслушала меня и сказала: «Да, вы можете работать у нас, но вы должны иметь грузовик Форд, чтобы развозить медикаменты по госпиталям — все наши грузовики используются только их владельцами. Но если вы готовы в ожидании грузовика заняться составлением списка распределяемых по госпиталям материалов, можете начинать прямо сейчас».
Гертруда написала своему двоюродному брату Фреду Стайну, прося его прислать грузовик. Я же начала работать. Медикаменты продолжали поступать и отсылаться, и все были заняты. Уильям Гуин, которого я знала еще мальчиком в Сан-Франциско, пошел добровольцем в сербскую армию, получил ранение при отступлении сербских войск и был комиссован; он принимал и вскрывал ящики, составлял лист госпиталей. Ему помогал пожилой экс-адмирал, выполнявший ту же работу, но медленнее.
В начале 1917 г. от Фреда прибыл Форд. Гертруда училась по вечерам водить машину под руководством Уильяма Кука в его же такси Рено. Она отвезла Форд, в котором мы восседали на ящиках, прибывших с машиной, в ближайшую мастерскую, чтобы переделать кузов.
Наконец, нас уведомили, что мы можем прийти и забрать переделанный грузовик. Въезжая в Париж, Гертруда застряла между двумя трамваями, идущими в противоположном направлении, машину пришлось стаскивать с рельс. Следующим утром я не дала Гертруде и минуты на размышление. Мы отправились на улицу Пирамид сообщить миссис Лэтроп, что готовы приступить к работе.
Нам вручили лист медикаментов и других материалов для доставки в госпиталь в Сан Клу, наша первая поставка. Там нас естественно приняли радушно; я подписала все нужные бумаги и на следующее утро вручила их миссис Лэтроп. Она поинтересовалась, где мы предпочли бы открыть базу. Я назвала город Перпиньян, у нас там есть знакомые.
Мы отправились туда одним холодным снежным утром с атласом-путеводителем «Мишелин» и многочисленными картами. Первую ночь провели в Солье, где владелец отеля вызвал у меня неприятные ощущения, выглядел как немец. Но он только носил немецкую одежду, которую привез из Потсдама; там он служил главным поваром при императоре. Он приготовил для нас простой, но вкусный обед.
На следующее утро опять в путь. У Арне-ле-Дюк, спускаясь в снегу по крутому холму, мы вынуждены были остановиться — дорогу перегородила процессия уток. Искусство вождения у Гертруды тогда еще не включало преодоление неожиданных обстоятельств.
В Перпиньяне мы устроились в небольшой, тихий отель с весьма дружественной атмосферой. Владелица отеля предложила мне воспользоваться большой и пустой комнатой на первом этаже около входа. Ящики из нашего фонда прибыли на станцию, и Гертруда впервые имела возможность оценить, какое максимальное количество ящиков можно загрузить в грузовик. Мы проделали несколько рейсов, пока не доставили в отель весь груз. Я разработала систему сортировки материалов, не прибегая к помощи докторов или медсестер. У меня, например, был ящик с пятьюстами термометров. Его не следовало никому показывать, Каждый захочет заиметь один, нуждается ли он в данную минуту или просто хочет запастись на будущее. Ящики вскрывались, проверялись и размещались на полу штабелями, но так что они образовывали ступеньки, по которым я могла взбираться.
С определенными трудностями, но я выучилась и стала профессиональным работником.
В Перпиньяне расположилось множество госпиталей разных размеров. В некоторых размещали эвакуированных раненых и туберкулезных сербских солдат, пострадавших при отступлении. У них был жалкий, печальный и смиренный вид.
Жена Джо Дэйвидсона с помощью американских друзей открыла госпиталь для американских офицеров, мы часто встречались с ней и ее матерью. Она посоветовала мне не обращать внимания на директора военного госпиталя в Перпиньяне, который попросит медицинские материалы — он их не раздаст, а будет держать для себя. Я сказала, что он уже известил меня, что нуждается в шелковых пижамах.
Вилли Данбэр Джюитт с женой жили недалеко от Перпиньяна в укрепленном замке, который он купил, увидев объявление в архитектурном журнале. Они жили вместе с матерью жены, миссис Прендергаст. Он был родом из Сан-Франциско, жена — из Нью-Орлеана. Ее мать, ярая южанка французского происхождения, верила во французский католицизм, как то предписывалось движением Французское Действие. Мне она была интересна, но Гертруда находила ее скучной.
С супругами Джюитт мы посетили госпиталь, который они так щедро поддерживали. Затем провели ночь в их замке. В замке имелась потайная подземная темница, из которой Вилли Данбэр Джюитт выуживал с помощью веревки с крюком на конце бесчисленные старинные предметы — железные решетки, подсвечники, но не мебель. Если там и была когда-то мебель, то вся сгнила. Он подарил нам пару металлических каминных подставок для дров, которые мы взяли с собой в Париж, в конечном итоге отдав их Дженет Скаддер для дома, который она построила.
Миссис Джюитт был практичной и неутомимой. Вилли Джюитт был менее практичен. Однажды он отправился в Испанию, привез оттуда пару королевских мулов в серебряной упряжи и разъезжал по окрестности к восторгу местных жителей.
В ожидании дополнительных поставок, я получила письмо из нашего общества в Париже со списком высланных материалов, но к моему разочарованию, подписанное миссис Фрэнсис Шоу, председателем. С миссис Шоу, привлекательной швейцаркой, членом комитета я встречалась в Париже. «Что случилось с миссис Лэтроп?» — спросила я Гертруду. Это настораживало. Но ничего не произошло, случайная описка, допущенная миссис Шоу. Миссис Лэтроп оставалась главой фонда.
Риверсальт, место рождения маршала Жоффре, был недалеко от Перпиньяна. Мы съездили туда и я попросила фотографа сделать снимок дома, в котором маршал родился. С этой фотографии я сделала тысячу открыток и отослала в Соединенные Штаты с целью сбора средств для нашего общества. Миссис Лэтроп такой шаг понравился и принес нашему фонду дополнительные пожертвования.
По окончанию работы мы вернулись в Париж. По дороге я дала Гертруде кусок холодной курятины в одну руку, пока она другой, чтобы не терять времени, управляла. Во время пути кто-то рассказал, что американская армия сегодня вечером будет в Невере. При подъезде к городу мы неоднократно встречали разрозненных американцев, но не останавливались, пока не добрались до города.
Первым же офицером, у которого Гертруда спросила направление, оказался Тарн МакГрю, старый приятель, с которым мы встречались у супругов Жако. Он обратился к Гертруде: «Я попрошу двух солдат посторожить ваш автомобиль, а вы выступите перед группой солдат — тех, кто только прибыл и кого надо проинформировать о том, что надлежит знать о Франции». В тот вечер все хотели знать, как далеко линия фронта, ожидая услышать пушечную канонаду и зреть убитых немцев.
На следующее утро мы отбыли в Париж, где получили новое задание — в Ним. Комитет снабдил нас сопроводительным письмом к начальнику тамошнего военного госпиталя, и мы вновь поехали. Когда добрались до Нима и предъявили документы, жена главного хирурга пригласила нас посетить их дом следующим утром и познакомиться с некоторыми докторами, проживавшими в городе. Мы посетили дом мадам Фабр, где доктора, некоторые с женами, собрались вокруг большого стола за чаепитием. Мадам Фабр поинтересовалась у меня: «Много ли жителей-французов в Сан-Франциско?». Я ответила: «Двадцать пять процентов населения имеют французские корни». «Остались ли они хорошими французами?». «До такой степени, что некоторые из них отсылают своих дочерей в Париж, в школу Сакре Кер для обучения». Мадам Фабр повернулась ко мне спиной и только тогда я сообразила, что она из протестантской семьи. Позднее, однако, мы подружились.
На станции в Ниме мы устроили приемный покой для раненых солдат. Две монахини готовились к их приему и обеспечению прибывших горячими напитками. Гертруда пришла им на помощь.
Монахини водрузили на плиту огромный котел с шоколадом, приготовили обычные армейские оловянные кружки для раздачи, а я принесла медикаменты и сигареты. В то время была нехватка табака и в армии и у гражданского населения, поэтому сигареты оказались ценным товаром. В госпиталях солдаты курили то, что выдергивали из своих матрасов.
Мы регулярно появлялись на станции, получая прибывшие медикаменты. Однажды нас уведомили, что пропадает большая партия груза и нам следует немедленно явиться. Мы пришли, я побеседовала с начальником станции и объяснила ему, что получатель груза — Красный Крест, а не мы, как же я могу его принять. «Ну вот, — сказал он, — это халатность Американского Красного Креста, допускающая такое расточительство».
Мы познакомились и привязались к мадам Тибон, жене префекта города Гарда. Она очень расстроилась поведением Американского Красного Креста: «Вы должны что-то предпринять». Но мы возразили: «Это не наша обязанность».
У мадам Тибон был красивый сын, который, как я полагала, увильнул от военной службы. Мадам Тибон объяснила мне позднее, что он был еще молод для военной службы, но у него есть разрешение родителей отправиться на войну, как только исполнится 18 лет. Я была несправедлива по отношению к Жаку.
Однажды мы посетили Марсель, где в армейском гарнизоне Гертруда запаслась бензином и шинами для автомашины. Там, в небольшом ресторане с необычайно вкусной едой официант спросил, чего я еще пожелала бы. Я ответила: «Да, сигареты». И прежде чем мы ушли, он принес мне таинственный пакет, завернутый в газету, и сказал: «Они тут». Я заплатила вполне умеренную плату за обед и спросила, сколько я должна за сигареты. Он ответил: «Все, мадам, включено в счет».
На Рождество мы посетили Экс-эн-Прованс чтобы устроить праздничный обед для одиноких, заброшенных английских солдат, расквартированных там. Несколько воспитательниц-англичанок из Перпиньяна доставили продукты к обеду. Поскольку было холодно, мы предложили им переночевать в отеле, а уехать следующим утром. Мисс Ларкинс, самая красивая из всех девушек, рассказала мне после вечеринки: «Офицер, расположившийся в соседней со мной спальне, когда я вошла, постучал в стенку и спросил: „Должен ли я зажечь свой огонь?“. На что я сказала: „Надеюсь, ты не ответила“. „О, нет, конечно, нет“».
Однажды на станции мы встретились с сэром Хью Манро и его двумя дочерями, которые в Тарасконе распределяли английские посылки. Младшая, Кармен, была небольшого росточка, миловидной. Сестра была высокой, держала себя с большим достоинством и носила большие бриллиантовые серьги, несколько странно контрастирующими с ее голубой хлопчатобумажной униформой Красного Креста.
В то же время, когда мы познакомились с семейством Манро, мы встретили квакера Ковентри, который мгновенно же влюбился в обеих сестер Манро. Он служил в сербской армии и в Ниме у него был друг Матич, сербский офицер, бывший студент-юрист в Экс-эн-Прованс. Мы взяли обоих в поездку по госпиталям, пристроив на подножке автомобиля. Когда автомобиль попадал на скверный участок дороги, Матич соскакивал с подножки как птица, чтобы уравновесить машину. Гертруда и я спросили, пойдут ли они на пикник, если я устрою. Матич ответил: «Спасибо, но нет. Американцы любят кушать на открытом воздухе, но все, что я прошу — крышу над головой».
Сэр Хью Манро спросил Гертруду, интересуется ли она живописью. В ответ Гертруда рассмеялась: «У меня большая коллекция современной живописи». Сэр Хью ответил: «Моя живопись не современная, но коллекция большая. У вас какие художники?». Она ответила. «А у меня картины Тициана, Рубенса, Рембрандта». Пока он перечислял, Кармен шепнула мне: «В Англии об этом никто не знает, потому что семья никогда не платила за них налоги».
Объявили, что около Нима будут расквартированы американские солдаты. Для их лагеря уже выделили территорию. Это были солдаты с Юга и среди них были солдаты-негры. Гертруда заметила доктору Фабру: «Ждите трений между южанами и неграми». «Что вы имеете в виду?» — спросил доктор Фабр. «Они не любят друг друга», — ответила Гертруда. «Я нахожу это совершенно нецивилизованным», — сказал доктор Фабр.
Каждодневные новости с фронта воодушевляли все больше. Союзники продвигались к Страсбургу и к нашему удивлению однажды утром объявили о перемирии. Я была в шоке: «Что, немцев уже победили?». У меня навернулись слезы облегчения. «Успокойся! — сказала Гертруда. — Ты не имеешь права показывать слезы сочувствия тем французам, чьих сыновей больше не будут убивать».
Миссис Лэтроп прислала телеграмму, интересуясь, знаем ли мы немецкий язык. Если да, то мы должны закрыть нашу базу, немедленно вернуться в Париж и готовиться открыть такой же пункт помощи в Эльзасе. С ответом мы не колебались: обе говорим по-немецки и вернемся в Париж как можно скорее.
Я раздала оставшиеся бинты и медикаменты монахине, которая возвращалась в Иерусалим. Во время войны монахинь попросили поработать во французских госпиталях, но после войны у этих монахинь не было достаточно денег, чтобы платить за униформу, как того требовало французское правительство. Монахиня взяла продукты, а в ответ дала какие-то маленькие медали, которые хранились у меня, пока немцы их не забрали во время Второй мировой войны.
В Париже мы оставались недолго. Гертруда и я купили меховые авиаторские куртки и вязаные свитера. Уложили все в автомобиль и одним заледенелым утром направились в Эльзас. Провели первую ночь в маленьком отеле, где нам выделили номер, который в следующую ночь предназначался для мисс Маргарет Уилсон, дочери Президента. Меня предупредили, чтобы на полу не было никаких следов — ни духов, ни талька, ни пудры — у них нет времени чистить полы перед ее утренним прибытием.
Во второй половине дня мы нагнали французскую армию, тоже следовавшую в Эльзас, и попали из-за нее в передрягу. Лошади, везшие полевую кухню, взбунтовались и столкнулись с автомобилем. В результате погнулась тяга рулевого управления, разбился ящик с инструментами, находившийся на подножке. Я вышла из автомобиля, собрала инструменты. Лошади разбили также и стекло, поэтому, когда мы добрались до Нанси, автомобиль уже носило из стороны в сторону по всей дороге, а меня до неприличия покрыло грязью.
В Нанси мы направились в штаб нашей организации, где нас тепло приняли, но были поражены нашим видом. Мы перекусили, отправились спать, и, встав рано, осмотрели место сражения. После ленча в известном и шикарном ресторане Вебер мы продолжили наш путь к Малхаусу, месту нашего будущего штаба.
Очень скоро мы оказались в безлюдной местности. Дорога была унылой и голой, приводной ремень вентилятора лопнул. Гертруда попробовала скрепить его шпилькой. В этот момент на дороге навстречу нам появился французский армейский автомобиль. Гертруда помахала ему. Я сразу же заметила, что шофером был солдат, а на заднем сидении — два генерала. Я сказала: «Осторожно, моя дорогая, там генералы». «Неважно», — ответила Гертруда.
Солдат спросил разрешения у своих офицеров исправить наш автомобиль, они кивнули в знак согласия. Водитель подошел к автомобилю, посмотрел: «О, у меня есть нечто получше, чем шпилька». В мгновение ока он соединил ремень и вернул его на место. У меня был запас сигарет от Британского Красного Креста, из которого я выделила ему достаточное количество для выражения своей признательности.
В Малхаусе мы предъявили свои рекомендации, одну — французскому директору, ответственному за сеть госпиталей. Он решил нас передать в руки главного хирурга, чтобы тот смог подыскать нам подходящий отель. Выбранный отель был замечательным, но, как выяснилось, уже был отведен для французских офицеров и туда мы не смогли попасть. Нам порекомендовали небольшой эльзасский отель, в котором мы и провели всю зиму.
Мы приступили к распределению одежды среди эльзасцев, возвращающихся из Германии в родные дома, откуда они были переселены немцами во время войны. Нам выделили большое здание гимназии, где мы распаковали ящики и распределяли одежду. Гертруда бегло, хотя и неправильно изъяснялась по-немецки, но эльзасцы ее понимали. Я пыталась оживить правильный немецкий язык, которому училась, и услышала как эльзаска, ожидавшая своей очереди, сказала стоящей рядом женщине: «Она пруссачка». Гертруда была в восторге.
Среди людей, пришедших с нами познакомиться, была мисс Шиммель, молодая, хотя и весьма старомодная эльзаска. Гертруда срифмовала Himmel Himmel here comes Schimmel[50]. Она всегда прерывала нас, но была очень доброй и очень услужливой. Ее брат удрал из Эльзаса и присоединился к французской армии.
Однажды на дороге из двигателя послышался необычный звук. Гертруда вышла взглянуть, в чем дело. В этот момент мимо проходили два американских солдата и спросили, могут ли они помочь. Гертруда сказала: «Да, я не думаю, что это серьезно, но небольшой звук есть». Они опустились на колени, и не успели мы опомниться, как они сняли двигатель, осмотрели, почистили детали и поставили его на место. Им потребовалось столь мало времени, что мы с Гертрудой изумились.
Весной, возвращаясь в Париж, мы заехали повидаться с Милдред Олдрич. Милдред приятно удивилась, увидев нас. Мы обменялись увиденным и услышанным за время войны. Служанка Милдред призналась нам по секрету, что во время войны мисс Олдрич отдала все деньги, заработанные ее бестселлером «Вершина на Марне»[51]. Она отдала их жителям Хилтопа, благодаря которой, по ее словам, их заработала — раненым маленького госпиталя и семьям, чьи мужчины были ранены или убиты.
На следующий день после ленча мы были в Париже. Город, как и мы, был печальнее, чем до нашего отъезда.
7
Машина Гертруды превратилась, по выражению Жако, во второсортный катафалк, и он посоветовал Гертруде немедленно приобрести новый двухместный Форд. Мы отправились на завод Форда и заказали такой. Спустя короткое время нас уведомили, что автомобиль прибыл. Гертруда с гордостью управляла им. Мы восседали очень высоко. Как и до войны, автомобилям, за исключением частных, не разрешалось ездить в Булонском лесу.
Однажды примерно в это же время мы попали в пробку на бульваре Сен-Жермен около церкви Сен-Жермен де Пре. Я увидела, как Гертруда очень вежливо отвешивает поклон какому-то человеку, снявшему шляпу и поклонившемуся ей. У меня не было времени разглядеть его лицо. Я обратилась к ней: «Кто это был?». «Лео». Она не слышала о нем и не получала от него ничего в течение всех военных лет. Я сказала: «Не может быть!». «Да, это был Лео». Вернувшись домой, Гертруда набросала портрет «Как она поклонилась своему брату»[52]. Лео еще сохранил свою величественную походку, не историческую, скорее мифологическую.
У меня не было служанки, но была femme de ménage, довольно странная, не больно приветливая, хороший работник, со слегка деформированной фигурой. К моему удивлению, она спросила, может ли она работать как visitandine[53], и я естественно не возражала. Мне было скорее любопытно, особой надежды я не питала. Она приступила к приготовлению теста. Я не вмешивалась, хотя мне казалось, что она делает это не совсем правильно. Затем она сказала: «Когда у меня не получается готовка, я молюсь, прошу деву Марию помочь мне. И я знаю, как сделать правильно густой майонез». Я подумала, что когда она прерывается, чтобы помолиться, стряпня остается без надзора и тогда молитва уж точно требуется.
Наш дом заполнили друзья. Среди художников — Маркусси. Вернувшись с фронта, он купил небольшой автомобиль. Однажды в пробке на Оперной площади он остановился и, выйдя из машины, принялся регулировать движение — полицейские то ли не вернулись с фронта, то ли были убиты. Маркусси вполне успешно справлялся со своими обязанностями, пока его не окликнул прохожий: «Кто вы такой, чтобы нами распоряжаться?». «Кто я? — ответил Маркусси. — Тот, кто вернул вам Эльзас и Лотарингию».
Как получилось, что мы познакомились с Элмером Харденом, я не знаю, но он стал частым посетителем. Страстный читатель, он многое знал на память, выучил «Затерянный рай». Харден вернулся с войны и изучал музыку. Он рассказал, что когда попал на передовую, где уже на поле валялись убитые и раненые американцы, он слышал, как французский офицер выкрикивал: «Веди их другой дорогой, чтобы им не пришлось ступать по раненым и убитым соотечественникам».
Харден позднее серьезно влюбился в танцовщицу Ля Аргентина. Он никогда с ней не заговаривал, хотя видел ее ежедневно. Когда она умерла, он каждое утро посещал кладбище и клал цветы на ее могилу.
Харден повсюду ходил со своим большим другом Пьером. Спустя годы они пришли взглянуть на квартиру на улице Кристин до того, как мы туда въехали. Ковры были нарезаны, но еще не уложены. Элмер с Пьером увидели их и инструменты, оставленные рабочими на полу. «Что это такое? — спросил Харден. — Неужто вы собираетесь накрывать коврами такой прекрасный пол?». Паркет на полу назывался «Версальским паркетом». Я ответила: «Конечно, именно так, я не собираюсь больше снимать каждое пятно на натертом полу и, кроме того, с ковром всегда теплее». Харден сказал: «Это преступление, я запрещаю это делать, Элис, это преступление!». То же вымолвил и Пьер, только вежливее: «Пожалуйста, не надо». Я сказала: «Я не могу приглашать полотера каждый день натирать полы». Харден сказал: «Я буду платить ему, не думай об этом».
Кейт Басс была родом из того же города, что и Харден — из Медфорда, Массачусетс. Она была очень симпатичная, не молодая, но очень веселая. У нее в свое время был роман с Эзрой Паундом, против которого Гертруда ее отговаривала.
Мне помнится, она провела год в Париже, будучи более-менее невестой то ли египтянина, то ли турка. У нее было приятное имя — Кейт Мелдрэм Басс, но Кейт Басс звучало вполне по-шекспировски.
Кейт Басс привела к нам Альфреда Креймборга познакомить с Гертрудой. Креймборг и Гарольд Лоб приехали из Нью-Йорка, чтобы издавать в Париже журнал «Брум». Гарольд Лоб был сыном богатых родителей и у него были средства для этого. Креймборг обладал мягкой поэтической душой. После выпуска нескольких номеров они переехали в Рим. Кто-то тогда выразился так: маленькие журналы рождаются, чтобы публиковать свободную поэзию.
Жак Липшиц был то русским, то поляком, в зависимости от войны, которую он прошел. Он приехал во Францию, устроился и принял французское гражданство.
Липшиц сделал бюст Жана Кокто и приступил к бюсту Гертруды Стайн. Все жаркое лето она посещала его студию, где солнце просто обжигало, и позировала ему.
Его жена, Берта, прекрасно готовила и приглашала нас несколько раз пообедать с ними в студии. Однажды мне надо было видеть Гертруду. Я поднималась по ступенькам. Повернувшись и видя, как Берта спускается по ступенькам, я посторонилась, чтобы дать ей место, лестница была узкой. Я поздоровалась с ней. Она не обратила на меня внимания, будто не видела и не слышала меня и не знала, что я здесь. Иногда мне кажется, что тут замешано колдовство, пришедшее вместе с африканской слоновой костью и деревянными украшениями, которые Липшиц находил для нее.
В какой-то год друг Липшица пригласил его посетить Пальму де Майорка. Когда Липшиц покидал Париж, то заметил в антикварном магазине, расположенном в подвале дома, где была его студия, две головы, выполненные в стиле ранней готики. Поскольку у него не было ни су, чтобы их приобрести, он осторожно спрятал их за двумя старыми креслами, дабы никто не смог найти до его возвращения. Когда ему заплатили за элегантную скульптуру тореадора, он вернулся в Париж с заработанными деньгами и направился прямо в антикварный магазин, извлек и купил обе скульптуры.
Из Чикаго приехал Шервуд Андерсон со своей второй женой, Теннесси, и Поль Розенфельд. Сильвия Бич привела всех троих к Стайн по просьбе Шервуда. Я помню Теннесси, сидящую за большим столом в студии, слушая, что говорят другие, не принимая участия в общем разговоре.
Это был первый приезд Шервуда в Париж. После возвращения в Чикаго они развелись.
В следующий раз Шервуд появился в Париже с третьей женой — Элизабет Пралл. С ними были сын и дочь Шервуда от первого брака. Когда кто-то на корабле спросили Мими, красивую и похожую на отца, как ее мать готовила чай, она ответила: «Уверена, что не знаю». До поездки на корабле они не встречались.
Джон, младший сын Шервуда Андерсона, готовился стать художником. Когда его отец, мачеха и Мими возвращались в Америку, он в одночасье стал независимым и художником. Он проснулся с этой мыслью накануне их отбытия. Он часто навещал Гертруду, и она привязалась к нему.
Ральф Черч появился у нас благодаря Шервуду Андерсону. Миссис Черч, его мать, была очень красивой женщиной, но Шервуд сказал: «Она меня раздражает». Она обычно посылала Гертруде самые красивые желтые розы. Когда Гертруда умерла, садовод в Нью-Джерси выводил для нее желтую розу. Они никогда не стали абсолютно желтыми. «Они должны быть большими, желтыми и пахнуть», — говорила она.
Ральф Черч был философом и защитил докторат по философии в Оксфорде. Когда Хемингуэй приехал в Париж, Шервуд Андерсон дал ему рекомендательные письма к Черчу и Гертруде. Черч не предпринял никаких усилий, чтобы встречаться с Хемингуэем и не расспрашивал о нем Гертруду. Позже Гертруда сказала: «Черч, дай мне взглянуть на твою ладонь». И удивленно добавила: «У тебя сильно развито любопытство. Как же ты не проявил никаких усилий, чтобы разузнать о Хемингуэе?». «Ну, — ответил Черч, — я ждал, когда сам решу, что я думаю о нем». Они не были друзьями, Черч и Хемингуэй.
Вскоре после окончания войны супруги Джюитт посетили Париж. Мы навестили их в отеле и там по случаю встретили одного молодого рыжего человека и одного брюнета — Роберта Коутса и Ман Рэя, соответственно.
Ман Рэй смотрелся как индусский монарх в миниатюре, очень претенциозным, каковым совсем не был, был прост. Он пробивал дорогу в жизни и спросил Гертруду: «Не согласитесь ли вы позировать мне? Хотелось бы сделать вашу фотографию». Как обычно, она сказала: «Конечно». Она всегда говорила, что готова попробовать все хотя бы раз.
Ман Рэй дал адрес своего отеля на улице Деламбре. Комната, где он собирался фотографировать Гертруду, была маленькой клетушкой, спальней в крошечном отеле, но там уместились все его камеры, провода и осветительное оборудование. Он сделал там первую из многочисленных фотографий Гертруды, очень хорошую.
С того самого дня Ман Рей сделал столько фотографий Гертруды, что однажды, смеясь, заметил: «Я стал вашим официальным фотографом». А когда он увидел снимок Гертруды, сделанный мною в поле, даже разозлился и сказал, что он считал себя ее официальным фотографом и какое отношение к этому имею я.
Со временем Ман Рэй вернулся в Америку и в Париж наезжал только с визитами. Гертруда особенно привязалась к Роберту Коутсу. У него был приятный бархатистый голос и манера джентльмена. Он принес свою первую книгу «Пожиратель темноты»[54]. С ней произошла неприятность — Вирджил Томсон одолжил ее, единственный экземпляр, естественно подписанный автором, и потерял. Я видела его объявление об этой книге в «Нью-Йорк Геральд» и сказала Гертруде: «Он обязан ее найти». Но он не нашел.
Лишь несколько лет тому назад Коутс прислал мне из Америки репринт этой книги. Она оказалась интересна, как я и запомнила ее в первый раз, даже интересней — захватывающе, напряженно и драматично. За прошедшие годы он написал много замечательных романов, а его новостные сообщения по искусству и короткие рассказы печатались в «Нью-Йоркер». Они все замечательны.
Позже он появился в Риме, где я с ним встретилась снова. Его жена великолепно танцевала с нашим хозяином.
Гертруда и я были частыми гостями у нашей хорошей приятельницы Милдред Олдрич. Случилось так, что она внезапно лишилась своего скромного дохода. Выяснилось, что это не был подарок от ее друга, как мы все полагали. Деньги поступали от ее старого поклонника и его богатой жены. Мы нашли человека, хорошего друга этой пары, и спросили, почему перестали поступать деньги. Ответ был таков: «Моя жена в преклонном возрасте, у нее развилось скряжничество, я тоже в ее списке людей, которым сокращены привилегии, даже не могу пользоваться машинами. Мне приходится ходить на станцию пешком, если надо побывать в Нью-Йорке».
Мы побеседовали с каждым, кто мог бы помочь Милдред с деньгами. Все то жаркое лето мы пытались изыскать фонды для Милдред. Наконец было решено, что Гертруда должна обратиться к редактору «Атлантик Мансли». К сожалению, он не поставил всю заметку в журнал, но получил пожертвования, а одна дама пожертвовала 500 долларов, приехала в Париж познакомиться с нами и сказала: «Если этого недостаточно, я могу дать больше».
Милдред, конечно, была вне себя от необходимости жить на подачки публики. Она рассказала Гертруде, что когда впервые узнала, что доход прекратился, она оповестила библиотекаря американской библиотеки в Париже и просила его прийти и забрать ее книги — она не была уверена, что сможет жить на Хилтопе. Гертруда сейчас же отправилась поговорить об этом с библиотекарем, и он сказал: «Если она после своей смерти завещает нам свои книги, тогда мы о них позаботимся сейчас». Милдред согласилась.
В библиотеке есть, во всяком случае, до последнего времени была, комната для ее книг. Их у Милдред скопилось много, некоторые представляют значительную ценность как первые издания или как уже не издающиеся. Ее сохранившиеся письма — часть она уничтожила — завещаны Гертруде.
Уильям Кук приезжал в своем маленьком автомобиле к Милдред и забирал ее на праздники — Рождество, Новый Год, день Благодарения и 4 июля. Он вспоминал, что Милдред была интересной пожилой леди, но трудным гостем.
Однажды Амелия, служанка Милдред, позвонила, что у Олдрич инфаркт. Олдрич всегда оставалась на ночь одна, Амелия появлялась по утрам. Когда Амелия пришла, она нашла Милдред на полу. Амелия послала за местным доктором. Гертруда позвонила Куку, и мы втроем поехали туда. Кук полагал, что лучший уход ей обеспечат в Американском госпитале в Нейи. За Мидред там заботливо ухаживали, но она вскоре умерла. Кук и Гертруда позаботились об устройстве похорон.
Милдред имела привычку носить на ночной пижаме Орден Почетного Легиона. Она очень гордилась, что получила его. На похоронах офицер, одетый по всей форме, увешанный многочисленными медалями, представлял Почетный Легион. Было обилие цветов, которые доставили бы Милдред удовольствие. Ее похоронили на маленьком кладбище в Юри.
Форд Мэдокс Форд появился в Париже, чтобы выпускать журнал «Трансатлантик Ревю». Он часто посещал Гертруду. Я питала к нему симпатию. Хемингуэй прозвал его «золотой морж».
Однажды мы отправились навестить его и застали у него, как у истого француза, группу молодых поэтов. Он обратился к Стайн: «Кого вы знаете из здесь присутствующих?». Она подняла палку и указала на Гарольда Лоба. «Встаньте! — сказал Форд. — Поклонитесь мисс Гертруде Стайн». Когда он подыскивал небольшой домик за городом, я посоветовала район Германт, где он действительно нашел крохотный домик с крохотным садиком и где выращивал множество цветов. Он сказал мне: «Спросишь француза, что это за цветок, последует обычный ответ: резеда». Знаменитое шато в Германте, шато прустовского героя, находилось в шаге от маленького домика.
Вся история взаимоотношений Форда Мэдокса Форда и Вайолет Хант была бы смешной, если бы не была трагичной. Мы встретились с ними в доме Элис Улльман до Первой мировой войны, когда те вернулись из Германии. Вайолет Хант полагала, что вышла замуж за Форда. Он, однако ж, был женат на женщине в северной Англии. Когда Вайолет Хант обнаружила, что он сотворил, она написала книгу [об этом] и на вечеринке у Гэрри Фелана Гибба отвела меня в сторону и прошептала: «Знаешь ли ты, какую дрянную штуку проделал со мной Форд Мэдокс Форд?». Пришлось признаться, что знала, а ее книгу я прочла с напряженным интересом. Вне сомнения, Форд был удивительным человеком, но доставил много неприятностей Вайолет Хант.
На одной из вечеринок мы познакомились с Мэри и Луисом Бромфильдом. Среди присутствующих молодых людей был и Хемингуэй. Форд беседовал с Гертрудой, когда подошел Хемингуэй, чтобы поговорить с ней. Форд отстранил его, говоря: «Отойдите, молодой человек, это ведь я разговариваю с мисс Стайн, не прерывайте меня». И затем спросил Гертруду, может ли он посвятить ей новую книгу. Гертруду это очень тронуло, а я была счастлива.
В предпоследний раз я видела Форда на улице Флерюс, куда он пришел с привлекательной рыжей девушкой и обратился ко мне: «Элис, скажи ей, что ей следует выйти за меня замуж». Я, будучи осведомленной о его нынешней женитьбе, сказала: «Послушай, Форд, я не могу». Он сказал: «О, нет, ты можешь, скажи ей сейчас». Поскольку девушка была из Балтимора, из-за Гертруды все дело осложнялось. Я ничего девушке не сказала, и Форд оставил свою просьбу. Затем он подошел ко мне и сказал: «Я отправлюсь в Балтимор, объясню ее родителям, чего хочу, и они позволят мне жениться на их дочери». Они, разумеется, не позволили.
Примерно в это время леди Ротермер пригласила Гертруду и меня на прием, который она устраивала в честь Т. С. Элиота. Гертруда не горела желание идти, но я обещала леди Ротермер, что мы придем. Я приступила к шитью вечернего платья, поскольку все мои довоенные платья истрепались. Я заканчивала платье, когда 15 ноября во второй половине дня леди Ротермер и Элиот появились у нас на улице Флерюс. Я спешно собрала шитье и свернула в рулончик.
Томас Элиот хотел задать несколько вопросов Стайн по поводу ее стиля и она согласилась: «Давайте». «Скажите мне, мисс Стайн, кто дал вам право использовать раздельный инфинитив?». «Генри Джеймс», — ответила Гертруда.
Элиот в то время был редактором журнала «Критерион», с финансовой поддержкой леди Ротермер: «Нам бы очень хотелось получить от вас статью» «Да?» — переспросила Гертруда. «Да, — сказал Элиот, — но это должна быть ваша самая последняя работа». «Хорошо», — согласилась Гертруда. И они ушли.
В тот вечер Гертруда написала портретную зарисовку о Т. С. Элиоте, которую озаглавила «Пятнадцатое ноября»[55], чтобы не возникало сомнений, что это ее последняя работа. Статья не появилась в следующем номере «Критериона», не появилась и в последующих, после чего Гертруда начала всем рассказывать: «Он побаивается ее публиковать». Дошло ли ее высказывание до ушей Элиота, мы не знали, но она, не колеблясь, говорила, что он скор просить статью, но не так скор ее публиковать.
Саму леди Ротермер мы встретили на вечеринке в честь Мюриель Дрейпер, на которую мы пошли, поскольку Мюриель нам нравилась. Там же нас представили Натали Барни и мисс Ромейн Брукс. С этими женщинами мы вновь увиделись на представлении «Русского балета», и мисс Барни пригласила нас прийти на один из ее пятничных обедов. Это стало началом длительной и теплой дружбы. Ромейн Брукс была портретным живописцем, нарисовала несколько портретов д’Аннунцио, один из которых приобрело французское правительство и выставило в Люксембургской Галерее. В то время у нее была квартира в Париже на Куэй де Конти, обставленная в стиле того времени — много черного цвета, черный пол, черные чехлы на мебели. Это было несколько мрачно, но весьма стильно.
У Натали Барни в гостиной стоял очень большой стол с множеством комфортабельных кресел, за которым и подавали чай. Комната выходила в тенистый сад с множеством деревьев, но не цветов. По другую сторону павильона был небольшой тротуар, ведущий в Храм Дружбы[56].
За чаем всегда собиралось большое число разнообразных гостей — ученые, писатели, и несколько художников. Мари Лорансен была тут частой гостьей. Сестра Натали Барни, которую мы встречали в Ниме, очень тепло говорила на вечере, устроенном в честь Гертруды Стайн.
Когда мы переехали на улицу Кристин, мисс Барни подписывалась «Ваш друг и ближайший сосед», потому что улица Жакоб располагалась не далее, чем в четырех блоках от улицы Кристин.
Натали Барни познакомила нас с графиней де Клермон-Тоннерр. Графиня и Гертруда стали близкими друзьями. Их дружба продолжалась до самой смерти Гертруды.
Скотта Фитцджеральда привел к нам одним вечером в 1925 году Хемингуэй, как раз после публикации «Великий Гетсби». Хемингуэй привел Фитцджеральда и Зельду. Фитцджеральд принес экземпляр своей книги. Скотт, который не чурался иногда немного уколоть Хэма, однажды сказал мне: «Мисс Токлас, я убежден, вам будет интересно услышать, как Хэм достигает момента наивысшего успеха». Хэм как-то неуверенно спросил: «Что у тебя на уме, Скотти?». Тот сказал: «Скажи сам». Хэм сказал: «Ну что ж, вот как это происходит. Когда у меня появляется идея, я уменьшаю огонь, как на спиртовке, на самый минимум. Тогда она взрывается, так и моя идея». При этих словах Фитцджеральд повернулся спиной, а я сказала: «Отступление при Капоретто сделано прекрасно». Я больше ничего не сказала о книге, и Хэм был удовлетворен[57].
Фитцджеральд продолжал приходить к Гертруде. Было много разговоров о его алкоголизме, но когда он приходил к нам домой, всегда был трезв. Однажды он сказал: «Знаете, а ведь мне сегодня тридцать и это трагедия. Что со мной будет, что мне делать?». Гертруда ответила, что ему не о чем волноваться, что он писал как тридцатилетний все это время. Она посоветовала ему ехать домой и писать самую великую свою книгу. Она высоко ценила и «Великий Гетсби» и «По ту сторону рая». Когда из печати вышла «Ночь нежна», он послал экземпляр Гертруде с надписью: «Та ли эта книгу, которую вы хотели?».
Среди посетителей на улице Флерюс были супруги Робсон, приехавшие в Париж с письмом от Ван Вехтена. Они направлялись в Виллафранка. Гертруда сказала мне: «Надо устроить прием в их честь». Она начала собирать людей, прося Робсонов явиться раньше пяти часов.
Когда все собрались, Гертруда привела их в столовую, чтобы снять пальто и шляпы. Миссис Робсон держала в руке большой и очень тяжелый кожаный мешок. Она сказала: «В последнюю минуту пришлось кое-что докупить из вещей, и я все сунула в этот мешок. Бритвы, знаете…».
Вечер протекал очень хорошо, и Робсон спросил у Гертруды, не хотят ли гости послушать его пение. «Конечно!» — ответила она. Он спел несколько спиричуэлс.
Однажды в доме одновременно оказались невысокая американская женщина и Робсон. Имела место некоторая неловкость, поскольку она была убежденной южанкой. Она спросила Робсона: «Вы же южанин, не правда ли?». «О, нет! — ответил Робсон. — Я родился и вырос в Нью-Джерси». «Жаль», — сказала она. «А мне, нет», — ответил Робсон.
Навестила нас и Эдит Ситуэлл, с которой мы познакомились благодаря издателю лондонского журнала «Вог». С самим издателем мы встретились в Париже, и он сказал, что Эдит Ситуэлл хочет нас видеть. Ранее она написала статью о творчестве Гертруды для одного лондонского журнала, не очень восторженную. На следующий год, поменяв свое мнение, Ситуэлл написала для журнала «Вог» другую статью, на сей раз полную энтузиазма.
В наш дом ее привел Элмер Харден. Появление мисс Ситуэлл стало для нас большим сюрпризом, ибо она выглядела как никто другой под солнцем — очень высокая, гренадерского роста, с характерными чертами и самым прекрасным носом, который когда-либо был у женщины. Одетая в двубортное пальто с большими пуговицами она смотрелась как жандарм. Встреча стала началом длительной дружбы.
Мисс Ситуэлл рекомендовала Гертруде приехать в Англию и прочесть лекцию в Кембридже. Следом пришло приглашение из Оксфорда. Лекцию Гертруда написала, сидя в автомобиле, пока его машину чинили в мастерской. Она вернулась домой и сказала: «Я это сделала, я написала лекцию». И поведала мне, как, где и когда.
Предстоящее чтение лекций несколько беспокоило ее, она консультировалась с различными людьми, как ей поступать. Будучи однажды у Натали Барни, она попросила совета у одного, очень приятного профессора. Тот посоветовал: «Читайте как можно быстрее, не отрывая глаз, и тихо». Другой знакомый, Причард, сказал: «Говорите, как можно медленнее, как можно громче и не смотрите в написанное».
Весной мы направились в Лондон. В Лондоне все Ситуэллы — Эдит, Осберт и Сачеверелл — устраивали вечер чтения своих стихов и попросили Гертруду посидеть на сцене. Я на короткое время осталась одна и в это время ко мне подошла Долли Уайлд: «Элис, где наша дорогая Гертруда?». Я ответила: «Дорогая Долли, она на сцене!».
В Кембридже у Гертруды была спокойная и глубоко заинтересованная аудитория. Ей не составило труда удерживать внимание слушателей. После лекции мужчины задавали много вопросов, женщины же молчали.
В Оксфорде у нас был ленч с Гарольдом Эктоном, а затем Ситуэллы отвели нас в комнату, где Гертруде предстояло читать лекцию. Собралась большая, внимательная, спокойная аудитория, которая после лекции оживилась и начала задавать вопросы. Ситуэллы изумились быстроте и остроумию ответов Гертруды. Они хотели, чтобы мы продлили наше пребывание в Англии, но мы в тот же вечер отправились по железной дороге в Лондон и на следующий день были дома.
8
Летом 1922 года мы отправились в Сан-Реми, расположенный в долине Роны и провели там лето, осень и зиму. С приходом зимы подул мистраль, в отеле стало холодно. Однажды мы посетили маленькую деревню, расположенную на холмах, и сидели там, надеясь укрыться от ветра. Вокруг было вспаханное поле, холод, я не могла идти. Внезапно я заплакала. Гертруда спросила: «В чем дело?». «В погоде, — ответила я, — не можем ли мы отправиться в Париж?». Она ответила: «Завтра».
Но Гертруде так хорошо и с настроением там писалось, что я решила вести себя прилично и не жаловаться.
Несколькими годами позднее мы намеревались посетить Пикассо, на Антибских островах. По дороге остановились провести одну-две ночи в отеле Пернолле в Белле. Мадам Пернолле принесла в нашу комнату цветы из сада — они и выглядели как цветы из сада, а не как цветы из магазина. Мы поинтересовались: «Чудесные цветы, у вас есть сад?». «Нет! — сказала она. — То, что вы видите из окна — огород, цветов там нет. Но кругом много садов и мы получаем цветы от них. Вы должны прогуляться и посмотреть цветы у месье Женевре, он — садовод».
В тот день мы отправились туда, купили цветы и побеседовали с месье Фредом Женевре. Он был самым пожилым в семье, но по своим манерам мог бы стать лидером в любых обстоятельствах. Он уделил нам время, мы осмотрели его дом и полюбовались видом на долину внизу, иногда просматривалась и вершина Монблана.
Приехав в Белле, мы предполагали остановиться на день-два, но окружающая местность была такой захватывающей! Мы разъезжали по окрестностям, и в нас все больше и больше вселялся невероятный энтузиазм. Мы решили не присоединяться к Пикассо на Антибах и послали ему телеграмму: «Остановились здесь, по крайней мере, пока что на время». Затем Гертруда написала ему, что остаемся в Белле на все лето.
Как-то месье Женевре, к которому мы пришли купить цветы, сказал, что нас хочет видеть баронесса Пьерло. Если мы сможем пересечь долину и приехать к ней в Беон, он приедет к ней в шато на велосипеде и там присоединится к нам. Так мы все и поступили. Баронесса стала нашим хорошим другом. В 1870 году отец мадам Пьерло оставил свой дом и приехал в Беон из Лиона, чтобы избежать ужасов войны. Ее третий сын погиб во время Первой мировой войны. Оба ее мужа умерли. Первый муж, армейский человек, был военным атташе в Швейцарии и Риме, второй — наполеоновский барон, унаследовавший существенное богатство, был директором музея в Крейле. Она помнила все. Гертруда часто повторяла: «Ее память может сравниться с моей». Ей было что помнить!
Около шато в Беоне находился дом XVII века, прозванный Сейе — винный погреб, где приготовляли вино. Мадам Пьерло предложила Гертруде устроиться там и работать хоть полдня, хоть весь день — спокойно и никто не потревожит.
Несколько лет мы проводили летнее время в Белле, пока нам не попался на глаза дом в Билиньине. До сих пор мы не могли найти ничего подходящего, но однажды, находясь в долине и подняв глаза вверх, мы увидели желанный дом. Гертруда сказала: «Мы едем туда, ты пойдешь и скажешь, что мы хотим занять этот дом». Я возразила: «Но может он не сдается». Она сказала: «Занавески шевелятся». «Что ж, — ответила я, — это доказывает, что там живут».
Я встретилась с агентом владельца дома. Он мне рассказал, что нынешний квартирант — армейский офицер, похоже, что вскоре его полк направят в другое место. Если так произойдет, у нас появится возможность взять дом в субаренду, а когда она кончится, арендовать дом у владельца напрямую.
Наконец, полк уехал. Мы подписали документы и арендовали дом, который видели только с дороги. Мы и наш белый пудель Баскет переехали туда.
В течение многих лет по прочтении «Княгини Казамассима»[58] мне хотелось иметь белого пуделя. На одном из собачьих шоу в Париже Гертруда увидела пару белых пуделей со щенком. Щенок прыгнул к ней в руки. Мы поговорили с хозяйкой, она сказала: «Щенок на продажу, у матери тяжело протекала беременность и я потратила большие деньги на ветеринара». Гертруда сказала: «Мы возьмем его, но не поддержите ли вы его несколько недель, пока он не приучится к своим обязанностям». Женщина согласилась и предложила позвонить через две недели.
Мы забрали его за несколько дней до отъезда в Белле. В тот вечер у нас побывал Жорж Унье и спросил: «Что это за собака, которая так голосит?». «Щенок, только что купили». «О, боже, пожалуйста, успокойте его!». Жорж был очарован Баскетом.
Назвали его Баскетом[59], поскольку я решила приспособить его носить в зубах корзинку цветов. Никогда не носил.
До того я хотела собаку породы бедлингтон, мы почти и купили такого в Лондоне, когда навещали Джона Лейна. Но началась война и взять его с собой во Францию мы не могли. Когда ж начали проводить летние месяцы в Белле, я сказала — бедлингтон Баскет в Белле — вполне подходящее имя, только это был не бедлингтон, а пудель.
За Баскетом последовали и другие собаки, включая Байрона, Пепе и Баскета II. Байрон был породы чихуахуа, подарок от Пикабиа, чьей собакой чихуахуа мы восхищались.
В ту ночь, когда у нас появился Байрон, мы с Гертрудой по очереди держали его на коленях, и когда пришло время отправляться спать, обнаружили, что Баскет исчез. Он побежал к калитке, пытаясь исчезнуть и избежать ревности, которая точила его. Мы с Гертрудой выбежали, привели его обратно, пытаясь не давать больше повода для ревности.
Как-то в Билиньин приехал Пикассо с женой в лимузине и шофером. С ним был и эрдельерьер Эльф. Они собирались провести у нас день. Когда они вышли из машины, мы подумали, что приехал цирк — они были одеты в зимнюю спортивную одежду южной Франции, которая еще не дошла до Америки и для нас была новшеством — голые ноги, голые руки, яркие цвета. Пабло пояснил: «Все нормально, сделано в Средиземноморье».
Эльф бегал по кустам и цветочным клумбам. Баскет смотрел на собаку с тем же недоумением, с которым мы смотрели на хозяев собаки. Баскет был возмущен — он себе такого не позволял.
В Билиньине мы принимали многих посетителей, среди них Карла Ван Вехтена и Генри МакБрайда. Карла мы, конечно, знали еще до войны, в первый раз видели на втором представлении «Весны Священной». Он сидел в той же ложе, где и мы и я предупредила Гертруду: «Будь осторожна, не говори по-английски, он определенно понимает». Позднее я сказала: «Думаю, это тот человек, который завтра вечером будет нашим гостем». Так и вышло.
Карл был членом редакции «Нью-Йорк Таймс» в Париже, пока однажды не отказался, и вернулся в Нью-Йорк, погрузившись в писательское творчество. В то время он в основном писал месячные статьи-обозрения по вопросам музыки. Мэри Гарден[60] служила ему вдохновением. Он считался авторитетом в своей области, каким, поколением позже, стал Вирджил Томсон. Затем он стал писать романы. Его «Негритянский рай»[61] имел огромный успех и влияние. Этот роман вместе с «Меланктой»[62] явились двумя успешными примерами произведений о неграх.
Карл совершено поменялся после смерти Эвери Хапвуда. Смерть стала ужасным ударом для Карла. Оба они создали современную творческую атмосферу Нью-Йорка. Они изменили все в соответствии со своим видением и образом жизни. Город стал веселым, бесшабашным и сверкающим, как и они сами.
Карл прислал нам Эвери, когда тот был в Париже, мы обожали его. Гертруда говорила, что у него вид овцы, но он способен превратиться в волка. Его светловолосая голова всегда свешивалась на одну сторону. Он любил Гертруду. Он привел к нам Гертруду Атертон, говоря, что хотел познакомить обеих Гертруд.
Однажды вечером он пригласил нас на обед, другим гостем был Беверли Никольс. Беверли возразил Эвери по какому-то не очень важному поводу и Эвери сказал: «Помолчите, молодой человек, вы и ваше мнение ничего не значат в моей молодой жизни». Внезапно Эвери вытащил из кармана небольшой клочок бумаги, высыпал белый порошок себе на ладонь и проглотил. Гертруда была об этом осведомлена более, чем я, и возразила: «О, Эвери, ты не должен этого делать». Но было поздно что-нибудь менять.
Когда метрдотель принес счет, Эвери отослал его. Гертруда спросила: «Это работает?». «Ну, не всегда, но я делаю это всегда».
Одним вечером он взял нас в кабаре, к Флоренс. Она сказала: «Он не любит платить по счету. Появляется перед отъездом из Парижа, спрашивает, сколько должен и выписывает чек. Один из способов избежать сведений, сколько чего стоит».
Последний раз мы встречались с Эвери несколько лет спустя, он пригласил нас, посадил в машины и такси большое число своих друзей-товарищей. Все пообедали на Монмартре, поехали посмотреть другие места. Мы с Гертрудой и Эвери сидели в одном такси, и Эвери сказал, упоминая одного из своих друзей: «Он добьется от меня, чего ему надо, и убьет меня». «Не говори так, Эвери, ты не должен быть убит». «Он преследует меня и убьет».
На следующий день мы уезжали в Белле, и спустя некоторое время от него пришла открытка с благодарностью за посещение его вечеринки, но без марки — его небольшой трюк выполнить что-то с меньшей волокитой. В тот же самый день мы узнали новость — Эвери утонул в Средиземном море.
К счастью, Генри МакБрайд появился у нас на несколько дней и отвлек Гертруду от переживаний из-за смерти Эвери.
Джейн Хип и Маргарет Андерсон приехали в Париж в начале 20-х, чтобы издавать литературный журнал «Литтл Ревю», который запустили еще в Чикаго. Джейн Хип представила нам молодого русского художника Павлика Челищева. Его живопись на некоторое время заинтересовала Гертруду, пока она, живопись, не стала, как выразилась Гертруда, плохой. Тогда его картины перевесили в «салон отказников».
Благодаря Челищеву, мы познакомились с Рене Кревелем. Рене Кревель был единственным из молодежи того периода, которого я действительно любила. Я обожала его. Голубоглазый, полублондин, с необычными чертами, делавшими его похожим на моряка — говорил быстро и блестяще, сопровождая разговор резкими жестами. Увы, он болел туберкулезом. Его мать, несчастная вдова известного издателя музыки, сделавшего себе состояние публикацией марша Буланже, не распознала, что Рене нуждается в специальном уходе, пока болезнь не обострилась настолько, что понадобилась операция.
Рене и сестре Челищева, Шуре, рекомендовали отправиться на юг, по состоянию здоровья. Там они влюбились друг в друга. Однажды вечером мы с Гертрудой прогуливались по бульвару Сен-Мишель и встретили Шуру в открытом платье с коротким рукавом. Я сказала ей: «Шура, укройся, это нехорошо для твоего здоровья». Она пожала плечами: «Не имеет значения». Она была красивым, беспечным созданием.
Рене Кревель сказал, что его друг, профессор в университете Клермон-Ферран, почитатель произведений Шервуда Андерсона, был бы рад познакомиться с Гертрудой. Я почему-то решила, что речь идет о пожилом человеке — ничего подобного. Месье Бернар Фай был молодым человеком, раз в неделю отправлялся на три дня в Клермон-Ферран, где читал лекции. Во время длинных поездок в поезде туда и обратно, он не только писал, но и печатал. Вирджил Томсон взял нас к нему, и встреча положила начало долгой дружбе с Бернаром Фаем.
Вирджил Томсон стал парижанином под влиянием Бернара, который устроил для него и хора Гарвардского университета поездку с концертами по Франции. Я не знаю, уехал ли Томсон в Америку, вернулся ли во Францию или остался тогда же в Париже. Первые мои воспоминания связаны с посещением его маленькой квартиры на Монмартре, куда он нас пригласил послушать, как он играл и пел «Сократа» композитора Эрика Сати. У Вирджила был талант наигрывать оперу самому, имея под рукой только пианино.
Позднее он перебрался в студию на набережной Вольтера с маленьким окошком, из которого виднелся кусочек Сены. У него появилась близкая подруга, довольно пожилая леди, вдова профессора, мадам Ланглуа, обладавшая язвительным умом, но ставшая Вирджилу хорошим другом. Она, возможно, немного ревновала к влиянию Гертруды на Вирджила. Она научила его всему французскому и Франции. Одним вечером, когда он устроил вечеринку, мадам Ланглуа, взяв меня под руку, сказала: «Пойдемте скорей». Я видела, что она ведет меня к Андре Жиду, но я не хотела приветствовать его таким образом. Он поздоровался с нами. Мадам Ланглуа, покачивая пальцем в направлении его лица, сказала: «Вы нехорошо повели себя, не навестив меня. Вы придете, разве нет?». Он ответил, тоже тыча ей в лицо: Peut-etre[63].
Когда мадам Ланглуа умерла, выяснилось, что она была на 13 лет старше, чем все предполагали. Ей было 83 года.
Затем Вирджил делил свою студию с Морисом Гроссером. В то время Морис был бедным художником, но очаровательной личностью — интеллигентным, умным и чувствительным. Оба замечательно готовили простую и вкусную еду.
Когда мы впервые встретили Жоржа Маратье, он был молод, красив — солдат в голубовато-зеленой униформе времен Первой мировой войны. После войны он работал в отцовском бизнесе, отец скупал вина, поставлял их в магазины, у них было замечательное вино. Когда отец Жоржа был доволен сыном, он говорил: «Спустимся-ка мы вниз и раздобудем немного вина». Они спускались в винный погреб с особой корзинкой для винных бутылок и выбирали вино для Жоржа, поскольку Жорж жил отдельно, в своей квартире. И Жорж приносил несколько бутылок этого замечательного вина нам.
В квартире у Челищева Жорж познакомился с молодым человеком, американцем, по имени Брейвиг Имс. Брейвиг Имс, студент колледжа Дартмут, написал роман, который вызвал негативную реакцию жены одного из профессоров, героя романа[64]. Он спешно покинул Дартмут и появился в Париже, где встретил Челищева, Рене Кревеля, Жоржа Маратье; они нашли его удивительно невинным.
Брейвиг хотел стать профессиональным писателем, работал корректором в двух американских газетах, издававшихся в Париже. Когда его выгоняли из одной, он устраивался в другую, туда-сюда. Жоржу нравился неудачливый юноша и если тот впадал в безденежье, то он приводил того к себе, выделял комнату в квартире, кормил — вкусно и обильно. Брейвиг, даже будучи в отчаянном положении, потеряв одну или обе свои работы, проявлял некую экстравагантность. Он, к ужасу Жоржа, отправлялся стричь волосы к самому именитому парикмахеру.
Однажды под ночь Брейвиг заявился к Жоржу. Уселся в кресло и в своей небрежной манере бросил шляпу в одну сторону, а палку — в другую. Жорж заметил: «Не делай этого, в моей квартире не следует быть таким небрежным, подбери свои вещи». «Что ж, но за моей спиной сейчас есть кое-кто. Догадайся, кого я встретил сейчас?». «Откуда мне знать, — сказал Жорж, — кого же ты встретил». «Ладно, скажу — Джеймса Джойса». «Je ne connais pas ce Monsieur[65], — сказал Жорж, — подними свою палку и веди прилично».
Следующим вечером, появившись у Жоржа, он опять отбросил палку в одну сторону, а шляпу в другую. «Догадайся, кого я встретил сегодня?». «Уверен, что не знаю». «Гертруду Стайн!». «Не знаю такую леди», — ответил Жорж, хотя конечно то была одна из шуток Жоржа — с Гертрудой уже в то время он встречался очень часто.
Однажды Жорж предложил нам: «Если вы отвезете меня в своем автомобиле в Дампьер, где в отеле остановился Брейвиг, мы там покушаем и сможем забрать его с нами, поскольку он, в который раз, лишился обеих работ». Мы действительно хорошо поели, а после ленча Жорж сказал: «Брейвиг, ты возвращаешься с нами обратно в Париж, тебе нельзя оставаться здесь без денег. Мы постараемся найти для тебя работу. И ты не должен стричь свои прекрасные волосы у самого известного в Париже парикмахера, тебе придется приучаться к обычной экономии молодого человека в городе».
Прошло несколько лет. Брейвига пригласили погостить в Данциг, где он встретился с польской девушкой Валеска. Он написал, что намеревается привезти ее с собой в Париж. Гертруда отправила ему строгое письмо: «Ты не можешь так поступить, Брейвиг. Ты не можешь привезти в Париж девушку, не женившись на ней!». Брейвиг написал обратно: «Что же вы предлагаете?». «Жениться». Брейвиг последовал этому совету.
Брейвиг вернулся в Париж, он и Валеска часто посещали нас. Валеска забеременела, они попросили меня стать крестной матерью их ребенка. Я отказалась: «О, нет, Брейвиг, нет. Ты же знаешь, что произошло. Когда я была крестной матерью ребенка Хемингуэя, мы не видели его в течение очень продолжительного времени».
Брейвиг Имс представил нам Эллиота Пола, который вместе с Эженом Жола и его супругой основали журнал «Транзишн». Эллиот Пол был искренним почитателем творчества Гертруды и понимал его. Он попросил ее отдать «Разъяснение»[66] в его журнал. Одновременно с публикацией Гертруды они публиковали и Джеймса Джойса. «Улисс» Джойса уже был напечатан Сильвией Бич и пользовался ошеломляющим успехом.
Сильвия Бич владела небольшим книжным магазином под названием «Шекспир и Компания». При магазине она создала небольшую библиотеку, подписчиком которой являлась и Гертруда Стайн. Обо всем этом Сильвия Бич написала увлекательную книгу «Шекспир и Компания».
Джуна Барнс поинтересовалась у Гертруды, сможет ли она и Мина Лой привести как-нибудь Джеймса Джойса на чаепитие. На что Гертруда ответила «Да, конечно». Но они пришли без Джойса и никак не объяснили его отсутствие. По-видимому, идея встретиться с Гертрудой ему не импонировала. И только спустя много лет, когда Гертруда была на вечере у Джо Дэйвидсона, Сильвия Бич подошла к ней и спросила: «Не возражаете ли вы подойти и встретиться с Джеймсом Джойсом?». Гертруда ответила: «Конечно, не возражаю». Они поздоровались, и Джеймс Джойс сказал: «Разве не странно, что мы до сих пор не встречались, мы оба — писатели и живем в одном и том же районе?». «Да!» — ответила Гертруда, и это было все, что они сказали друг другу, больше ничего не могли придумать.
Когда Гертруда вернулась с чаепития, ей захотелось рассказать мне об этом эпизоде. Но я возразила: «Не надо, расскажи мне о леди Мортимер Дэйвис из Сан-Франциско, хочу знать, что ты думаешь о ее красоте». Гертруда о ней ничего не смогла рассказать.
Жорж Унье в это время стал издателем, перенял издательство «Эдисьонс де ля Монтань» от Жоржа Маратье. Унье был предан Гертруде и перевел некоторые из портретных зарисовок Гертруды.
Большие черные глаза блуждали на его белом лице как у механической игрушки, изображавшей человека на луне. Его отец — невозможный человечек, флиртовавший с молоденькими девушками. Мать Жоржа, приятная и очаровательная, обожала сына. Однажды она устроила вечеринку для его друзей и пригласила нас с Гертрудой. Макс Жакоб, также приглашенный, танцевал босоногим, чем шокировал мадам Унье.
В те дни Гертруда не жаловала Макса Жакоба — он был неопрятен и возможно нечистоплотен. Гертруда не любила его юмор.
Летом, перед Первой мировой войной он вместе с Пикассо находился где-то в сельской местности. Фернанда спросила меня, не хочу ли я узнать свою судьбу. Я согласилась. Фернанда сказала: «Макс Жакоб составит твой гороскоп». «О, — сказала я, — это другое, это не предсказание судьбы». Но он все равно записал его, и Фернанда сказала, что я могу дать ей деньги, а она передаст их Максу. Гороскоп заканчивался удивившей меня чертой — склонностью к воровству. Спустя годы Макс стал преданным католиком и пытался заполучить гороскоп обратно, ссылаясь на то, что католику не надлежит заниматься гороскопами. Но гороскоп уже был в Йеле.
У мадам Унье было несколько украшений, которые она любила носить и однажды Жорж сказал: «У моей матери большие неприятности: гадалка предсказала ей потерю чего-то ценного». Но потеря оказалась хуже потери украшений — она утратила любовь своего мужа.
У Жоржа Унье мы увидели картину, сделанную рукой художника, привлекшего внимание Гертруды. Это была работа сэра Фрэнсиса Роуза. Жорж отзывался о Фрэнсисе пренебрежительно. Укорять Жоржа не следовало — Фрэнсис был гость весьма нелегкий.
Гертруда глубоко заинтересовалась работами Фрэнсиса Роуза и купила все его работы, какие смогла найти у дилеров. Она также попросила Жоржа Маратье поискать и купить для нее картины Фрэнсиса, и он нашел несколько. Гертруда вывесила картины на улице де Флерюс.
Вскоре после этого она встретила на улице Меро Гевару и та сказала: «Я расспрашивала, в городе ли вы, потому что хочу, чтобы вы пришли сегодня к нам. У нас будет тот, кого вы хотели бы видеть — Фрэнсис Роуз».
Фрэнсис был с другом, Карли Миллсом, а в карманах у каждого по очереди сидела собачка породы чихуахуа по кличке Сквик[67], названная так из-за манеры Фрэнсиса разговаривать.
Фрэнсис сел рядом с Гертрудой. Она рассказала о его картинах, которые приобрела, и предложила после чая поехать на улицу Флерюс и глянуть на них. Так они и поступили. Фрэнсис покраснел от удовольствия при виде своих работ, висевших на стене рядом с Пикассо.
Фрэнсис Роуз был одним из многих художников, кто привлек внимание Гертруды после Первой Мировой войны. Другим был Пикабиа, которого Гертруда встретила у Мейбл Додж.
Пикабиа был единственным ребенком в семье, отец — испанец из Севильи, мать, мадмуазель Шарко, — из семьи изобретателей и ученых. Его дядя, брат матери, служил куратором библиотеки в Сан-Женевьев. У Пикабиа был исключительный дар художника. Очень юным, он тайком уехал в Швейцарию в поисках свободы. Вернулся во Францию, чтобы стать серьезным художником. Жорж Маратье, узнав об интересе Гертруды к Пикабиа, подарил ей очаровательный маленький пейзаж, нарисованный Пикабиа в то время. Будучи в Швейцарии, Пикабиа стал одним из первых дадаистов.
Его живопись была неровной, в ней ощущался его неуравновешенный характер, который проявился во всем его творчестве. В одних работах ощущалась определенная элегантность, в других — грубоватость.
Кристианс Тонни, голландский художник, участвовал в выставке 1926 года вместе с Челищевым, Кристианом Бераром и двумя братьям Берманами. Отец Тонни пожертвовал собственной карьерой художника, чтобы иметь финансовую возможность послать сына учиться живописи в Париже.
Гертруда поначалу не заметила его работы, но позже, когда он попал под влияние сюрреалистов, приобрела несколько его работ, заинтересовавшие также и Эллиота Пола. Тонни нарисовал портрет Гертруды и Баскета, который много позже я подарила американскому солдату.
Тонни был талантливым еще в детстве, многие открыли его для себя и становились его покровителями.
В то время фаворитом Гертруды был Хуан Грис. После того, как он переехал с улицы Равиньян в Отейл, поближе к их другу, артдилеру Канвейлеру, мы часто с ним виделись. Постепенно Гертруда приобрела еще больше картин Гриса и очень привязалась к нему.
Хуан, несмотря на болезненное состояние, был веселым и приятным компаньоном. Он и Жозетта сняли небольшой домик прямо у моря в Бандоле. Мы навещали их там, останавливались в гостинице, но целые дни проводили с ними. Хуан брал нас на прогулки по береговым скалам, показывал окружающую природу, а Жозетта готовила простую вкусную еду.
В Бандоле Грисы познакомились с одной зажиточной семьей, которая через многие поколения унаследовала замечательные картины фламандских художников, и которая заинтересовалась живописью Гриса. Обе семьи близко подружились. Хуан сделал рисунки двух юношей и двух других членов семьи — Жанны-блондинки и Жанны-брюнетки. В Жанну-блондинку Хуан влюбился и настолько, что Жозетта в одно время хотела разводиться. Ситуация для Жозетты сложилась отчаянная, но в конце концов все уладилось. А вскоре бедный Хуан умер.
Хуана, в отличие от Матисса, всегда сопровождали финансовые трудности. Когда Матиссы перед Первой мировой войной переехали на виллу с большим садом со статуей Поля и Вирджинии под зонтиком[68], они пригласили нас на ленч. Первое, что заметила Гертруда в салоне, была работа Сезанна, небольшая, но очень хорошая. Гертруда сказала: «Матисс, у тебя замечательная картина». «Да, на меня напало искушение купить ее, и я не совершил неблаговидного поступка по отношению к своим детям, ибо деньги, которые потратил, с лихвой вернутся из-за ее возросшей стоимости». На обратном пути, возвращаясь в Париж на такси, я заметила Гертруде: «Видишь, как Матисс бережет свои деньги. А что делает Пабло? Он хранит свои картины как наследство».
Когда Гертруда не смогла найти издателей для своих произведений, она продала великолепную работу Пикассо — «Девушку с веером». У меня едва не случился разрыв сердца. А когда она рассказала об этом Пикассо, я заревела. Продажа, впрочем, позволила нам организовать издательство «Плейн Эдишн».
Гертруду уже опубликовал Роберт МакЭлмон, владелец издательства «Контакт Эдишнс». МакЭлмон опубликовал «Становление американцев», но Гертруда и он поссорились. О МакЭлмоне Хемингуэй как-то выразился: «Мне не нравится, как он разбрасывается моим гонораром».
МакЭлмон одно время был женат на Браер, близкой и старой подруге Хильды Дулиттл. Однажды мы взяли Торнтона Уайлдера домой к Браер, поскольку он был страстным поклонником Хильды. Когда мы ушли, Торнтон сказал: «У Браер наполеоновская натура, она ходит как он, говорит как он, вероятно и чувствует, как он».
Первый сборник, выпущенный «Плейн Эдишн» — «Люси Черч с любовью»[69] — был скверно отпечатан в Париже. Переплет был непрочен, задняя обложка отваливалась. Поэтому второй сборник «Как писать»[70], мы отправили в Дижон. Гертруда хотела сделать его похожим на книгу Стерна XVIII в., которую нашла в Лондоне, в обложке из бело-голубых листов, наклеенных на картоне. Но и эта книга вышла неудачно и я горько пожаловалась: «Посмотри, как плохо страницы совпадают». Печатник мне ответил: «Что вы хотите, мадам, это же сделано машиной, а не вручную». С тех лет ответ этот для меня с Гертрудой стал классическим.
На одном из вечерних приемов мы познакомились с самим Дарантьером, он напечатал «Становление американцев». Я сказала ему: «Помогите мне выпутаться, у меня две книги Гертруды, их надо напечатать, мне нужна ваша помощь. Я хочу сделать их недорогими, чтобы их можно было продавать в Соединенных Штатах за два с половиной доллара, оставив что-нибудь мне на почтовые расходы, таможню и, если возможно, немного дохода». «Да, — сказал он, — отпечатаем их монотипом, это дешево с коммерческой точки зрения. Я приеду к вам и покажу, что это такое. Не волнуйтесь, выйдет хорошо».
У Дарантьера возникла замечательная идея. Он предложил помещать каждую книгу в картонную обложку такого же желтого цвета, как и суперобложка «Становления Американцев». Одна из книг «Оперы и Пьесы», другая — «Матисс, Пикассо и Гертруда Стайн» Оставалась еще одна — «Прежде чем увядают цветы дружбы, увядает дружба»[71]. Я купила персикового цвета бумагу и напечатала сто экземпляров. Название пришло в голову Гертруде в столовой отеля в Бурге, когда посетители, сидящие за двумя отдельными столиками, спорили.
Летом 1931 года нас в Билиньине посетили Аарон Коплэнд и Пол Боулз. Мы звали Пола «Фредди», не знаю почему. Первый раз, когда он пришел на обед, там был и Бернар Фай. Бернару юноша понравился с первого взгляда, ибо, когда он спросил его: «Что делает твой отец?», тот без колебаний и смущения ответил: «Мой отец — дантист».
Однажды, идя по улице в Белле, Фредди наклонился и подобрал несколько монет. Я спросила: «И часто ты подбираешь?». «Довольно часто», — ответил Фредди.
Фредди, который в ту пору сочинял музыку, сказал Гертруде, что Аарон Коплэнд посоветовал ему: «Если ты не будешь работать сейчас, когда тебе 20, никто не полюбит тебя, когда тебе исполнится 30».
В то утро, когда мы собирались в Билиньин (до второй войны), позвонил Фредди: «Можно я с женой навестим вас». Мы не знали, что он был женат, да и времени не было, мы уже уезжали. Гертруда так и не встречалась с Джейн Боулз, я же свиделась с ней уже после смерти Гертруды.
Однажды мадам де Клермон-Тоннерр нанесла визит Гертруде. «Что ты думаешь об этом?» — она сняла шляпку и показала, как постригли ее красивые волосы. Гертруда ответила: «Прическа так идет твоей голове». «Вот и ты к этому же придешь», — заключила мадам де Клермон-Тоннерр.
Тем же вечером Гертруда сказала мне: «Отрежь мои завитушки», с чем я согласилась. Следующий день я провела, постепенно отрезая волосы — постепенно, потому что не знала, как это делается, получалось короче и короче. И чем больше я отрезала, тем больше прическа нравилась Гертруде. Наконец, к концу дня все закончилась и в этот момент в дверь позвонили. Гертруда воскликнула: «Не подходи к двери». «Нет, я подойду, посмотрю, кто это». Оказалось Шервуд Андерсон. Он кинул взгляд на Гертруду: «Вы выглядите как монах».
Позднее Гертруда даже и не вспоминала, что у нее были две длинные косы.
В 1934 году лекционное бюро предложило Гертруде поездку в Нью-Йорк. Пока она готовила лекции к поездке, Бернар Фай приехал к нам в Билиньин. Перед приездом прислал телеграмму: «Могу ли я привезти с собой одного молодого человека?». «Да, как всегда» — ответила Гертруда. Он приехал вместе с Джеймсом Лафлиным, сыном исключительно богатой семьи из Питтсбурга.
В тот самый вечер у нас обедали друзья — семейство д’Эгю, и Джеймс Лафлин встрял в разговор на тему войны. «Ш-ш, молодой человек, — прервал его Боб д’Эгю, — вы ничего о войне не знаете. Наша семья во многих отношениях пострадала от войн, поэтому, пожалуйста, помолчите, пока вы не разузнаете о войне больше, чем знаете сейчас». Джеймс Лафлин попросил удалиться, пошел в свою комнату, и к обеду не вышел.
Я начала готовить гардероб Гертруды к отъезду — один наряд к дневной лекции, другой — к вечерней, один для поездок, одно-два платья на всякий случай. Гертруда настояла на своей шапочке из леопардовой кожи, расстаться с которой отказалась. Приготовив лекции, одежду и план поездки, мы прибыли в Париж, на пароход «С. С. Шамплен»[72], на который Бернар Фай раздобыл дешевые билеты. Я снабдила Гертруду бесчисленным количеством хороших перчаток, мы были готовы к отбытию. У парома, направлявшегося к пароходу, нас провожали Трак, повар-индокитаец, Жорж Маратье и Джеймс Лафлин. Внезапно Гертруда шепнула: «Одна кнопка от туфли оторвалась». «Как такое могло произойти?» — спросила я. «Вот она», — показала Гертруда. Трак исчез, нашел иголку с ниткой, и пришил кнопку на место. В такой прозаической манере мы и отправились в наше грандиозное путешествие.
9
Гертруда отметила, что морское путешествие стало более комфортабельным. Она не знала, как мало изменились поездки в поездах, пока мы не оказались в Америке. Пароходы на корабле имели крышу, и дождь, каким бы сильным ни был, нас не затрагивал. Даже на самолете так не защищают. На пароходе нам вручили красивые цветы от мадам де Клермон-Тоннерр. Она послала их мне в благодарность за совет перевести одну из лекций Гертруды.
Сервис на пароходе был отменным. Первое наше открытие: мы могли взять с собой одну или обеих собак, если речь шла только о корабле; трудности начались бы в отелях и на самолете. Стюард спросил меня: «Мадам, мне сказали, что у вас в Париже есть собаки, почему же вы не взяли их с собой?».
Стюард поинтересовался, не хотим ли мы отдельный столик в столовой и не хотим ли мы есть за капитанским столиком. Им казалось, что Гертруда заслуживает этой чести, но мы предпочли быть сами по себе.
«Шамплен» имел самую великолепную кухню, какую только можно было представить, впоследствии мы заказывали блюда заранее, стараясь урезать бесконечное количество блюд.
После ленча мы вышли на палубу, покрытую стеклянной крышей, как в оранжерее. Тут же с нами завязал разговор очень приятный доктор из Нью-Джерси, с которым путешествовали жена и маленький сын. Знакомство сделало наше путешествие приятным. Каждый год как добропорядочные нью-йоркцы они проводили время в Европе.
Нашлась на пароходе женщина, составлявшая гороскопы, она предсказала Гертруде, что ее тур окажется очень интересным. Была там и вдова генерала, убитого в тот год, когда мы находились в Турене. Мы с Гертрудой хранили молчание по поводу его случайной гибели. Вдова сидела за капитанским столиком с огромным веером из перьев.
Капитан корабля поинтересовался у Гертруды, почему она не сидит за его столом и хотела бы она перейти туда. Она ответила, что ведет на корабле очень спокойную жизнь, очень довольна, чувствует себя комфортно. Но он настаивал: «Не откажетесь ли вы выпить со мной?». «Это, — ответила Гертруда, — еще менее желательно, чем обедать». Но согласились и встретились там с очень разношерстной публикой.
На борту парохода мы также повстречали Эбба Димне, которого видели в доме у Элис Улльман. Когда-то Юджин Пол Улльман в одну из пятниц пригласил нас на ленч в кафе «Вольтер». Поинтересовался, что мы будем есть. Я заказала камбалу, за мной последовали и остальные — все заказали рыбу. Когда метрдотель спросил Эбба, что он желает, тот ответил: бифштекс.
Наконец мы пришвартовались в порту Нью-Йорка, быстро распознали небоскребы и постепенно оказались в здании порта, в кругу друзей.
Еще раньше Гертруда решила: если надо обязательно встретиться с журналистами, она встретится. Эбб был шокирован, увидев толпу журналистов, пришедших интервьюировать Гертруду.
Среди них был и У. Г. Роджерс, который шепнул мне: «Меня тревожит, что ее засыпят вопросами». Я ответила: «Не надо волноваться». Журналисты хотели знать, собирается ли она поучать Америку. «Нет, ничего подобного, я приехала смотреть и слушать, ну и говорить».
Тем временем я занялась оформлением таможенных бумаг, чтобы подготовить их заранее. Когда мы сошли с корабля, Ван Вехтен, Беннет Серф и брат Гертруды из Балтимора должны были встретить нас. Я отправилась к таможеннику и сказала: «Вот ключи, у нас ничего, подлежащего обложению таможенной пошлиной, нет, я все заполнила, новая одежда приготовлена для нас самих на замену. Я не думаю, что у нас есть что-нибудь подлежащее налогу». И вернулась поговорить с Ван Вехтеном. Я посмотрела на таможенного инспектора — он ничего не делал. Я обратилась к Карлу: «Думаю, он закончил, Конечно, я дам ему на чай». Карл отчаянно замахал руками: «Ни в коем случае». «Что ж, тогда я пожму ему руку и поблагодарю его». «Только без рукопожатия, здесь это не делается».
На следующей неделе в журнале «Нью Йоркер» появилась карикатура с изображением предположительно таможенного инспектора со словами: «Гертруда говорит: четыре шляпы есть шляпа есть шляпа»[73].
Карл и Беннет вернулись, чтобы отвезти нас на ленч в отель Алгон-куин, в котором я заказала номер. Там царила ужасная суматоха, журналисты набились в комнаты, кругом были провода, какие-то катушки, всякие устройства. Я не могла открыть свою сумку, не могла открыть чемодан, не могла ничего.
Во второй половине дня вся шумиха закончилась, и мы вышли погулять. Я предложила поискать фрукты. К моему немалому удивлению продавец в хорошем овощном магазине спросил: «Мисс Токлас, как вам нравится Нью-Йорк?». Откуда он знал, кто я?
На Таймс-сквер бегущая световая реклама сообщала: «Гертруда Стайн прибыла в Нью-Йорк, Гертруда Стайн прибыла в Нью-Йорк…». Будто мы и не знали!
По возвращению в отель мы застали фрукты и красивые цветы, присланные Ван Вехтеном. Я занялась наведением порядка в наших делах, одновременно наслаждаясь фруктами.
Нам выделили три комнаты — две спальни и одну гостиную и все это лишь для нас.
Темнело, мы решил пообедать в наших комнатах. Гертруда надумала сразу же завести привычку: есть по вечерам легкий ужин, чтобы она могла читать лекцию в любое требуемое время, не меняя при этом свой порядок питания. Она посчитала, что устрицы и дыня будет приемлемой диетой.
Мистер Харкорт, опубликовавший «Автобиографию Элис Б. Токлас», прислал нам приглашение посетить его следующим утром в редакции. Он хотел показать нам редакцию и познакомить с мистером Брейсом. Так что на следующее утро мы отправились туда.
Мистер Харкорт сказал: «Я даже и не представлял себе, что вы будете такими популярными». «Но вы должны были так подумать, — сказала Гертруда, — потому что людей привлекает именно то, что они не понимают». При этих словах мистер Харкорт послал за мистером Брейсом и сказал: «Послушай, что она говорит, она утверждает, что публику привлекает то, что она не понимает».
С лекциями в Колумбийском университет произошла небольшая неувязка. Там должны были состояться три лекции и устроители оповестили Гертруду, что лекционный зал может вместить 1500 человек, как им поступать с остальными? Гертруда попросила меня написать, что существует договоренность: на любой лекции должно присутствовать не более пятисот человек, и что они имеют в виду, называя цифру 1500. Появился глава лекционного департамента и спросил, что мы имеем в виду. Я поинтересовалась, не получал ли он уведомление из Парижа о количестве людей, допускаемых на каждую лекцию. «Я и не подумал, что именно это вы имеете в виду», — ответил он. «Почему же, — спросила я, — вы предположили, что говорилось одно, а имелось в виду другое?». Гертруда сказала: «Все просто. Если вы не можете принять это условие, выбросите мысль о проведении лекции». «Мы не можем так поступить» — ответил глава департамента. «Вот что, — сказала Гертруда. — Я даю вам 24 часа, то есть до завтрашнего утра, чтобы известить меня о вашем согласии».
На лекции в Колумбийском университете я сидела рядом с Мейбл Уикс, прежней приятельницей Гертруды, и она спросила очень решительно: «Разве я не увижусь с Гертрудой?». На что я вынуждена была ответить: «Извини, я не знаю». Мисс Уикс была одной из старых подруг, с которыми Гертруда не хотела встречаться. Другой была миссис Миллс, мать Карли Миллса, позвонившая мне и пригласившая к себе домой на обед. Я сказала: «Сожалею, но это невозможно, поскольку Гертруда не принимает приглашений».
Состоялась лекция и в Принстонском университете. Лекционный зала был заполнен, но присутствовало не более пятисот человек. Железнодорожная служба оказалась очень плохой. Поезд опоздал и в Принстон, опоздал — надолго — и в Нью-Йорк. Поездка оказалась утомительной.
Карл устраивал для нас вечеринки, где знакомил со своими негритянскими друзьями. Они шокировали меня своими резкими и бесцеремонными утверждениями. Особенно я запомнила голубоглазого и светловолосого негра Уолтера Уайта. Позднее он стал мужем моей приятельницы Поппи Кеннон. Присутствовал на вечеринке и Джеймс Уэлдон Джонсон. На другой такой вечеринке присутствовали супруги Нопф. Миссис Нопф посетила Гертруду в Париже, по-видимому, благодаря миссис Брэдли, литературному агенту. Тогда Миссис Нопф хотела опубликовать какое-нибудь произведение Стайн. Гертруда обещала подобрать что-нибудь и выслать ей до того, как она покинет Париж. Прошло несколько месяцев, от нее не было слышно ни слова, и Гертруда решила: «Напиши ей и попроси вернуть рукопись, чересчур долго залежалась у нее». В ответ миссис Нопф написала, что Гертруда знает, как она хотела напечатать рукопись в их фирме, но в редакции парни сказали, что не подойдет.
Состоялось бесчисленное количество званых ленчей и обедов. На одном из них Карл представил Гертруде Стайн Джорджа Гершвина и тот сыграл для нее несколько своих вещей.
Карл сделал сотни фотографий Гертруды, да и меня снимал достаточное количество раз. Процесс съемки происходил в маленькой, жаркой комнате, под ярким светом электрических ламп. Гертруда измучалась и почувствовала облегчение, когда вся процедура закончилась. Карл сделал совершенные фотографии Гертруды в ее многочисленных блузках.
Осенью 1934 года мы отправились в Чикаго, чтобы согласовать тему и место лекций Гертруды Стайн. Бобси Гудспид, с которой мы познакомились во Франции, устроила прием в своем доме. Там предстояло встретиться с лицами, ответственными за проведение лекций, особенно с Фанни Бутчер. Фанни Бутчер сказала, что не предвидит никаких трудностей и возьмет на себя заботу прояснить расписание лекций. И сделала, как обещала.
В Чикаго нам предстояло впервые увидеть постановку оперы «Четверо святых в трех актах»[74]. Мы пришли в восторг и не только из-за самого факта представления ее оперы, музыка Томсона и оформление спектакля было удивительно красивым.
Бобси Гудспид интересовалась не только живописью — она приобрела небольшого Пикассо и несколько других картин — но также музыкой и русским балетом. Муж не разделял ее интересов, поэтому, когда однажды прием затянулся допоздна, он появился в пижаме и сказал: «Пришло время вам всем отравляться по домам». Но мистер Гудспид особо интересовал Гертруду — он был одним из членов правления Университета и лидером местного отделения Республиканской партии.
Гертруда Стайн дала лекцию в Клубе Искусств, президентом которого являлась миссис Гудспид. Присутствовало множество гостей, многих мы знали лично, о других были наслышаны. Вопросы искусства интересовали присутствующих даже больше, чем сама Гертруда.
Следом миссис Гудспид устроила чаепитие, чтобы познакомить Гертруду со своими друзьями. Среди них была Хэдли Хемингуэй Моурер, первая жена Хемингуэя. Гертруда и я были крестными матерями ее сына.
Гертруда читала лекции и в Чикагском университете, президентом которого был Роберт Хатчинс, очаровательная личность, твердо знавший, чего хотел от Гертруды. И когда он предложил Гертруде встретиться со студентами в присутствии его и мистера Мортимера Адлера, она согласилась: «Почему бы и нет». «Ну, — сказал он, — ими трудно управлять, у них свои идеи, посмотрим».
Итак, одним вечером они отобрали группу студентов по собственному усмотрению. Гертруда сказала: «Поскольку мы собрались здесь, чтобы обсуждать вещи, которые интересуют именно вас, вы и задавайте мне свои вопросы. Я же предлагаю для обсуждения вопросы эпики». «А, вот это», — сказал один из них. «Да, это! — подтвердила она. — Вам необходимо иметь представление об этом и, обсуждая ваши доводы, вы услышите и мои».
Дискуссия прошла довольно оживленно, и после нее Гертруда поделилась со мной своим впечатлением. Ей показалось, будто Хатчинс и Адлер решили, что она предоставила студентам чересчур много свободы. Оба порекомендовали ей объяснить студентам, о чем думать, и помочь им сформировать свои мысли, на что она ответила: «Я всегда позволяю молодым людям формулировать свои собственные идеи самостоятельно».
По окончанию дискуссии мистер Адлер сказал Гертруде: «А сейчас отправимся на обед к мистеру Хатчинсу». Все четверо покинули место встречи и направились к дому президента университета. По дороге мистер Адлер сказал: «Мне прежде не доводилось видеть студентов, готовых беседовать с таким размахом, какого добились вы». «Они всегда склонны говорить, они любят говорить», — заметила Гертруда. «Но не с нами», — уточнил Адлер.
Миссис Хатчинс была очаровательной, очень красивой женщиной, чей дом был исключительно комфортабельным и элегантным. За обедом случилось непредвиденное: вошла служанка и обратилась к миссис Хатчинс, но так, что все слышали: «Полиция, мадам». Мистер Адлер откинулся в кресле, побагровев, и обратился к мисс Стайн: «Полиция!». На что Гертруда спокойно ответила: «Все в порядке. Это мисс Бутчер устроила для нас поездку с полицией нынешней ночью». Вошла мисс Бутчер, мы распрощались с Хатчинсами и отправились по различным местам, где полиция могла ожидать происшествий. Шла охота на преступника, которого предполагалось поймать в этот вечер, и мы должны были принимать участие в этом мероприятии.
Мы посетили несколько мест сомнительной репутации и полицейские — их было двое в небольшом автомобиле — спросили: «Мисс Стайн, куда вас отвезти? Где в Чикаго вы остановились?». Она дала им адрес семьи Гудспид, что было, естественно, в совершенно другом направлении. Когда мы туда добрались, наше приключение позабавило миссис Гудспид.
При следующей встрече мистер Хатчинс предложил Гертруде прочесть серию лекций об английском языке группе студентов, которую подобрал Торнтон Уайлдер. Среди них двое или трое особенно заинтересовали Гертруду — они впоследствии переписывались с ней. Лекции прошли довольно живо, но когда Торнтон Уайлдер предложил кое-кого из молодых людей исключить, Гертруда отмахнулась.
Мы вернулись на восточное побережье, навестили двоюродного брата Гертруды в Балтиморе. В Балтиморе вы встретились и с Фитцджеральдом. Это было накануне Рождества, он ожидал появления Зельды из хосписа. Ей позволялось на праздники быть дома. Когда она появилась, в гостиную для встречи с мамой привели и ее маленькую дочь Скотти.
Гертруда, увидев Скотти, сказала: «Извини, Скотти, у меня нет для тебя рождественского подарка, поскольку я не ожидала увидеть тебя». «А что у тебя в кармане?». Гертруда достала из кармана карандаш и мне помнится, как Скотти сказала: «Я сохраню его на память».
Зельда, выглядевшая еще милее, чем прежде, принесла несколько картин, недавно ею нарисованных, и попросила Гертруду их посмотреть. Гертруде картины понравились, и Зельда предложила выбрать одну в подарок, что Гертруда и сделала.
Посетили мы и Вашингтон и Белый Дом, где были приняты миссис Рузвельт. По ее словам, Президент был не здоров и не смог нас принять, на что Стайн любезно ответила «Понимаю». Миссис Рузвельт также проинформировала, что нас примет в своей резиденции один из важных чиновников Белого дома, но кто им был, не помню.
Мы вернулись в Нью-Йорк и отправились в Новую Англию, по дорогам которой нас возили супруги Роджерс в автомобиле их приятельницы, миссис Вессон из семьи изготовителей револьверов. Стояла зима, церкви в Новой Англии смотрелись в белом одеянии как на почтовых открытках. Посетили колледж Вассар, студентки были красивы и стильно одеты. Но тамошнюю еду Гертруда есть не смогла и попросила яйцо всмятку и апельсин.
Следующим в расписании был юг страны. С Карлом Ван Вехтеном мы поехали в Ричмонд, где нас представили Эллен Глазгоу. За обедом я сидела рядом с Джеймсом Бренч Кейблом, который спросил меня: «Что, Гертруда всегда серьезна?» «Крайне» — ответила я. «Тогда другое дело». «Для вас, но не для меня» — сказала я.
В Чарльстоне деревья камелии очень высоки и полны красных, розовых и белых цветов. Там у нас был очень добрый гид, один профессор. Он показал нам дубовые деревья, принадлежавшие к Клубу Столетних дубов. Лекцию в Чарльстоне Гертруда прочла в красивом историческом здании, не очень большом. Гертруду здание не так заинтересовало как меня. Зато она получила удовольствие от объявления около аэропорта в Атланте: «Покупайте ваше мясо и пшеницу в Джорджии!».
Мы летели в Новый Орлеан, самолет довольно опасно парил над дельтой Миссисипи и морем. В Новом Орлеане нас приветствовал Шервуд Андерсон, к большой радости Гертруды. Он показал нам старые кварталы Нового Орлеана, базар и дома нескольких старожилов, один из которых носил славное испанское имя. Шервуд принес нам замечательные апельсины, очень сладкие и сочные, совсем не похожие на те, что имелись у нас во Франции. Он очищал их для нас от кожуры и приговаривал: сейчас можете их есть. Это было в нем так по-западному! Он показал нам, где выращивали некультивируемый рис, который мы ели на день Благодарения в Новой Англии. Сбор риса — дело довольно опасное.
Из Нового Орлеана мы летели в Форт Уорт и оттуда — в Чикаго, где остановились в квартире Торнтона Уайлдера. Расписание лекций привело нас и в Даллас, в школу мисс Элы Хокадей, где выступала Гертруда. Цветы в Далласе, как дикие, так и выращиваемые, были дивно хороши, яркие и пахучие. Молодежь в школе — веселая, жизнерадостная и сметливая. Мисс Стайн проводила каждое утро с девушками, гуляя и беседуя с ними. На лекции они проявили удивительное понимание ее произведений. Она дала также лекцию в Женском клубе Далласа, где состоялось довольно приятная дискуссия.
Из Далласа наш путь лежал на Запад, в Калифорнию. В те времена самолет спускался над Аризоной, затем поднимался опять, и большую часть пути довольно опасно летел меж двух горных хребтов, внезапно спускаясь в Лос-Анджелесе.
У нас было письмо к одной из приятельниц Ван Вехтена, которую мы встречали в Нью-Йорке. Она спросила меня, согласится ли Гертруда Стайн прийти на обед и встретиться с некоторыми из ее друзей, Чарли Чаплиным среди них. «Конечно, она пойдет, — сказала я, — только не надо за столом иметь много людей». «Восемь?». «Отлично!». «Хотела бы она пригласить кого-нибудь, кто живет здесь?». «Да, Дешилла Хэммета». «Я не знаю его, но попробую привести», — сказала хозяйка.
На вечерний обед нас попросили прийти к 7:15. Хозяйка рассказала: «Издатель не хотел давать адрес Дешилла Хэммета, но я выяснила местопребывания Дешилла у директора фильма, поставленного по его роману, и послала ему приглашение: „Гертруда Стайн обедает у меня завтра вечером, не сможете ли вы прийти и встретиться с ней?“. Он ответил: „Если мне будет позволено взять с собой будущую хозяйку дома, Лилиан Хеллман“. На что наша хозяйка ответила: „Будет чудесно“».
Когда мы пришли, появился и Дешилл Хэммет и сказал Гертруде Стайн: «Сегодня первое апреля и когда я получил приглашение, то подумал, что это первоапрельская шутка». «Видите, это не так», — ответила Гертруда Стайн.
Когда прибыл мистер Чаплин, я сказала ему: «Единственные фильмы, которые мы смотрим, — ваши». Что было не совсем правдой.
Беседа за обедом протекала довольно живо. Мистер Чаплин привел с собой Полетт Годдар, enfant terrible[75]. Присутствовал также испанский дипломат и брат хозяйки дома, директор фильма. После обеда появились и другие гости и среди них Анита Лос, которая тут же пришлась мне по душе. Кинорежиссеры собрались вокруг мисс Стайн и спросили: «Нам хотелось бы знать, как вы добились такой огромной популярности». Она ответила: «Собирая малую аудиторию», после каковых слов они отодвинули от нее свои стулья, обескураженные услышанным советом.
Гертруда Стайн арендовала автомобиль, и мы поехали через Санта Барбару, по побережью в Монтерей, превратившийся, к моему изумлению, в процветающий, кипучий городок на месте очаровательной деревеньки, в которой я отдыхала в юности. Кругом виднелись регулировщики движения, которых мы очевидно игнорировали, ибо нас остановил полицейский: «Что вы, леди, делаете?». Я ответила: «Пробую найти глиняный домик мадам Бонифацио, где я обычно останавливалась». «Они переехали выше, на холмы». «Передвинули глиняный домик?». «О, да, восточный миллионер так пожелал». «А розовый куст Шермана?». «Он тоже переехал на холмы вместе с домом».
Мы добрались до отеля «Дель Монте» поздно ночью, и тут же раздался звонок от Мейбл Додж: «Привет, когда я смогу увидеть Гертруду?». Я ответила: «Думаю, что не получится». «Что?». «Нет, она собирается отдыхать». «Робинсон Джефферс хочет ее видеть». «Ну, придется ему обойтись без нее».
Пища в «Дель Монте» была такая же замечательная и в годы моей молодости, а в меню были моллюски абалоны — блюдо, до того мне неведомое. Мы отдыхали там несколько дней, а затем уехали в Сан-Франциско — в тот день вылетел первый самолет в Гонолулу.
В Сан-Франциско автомобильное движение на холмистых участках было организовано хорошо, но с нашей точки зрения, довольно опасно. Однако Гертруда Стайн смогла втиснуться на свободное место за углом отеля. Мы устроились в номере с видом на Голден Гейт. Комнаты украсили цветы, присланные Гертрудой Атертон, подругой Ван Вехтена, моей подругой Клэр де Груши и женщинами клуба Американских женщин.
Возвращение в родной город было волнующим и тревожным. Он был совсем другим и все-таки прежним. Вскоре раздался звонок двух старых подруг — Хильды и Фофи Браун, они интересовались, могут ли они чем-то мне помочь. Женский клуб Сан-Франциско прислал двух представительниц договориться о лекции. На следующий день эти обе женщины взяли Гертруду под свою опеку, а я встретилась с другим старым приятелем — Сидни Джозефом, братом Нелли Жако. «Невозможно! — сказала я. — Не ожидала тебя увидеть». «Что ж, но вот я», — ответил он.
Я вошла в лекционный зал одна и увидела бесконечное число знакомых лиц, кто-то кланялся мне, кто-то махал рукой. Я старалась сесть тихо и незаметно, но обнаружила, что многие хотят поговорить со мной. Дорогая моя подруга Мэй Колман поклонилась и кивнула головой — будто и не прошло почти тридцати лет с нашего последнего разговора.
Обсуждение лекции было обычным, но толпа людей, окруживших Гертруду после лекции, вела себя куда оживленнее. Предполагалось, что Гертруда Стайн будет подписывать книги, и многие предложили мне: «Когда все закончится, можем ли мы встретиться с Гертрудой Стайн и отвезти вас в отель». Один из них сказал: «Знаете, нам очень нравился ваш отец, ваша мать была ангелом, да и вы сами очень дороги нам». Я отметила нисходящий порядок.
Следующая лекция состоялась в университете Калифорнии. Там мы обнаружили, что цветы в пустыне были в самом расцвете, их можно видеть даже в северной части, если туда поехать, что мы и осуществили на следующий день. Редкие виды цветов, которые мы там увидели, создали действительно удивительную картину.
Гертруда Атертон пригласила нас на ленч в особый рыбный ресторан на набережной и еще на обед в честь Гертруды Стайн, где Гертруда встретилась со многими людьми. Когда ее представили гостям, один из присутствующих спросил, где она родилась, она ответила: «В Питтсбурге, Пенсильвания». Он был шокирован. Следовала бы говорить «Калифорния», как я ей постоянно советовала, но убедить ее изменить место рождения было невозможно.
Посетили мы и место моего рождения, хотя в том знаменитом пожаре наш дом сгорел, как и дом, где я жила с отцом до своего отъезда. Строился один из мостов, что, по моему мнению, значительно портило окружающий вид.
Миссис Атертон устроила нам поездку в женский монастырь в Сан-Рафаэле, где ее внучка была монахиней. Миссис Атертон рассказала, что монахиня-матушка — из Сан-Франциско, обожает городские новости, так что придется с ней потолковать. Монастырь красиво расположен среди деревьев и цветов, мы провели там чудесный день. Из Сан-Франциско мы планировали поехать на север, в Сиэтл, но на это потребовалось бы много времени и мы решили лететь в Омаху. В те дни перелеты длились долго, и остановка в Омахе сделает перелет менее утомительным. Перелет через горы Сьерра-Невада наградил меня самым красивым ландшафтом, какой мне довелось видеть в жизни.
После Омахи — остановка в Чикаго, у Бобси Гудспид. Вновь увиделись с Торнтоном Уайлдером, занявшим место в наших сердцах на долгие годы.
Отсюда начался конец нашего американского визита, ибо у нас оставалось мало времени до отъезда в Париж. Карл Ван Вехтен сказал Гертруде: «Теперь тебя не будут тревожить незнакомые люди со своей болтовней». А Бернар Фай спросил у меня: «Разве постоянное желание окружающих поговорить с Гертрудой Стайн не раздражает ее?». «Нет, — ответила я, — для нее это как общение с соседями в Билиньине».
Из Нью-Йорка мы отплыли во Францию на том же самом корабле «Шамплене», который доставил нас сюда шесть месяцев тому назад. На пароходе мы получили записку от Павлика Челищева, плывшего тем же рейсом. Он спрашивал разрешения встретиться с Гертрудой. Она вежливо ответила «да», хотя не хотела его видеть. На корабле царил комфорт, еда была исключительной — все было так же, как на пути в Нью-Йорк.
В Париже мы распаковали книги и вещи, приобретенные в США, и приготовились к Билиньину. Забрали обеих собак — Баскета и Пепе. Баскет находился в Булонском лесу. Мы поехали за ним, но его взяли на прогулку, поэтому пришлось подождать. Пепе, оставшийся у Маратье, с радостью прыгнул нам в руки, как и в первый раз, когда попал к нам.
Билиньин показался нам спокойнее и приятнее, чем помнился. Мы немедленно посадили овощи и американскую кукурузу и начали приводить в порядок сад. Я занялась рассадкой fraises des bois[76], вечная забота.
10
Лето в Билиньине — время напряженное, приятное и продуктивное. Выращивание овощей стало увлечением, а цветы им были всегда. Работа в саду доставляло удовольствие, хотя иногда случались неприятности. Однажды я взобралась на ящик, чтобы дотянуться до самой высокой ветви французской фасоли, обвившей шест. Ящик сломался, я свалилась, а на меня — фасоль. Гертруда Стайн считала меня чересчур рисковой и сказала: «У нас и так достаточно разнообразных овощей».
Наша соседка, баронесса Пьерло, выращивала 57 видов овощей, как огурцов компании Хейнц, и я считала, что обязана иметь не меньше. Но чем старше я становилась, тем больше времени уделяла кулинарии, так что к концу дня меня не хватало на другое.
Мадам Пьерло и большой поэт Поль Клодель были старыми и очень близкими друзьями. Они часто встречались, с тех пор как он купил шато недалеко от Беона.
Мадам Пьерло родилась в католической семье, но, как выразился однажды Бернар Фай, обратилась к Жан Жаку Руссо и никогда от нового пристрастия не отступала. Однажды она сказала Гертруде: «Мне надоели поучения Клоделя по поводу моей религии, ему следует оставить меня в покое и позволить идти своей дорогой. Если он снова поднимет об этом разговор, я встану и уйду». Гертруда сказала: «Ты так не поступишь». «Нет, — согласилась она, — но придумаю что-нибудь».
Она вернулась к этому вопросу во время следующей встречи. «Я нашла средство остановить Клоделя», — сообщила она. «Неужто?» — удивилась Гертруда. «Да. Я сказала ему напрямую, что абсолютно счастлива без его усилий вернуть меня в лоно матери-церкви». А он в ответ: «О, это нормально. Я знаю, что когда попаду в рай, ты встретишь меня с распростертыми объятиями». «Кто тебе сказал, что я умру первой?» — отреагировала мадам Пьерло.
Еще до нашего отъезда из Нью-Йорка Торнтон Уайлдер предложил Гертруде и мне остаться там, он снимет нам домик на Вашингтон Сквер. Идея сперва показалась Гертруде заманчивой, но в дальнейшем не обсуждалась. А теперь Торнтон приехал в Билиньин.
Я посадила обычные орхидеи, которые мы заказали у цветовода из Женевы. Корни были фантастически необычной формы, как вытянутая рука. Когда я посадила их в землю и засыпала, то не ожидала увидеть цветы. Но одна небольшая красивая орхидея все-таки выросла и заполнила пустое место в одной из 26 клумб на террасе.
Я посадила также мальву, и она дала крупные цветы разнообразных форм и расцветок, которые долго, как и в саду, стоят в вазах в доме. Джеральд Бернере взял у меня один из горшков с мальвой, поставил на столик в саду и покрасил. Пьер Балмэн приехал из Экс-ле-Бена и попытался составить для меня букеты, но у Джеральда было больше опыта и букеты выходили у него лучше.
В конце лета мы вернулись в Париж, и Гертруда подготовила лекции для Кембриджа и Оксфорда. Мы полетели туда в январе. Как и прежде, лекции пользовались огромным успехом.
На следующий год мы снова посетили Англию, на сей раз на премьеру «Свадебного букета»[77]. Джеральд Бернере написал музыку для этого балета. Остановились мы в Фарингдон Хаус, загородном имении, и Джеральд проиграл нам свою музыку, привлекательную и веселую.
В Фарингдон Хаусе каждый год проводился специальный праздник, во время которого в гостиную вводили белую лошадь. Лошадь принадлежала миссис Бетжмен. Лошадь была дрессированной, поднималась по ступенькам в гостиную и там опускалась на колени. Лошадь угощали, одновременно с гостями, чаем. Вся процедура происходила без малейшего нарушения интерьера комнаты, уставленной красивыми цветами и другими предметами.
После нескольких дней, проведенных в Фарингдон Хаусе, мы отправились в Лондон на репетицию в Ковент Гарден. Директором постановки была Нинетт де Валуа и она консультировалась с Гертрудой Стайн и Дейзи Феллоуз.
На премьере присутствовали многие знакомые Гертруды Стайн. По окончании спектакля она и Джеральд Бернере под аплодисменты зрителей появились на сцене и поклонились публике.
Сомерсет Моэм подошел ко мне с расспросами — он хотел знать, как воспримет его парижское общество.
Будучи в Англии, мы навестили наших добрых друзей — семейство Эбди. Познакомились мы с ними в период их проживания во Франции, обедали в их шикарном доме на Сен-Жермен. Помню, когда мы появились в их доме, я все осмотрела и решила, что дом был перестроен, этому легло было поверить. На самом деле он был таким с момента постройки.
Именно Берти, сэр Роберт Эбди, посоветовал Гертруде: «Вы должны написать историю ваших друзей и того времени». Что она и сделала, написав «Автобиографию Элис Б. Токлас». Совет этот последовал в тот момент, когда, выйдя из великолепного сада в его доме, мы направлялись к автомобилю. Вскоре семейство Эбди решили покинуть Сен-Жермен из-за английской системы налогообложения, наказывающей отсутствующих хозяев, и купили дом в Корнуолле, где мы сейчас и остановились.
Когда Эбди покинули Сен-Жермен, леди Диана прослышала, что в баре «Ритц» можно найти человека, занимавшегося нелегальным ввозом (на пароходе) собак в Англию. Она заказала у него китайского мопса. Мопса обучили многим трюкам. Один был такой: умри за короля и страну. Он ложился на живот и прикидывался мертвым. Берти был великий гурман. Каждый вечер он тратил целый час, обсуждая с поваром блюда на следующий день. Однажды я спросила его, сидя рядом за ленчем: «Из чего этот соус приготовлен?». Он недоуменно посмотрел на меня: «Я полагаю, все с молочной фермы и скотного двора».
Пока гостили у Эбди, повстречали Алека Во, а также сэра Кеннета и леди Кларк. Он предположительно интересовался художниками-модернистами, но не решился на приобретение их работ. В лучших английских традициях, гости после обеда развлекались играми на угадывание, в которых я была крайне плоха.
Посетили мы Дартмур, где увидели белую лошадь друидов[78]. Милая леди Диана опустилась на колени и молилась. Ее молитва позднее была услышана, она призналась, что просила даровать ей ребенка.
Вернувшись в Париж, мы узнали, что нам придется выезжать из квартиры на улице Флерюс. Владелец квартиры освобождал ее для своего сына, собиравшегося жениться.
Благодаря Меро Гевара, жившей неподалеку на улице Дофин, мы нашли новое место на улице Кристин, скучной, темноватой, небольшой улице. Поначалу мы сомневались, но, увидев саму квартиру, пришли в восторг. Гертруда тут же спросила: «Хватило у тебя денег на хорошие чаевые консьержке?». «Да, но консьержка отказалась взять деньги, говоря, что сдавать ли нам квартиру, решает хозяин».
Мы переехали на улицу Кристин, но продолжали курсировать между Парижем и Билиньином.
Летом 1939 года нас навестила Клэр Бут Люк с мужем. Они были в Польше и пришли к убеждению о неизбежности войны. Мы вместе позавтракали в Белле, а следующий день они провели у нас в Билиньине. Она вышивала крестом карту Соединенных Штатов и была уверена, что ее муж станет Президентом.
Слухи о войне, конечно, витали в воздухе. Однажды вечером, когда Сесиль Битон гостил у нас, он отправился в ночь на длинную прогулку. В это время кто-то сказал, что объявили войну. Гертруда ответила: «Не беспокойте меня, Сесиль пропал, прежде всего надо разыскать его».
Когда объявили войну, мы раздобыли разрешение на проезд и поторопились в Париж. На улице Кристин первой заботой стало сохранение картин от сотрясений при бомбежках. Мы начали их укладывать на пол, но там оказалось меньше места, чем на стенах, поэтому оставили это занятие. Наших паспортов мы не смогли найти, только родословную пуделя. И кстати, это позволило нам во время оккупации получать питание для Баскета II.
Мы, не медля, вернулись в Билиньин. Война была у ворот. Американский консул в Лионе позвонил и посоветовал, не откладывая, пока еще возможно, уезжать. Гертруда сперва не обратила внимания на предупреждение, но на следующий день сказала: «Будет умнее продлить наши паспорта». Мы поехали в Лион, но консульство было переполнено, и мы решили не ждать.
На обратном пути встретили доктора Шабу с женой. Гертруда спросила: «Что вы тут делаете?». Миссис Шабу ответила, будто ничего не случилось: «Мы приехали обновить разрешение на охоту». «Даже так!» — воскликнула Гертруда Стайн. «Да, охота поможет нам прожить», — ответил доктор Шабу. Гертруда рассказала им о цели нашей поездки в Лион. А он сказал: «И не думайте покидать нас, человеку всегда лучше оставаться на своем месте, чем подаваться в бега».
Мы остались, несмотря на то, что выстрелы становились слышны ближе. Однажды мы поехали в Экс-ле-Бен, где Гертруда, выбирая книги, комментировала по привычке: «Немцы были там с тех пор, как покорили Францию». Я ей шепнула: «Поосторожней, не говори так громко по-английски». «Не так уж и важно теперь». Кассир на станции подслушал нас и спросил: «Вы англичане?». «Нет, мы американцы». «А, не волнуйтесь, они вскоре уйдут».
Однажды мы рыскали в Белле в поисках какой-нибудь пищи и табака для меня. Внезапно мимо промчался немецкий броневик. Мы забрались в наш автомобиль и поспешили назад в Билиньин.
В тот день, когда в Белле были расквартированы немецкие войска, с ними появились и гестаповцы, хотя в небольшом числе. Немцы заметили в нашей машине Баскета, Пепе не смогли увидеть. Они восхитились: «Какая чудная собака», но мы с Гертрудой не отреагировали.
Машину Гертруды Стайн переоборудовали, чтобы можно было ездить на древесном спирте вместо бензина. Однажды мы решили свидеться с баронессой Пьерло — она обещала нас связать с черным рынком. «Дело не в деньгах, — выразилась она, — а в личности. Покупаешь на черном рынке благодаря своей личности».
Продуктов, конечно, не хватало, не было достаточно и топлива. Однажды мадам Пьерло залезла на чердак, где хранилась одежда, в которую наряжали ее маленькую внучку, как и других детей, в особых случаях. На сей раз надо было найти одежду для всех, зима стояла суровая. Мадам Пьерло находилась там слишком долго. В результате подхватила простуду, развилась пневмония и через несколько дней мадам Пьерло умерла. Будучи больной, она сказала Гертруде: «Когда я в своей комнате слышу, как мои сыновья толкуют о войне, я не разберу, о какой войне идет речь — нынешней, войне 1914–1918 или 70-х». Мадам Пьерло сказала, что облака стали гитлеровскими и пока так происходит, война будет продолжаться.
Бедняга Пепе очень страдал от холода, и не выходил больше по нужде на улицу. Я не выдержала и сказала Гертруде Стайн: «Нам необходимо показать Пепе ветеринару». У ветеринара в Экс-ле-Бене, я сказала: «Сделайте все, что можете, но боюсь это невозможно». Он ответил: «Спасти его нельзя, я должен сделать инъекцию». Я поцеловала малышку Пепе, положила его в корзинку, в которой принесла — очень приятная испанская корзинка, которую подарила мадам Шабу — пожала ветеринару руку и, вся в слезах, попрощалась: «Увидимся позже».
Годы оккупации текли медленно. Основная наша забота заключалась в том, как добыть пропитание. В то время мне приснилась продолговатое серебряное блюдо, парящее в воздухе, а на нем — три ломтя ветчины. Этот сон преследовал меня месяцами.
Нас выселили из дома в Билиньине. Французскую армию распустили, и владелец не знал, куда поместить свою семью. Благодаря друзьям мадам Пьерло мы нашли величавый дом на холме около Кюлоза, дальше вверх по Роне.
Нас, как и прежде, предупредили, чтобы мы уехали из Франции в Швейцарию. Но мы воспротивились, упаковали вещи и переехали в Кюлоз, и никогда больше не возвращались в Билиньин.
В какой-то момент у нас поселились два офицера с денщиками. Для них в спешке приготовили комнаты, спрятали всю провизию. Когда через две недели они ушли, мы с облегчением вздохнули.
После них у нас стояли итальянцы. Война в нашем заброшенном уголке мира подходила к концу. Когда новости о капитуляции Италии достигли итальянских солдат, они разорвали свои военные удостоверения. Гертруда сказала их офицерам: «Вам не следовало разрешать им. Это была какая-то охранная грамота, а теперь никакой. Вы теперь зависите от милости немцев». И оказалась права. Несчастные итальянцы не могли бежать, и немцы убивали их всех.
Однажды нам показалось, что мы слышали, как кто-то пел Марсельезу, и то было начало конца. Но немцы еще оставались в нашем районе, а некоторые из них квартировали у нас. В отвратительной атмосфере, служанки и я готовили для них кровати и комнаты, Наконец, они покинули нас, не забыв прихватить кое-что из наших припасов. Одну вещь они упустили: мои банки с засахаренными фруктами, которые я сберегала для момента освобождения.
Американские войска продвигались вперед, и радио сообщило, что Париж освобожден. У городских девушек, флиртовавших с немцами, побрили головы. Среди них была и молодая полька, какое-то время работавшая у нас. Владелец небольшого магазина начал продавать маленькие французские флажки, и Гертруда вернулась домой с несколькими. Один мы прикрепили Баскету прямо к шерсти.
Оставшиеся немцы пытались бежать. Юноша, работавший в нашем саду, спустился вместе с товарищами с холмов и они сбрасывали на рельсы огромные камни, чтобы немецкие поезда не могли уехать. В очень короткое время удалось загнать немцев в угол, где с помощью бойцов Сопротивления их смели с лица земли.
Мы праздновали победу, отправившись в Белле. Там увидали первый американский джип. Мы ликовали. Солдаты приняли наше приглашение на обед, и мы все вместе с триумфом вернулись в Кюлоз.
Несколько дней спустя у нас обедали друзья, среди них мадам Шабу. Клотильда, кухарка, прибежала с кухни и сообщила: «Мадам, у двери американцы». «Проводи их», — сказала Гертруда Стайн. Среди них был Эрик Севарид и Фрэнк Жервази. Гертруда помчалась к двери, поцеловалась с ними, а мадам Шабу спросила: «Она что, знает их?». Я ответила: «Нет, но они американцы». «Вот что!» — сказала мадам Шабу, будучи шокированной как была бы шокирована всякая французская женщина в похожей ситуации.
Эрик Севарид, которого Гертруда знала по Парижу, рассказал, что только что видел Фрэнсиса Роуза в Лондоне и встретился с его женой. «Женой?» — переспросили мы. «О, да, — повторил Севарид. — Он женился на красивой молодой девушке, рассказывал, что летал над Билиньином и сбросил розы на ваш дом». «Это, — заметила я, — выдумка Фрэнсиса». «Скорее всего, — согласился Севарид, — но я принес фотографию его жены». Вне сомнения, это была молодая, очень красивая женщина.
Эрик спросил Гертруду Стайн, не согласится ли она отправиться в Вуарон и выступить по радио для слушателей Америки. Если она согласится, он заберет ее в своем джипе. Он заехал за нами даже в двух джипах.
В Вуароне Жервази предложил взять с собой в Нью-Йорк рукопись книги Гертруды Стайн. Он на следующий день улетал туда на американском самолете. Той ночью я сидела за пишущей машинкой и напечатала все, что Гертруда тщательно скрывала во время немецкой оккупации. Рукопись опубликовало издательство Рэндом Хаус под названием «Войны, которые я видела»[79].
Освобождение Франции от немцев было достаточным утешением за все, что произошло со страной, хотя один бог знает, как страшно пострадала Франция и как она изменилась. Заключение мира я приготовилась отмечать фруктовым пирогом. Мы встретились с военными в Экс-ле-Бен, пожелавшими навестить Гертруду Стайн. Она спросила: «Кто вы по званию?». «Полковники». «С многими полковниками я уже встречалась». «Ну что ж, — сказал один из них, — если вы позволите нам прийти, мы можем раздобыть и генерала, генерала Петча». Генерал, однако, прийти не смог, хотя написал Гертруде Стайн благодарственное письмо, обещая вскорости ее навестить.
Я приготовила для него фруктовый торт «Освобождение», используя сухие фрукты и корки, спрятанные с момента вторжения. На пирог, когда он был готов, пришел, вместо генерала Петча, полковник.
Жизнь после освобождения была беспорядочной и неопределенной. Мы хотели вернуться в Париж как можно скорее, но в суматохе дел и событий задержались. Наконец одной ночью в декабре я уложила все наше добро в нанятый грузовик. В автомобиле, тоже нанятом — свой Гертруда отдала Красному Кресту — мы отправились с нашими мешками и Баскетом в Париж. С Кюлозом распрощались навсегда, мое сердце не лежало к нему.
Ночь выдалась холодной и дождливой. Не ведая, какие дороги открыты, мы с трудом находили свой путь в темноте. Это было напряженное путешествие.
Когда забрезжил день, нас остановил патруль — двое мужчин и женщина. У женщины было ружье. «Что вы хотите?» — спросила Гертруда Стайн. Они ответили: «Мы — бойцы Сопротивления и хотим знать, кто вы, что здесь делаете, и куда направляетесь». Они заглянули внутрь и я предупредила: «Осторожно, там портрет работы Пикассо, не трогайте его». Они сказали: «Поздравляем, мадам, вы можете проезжать».
Мы добрались до Парижа, когда день уже был в разгаре. Внешний вид города смущал крайне. Появились новые улицы с односторонним движением, бесконечные светофоры, но полиция была благожелательна и показывала, где и как поворачивать.
Так чудесно было вернуться на улицу Кристин и обнаружить все как прежде, по крайней мере, так мне показалось. На следующее утро пришлось примириться со многими переменами. Когда я встала, чтобы показать нашей девочке-прислуге, где лежат кухонные принадлежности, меня хватила оторопь — все было изуродовано. Маленький пуф с моей вышивкой пти-пуаном по рисунку Пикассо, серебряные подсвечники Луи XV и другие драгоценные предметы исчезли. Только затем я сообразила, что немцы перевязали картины, подготовив их к выносу.
Я едва успела приготовить на кухне кофе, как появился Пикассо. Он обнялся с Гертрудой, мы все возрадовались, что богатства нашей юности — картины и рисунки — были в ценности и сохранности.
С собой мы привезли огромный, очень красивый стол времен Генриха IV, которым сейчас наслаждается Пикассо. «Хочешь его?» — спросила я. «Да». «Ну, тогда забирай прямо сейчас, у нас для него нет здесь места».
11
Мы устроились в Париже, и жизнь стала напряженнее, чем когда-либо прежде. Мы приняли огромное количество гостей, совершили множество поездок. В течение нескольких дней мы колесили по Германии, о чем Гертруда написала статью в журнал «Лакей». В Германию мы летели на американском бомбардировщике. Летали и в Бельгию, где Гертруда Стайн выступала перед размещенными там солдатами.
Мы повстречали Джозефа Бэрри, он продолжал оставаться нашим хорошим другом. Джо в то время был в американской армии, освобождавшей Париж. Он попросил мисс Стайн прочесть лекцию для солдат.
Сразу же после нашего возвращения нанес визит Норман Холмс Пирсон. Он служил в особых войсках и прилетел во Францию. Он спросил, желаем ли мы заполнить требование на вещи, украденные немцами, но мы отказались. Вместе с ним пришла Пердита, дочь Хильды Дулиттл. Мы знали ее еще ребенком, когда она жила в Швейцарии с матерью и Браером.
Наш дом опять стал салоном и местом постоянных визитов американских солдат. Однажды к нам зашла группа из семи человек, все объявили себя поэтами. Один даже попросил разрешения прочесть поэму, но Гертруда вместо чтения посоветовала оставить рукопись. Прочтя позже, она обнаружила, что то была поэма Джона Донна. Она, разумеется, пришла в ярость и молодой человек был больше нежелателен в нашем доме.
Тем не менее, среди посетителей оказался настоящий поэт, Джордж Джон. Остановившись у входной двери, он спросил, может ли он видеть мисс Стайн, и вытащил из кармана пачку стихотворений, которые разлетелись по полу. «Что вы хотите?» — спросила я. «Я хочу, чтобы она прочла их», — ответил он. «Я спрошу у нее». Она согласилась и получила огромное удовольствие. «Где же он?» — спросила она, но он появился только через неделю, когда в гостях у Гертруды находился Генри Раго, издатель журнала «Поэзия». Гертруда познакомила их и некоторые стихи молодого человека были опубликованы в этом журнале.
Ричард Райт был еще одним американским писателем, который посетил Гертруду после войны. Он с самого начала был в восхищении от повести «Меланкта», второй в сборнике «Три жизни», который он считал самым важным произведением, оказавшим влияние на его карьеру. На родине он страдал от расовых предрассудков. Гертруда уговаривала его переселиться в Париж, как он и поступил.
К тому времени Гертруда начала работать над либретто оперы «Мать всех нас». Либретто основано на жизни Сюзен Б. Энтони, а действующие лица являются либо историческими фигурами, либо выдуманными. Опера с музыкой Вирджила Томсона увидела сцену только после смерти Гертруды[80].
Пьер Балмэн приехал после войны в Париж, чтобы начать свой бизнес, и мы с Гертрудой отправились на первое его шоу. Еще до того Пьер сшил костюм Гертруде, а мне — костюм и пальто. Когда мы пошли на демонстрацию его коллекции, я предупредила Гертруду: «Бога ради, не говори никому, что мы в одежде Пьера. Мы выглядим как цыгане». «Почему нет? — возразила Гертруда, — одежда вполне пригодная».
Сесиль Битон сопровождал нас на это шоу, оба — он и Гертруда написали о коллекции Пьера. В тот же год Пьер попросил и меня написать статью о его коллекции зимней одежды, которую впоследствии поместил в своей книге. Пьер создавал одежду, соответствующую форме женского тела, поэтому руки стали более важными в дизайне, чем прежде. Он находился под влиянием тех картин, которые ему нравились, в том числе картин Ренуара.
Внезапно Гертруда почувствовала слабость, и осмотревший ее доктор порекомендовал показаться специалисту. Он полагал, что болезнь может прогрессировать. Но Гертруда совет отвергла и продолжала жить в прежнем режиме. Она даже купила небольшой автомобиль. Однажды проезжая по улице Сен-Огастэн мы повстречали Пикассо у его дома. «Это тот автомобиль, который ты купила?» — спросил он. «Да, но не тот, который ты советовал. Я не люблю подержанные машины, а ведь именно это ты и советовал». Она взглянула на него: «Почему ты такой сердитый?». «Я не сердитый». «Нет сердитый!». Пикассо обратился ко мне: «Что с ней происходит?». «Она не согласна с тобой касательно автомобиля». Гертруда Стайн добавила: «Я хотела такой автомобиль и такой купила. До свиданья, Пабло». Он неуклюже попрощался: «До свиданья». Больше они никогда не виделись.
Спустя несколько дней приехал Джо Бэрри и отвез нас в Оржеваль на встречу со старым другом Ноэлем Мэрфи. Ноэль спел для Гертруды, после чего Джо увез нас обратно на улицу Кристин.
Бернар Фай предложил пожить в его загородном доме и через несколько дней мы вместе с Бэрри уехали в Люсо. Джо оставался с нами день-два. Предполагалось, что он отвезет нас, а вернется в Париж поездом. По дороге Гертруде Стайн стало плохо. Мы остановились в Эзей-ле-Ридо, где когда-то присмотрели очень приятный дом для покупки. Дом был продан, лесной парк, его окружавший, больше не существовал.
Болезнь Гертруды стала угрожающей. В городке Эзей в гостинице нам выделили комнату и послали за доктором, который сказал: «Вашей подруге нужен специалист и немедленно!». Я позвонила Аллану Стайну, племяннику Гертруды, и попросила его встретить нас на вокзале на следующий день. Когда мы отправились на поезд, Гертруда отказалась от услуг медсестры или кого-нибудь другого, а на станции оббежала поезд, чтобы полюбоваться окружающей природой.
Добравшись до Парижа мы удивились, увидев машину скорой помощи для транспортировки Гертруды в Американский госпиталь. Гертруда не была готова к такому повороту событий, но вынуждена была подчиниться. В госпитале она поблагодарила Аллана и спокойно отправилась в постель.
На следующее утро состоялся консилиум врачей, затем Гертруду посетил Аллан Стайн со своими друзьями. Доктора сказали, что она серьезно больна и оперировать ее будут через несколько дней. В течение всего этого времени Гертруда Стайн была довольно оживлена, не чувствовала никакой боли.
Однако, хирурги отказались от операции, ссылаясь на слабое состояние Гертруды. Но один из них сказал: «Я обещал мисс Стайн, что проведу операцию, и если вы даете слово чести женщине такого характера, как она, его надо держать».
К тому времени Гертруда Стайн была в очень тяжелом состоянии, я сидела рядом с ней и где-то в середине дня она спросила: «Каков ответ?». Я затихла. «В таком случае, каков вопрос?». Вся вторая половина дня была беспокойной, тревожной и неопределенной. В конце дня ее отвезли на операцию, больше я никогда ее не видела.
Жизнь в одиночестве (избранные письма)[81]
Карлу и Фане Ван Вехтен, Нью-Йорк.
31 июля 1946, среда
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Фаня и дорогой Папа Вуджюмс[82]!
Я вернулась в субботу домой, отослала телеграмму и положила перед собой конверт и бумагу. Сейчас я пытаюсь рассказать вам все по порядку. Для нас, кто беззаветно любил нашу Малышку Вуджюмс, кажется, легко рассказать все как есть, но опустошенность очень, очень велика и особенно, особенно тягостна, когда я с вами наедине. Но существует множество деталей, которые вам надлежит узнать, и постепенно вы узнаете их все. Малышка неоднократно повторяла еще неделю тому назад, каким ты был преданным другом с самого начала и как замечательно, что именно ты написал прекрасное предисловие. Оно оказалось одним из трех последних радостных событий для Малышки — это, первые два экземпляра «Брюси и Уилли»[83] и телеграмма от Монти, сообщающая о премьере пьесы[84]. Чудо, так вовремя случившееся. Больше нельзя откладывать и я попробую рассказать вам, как все произошло. После поездки в Бельгию, перед самым Рождеством Малышка пожаловалась на усталость и сказала, что не будет разъезжать как прежде, нам надо меньше встречаться с людьми — чересчур изнурительно — и оккупация и встречи — чуть ли не со всей американской армией. В апреле доктор рекомендовал ей поправить свое здоровье, а затем сделать операцию. Малышка и хотела укрепить свое здоровье, но отказалась от операции
— она и почувствовала себя лучше, но заметно худела. Наконец она согласилась отправиться в Сарт, в очаровательный дом, который предоставил в наше распоряжение один из друзей. Но внезапно, на следующий после прибытия день, случился короткий, но тяжелый приступ. После его окончания Малышка почувствовала себя лучше, и мы оставались там до четверга, когда она, наконец, согласилась вернуться в Париж, в американский госпиталь в Нейи — мы обе были полны надежд и планировали вернуться в Сарт в сентябре. Были призваны все крупные специалисты, и они сказали, что Малышке нужно пройти предварительное лечение в течение нескольких дней для успешного исхода самой операции. В пятницу утром они отказались делать операцию. Усталая, измученная Малышка прогнала врачей, заявила, что не хочет больше их видеть. Она была в ярости, была угрожающей и убедительной — как тридцать лет тому назад, когда нападали на ее произведения. Мы нашли Валери-Радо и Лериша, и они согласились, уступили ее мольбам. Лериш сказал мне, что три года тому назад риск был бы чересчур велик. Он также сказал, что не встречал подобного тяжело больного, который не страдал бы во сто раз сильнее — всего две недели страданий — ее организм был крепок и здоров, как и ее разум. И как же Малышка была прекрасна — в промежутках, когда боль ее оставляла — как никогда прежде. А сейчас она в склепе Американского Собора на набережной д’Орсэ, а я здесь в одиночестве. И ничего более — только то, что произошло. Вы поймете — я не в своем уме — все пусто и как в тумане. Папа Вуджюмс — она повторила мне дважды — тебе надлежит отредактировать сейчас неопубликованные рукописи, я должна оставаться здесь, портрет Пикассо отправляется в Метрополитен Музей. В воскресенье Джо Бэрри заберет меня в Сарт, чтобы привезти Баскета и наши сундуки. Еще надо рассказать многое, оно выскочило сейчас из памяти, но, возможно, я уже рассказывала. Все рукописи и письма три недели тому назад отосланы в Йельский университет, но много машинописного материала все еще здесь. Об этом — в следующем письме. Также позже отошлю телеграммы и вещи для Фани и тебя. Они просят фотографию для журнала Hommage[85], близкий друг Деноэль делает сообщение (для Фонтенебло) и он хочет использовать одну из твоих, не будешь ли ты возражать, если я передам фотографию ему. Дж. Флэннер обещала сохранить французские газеты — я пошлю их вам. Простите меня и поделитесь со мной хоть толикой той твоей огромной любви к нашей дорогой Малышке Вуджюмс. Вечно любящая, очень любящая и одинокая
Мама Вуджюмс____________
Карлу Ван Вехтену, Нью-Йорк.
3 сентября 1946 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой папа Вуджюмс!
Твое длинное письмо пришло три дня тому назад, но только сейчас я нашла достаточно времени, чтобы ответить на него. Приходящая работница не появилась, Баскет потянул меня, палец прищемило дверью, ладно сейчас после всего, забудем об этом и начнем сначала.
Нет, Гертруда определенно хотела опубликовать все[86] — ни Малышка, ни я не предполагали, что осталось много ранних неопубликованных работ — Малышка всегда концентрировала свое внимание на настоящем, на продолжающемся настоящем — она определенно имела в виду все. Малышка упомянула об этом в больнице — она сказала мне, что просила тебя об этом, потому что полностью доверяет тебе и никому другому — до самого своего конца она полагала, что продолжающееся настоящее — для нее, и не только как творческий метод.
Не составят ли три пьесы небольшую книжку — хотя перечитывая твое письмо, вижу, что не таково твое намерение, извини меня. У пьесы в Йейле всего несколько страниц, называется «Игра имен»[87].
«Четыре в Америке»[88] можно отдать Торнтону Уайлдеру. Около восьми месяцев тому назад он написал Малышке, что хочет отредактировать эту книгу (de luxe, не упоминалось, но имелось в виду) — на что она ответила «да» — с тех пор от Торни ни гу-гу — он всегда был либо интенсивным корреспондентом, либо никаким. Здешний юрист говорит, что послал тебе копию завещания — получил ли ты ее? Юрист в Балтиморе пытается стать распорядителем — поскольку Аллан и я, как живущие за границей, не можем принимать решения сами (штат Мериленд). Дал ли этот распорядитель о себе знать?
О, дорогой, только не [издательство] «Хатон Миффлин», ни за что — я разгневана, ни с чем несравнимо. Беннет Серф, которого ты раздобыл для Малышки — замечательный человек — было бы злодейством думать о ком-то другом (книгу «Пикассо»[89] отдали «Скрибнеру», после того как «Рэндом Хаус» — в период отсутствия Беннета, полагаю — отказалось).
Пытаюсь через Джо Бэрри слушать инсценировку «Да» на радиостанции Коламбия. Монти впечатляет — очень выразительно, мы решили. Трудности Тони с невнятностью уменьшаются — исчезают как весной утренние заморозки — они оба нам очень понравились[90] — Малышка была уверена, у них все получится.
Обещание Дженет Флэннер собирать вырезки касается в основном «Н. Й. Геральд-Трибюн» — наиболее интересные, французские, не включены, поэтому я немедленно связалась с французскими агентствами, но они не работают ретроспективно, потому у меня только две и лучшие — Жюльена Грина и Марселя Швоба — которые пошлю тебе вместе с другими материалами. Я думала послать тебе все письма и телеграммы для передачи Йельскому Университету — если ты думаешь что это резонно. Отошлешь ли ты в Йейл множество журналов с публикациями Малышки — отошлешь ли ты книги первых выпусков с автографами, подаренные Малышке — твои — Жана Кокто — Фитцджеральда — Йелу? Потому что Аллан не будет знать, что с ними делать — для таких вещей он мне даст carte blanche — сейчас он разрешает делать с ними, все что хочу, и не спрашивать его. (Он позже заинтересовался картинами, но книги для него тема закрытая).
Одним вечером ко мне пришел Ричард Райт, предварительно предупредив, что хочет забрать картину Фрэнсиса Роуза, которую купил с помощью Малышки. Я ответила, что как только найду, отправлю ему. Джо Бэрри сказал мне, что он взял картину как раз перед тем, как мы отправились в Сарт — я сообщила об этом Р. Райту. Пока Райт рассказывал, что его Юлия может избрать два различных пути в жизни, пришел Пьер Рой (он позвонил заранее). Пьер Рой не мог понять ни его американский, ни его французский, поэтому Райт ушел, и я надеюсь больше с ним не видеться.
Да, было несколько писем от Шервуда Андерсона, с дюжину или больше — очень приятные, не длинные и не касающиеся литературы — в действительности, вообще ни одного, касающегося литературы, за исключением писем Торнтона Уайлдера и студентов — никого из ее друзей.
Никаких писем Малышки к Пикассо или кому-нибудь другому с советами не существует — потому что Малышка никогда не писала чего-нибудь подобного — она никогда особенно не советовала и viva voce[91]. Малышка сообщала извечные истины, которые, и это знала почти каждая пожилая женщина в деревне, можно пересчитать на пальцах. Ее последней была следующая: отправляйся домой и стань мучеником — это то, в чем твоя страна и ты — вы оба нуждаетесь. Один солдат сказал ей: «А как насчет вас, мисс Стайн — я так поступлю, если и вы так поступите». «Можешь идти — я это доказала еще до того, как ты родился», — был ее ответ. А посему нет абсолютно ничего, чтобы предложить [издательству] «Харпере Джуниор Базар». Собственное отрочество Малышки полно болезненной памяти — и она всегда была полна симпатии к молодым, страдавшим от мучений, но не считала, что может давать какие-то советы — ты прорываешься сквозь страдания, как только можешь. Она цитировала одного приятеля, который повторял: любой совет хорош, если он достаточно суров.
Вирджил[92], как я понимаю, уезжает через десять дней (он все еще в Германии), и привезет тебе кое-что от Малышки — а что, зависит от того, сколько он берет с собой — но определенно коралловую печать «роза есть роза», потому что она не занимает места — есть и другие вещи, которым надлежит быть у тебя — среди них китайское пальто и юбка (их немцы не забрали, потому что эти вещи долгие годы лежали наверху) для Фани. О, Карло, разве могло такое совершенство, такое счастье и такая красота, что присутствовали здесь, уйти!? Лучше я отправлюсь с Баскетом на прогулку и отошлю письмо, прежде чем начнется дождь — погода ужасна
— солнце никогда не появляется. Это не все ответы на твое письмо, надо рассказать еще об Ольге Пикассо — в следующий раз я найду время. Говорила ли я тебе, что Фернанда Оливье написала мне?
С нескончаемой любовью к вам обоим,
Элис.____________
Карлу Ван Вехтену.
22 октября 1946 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой папа Вуджюмс!
Не хочу отправляться в постель, не написав тебе. Этим утром[93] мы перевезли Малышку из склепа Американского Собора на Пер-Лашез. Старший священник Бикман, которого она знала и почитала многие годы, произнес молитвы — три псалма, и прочел те части литургии, против которых Малышка не возражала бы. Присутствовал Аллан с женой и десять близких друзей Малышки[94]. Затем только Аллан с женой и я проследовали на Пер-Лашез — было множество красивых цветов, которые ей понравились бы — мягкое утро, но небо затянулось; теперь Баскет и я более одиноки, чем когда бы то ни было — все утро он впервые оставался в одиночестве, он расстроен, беспокоен, просыпается по ночам от кошмарных снов и прибегает ко мне в поисках утешения. Дорогой Папа Вуджюмс, посылаю тебе всю мою любовь и, конечно, Фане Вуджюмс.
Элис.____________
Миссис Чарльз Б. Гудспид, Чикаго[95].
25 октября 1946 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Бобси!
Знаю, что добавляю к твоим нынешним заботам и обязанностям, — но в связи с настояниями Гертруды, я верю, что ты поймешь и простишь меня. Речь идет о Бернаре Фае и его пребывании в тюрьме. Ты знаешь, что у Гертруды были с ним продолжительные и близкие отношения — были разные периоды близости, но с тех пор как мы вернулись из Америки в 1935 году, они оставались неизменными. Гертруда полностью расходилась к ним в его взглядах на политику — довольно левых для США, роялистских для Франции — расходилась и во многом другом. Говорю это тебе, чтобы показать: она знала, понимала, ценила и в конце концов очень, очень привязалась к нему. У нее не было сомнений в его полной лояльности к друзьям и обеим странам. У него было достаточно врагов, одно время он утверждал, что коллекционирует их. Со времени освобождения он находится в тюрьме, он — антимасон и антикоммунист, это ведь не преступление — но именно сейчас эти убеждения опасны, он смело высказывал свое мнение. Со времен прежней войны он был другом маршала Петэна — не Виши или, господи прости, Германии. Если он и принял на себя обязанности директора Национальной Библиотеки, то ради спасения ее ценностей от германского грабежа — что он и сделал. Ни одной вещи не исчезло, пока он не покинул свой пост. Геринг запрашивал у него разные материалы, чтобы ознакомиться с ними в свободное время, но Б. Ф. не помог этому ужасному созданию (он так же спас от немцев Византийскую Библиотеку, принадлежащую американцам). Суд над ним отложен, в соответствии с французскими законами судья имеет право опросить свидетелей для подготовки обвинения. Гертруда хотела свидетельствовать, но ей как иностранке, не позволили появиться перед судьей, хотя ее письменное свидетельство было принято. А тем временем заключение в тюрьме серьезно повлияло на его, уже хрупкое здоровье. Кажется, что ничего уже нельзя сделать из-за границы, т. е. американцами, за исключением тщательно подготовленной кампанией в прессе. Вся история легла тяжелым грузом на душу Гертруде — тюрьма всегда вызывала у нее ужас — несвобода, невозможность передвижения, все это не покидало ее мысли, особенно с тех пор как она повстречалась с американскими солдатами, которые постоянно утверждали: «Мы не желаем, чтобы нами помыкали». Весной приезжал Фрэнсис Роуз и на каком-то приеме встретился с госпожой Дьюи. Госпожа Дьюи выразила желание помочь ему, она пообещала, что сможет. Но Фрэнсис уезжал рано следующим утром и сказал, что у Гертруды есть вся информация и она [Гертруда] сделает все возможное, если ее имя поможет. Госпожа Дьюи пришла, у них состоялась часовая беседа. Все, чего Гертруда желала — переправить его в хоспис под наблюдение его врача и под надзор полиции. Госпожа Дьюи, с которой я встретилась на короткое время, сказала, что кое-что может быть сделано со стороны Америки. Через две недели после этого мы отправились в загородный дом Бернара в Сарт, который он замечательно перестроил из старого монастыря. Я надеялась, а Гертруда была уверена, что отдохнет, очень надеялась. Но мы там пробыли только пять дней, после чего я отвезла ее в больницу. Все это время она без устали повторяла: госпожа Дьюи говорит, что ему можно помочь и что она это сделает. За несколько дней до смерти, когда мы были еще полны надежд, Гертруда сказала мне: «Если мы в течение недели ничего не услышим от госпожи Дьюи, мы ей напишем». Вернувшись домой, уже одна, я стала искать адрес госпожи Дьюи, и уже отчаивалась от неудачи, но получила очень теплое письмо от нее. В ответном письме я поблагодарила ее и упомянула об озабоченности Гертруды — овладевшей ею идеей освобождения Бернара Фая. Но с тех пор от нее неслышно было ни слова, а четыре месяца тому назад она уехала. Существует ли какой-нибудь другой способ сотворить чудо, неужто ничего нельзя сделать? Для меня это [спасение Б. Фая] стало святым делом — оно так было дорого Гертруде, по-настоящему единственной ее печалью. После смерти Хуана Гриса почти 20 лет тому назад, ничто не печалило ее больше, чем это — глубоко расстраивало, а [Дьюи] была единственной надеждой. Я рассказала тебе все подробно, чтобы ты смогла понять ситуацию — я оставляю на твое усмотрение, решай, захочешь ли ты чего-нибудь предпринять и какие шаги ты предпримешь. Я абсолютно верю в твои чувства к Гертруде, а ты должна верить чувствам Гертруды к Бернару — никто из вас не ошибся в своем друге. Дорогая Бобси, прости, что отнимаю у тебя столь много времени — существует много мелочей, которые я могу сделать для Бернара, но ни одна из них, ни на мгновение, не изменит его длительного заключения.
С самыми добрыми пожеланиями и с любовью к вам обоим,
всегда ваша Элис.____________
Карлу Ван Вехтену, Нью-Йорк.
25 октября 1946 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой папа Вуджюмс!
Эдгар Аллан По[96] (возможно такое?) был назначен администратором вместо его партнера Кемпа Бартлетта — (или Бартлетта Кемпа, у меня не сохранилось правописание его имени — моя бедная старая голова приемлет оба варианта), он отсутствует в Балтиморе и писал тебе и мистеру Моргану. Эдгар Аллан По беспокоится по поводу передачи рукописей Малышки библиотеке Йела безо всяких условий — понимают ли они, что у них нет права печатать — ожидают ли они получать доходы от публикации!!! Он, кажется, суетливый, но дедушка у него хороший.
Пьер Балмэн планирует 3-недельную поездку в Америку в следующем месяце. Я передам с ним письмо тебе, потому что Малышка сказала ему, что передаст. Я делаю только то, что сделала бы Малышка. Я пытаюсь — пытаюсь — день тянется долгих 24 часа, но нет времени что-либо делать, потому что дверной звонок раздается, кажется, в два раза чаще обычного — что легко объяснимо, хотят прийти старые друзья поговорить о Малышке или узнать, что сказала бы Малышка по определенному поводу и что ощущала бы — а другие, как Канвейлер — посидит печальный некоторое время и уйдет. Сегодня Пьер Релез привел миссис Сандбург, у ее мужа-американца (она — француженка) бизнес в Нью-Йорке. Она работает в сфере франко-американских отношений, хочет лучшего взаимопонимания между двумя странами — мертвое дело — ничего путного эти усилия не дают — но Малышка заинтересовалась бы и смогла бы кое-что предпринять. Когда я рассказала об этом Пьеру, он посоветовал: когда тебя спросят, скажи им, что она думала, когда этим занималась — это даст им идею, что для этого требуется.
С огромной любовью к вам обоим,
Элис.____________
Дональду Гэллапу, Нью-Хейвен[97].
28 октября 1946 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Мой дорогой Дональд!
Должна поблагодарить вас за посланный мне экземпляр вашего замечательного ревю «Брюси и Уилли», оно мне понравилось — очень, очень — и понравилось бы Гертруде, потому что объясняет вместо усложнения несложные, в сущности простые истины, что являлось основой всех произведений Гертруды — определенно ее последних — но заключенных зачастую в сложную оболочку. Только заинтересованные читатели могут следовать до конца, и я думаю это потому, что ее мысли и выражения простираются по меньшей мере в два раза дольше, чем у любого другого писателя, ее современника, за исключением Пруста и Генри Джеймса. Интересно, так ли это по вашему мнению. А сейчас мне нужен ваш совет, а, возможно, и помощь. Когда я подготовила рукописи и письма к отправке в Йельскую библиотеку — Гертруда сказала, что библиотеке в конечном счете следует иметь и подаренные ей книги с автографами — потому я отсылаю их, не запросив библиотеку — но их каталог, подготовленный вами, нигде не могу найти, хотя просмотрела все — по ошибке он был среди рукописей, уже отправленных в июле. Две причины, по которым мне он нужен прямо сейчас — одна, знать, что было опубликовано. Вторая — какие из ее книг — не рукописей — отсутствуют в Йельской библиотеке — некоторые из них я смогла бы восполнить. Или корректнее запросить Йельскую библиотеку официально, в таком случае, к кому мне следует обратиться или вы сможете и захотите это сделать вместо меня? Каков бы ни был ваш ответ, я признательна вам за помощь — с самыми добрыми воспоминаниями.
Всегда с благодарностью,
ваша Элис.____________
Карлу и Фане Ван Вехтен, Нью-Йорк.
25 декабря 1946 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая императрица Фаня Вуджюмс и папа Вуджюмс!
Консьерж отключает воду каждый вечер в 8:15, чтобы предохранить трубы от замерзания и не включает до самого утра. Но они, несмотря на это, все равно где-то в доме замерзли и с прошлого вечера мы сидим без воды — за исключением того, что Огастин приносит из подвала. Сплошная потеря времени — болтовня — обмен мнениями и возврат к ситуации, едва ли нормальной, но достаточной, чтобы привести французов в доброе настроение. Все жители дома бодро воспринимают тот факт, что водопроводчики не могут прийти до завтра и то если завтра — лишь я ворчу, да еще консьерж, которому надоели эти трубы.
Сегодня, во второй половине дня меня навестила Ольга Пикассо — она приходит в 6, остается до 12 и рассказывает мне целые истории о том, что делает каждый, кого мы когда-либо знали, и всегда заканчивает каждую историю одинаково: что бы сказала и чувствовала Гертруда, о нем, о ней, обо всей истории[98]. Полагала ли она, что во всем был виноват Элюар или то было влияние Андре Бретона. Она задает мне множество вопросов и на большинство из них есть ответы. Она так умильно успокаивается — все это довольно приятно и у Малышки с ней большей частью были rapprochement[99], так что я продолжаю воспитывать Ольгу, несмотря на то, что это требует времени.
Я приступаю к работе над каталогом, но пока не нашла ничего из опубликованного, отсутствующего в каталоге. Я была занята также уборкой и чисткой квартиры, посыпаю дуст, чтобы моль не ела вещи. Пока все это происходит, бедняга Баскет лишен своих обычных прогулок — к тому же очень холодно — не для него, для меня. Соблюдать нормальные условия можно только в одной комнате — электричество ограничено. Мы съели мадам Сезанн[100], но я не хочу сжечь — в буквальном смысле
— Пикассо. И все это время меня продолжает мучать ужасная судьба Бернара. Рене Релез сообщил мне кое-какую информацию, которая подвигает меня действовать в нескольких направлениях. Семья и адвокат не будут подавать апелляцию из-за опасения еще более строгого наказания. Довольно абсурдно, что малозначительная иностранка и подающий надежды молодой физик — оба не имеющие никаких покровителей — все еще надеются что-то сотворить, но мы надеемся. Чудо будет, если нам удастся — но я убеждена: то, что мы планируем, представляет собой единственный шанс на успех. Пикассо сказал Канвейлеру, что если тот хочет доказательства, что чудеса, да, случаются, пусть посмотрит, как растут его волосы — разве не чудо. Что ж, чудо должно произойти и как можно скорее, иначе станет чересчур поздно, чтобы спасти архивы и библиотеку, чрезвычайно важные для его [Бернара] будущего — если последнее у него есть. Вчера я попросила одного из друзей Малышки навестить меня и обсудить всю эту историю, и мне стало абсолютно ясно, ради Малышки это было бы сделано — они нуждаются в нашей доброй воле и она точно нашла бы средства убедить их. Так что надо продолжать. Прошедшей ночью Баскет и я зажгли рождественские свечи розового цвета, которые остались со времен улицы Флерюс — в память о Малышке, Баскет радостно все вспомнил, но впервые чувствовал себя неуютно — бедный Баскет.
Мистер Морган позвонил мне сообщить, что у него есть отчет из банка и там указана сумма, большая, чем он ожидал — для меня представляются загадкой разговоры этих, крайне неразумных представителей закона. Когда я была ребенком, никогда не понимала, почему сюрприз от выскакивающей из игрушечного автомата фигурки должен передаваться мне — что ж, юристы, как в игре с теми автоматами, радуются произведенному сюрпризу — не сознавая, что никто другой его не разделяет.
Счастливого, счастливого Нового Года Вам обоим и пожелания еще многих, многих, и возможности свидеться с вами. Благослови вас господь, и ниспошли вам добрые вести. С бесконечной и благодарной любовью,
Мамма Вуджюмс (два «м» в связи с Рождеством).____________
Дональду Гэллапу, Нью-Хейвен.
11 марта 1947 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Дональд!
Трудно выразить, как благодарна я вам за все, что вы делаете. Вы конечно понимаете, что память о Гертруде составляет всю мою жизнь, как и сама Гертруда при ее жизни, и вы конечно поймете, если временами я прошу чересчур много, ибо есть дела, которые необходимо осуществить, прежде чем наступит мой собственный конец. Карл, безусловно, выполнит свою работу прекрасно — у Гертруды на этот счет не было никаких сомнений. Но есть проблемы, требующие доработки, и я надеюсь, вы поможете мне их разрешить.
Гертруда в своем завещании указала манускрипты, полученную корреспонденцию, книги, фотографии, все, что имеет художественную ценность (говоря мне о книгах, она заметила — это было в мае, когда мы вместе составляли список для мадмуазель Дроз: «Они хотели бы заполучить книги с автографами дарителей, я полагаю») — ничего не было сказано о других книгах. По ряду причин, которые вы легко поймете, меня угнетает мысль, что они отправятся на свалку — Аллан Стайн получит все для своего благополучного существования, а затем наследство разделят между его тремя детьми — старший, которому 19 лет, не выказывает никакой склонности к интеллектуальной жизни, другие двое — еще меньше — это только для ваших ушей — вы понимаете. Поэтому, если мистера Бабба побудить написать письмо Аллану Стайну и мне и попросить эти книги, у Аллана не будет ни малейших возражений (он оставляет мне решать подобные вопросы, но будет легче, если подключить к игре мистера По, для чего совсем не требуется согласия Аллана) — не слишком ли хлопотно для нас? Думаю, нет. Чем скорее они — книги — доберутся до Йельской библиотеки, тем легче будет у меня на душе. Вы знаете, что они из себя представляют — немалое количество книг 18-го века — несколько любопытных американских писателей, вещи, которые каждый читает, и разнородная коллекция книг, отражающих разнообразные интересы Гертруды — вы же знаете, что на ее полках книги стояли в два ряда. Мечтаю, чтобы они оказались по дороге к вам еще до конца следующего месяца. Пожалуйста, не думайте, будто я принуждаю вас — но дадите же вы мне знать, как вы на это смотрите, не так ли? Кстати говоря, окажутся ли они вместе, попав в библиотеку?
Следом должна рассказать, что завтра исполнится неделя, как портрет уехал в Метрополитен — щемящая тоска — я предположительно была готова к m‘endurcie[101], но в последний момент так не получилось. Я поставила большую кубистскую картину, висевшую на зеркале меж двух окон, на место портрета, а освободившееся место занял Фрэнсис Роуз — тот, что был между камином и дверью. Кубистская картина выиграла невероятно — но комната опустела еще больше.
Касательно писем Гертруды к Линдли Хаббл, они не представляют особого интереса, поскольку дружбы между ними не было — просто письма к приятному молодому человеку — подтверждение получения его стихов и т. п. — не такие, как, например, письма к Дональду Сазерленду, с которым она переписывалась не только чаще и дольше, но касалась его и своего творчества. И в самом деле, вы найдете его письма к ней очень интересными. Первое из Принстона, когда ему еще не было и 20-ти — вы возможно встречались с ним здесь — Определенно, не приносит вреда иметь имя «Дональд» — хотя вряд ли можно найти таких двух совершенно различных людей. Бедная Китти Басс — продала письма Эзры [Паунда] — у них был серьезный роман в конце 20-х, до того как Эзра покинул Францию и направился в Италию. Между прочим, именно Китти Басс нашла издательство «Фор Сиз Кампани», которая опубликовала «Географию и Пьесы»[102].
С любовью,
Элис.____________
Генри Раго, Чикаго[103].
16 марта 1947 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Раго!
Ваша статья в «Поэзии», которую вы мне любезно прислали, находится у меня уже несколько недель — к сожалению, пришлось ждать до сегодняшнего дня, чтобы сказать, что она мне очень понравилась. Вы ясно и четко объяснили, почему вопрос текучести времени так занимал ум Гертруды. Ваша ссылка на А. Н. Уайтхеда пришлась бы ей по душе. И отличная идея использовать единственную цитату, чтобы рекламировать Джорджа Джона.
Меня тронуло, как вы написали о спонтанности Гертруды при изложении мыслей и идей, которые она накопила в течение многих лет, — то была свежесть ее видения, давшая ей возможность воссоздать то, что она всегда полагала не менее, чем дюжиной фундаментальных истин. Вы сформулировали все это и еще сверх того, и очень хорошо. Спасибо вам.
Портрет Гертруды десять дней тому назад забрали в Метрополитен Музей. Это стало еще одним расставанием и полностью выбило меня из колеи. Пикассо пришел попрощаться с ним и печально сказал — ni vous ni — moi le reverra jamais[104]. Это все, что осталось от их молодости.
Еще раз спасибо за «Поэзию» и вашу статью.
От всего сердца,
Элис Токлас.____________
Дональду Гэллапу, Нью-Хейвен.
19 апреля 1947 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Дональд!
Я в восторге от вашего описания выставки писем! Какое в них разнообразное проявление человеческой натуры. А то, что вы включили и отказы [издательств] — как Гертруда это оценила бы! Вы должны знать, как ранили Гертруду эти полученные отказы. Однажды Бланш Нопф перещеголяла всех в издательстве своим антистайнизмом, и Гертруда, забыв о наших надеждах и горьких разочарованиях, разразилась гомерическим смехом. К тому времени, когда вы с ней познакомились — я только сейчас сообразила — их [отказов] стало гораздо меньше, они не оказывали столь заразительного и длительного влияния. Встретились ли вам какие-нибудь любопытные рассерженные, огорчительные письма Эммы Ирвинг? Мне кажется, она была однокурсницей Гертруды в университете Джонса Гопкинса. Есть еще письма от Сары — невестки Гертруды, жены Майка и преданного друга Матисса — от Майка и Лео Стайнов. Они, вероятно, должны быть довольно личными и откровенными. Я отошлю их, не заглядывая туда, вместе с книгами. У меня нет ни времени, ни желания — полагаю, их следует делать доступными лишь после смерти Сары и Лео. Майк умер 8 лет тому назад. Что и привело меня к вашему вопросу — Что стало с первой новеллой Гертруды, написанной в 1904–1905 годах. У меня хранится рукопись[105]. Это для меня проблемный момент, я не знаю, что делать и не знаю, как поступить. Я догадывалась, что рано или поздно мне придется с этим столкнуться, скорее раньше, но чтобы скрыть свою трусость, я продолжала твердить: позже, когда со всем остальным будет кончено. Но вы оказались единственным человеком, проявившим интерес. Гертруда дала мне эту рукопись в 1933 году, после того как показала ее Луису Бромфильду, Бернару Фаю и У. А. Брэдли (ее литературному агенту). Брэдли полагал, что в новелле чувствуется рука мастера, но не рекомендовал к печати — во всяком случае, не в то время. Гертруда вверила рукопись мне и никогда о ней не напоминала. Ну вот, что мне теперь с ней делать? Я спрашиваю вас и Карла, который никогда этим не интересовался и не знает даже того малого, что я поведала вам. Но решать вы должны оба. Единственное, что я знаю — я не хочу ее читать, и потому публиковать — при моей жизни. Гертруда, безусловно, поняла бы мое желание, хотя она никогда между нами не обсуждалось и не упоминалось. Можно ли при этих условиях послать рукопись вам или Карлу или обоим? Разумеется, рукопись не должна быть обнаружена здесь, когда в будущем все перейдет в руки Аллана.
Насчет человека, который выкрал экземпляр «Три Жизни» из Гарвардского университета, подаренный Уильяму Джеймсу — его письмо когда-нибудь найдется в коллекции. Не помню его имени, но письмо написано на стандартном бланке юридической фирмы Бостона, думаю, он работал в этой фирме. Кто-то недавно написал мне, что купил в магазине поддержанной книги экземпляр «Три жизни» с дарственной надписью Полю Робсону. У Вирджила Томсона хранится много писем от Гертруды — следует ли мне поговорить с ним и попросить отдать письма вам? Он — фанатик Гарварда, но они никогда не проявляли интерес ни к ней, ни к ее письмам — он может — в качестве geste[106] — отдать. Я дошла до конца страницы, но не до конца — никогда — моей всегдашней благодарности и привязанности.
Элис. У Баскета глисты! До понедельника, когда он отправится к ветеринару.____________
Джулиану Сойеру, Нью-Йорк[107].
12 июня 1947 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Я надеюсь, вы поймете мое возражение вашим постоянным обращениям к вопросу сексуальности как к ключу к пониманию творчества Гертруды. Она бы решительно отрицала это — она считала сексуальность наименее важной из всех проявлений характера — ее реальное упоминание сексуальности редко — для вас как несгибаемого защитника Стайн такое понимание не должно привести к другим ошибкам. Гертруда всегда утверждала, что не любит частного мнения.
____________
У. Дж. и Милдред Роджерс, Нью-Йорк.
2 июля 1947 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогие Кидди[108]!
В письменном свидетельстве Гертруды по делу Бернара Фая я нашла такую фразу: «он склонялся вправо, я склонялась к радикализму — это поможет разглядеть разницу между быть буржуа и быть радикалом»— Пикассо говорил: все творческие люди (не американцы) ведут себя также. И, пожалуйста, не забудь о данном слове — удалить все ремарки, не относящиеся к литературе — приложи к этому твой непредвзятый глаз жителя Новой Англии. Прошедшим вечером я вместе с Ольгой Пикассо и Мари Лорансен побывала на генеральной репетиции балета Стравинского Le Baiser de la feé[109] со скучной декорацией и костюмами Элик и хореографией Баланчина. Его жена[110] — крепкая американская балерина, вы ее, наверное, знаете. Все это не то, о чем я хотела рассказать. А о том, что Пуленк подошел поговорить с Мари Лорансен, она полна энтузиазма после просмотра Les Mamelles [Tirésias][111] — и ни слова о его музыке — он тоже был взволнован представлением, словом, когда они успокоились, я сказала ему (в уголочке, где мы не могли кого-нибудь обидеть), что мы думаем о музыке — он выглядел польщенным, насколько мог себе позволить. Видите, балет все еще важное событие в Париже.
Спасибо за скорый приезд. Моя любовь вам обоим,
Элис.____________
Сэмюэлу Стюарду, Чикаго[112]
31 июля 1947 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Сэмми, дорогой!
Мне стыдно, что у тебя не осталось ничего памятного от Билиньина, кроме шипов! — у того, того, кто постоянно оказывал нам помощь — и щедро. Но я попробую исправить ситуацию — кое-кто вскорости отправится туда и возьмет для тебя настоящий сувенир. Я постараюсь все устроить, и тебе не придется дожидаться приезда сюда, чтобы его получить. А как бы мне хотелось, чтобы ты поскорее приехал — для меня твое пребывание в Париже значит многое — будь хорошим мальчиком и сохрани деньги. Не думаю, что у тебя будут трудности получить место в Американской школе, если подашь документы заранее. Они платят немного, но, вероятно, достаточно, чтобы жить спокойно. Если тебе не нравится моя идея, не сердись на меня. Я постараюсь придумать что-нибудь еще. Но если ты хочешь заняться преподаванием, тебе надо стать учителем очень хорошим, что может оказаться скучным. Условия жизни здесь вполне подходящие — все, за исключением отопления — приличного отопления просто не существует. Но, пожалуйста, запланируй свой приезд. Отвратительный администратор в Балтиморе — его имя Эдгар Аллан По — делает все возможное, чтобы притормозить работу Карла Ван Вехтена по изданию неопубликованных рукописей — Карл и я хотим, чтобы работа началась немедленно — естественно — а он продолжает откладывать, находя один предлог за другим. Невыносимо — немыслимо, что желание Гертруды не выполняется. Я пыталась добыть деньги здесь, но переправить их в долларах в Америку через французский office d’echange[113] — задача непосильная для всякого, желающего это осуществить. Моя последняя надежда здесь испарилась, я устала от всего этого — ничего не остается делать, как ждать до октября, самой ближайшей даты, которую это отвратительное создание определяет как ближайшую. Я делюсь с тобой своими несчастьями, но пожалуйста, забудь о том, что я написала, не упоминай об этом ни мне, никому другому. Так жарко, что у меня в голове помутилось.
Я не говорила тебе, Фрэнсис Роуз спроектировал очень простой, но замечательно пропорциональный надгробный камень на могилу Гертруды. Мне сделали несколько фотографий, я пришлю их тебе, как только получу. Драгоценная Гертруда лежит там одна-одинешенька — она, которая всегда была окружена людьми. Сэмми, ты все еще pratiquant[114]? — что должно быть за удовольствие для тебя! Забудь о слабости, это усталость и жара — я никогда не рву и не пересматриваю свои письма, пусть они отправляются telle quelle[115].
Всегда любящая тебя
Элис.____________
Дональду Сазерленду, Боулдер, Колорадо[116].
19 октября 1947 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Сазерленд!
Первая глава пришла десять дней тому назад, с тех пор я читаю ее и перечитываю. Я не нахожу достаточно слов для благодарности — за то, что написали точно таким образом. Глубокое удовлетворение и огромный успокоение для меня сознание того, что самое важное — авторитетная оценка для нынешнего поколения будет высказана в мое время и вами. Все очень ясно еще со времен Рэдклиффа, 1895 г., и до ее отъезда оттуда — с ее характером и нынешним мышлением — единственными, но самыми драгоценными ее свойствами. Вы так хорошо описали шаги в этот период, что всякий внимательно прочитавший, сможет увидеть, как и почему она начала писать. Ваши определения точны — там имеются длинные строки, готовые, по-видимому, стать классическими. В то же самое время вы целиком принадлежите другому лагерю — (поздравления и даже симпатии) — другими словами, в той же самой лодке, в которой была и Гертруда в вашем, ныне 32-летнем возрасте и далее. Я намеревалась сказать об этом позднее, но сейчас самое время — весьма вероятно ни один журнал не возьмет вашу рукопись, но у меня есть соображения, как это можно сделать. Разрешите ли вы послать копии первой главы Карлу Ван Вехтену и Дональду Гэллапу (библиотекарю в Отделе американской литературы при библиотеке Йельского университета, целиком и полностью преданный памяти Гертруды)? Нет проблемы и скопировать. (Лучше всего — разве нет — послать их от моего имени, а не вашего?). То, как вы проанализировали разницу между произведениями Пруста-Джойса — и произведениями «английских леди» и Гертруды — восхитительно. Удивительно сжато и понятно — «различие концепции времени» и т. д. Затем «будет ли в будущем язык выглядеть как диалект или как манера выражаться». И исключительное внимание к абстракции — Гертруда неоднократно называла ее американской, считала ее американской, кубизм — естественный для испанцев — так много значил для нее и должен был стать американским тоже. Она никогда особенно не верила, что ее еврейство отражалось в ее произведениях — она не считала, что евреи как-то особо интересовались абстракцией (Пожалуйста, не принимайте мои слова как очень значимые, к тому, что вы написали, это не имеет даже побочного отношения). Что же касается Генри Джеймса, то вероятнее всего она прочла два последних длинных его романа, еще будучи студенткой Джонса Гопкинса, потому что в 1903 году в новелле (что послужило отправной точкой для «Меланкты» — три основных характера — белые) она цитирует Кейт Крой. Когда в 1907 г. я прибыла [во Францию] со своим неиссякаемым энтузиазмом к Г. Дж., мы подписались на издания Г. Дж. в нью-йоркском издательстве «Скрибнер», и Гертруда перечитала два ранних и два-три последних романа. Она любила, говоря о нем, употреблять его слово — предтеча. Именно его абзацы вдохновили Гертруду. В романе «Крылья голубки»[117] встречаются истинно Гертрудовские фразы — возможно, я уже писала вам об этом. Еще — все, что вы пишете о характере — связанном со временем — ведущем к повторениям — чрезвычайно важно. И все, что вы пишете, с этого момента и до конца, наполнено светом и воздухом — согревает меня, вселяет в меня радость, которую я и не ожидала.
О, да, я забыла упомянуть, как вы правы, говоря, что наука и история не в состоянии служить жизни — литературе — критицизму. Гертруда пришла бы в восторг от того, что ваша программа дает вам. Ваше знакомство в Принстоне со «Становлением Американцев» принесло бы ей полное удовлетворение, что за удовольствие доставило бы ей тема, которой вы занимаетесь. Совершенно очевидно, вы в состоянии сформулировать то, что в моей голове является большим пробелом. Мейбл Додж не в состоянии вам помочь — хотя у нее хорошая память, но когда она говорит, никогда не знаешь, в каком месте начинает присочинять — она описывает вещи дьявольски хорошо «наподобие того».
Всегда с любовью,
Элис Токлас.____________
Дональду Сазерленду, Боулдер, Колорадо.
30 ноября 1947 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Сазерленд!
Просить прощения за то, что не отвечаю вовремя на ваши письма в срок, стало банальностью — указывает лишь на ту степень беспорядка, в котором находятся и мой ум, и мои привычки — спутанные и отвратительные. Это не относится к вам — je vous jure[118] — и вашей первой части. Вы и это [обстоятельство] проясняют основное недоумение, так что есть дополнительная причина для моей благодарности к вам. Вам, возможно, приходилось слышать мою теорию, согласно которой невозможно оценить какой-нибудь объект — его форму — пропорции или объем — даже предмет мебели, пока множество раз не вытрешь пыль. Так вот, однажды я обнаружила, что печатание рукописи создает большее понимание текста
— по крайней мере, быстрее, чем чтение. Поэтому для меня не стало сюрпризом, печатая первую часть, обнаружить новые находки. Например, перед тем как я напечатала рукопись, на меня произвело впечатление и то, что вы сказали, и четкость, с которой вы это сказали. Теперь же, печатая, я получила еще и удовольствие. Там есть параграфы, которые определенно понравились бы Гертруде. Три первых параграфа о сознании имеют течение, подъем и падение, которые совершенным образом иллюстрируют ее диаграммы до и во время создания «Становления». На этом она настаивала, и всегда использовала и впоследствии — даже когда абзацы были не так важны и предложения разделялись. В каком-то смысле там это все было и — она повторяла — не меняется. Перемены и прогресс докучали ей — и в самом деле, говорила она, таких животных не существует.
После дополнительного удовольствия, связанного с печатанием первой главы, одна копия ушла к Ван Вехтену, другая к Гэллапу в Йейл, как раз перед началом досадной забастовки почты — ответы, поэтому, где-то в воздухе — вынырнут ли они когда-либо из потаенного угла и придут по назначению? Забастовки — штука бесполезная — они никогда не достигают своей цели — зарплаты для определенной категории работников всегда повышаются и так — а в бойкой Франции соответственно растут и цены — даже в их предвкушении. Тем рабочим, чья категория близка к избранным, велят отправляться домой и заткнуться — чего они не делают — но даже в таких случаях на них не обращают внимания. Мусорщики пытаются портить мусороуборочные машины и иногда успешно — все ими довольны. Жизнь становится заметно дороже, но каждый как-то обходится без новых вещей. Единственное, что меня беспокоит — холод и проблема как бы раздобыть еду для собаки — но первый снег тает, американский служащий в комиссариате США снабжает меня мукой — следовательно, будет для собаки вермишель — ничто из этого (деликатесов) долго не сохраняется — к тому времени, когда это письмо уйдет, у нас будет еще что-нибудь.
Кстати говоря, у Гертруды есть поразивший меня отрывок, великолепно описывающий демократию Готорна. Генри Джеймс, однако, вряд ли знал это. До нас не дошло никаких его высказываний о Гертруде — вероятно, Уильям Джеймс упоминал ему о ней. Чересчур холодно тащить сюда пишущую машинку, поэтому извините меня, если я скопирую текст [о демократии Готорна] вручную и вложу его.
Касательно Джойса и его творчества. Один абзац в «Автобиографии» посвящен ему — включен туда, потому что я настаивала на этом. В течение нескольких лет он был болезненным жалом в ее плоть — его успех пришел до того, как тысяча копий французского издания «Становления» вышли из печати, и все эти годы были для Гертруды кошмаром — Гертруда отчаянно хотела опубликовать свою бесконечную рукопись. «Улисс» она оценивала невысоко — однажды заметила, что с трудом осиливает ирландские народные сказки, которые даже менее съедобные, чем германские. Она встретилась с Джойсом гораздо позже, одним вечером у Дэйвидсона. Сильвия Бич спросила у Гертруды, не согласится ли она пересечь комнату и поговорить с ним — у него было плохо со зрением — на что она конечно согласилась. (К тому времени он уже больше не был ирландской сказкой — он стал ирландской легендой). Она поведала мне, что сказала ему: «После всех этих лет». Он продолжил — «Да, и наши имена всегда связаны вместе». Она сказала: «Мы живем в том же самом arrondisement»[119]. Он ничего не ответил, и она отправилась поговорить с приезжей из Калифорнии. Мы однажды обнаружили и другой элемент влияния[120], сказавшийся на нем и как он к этому пришел — но к этому времени Гертруда s’est désintéresse de lui[121].
Спасибо за сведения о Мейбл Додж и миссис Джефферс. Они свежие? Это неизбежный конец Мейбл, ибо единственный способ убедить окружающих, что она может увлечь мужчину — иногда убедить и его — вынудить кого-то — ее, его или его жену или бывшего любовника совершить самоубийство. Когда мы знали ее близко — в 1912–1914 — такие попытки были, но обошлось без жертв. Джон Рид, рассказывала она, был одной из них. Другой она позже называла миссис Лоуренс. [Поступки] Мейбл не относились к тому, что Гертруда называла повторением — повторением, в котором наблюдалась небольшая разница — она была до смерти унылой. Но она и в самом деле обладала старомодным кокетством.
Кстати насчет замечания Уильяма Джеймса после просмотра картин Пикассо и Матисса о необходимости мыслить широко. Генри Джеймс после посещения первой выставки тех же и других художников — думаю, в 1910 году — когда его прижал Клайв Белл, не нашелся что сказать. Он хранил глубокое молчание. Раздраженный, но настойчивый Клайв Белл сказал
— Но, мистер Джеймс, остались же у вас какие-либо впечатления от увиденных картин? Наконец, Джеймс произнес — Какие впечатления?
Всегда с любовью,
Элис Токлас.____________
Дональду Гэллапу, Нью-Хейвен.
23 марта 1948 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Дональд!
Все идет вкривь и вкось и если картина становится более ясная, она не становится отраднее. У меня нет намерения хитрить. Пытаясь рассказать вам все, что хотела бы, чтобы вы знали, я не должна давать волю своим чувствам. Нет надежды, что все картины отправятся в Йейл как единая коллекция. Произойдет, вероятно, то, чего я больше всего боюсь: после меня картины не разойдутся по владельцам, а просто исчезнут. Меня это постоянно расстраивает, но на нынешнем этапе что может быть сделано должно быть сделано безотлагательно. Аллан Стайн не только отказывается сотрудничать, но будет создавать трудности, какие только сможет — он начинает заявлять о себе с холодной решимостью. После тяжелой болезни он дал понять, что будет определенно всему препятствовать. У меня есть разрешение продать какую-нибудь картину и если ваш музей готов купить — как вы однажды предположили — не окажите ли вы мне любезность сообщить, как мне поступить далее. Я хочу продать позднего Пикассо — кубистскую картину, насыщенную яркими цветами, что висит в малом салоне. Пикассо сказал мне, что она стоит десять тысяч. Когда я собиралась продавать ее прошлым летом, мне предложили за нее эту цену во франках — тогда я хотела получить деньги для издательских усилий Карла. Найдется и способ переправить ее к вам. Ее размер — 81 см на 1 метр. В конце недели у меня будет ее фотография. Далее — я хочу получить ответ на это предложение как можно скорее — а деньги в течение двух месяцев. Это все звучит отвратительно, но я как всегда полагаюсь на ваше понимание и доброту — будьте добры подскажите, что делать.
Теперь я могу вернуться к началу и ответить на ваше письмо, которое пришло сегодня утром, как раз когда собиралась вам написать. Прежде всего, не думайте, что состояние, в котором прибыл бюст работы Дэйвидсона, особо беспокоит меня — достойно сожаления и я свяжусь с теми, кто его паковал и позабочусь, чтобы вам оплатили расходы на ремонт, но Гертруда и я никогда не считали эту работу значительной — entre nous — не говоря уже о нелюбви к скульптурам — она ее не любила. Не помню, говорила ли она вам об этом. Рада, что вам понравился Пикабиа — мне тоже поначалу, но потом раннее впечатление исчезло.
Во всяком случае и скульптура и портрет [Пикабиа] лучше портрета Гертруды работы Фрэнсиса Роуза. Можете их показывать, если хотите, но, пожалуйста, без упоминания моего имени (из-за Аллана).
И теперь. У меня есть небольшой подарок для Йельского университета.
Помните ли вы раннего небольшого Пикассо — Café Scene — картину, выполненную под влиянием Тулуз-Лотрека — изображена столовая — возможно, вы помните, что она принадлежит мне (Пьер Лоб — зная это — сказал мне однажды — Знаете, когда будете готовы продать вашу коллекцию, я готов ее купить). Есть еще два приятных рисунка, тоже принадлежащие мне: обнаженная на лошади — и две обнаженные, одна с веером — помните ли их? Так вот, я хочу, чтобы они были у Йеля и чем быстрее я могу отослать вам, тем лучше.
Простите мне это гадкое письмо, следующее и вскорости будет лучше. До следующего письма и со всегдашней к вам любовью.
Элис.P. S. Нечто приятное произошло — мистер Сульцбергер, европейский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» — который интервьюировал Гертруду и который ей очень понравился — несколько месяцев тому назад прислал мне фотографию картины, принадлежащей его другу. Тот купил эту картину в 1936 году в Барселоне «как будто» работы Пикассо. Пикассо недавно передал мне, что так оно и есть. Очень ранняя работа, в самом деле, где-то в 1903, а то и ранее.
____________
Элизабет Хансен, Пасадена, Калифорния[122].
19 апреля 1948 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Лилиан!
Я нашла пьесы Жанна Кокто и одну из книг Пикассо — в мягком переплете, конечно, но поскольку они больше не издаются, то вскоре могут стать букинистической редкостью. Я не отсылаю их немедленно, поскольку хочу получить автографы, а Жана Кокто нет в городе, следует найти кого-нибудь, кто возьмет книги к нему и привезет их обратно — в противном случае мы их больше не увидим.
Что касается Пикассо — чертовски трудно получить от него что-нибудь обратно, но мы попробуем — стоит подождать, не правда ли? Пьеса Пикассо[123] характеризуется ныне как сюрреалистская, хотя в действительности она восходит к пьесе Ubu Roi*, но в два раза менее занимательная. Я еще не послала Operas and Plays Гертруды (из того тома, который готовит Карл Ван Вехтен — он выходит из печати осенью и включает все неопубликованные оперы и пьесы), но сделаю это в ближайшее время. Это не угроза, а обещание, как выражалась Гарриет Леви. Помнишь ее — ей восемьдесят один год и в прошлом году она опубликовала свои первые две книги — жаль, что им пришлось ждать до сих пор — а она могла бы не подаваться искушению написать их и подождать дольше.
О, да, Бах был нашей геометрией — за что мы должны быть вечно благодарны Отто Бендиксу — так как все остальное, чему я выучилась было пустой тратой времени — опыт дает то же самое, если не лучше. Как обстоит дело с рассказом о твоей школе — окончен?
Нет, мне не доставляет трудности чтение твоих писаний. Ты временами бываешь робкой, но никогда невнятной.
Всегда с любовью — привет Агнес,
Элис. * Ну и что из того, что она мне не нравится. В течение более сорока лет я была объектом насмешек каждого из-за моей приверженности давнишнему энтузиазму. Один экземпляр Гертруда послала мне в 1906 г. (первое издание, к сожалению, оно ушло в Йел не далее как месяц тому назад, до того, как я получила твое письмо с просьбой о книге — они только что получили ее).____________
Дональду Гэллапу, Нью Хейвен.
30 апреля 1948 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Дональд!
Объявилась очень приятная интеллигентная итальянка — готовит для «Mondadori» одну из книг Гертруды и надеется перевести «Становление» целиком — если сумеет убедить их предпринять такую сложную задачу. Она — безграничный энтузиаст Гертруды и читает лекции о ее творчестве — что, как сообщила она, секретно передавалось и широко читалось в Сопротивлении во время оккупации. Она, похоже, собрала большое количество книг, но без чего, по ее заявлению, не может обойтись — без эссе «Жизнь и Смерть Хуана Гриса»[124] — не может ее раздобыть. Она попросила одолжить ей экземпляр, но конечно у меня его нет, она так огорчилась (видела его до войны и нашла эссе настолько трогательным, что хотела цитировать оттуда в своих лекциях) — я сказала, что скопирую для нее. Посему теперь я вынуждена просить вас, не составит ли вам труда отпечатать и выслать авиапочтой по адресу Dott. Fernanda Pivano. Карл за это заплатит (за все — бумагу, конверт и марки) из денег, которые у него остались.
Моя вторая просьба менее приятная — больше работы для вас, да и вся история неприятна и противна моей натуре — но сказать «нет» нельзя — разве что благодаря неожиданному решению с вашей стороны — я была бы благодарна, никто бы не узнал, а я смогла бы искренне заявить: библиотека [Йельского университета] сожалеет, но это невозможно. И чем больше я размышляю об этом, тем больше мне нравится идея вашего отказа — а потому умоляю так поступить.
Но полагаю, вам надлежит знать, в чем отказать. Встречались ли вы с Хайме Сабартесом — старым протеже Пикассо. Он вроде противного прихлебателя, которого Пикассо поддерживает и который в ответ заботится об уплате счетов — отвечает на телефонные звонки и т. п. Он написал жалостливые книги — одну или две. Сейчас он предлагает писать другую книгу, о П., скорее весьма краткий текст к фотографиям Пикассо, что будет нечто биографическое. Пикассо, хоть и не поддерживает эту идею, но и не отвергает. Одним утром он позвонил мне и попросил все его ранние фотографии. Когда он услышал, что они все в Йеле, то попросил: пусть сфотографируют их для меня — мол, Пикассо особенно хочет ранние фотографии и они, насколько мы знаем, были только у Гертруды. Это очередная бесконечная бессмыслица и потеря вашего времени, к тому же затрагивает мою дружбу с Ольгой. Я знаю, что она разгневается, увидев прошлое Пикассо с Фернандой и Ивой (а эти фотографии, как вы незамедлительно узнаете, именно те, которые Сабартес представит перед глазами каждого) — она посчитает, что это обесчестит ее и Паоло — в конце концов, она его жена и мать его единственного законно рожденного ребенка. Будто нынешней ситуации недостаточно, так Сабартес хочет оживить беспорядочное прошлое. Он ущемляет ее социальный статус, низводя до уровня его любовниц. Такова ее точка зрения — я знаю — и здесь я поддерживаю все, что она не может терпеть — в основном потому, что люблю Пабло тоже — и слаба перед ним, но в особенности потому, что не уверена, что Гертруда отказала бы. У Гертруды это зависело немного от настроения в определенный момент. И поскольку Сабартес бесконечно говорил об этом, эта история вертелось у меня в голове беспрестанно и, наконец, я сказала [ему] «да». Теперь, если вы не откажетесь — а я глубоко и искренне надеюсь, что откажетесь — С. хочет копии всех фотографий за весь тот период, включая фотографию П. с вытянутой рукой и Паоло — но не фотографию, сделанную Ман Рэем. Он также хочет одну с Фернандой и собакой и маленькую фотографию одной Эвы в кимоно, похожей на гейшу, эдакая маленькая французская буржуа. За фотографии заплатит жена Кидди — издатель Сабартеса в конечном счете возместит мне расходы. Их следует отправлять обычной почтой (все расходы оплачивает миссис Кидди).
Здешние новости в основном касаются приезжающих и уезжающих американцев. Сазерленд и его жена здесь — уже больше месяца — они остаются еще на два месяца — за исключением коротких визитов в Бельгию и Голландию. Он работает над третьей главой — вторая восхитительна. Его пребывание здесь многое значит для меня, он симпатичен во всех отношениях — с ним всегда соглашаешься. Еще У. Рейни из «Райнхарта» — приятель Карла — милый и весьма здравый человек. Еще миссис [Мина] Куртис, подруга Вирджила и Карла, которая ведет корреспонденцию Пруста, очень интересный человек. Это не дает мне скучать — но не надоедает, как я надоедаю вам. Простите меня, пожалуйста, — будем надеяться, что больше не будет к вам требований — по крайней мере от меня.
Как всегда благодарность и моя любовь,
Элис.____________
Аннетт Розеншайн, Беркли, Калифорния[125].
30 июня 1948 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Аннетт!
Неделями собиралась тебе написать, но тут сущее вторжение соотечественников и прочих иностранцев и они — друзья и знакомые и корреспонденты — заполняют и мою квартиру и мое время. Но поскольку они появляются из-за Гертруды, ничего не поделаешь. Помнишь ли [Патрика] Брюса (с золотистой бородой и его сына Тима). После того, как Блерио перелетел канал, он сказал — запомните мои слова — мы станем свидетелями, как люди будут проводить выходные в Париже. Некоторые и в самом деле так поступают. Но сейчас суматоха унялась и я освободилась для того, чтобы тебе написать — хотя перо скверное. Приятно, что ты запомнила мой день рождения — и я искренне благодарна тебе за добрые пожелания. Мы все в них нуждаемся, поэтому я посылаю и мои от всего сердца, хотя 14 апреля давно позади. Спасибо и за рисунок дома 2300 [Калифорния стрит], сделанный Кристофером Рэмбо. Я с трудом верила своим глазам — таким и остался в моей памяти — хотя он уже развалившийся и типично Сан-Францисский. Мы переехали в него свыше пятидесяти лет тому назад, в 1895. Ты помнишь гостиную — в которой я повесила картинку The Gibson Girl в рамке безобразно зеленого цвета, к маминому изумлению и папиному ужасу. После 4-х лет мама умерла, и мы переехали на Фарелл стрит, где было не так уж интересно, как на 2300, несмотря на болезнь матери. Ты наверняка помнишь, каким старомодным тираном был дедушка. А вот сейчас и мы достаточно стары, чтобы быть прабабушками — хотя ты моложе меня на три года. Возможно, имей мы внуков, они бы нашли нас весьма скучными и надоедливыми как мы находили наших. Как выражался Майк — не будем в это углубляться.
На днях я прочла в газете, что скончалась мисс [Гертруда] Атертон. Это было для меня шоком, хотя она была очень, очень старой, о ней думали, что будет жить вечно. Мы с ней были недолго знакомы, затем встретились в С. Франциско в 1935, когда она очень радушно принимала Гертруду — уже тогда ей было за 70, очень красивая, в невероятно светло-голубом платье. Помнишь наше увлечение ее романами? Во время оккупации я перечитала некоторые из них и приятно удивилась, обнаружив, насколько хорошо она писала. Хотя описываемое время заметно устарело, повествование удерживает внимание читателя до самого конца — в ней ощущается некое благородство.
Появился ли пикассовский портрет Гертруды в С. Ф. — он должен быть выставлен на его, Миро и Хуана Гриса выставке. Перед отправлением портрета я позвонила П. и спросила, не хотел бы он глянуть на портрет до отправки. Он тут же примчался — живет в трех кварталах отсюда. Немного поговорил со мной (я редко вижу его), затем резко и внезапно вскочил, стоял перед картиной несколько минут, как бы впитывая ее, затем просто отсалютовал ей. «О, боже — сказал он — ни ты, ни я больше не увидим ее опять». Затем поцеловал мою руку и выбежал из квартиры. У меня осталось места лишь для того, чтобы послать мою любовь.
Всегда,
Элис.____________
Л. Элизабет Хансен, Пасадена, Калифорния.
2 июля 1948 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Лилиан!
Твое письмо стало большим облегчением, и если я на него не ответила сразу, то только потому, что ждала прибытия книг с автографами. Я знаю Жана Кокто — он старый знакомый — был другом Гертруды, и когда я собрала все его пьесы — они стали редкостью — я попросила приятеля взять их к Жану Кокто — когда он вернулся, я потеряла дар речи от удивления и удовольствия от его [Кокто] щедрости. Надеюсь, и ты испытаешь те же чувства. Я показывала их всем, потому что он сделал замечательные надписи, и каждый оценил им написанное. Если тебе нравится, можешь написать ему несколько строк — по-английски, он хорошо знает язык — лучше, чем мы знаем его собственный — и если хочешь, укажи, как высоко ценят его творчество в вашем университете. Он — замечательный человек — кроме фильмов, книг, пьес и рисунков, он выдающийся собеседник. Три или четыре раза я была свидетелем, как он взрывался в разговоре — это было невероятно и так динамично, что дух захватывает, в конце устаешь, тогда как он спокоен и готов начать очередной взрыв. Он — истинное проявление французской натуры.
Аллан, племянник Гертруды совсем развалился — внезапно обнаружились все его болячки, теперь он бродит неутешный — не имея никаких внутренних сил бороться — он беспокоился только о бизнесе и лошадях, а теперь ему, конечно, не до них. Его состояние — естественная реакция на излишне утонченную атмосферу дома — совершенно ненормальную для ребенка, не имевшего соответствующего детства. Ныне он несчастлив и озлоблен. Расскажи мне об артрите — он, что, исчез, полностью, за исключением колен? — вот действительно хорошее средство. Мой — не так силен, но обнаружился в новых местах — очень досаждает. Нет, я не ходила к доктору с прошлого года, да и не из-за артрита. Что нам рекомендуется не есть? Я отказалась от вина — небольшая потеря.
А теперь спокойной ночи и как всегда с большой любовью,
Элис.____________
Сэмюэлу Стюарду, Чикаго.
22 июля 1948 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Сэм, дорогой!
Невозможно описать тебе как я верчусь — как солдаты на плацу и люблю это занятие не больше чем они. Полно проблем, ждущих решения и большинство из них все еще запутаны — и лавины американских друзей — детей друзей — внуков друзей — знакомых и их отпрысков — друзей друзей и их посланцев — можешь отметить мои усилия и их бесполезность. А они — то из Швеции, то из Швейцарии. В сентябре Баскет и я можем отправиться за город. Рекомендовали гостиницу в Дордоне, — хозяин бывший шеф-повар — там неподалеку леса — горячая ванна ежедневно — три условия — очень дешево — возможно грязно. Баскет нуждается в перемене и вольной обстановке. Оставаться здесь тоскливо, там будет одиноко, но все уже решено — получили письмо от хозяина.
Достаточно о себе — поговорим о тебе. Не мне говорить тебе — ибо ты уже знаешь — для меня неважно, как и в чем ты найдешь свое спасение — лишь бы ты нашел его — чтобы ни принесло тебе удовлетворение — хоть Церковь, хоть Общество Анонимных алкоголиков, да что угодно. Я — хороший иезуит — что бы тебе ни подходило — даже то, что предпринял Фрэнсис [Роуз] — крепкую жену. Поначалу было трудно к ней привыкнуть, но, несмотря на очевидные и скрытые недостатки — только потому что она не так проста, какой казалась с первого взгляда тому — она нравится людям — она постепенно предстает вполне уважаемой особой. Если приятная женщина на несколько лет старше тебя утверждает, что хочет за тебя выйти замуж и ты считаешь, что она и в самом деле любит тебя — что ж, пусть будет, как она того хочет. Фрэнсис по-настоящему счастлив — и именно она смогла вселить в него это ощущение. И не говори о потере хорошей женщины — ибо хотя она может и неплохая, она определенно не из тех, кого относят к хорошим. У тебя есть кто-нибудь, как она, на горизонте? Ведь ты и Фрэнсис не так уж непохожи. И она предоставит тебе все возможности работать, как захочется.
Здесь имеет место быть множество выставок — художники малюют дурацкие абстракции, которые так и не стали картинами, а для декоративного искусства они чересчур вычурны. Пикассо — на юге, избегает нынешнего направления, занимаясь изготовлением, точнее дизайном и раскрашиванием керамических изделий. Жан Кокто — единственный, кто сохранил прежнюю удаль — нестареющий и энергичный. Он сберегает столь немодные добродетели как щедрость, преданность и создает, говорят, хорошие фильмы.
Сейчас на итальянский язык переводится без сокращений «Становление американцев». Если бы только об этом знала Гертруда — они переводят и четыре других произведения — предполагают в конечном итоге перевести все. Издатель Мандадори — увлеченный поклонник Гертруды. Роман «Становление американцев» ходил по рукам среди бойцов Сопротивления — роман относили к литературе освобождения — как бы возрадовалась всему этому Гертруда.
Все это рассказала мне переводчица [Фернанда Пивано], проведшая у меня три дня — такая теплая, приятная симпатичная женщина. Французские переводы продолжаются — последняя вышедшая книга «Три Жизни». Книга «Последние Оперы и Пьесы» из неизданных, которую Ван Вехтен пристроил в «Райнхарт», откладывается до октября или января. Книга, написанная Кидди[126], вышла из печати. Не та, что я видела в рукописи — n’en parlons pas [Plus?][127]. Отец Бернадет из Откома ныне служит в Ле ля Роз и в последнее время появляется в Париже чаще, чем прежде. Приходил на днях навестить меня.
Писала ли я тебе, что Даниель Ропс купил a domaine[128] на Лак де Бурже. Его «Жизнь Христа» — для взрослых — для детей — иллюстрированная — без иллюстраций — с пояснениями — без пояснений — de luxe — не luxe — продается миллионами экземпляров. Он говорит, что больше не будет писать романов ни о жизни святых — ни мучеников и мистиков — не было еще более предприимчивого продавца чем он — Мадлен [Ропс] остается загадкой для меня — что она осознает — знает она все или ничего — она — привлекательный объект.
Помнишь ли ты Сесиля Битона — он отчаянно влюблен в Грету Гарбо, а графиня Кентская в такой же степени влюблена в него. Тебе нравятся мои сплетни? — каждый рассказывает их мне понемногу — в итоге я знаю все — ни одна из них не привлекает моего внимания надолго, чтобы следить за ее развитием. Помнишь ли мадам Жиро — она живет в монастыре, недалеко отсюда — печальный конец, не так как живешь с bons secours[129] — но ее внучка замужем (трое детей) и для нее нет свободной комнаты.
Пожизненное заключение Бернару Фаю заменено на 20-летний срок, так что когда случится амнистия политическим заключенным, он освободится. Если к власти придет де Голль — он может — он объявит амнистию еще до конца этого года. Если нет, возможно кто-нибудь другой — но это маловероятно.
Я только что узнала забавную французскую диковинку. Если на свадебном приглашении приведено время Мессы «в полдень», имеется в виду час дня, когда указывают «в полдень точно», то это в 12:30, а если пишут «очень точно в полдень», это и означает в полдень. Разве они не очаровательные дети?! Это их затянувшееся детство, которое делает их такими удивительно наивными позднее.
А теперь перейдем к кухне. Знаешь, Уэнделл Уилкокс как-то подшучивал надо мной, упрекая в трусости — мол, я боялась использовать дрожжи — теперь я собираюсь их использовать — как получится, так и получится. Всегда с любовью к тебе, мой дорогой. Не забывай меня, пиши поскорей.
Элис.____________
У. Дж. Роджерсу, Нью-Йорк.
20 октября 1948 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогие Кидди!
Нет, никого из Стайнов не беспокоило творчество Гертруды. Автомобиль Форд — тетушка Полин — на подножке которого ты сидел, был назван в честь матери Фреда Стайна по причинам тебе известным, и это не могло доставить радость ее чувствительным детям. Мадам Жиро из Сейзерье — кто помнит тебя настолько хорошо, что будет крайне невежливо, если ты не вернешь ей комплимент — была вчера и сказала, что слышала La Voix d’Amerique о Гертруде — она довольна самим фактом рассказа о Гертруде, но не самим содержанием — можно было сделать гораздо интереснее.
Пикассо неожиданно вернулся в Париж на зимний период, видимо, горшки начали надоедать — он мой сосед, но я его еще не видела.
У Аллана Стайна очередной crise, он отчаянно болен, но благодаря новому специалисту и хоспису он избавлен от боли и спит нормально — так что сейчас больше надежды, чем прежде.
Торнтон с сестрой прошлым вечером взяли меня на ораторию Берлиоза в Нотр Дам, освещенный с наружи потоком света, а внутри — сдержанно, достаточно чтобы вынести и развесить флаги по обеим сторонам — флаги ООН, для их делегатов устраивался концерт. Звездно-полосатый по одну сторону алтаря — красный флаг с серпом и молотом — по другую! Иллюминация Нотр Дама несравнимая — в дневное время [собор] в Шартре, при лунном свете — Реймс.
Все на сегодняшний вечер и всегдашняя любовь к вам обоим.
Элис.____________
Элизабет Хансен, Пасадена, Калифорния.
14 апреля 1949 г.
улица Кристин, Париж VI.
Лилиан, дорогая!
Прежде всего сообщаю, что получила чек. Он уехал на Пасху (да, прибыл сразу же после Рождества, а сейчас Святая неделя) к семье из 11 человек — отец, мать, бабушка и 8 детей — из которых только двое в возрасте, позволяющем немного зарабатывать на жизнь. Они отпишут тебе — конечно двадцать долларов более чем достаточно для работающих людей иметь праздничный обед — у них предположительно будет cochon[130] — хорошая порция мяса — овощи — не картофель или капуста — апельсины и бананы — стакан вина и кофе. Спасибо от их имени, дорогая Лили.
Когда у меня будут и время и деньги, я навещу доктора по артриту, болезнь постоянно напоминает о себе — так изнуряет — ходить с головой, постоянно опущенной к земле, тяжко. Чтобы доказать, что я примерная американка, постараюсь вылечиться.
Грис крайне редко выставляется на продажу — его отдача не была похожей на Матисса или Пикассо — я имею в виду за год — он рисовал всего лишь 15 лет — это годы полностью отданы живописи — 1912–1927 гг. — он умер на следующий год в возрасте 40 лет. У меня есть литография, им подаренная — из тех, что я думаю, называется первым оттиском, я хотела бы, чтобы она была у тебя. Она очень подходящая — иллюстрация к ограниченному тиражу пьесы Le Casseur d’Assiettes Салакру[131] — сделана, когда они оба были молоды. Я подумаю, как доставить ее тебе и чем могу заменить на стене — но ты вскоре ее получишь, так или иначе. Дорогая, я только что взглянула на нее — это рисунок чернилами и пером! Только не подумай плохо обо мне, если я попрошу тебя оставить литографию Йельскому университету. Я обещала им отдать мою небольшую меморабилию. Но пока я хочу, чтобы ты владела ею в течение своей жизни. Да, Хуан был удивительным человеком. Я подразнивала его, называя Андреа дель Сарто, совершенным художником. Он знал и понимал все — стоило только спросить Хуана, почему и как, и он кристально четко все пояснял — и не только в отношении живописи — он понимал людей и человеческие отношения, был самым благородным человеком, которого я встречала — упрямый, хотя и понимающий свои слабости. Он был слаб — говорил, что испорчен, каким может быть только испанец — и ненавидел это. Он был абсолютно dépouillé[132] всего — такой святой в человеческом облике. Он любил смеяться веселить других и танцевать (совсем никудышно). Он был красив — с чертами араба или негра или обоих — у него был сын, химик, унаследовавший его прекрасные и умные глаза. Известна ли тебе короткая зарисовка Гертруды «Жизнь и смерть Хуана Гриса». Он был первым моим умершим другом и это было ужасно*. До сих пор слышу, как мне говорят, все кончено — он страдал так долго и так сильно — и он знал, что его работа не закончена. Таким был Хуан — серьезным и до смешного веселым — его легко было рассмешить, он выглядел почти импозантным — дорогой, дорогой Хуан.
Я узнала многое от русских благодаря очень близкому знакомству с русскими, братом и сестрой — эмигрантами ранних 20-х. Он был художником — Павел Челищев, настоящий злодей — мучал всех — мужчин, женщин, детей — квартиры — мебель — все, за исключением истинно русского балета, который обожал. Я крепко привязалась к его сестре, поскольку она тоже была одной из его жертв — она была похожа на одну из сестер — Тургеневских героинь — появлялась у порога с корзинкой цветов или фруктов — не произнося ни слова — ни движения — но полная мистического предзнаменования и трагедии. Сейчас говорят, что она не хочет видеть своего брата — не хочет видеть и меня, полагает, что я плохо относилась к ее брату. Русские — каннибалы — надо быть сделанным из металла, чтобы устоять против них. Привет получишь вскоре, а моя любовь всегда.
Элис. * Мертвый есть мертвый, вот почему память — это все, в ней же и бессмертие.____________
Аннетт Розеншайн, Беркли, Калифорния.
14 апреля 1949 г.
улица Кристин, Париж VI.
Дорогая Аннетт!
Папа сказал, что я опоздала родиться на один день и никогда не смогла наверстать упущенное. Действительно, на сей раз не один день, а три. Я собиралась написать тебе на твой день [рождения] с надеждой, что ты простишь опоздание на несколько месяцев — очень поздно придет к тебе ответ на твое чудное и теплое письмо — спасибо тебе, спасибо и за веселую рождественскую открытку калифорнийской улицы и повозки, ползущей вверх по холму в очень респектабельно осовремененном Китай-городе. Когда в 1935 году мы на очень короткое время увидели Чайна-таун, то были ужасно разочарованы — он выглядел как китайский квартал в любом городе.
В наше время следует вертеться, чтобы свести концы с концами. Это вынуждает человека быть активным, оживленным, но требует много времени. Во время оккупации forcémeat[133] я превратилась в довольно приличную и бережливую кухарку — у нас была одна, которая не могла приготовить и простейшую еду без пинты сухого белого вина, пинты крема и желтка, по крайней мере, из шести яиц — тогда-то я и приобрела это искусство. Кухарку мы унаследовали с домом, она получала мизерную плату, я выучилась от нее (ее кулинарное искусство славилось в округе) больше, чем она выучилась от меня — она презирала мелочную бережливость и экономию. Но когда в 1944 году пришли американцы, она проявляла чудеса. Она готовила свежую форель — мы жили в 15 минутах от Роны — и огромные яблочные пироги, свежие, прямо из печи, с раннего утра и до поздней ночи. Она была замечательным человеком. Но к чему тебе выслушивать от меня про Клотильду — перо может самостоятельно разгуляться, как и язык.
О Рубине и Аллане — вижу их редко — вообще говоря, Рубина пригласила меня на ленч позавчера в приятный китайский ресторан — приятный, но не такой как в Сан-Франциско, о боже, нет — никаких китайских чашек с зелеными окаемками — ни птиц в гнездышках — ни водяных орехов — только соя и свинина с прозрачной вермишелью и т. п. Рубина выглядит лучше, чем раньше — не такая худая, бледная и усталая. Аллан серьезно болен — периодически случаются кризисы. Пожалуйста, не говори об этом и об остальном никому, потому что я не думаю, что Саре что-нибудь известно. Аллан немного верит в учение Христовой Церкви, но когда я навестила его некоторое время тому назад он потратил два часа, описывая свои болезни (ибо, увы, имеет не одну), свои симптомы и что говорят специалисты. Это был невообразимый рассказ и перед уходом именно я, а не он, высказалась по делу — когда он позволил мне говорить! Бедный Аллан — он настолько недисциплинирован, что лечение не представляется возможным. Рубина с ее спокойствием и здравомыслием ведет хозяйство одна — не только смотрит за больным Алланом и хозяйством, с двумя детьми в Гарше, но также управляется в магазине и успешно. Она достойна восхищения во всех отношениях, а Аллан невозможный пациент, ибо придерживается лечения только на очень короткое время, а часть лечения заключается в соблюдении диеты, которую он постоянно нарушает — безнадежная ситуация. Как я уже упоминала, эти сведения только для твоих ушей, но они смогут помочь тебе оценить Рубину и узнать, как великолепно она справляется с тяготами жизни,
Люди начинают вытряхивать свои ковры из окон прямо над моей головой, я вынуждена закрыть окна — ты же помнишь французскую манеру уборки. Я — единственная персона на всей улице Кристин, — правда это один длинный квартал — кто пользуется пылесосом — при этом фирмы Гувер, чтобы предохранить картины.
Один из приятелей, будучи на юге недавно, видел Матисса — он редко теперь выходит на улицу и то в сопровождении русской модели, которая заботится о нем, прикалывает цветную бумагу на панели — вырезки воспроизводят предполагаемые фрески на часовне в Вансе[134].
Джейн Хип чувствует себя прилично — для себя — у нее уже много лет диабет, мы узнали об этом от приятеля, который посетил нас три года тому назад и рассказал. Она пережила блицкриг в Лондоне и стала там одной из героинь, а после войны возобновила лекционную деятельность — еще Гурджиев (? — написание, как всегда, сомнительное). Несколько недель тому назад встретила Сильвию Бич, которая сообщила новости о Джейн. Сильвия думает, что болезнь под достаточным контролем — нет болезненных ощущений и нет основания для тревоги. Бравая Джейн — как я люблю ее. Маргарет Андерсон продолжает жить в Нормандии — куда тише, чем прежде, и не менее красивое место — один человек рассказал мне об этом всего лишь несколько дней тому назад — он видел ее там недавно. Люди, которые разъезжают, снабжают меня новостями — я же остаюсь на месте — удобный и экономичный способ стареть.
Не видела Мана Рэя в течение многих лет. Пикассо рассказал, что он — маленький старичок — видел его в прошлом году — такой же, впрочем, как и сам Пикассо — каковы более-менее и мы все, соответственно нашему полу, за исключением тебя, моя дорогая. Я надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо и не должна думать о будущем — особенно о будущем мира — только о том, что можно изменить шаг за шагом — у больших дел гораздо меньше шансов на успех, чем в отдельно взятом случае. Извини за сентенции, за мое долгое молчание и позволь мне услышать от тебя еще, пожалуйста.
Всегда с любовью,
Элис.____________
Сэру Фрэнсису Роузу, Англия[135].
26 мая 1949 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Фрэнсис!
Вначале — краткое письмо от Фредерики — затем твое, а сегодня прибыли фотографии — все к моей радости. Предварительный hommage впечатляет необычайно — видно мастерство во всех аспектах — красота линии и интенсивность движения, которые кажутся мне превыше всего, тобой сделанного. Очень реалистический и трогательный портрет Гертруды — очень убедительно. Когда ты приедешь в отпуск, то объяснишь мне символику, ускользающую от меня, хотя это (мое невежество) меня не волнует, не заслоняет прямой смысл и красоту картины.
Твой новый замысел представляется идеальным, если его можно материализовать — это должно быть осуществлено в музеях и было бы реализовано, если бы не упрямство и чувство противоречия Аллана. Его старший сын в Калифорнии потратил огромные деньги на лошадей, мать Аллана продала Матисса, и небольшие полотна Сезанна, чтобы оплатить его долги. Так что из всех картин, приобретенных всеми тремя, только картины Гертруды сохранились как коллекция.
Спасибо за все — Фрэнсис, дорогой.
Как всегда, со всей любовью
Элис.____________
Элизабет Хансен, Пасадена, Калифорния.
19 июля 1949 г.
улица Кристин, Париж VI.
Дражайшая Лилиан!
Молодая чета Бэрри только что купила очаровательный дом с большим садом, в лесу, чуть выше Монморенси, что в 20 километрах от Парижа, и пригласили меня погостить. Мы заключили соглашение — они примут меня с оплатой. Будет вполне комфортабельно и приятно, и я отправлюсь туда спокойно, без вокзальной шумихи в их автомобиле после годовщины смерти Гертруды. В старые времена всякие годовщины — за исключением Рождества и дня рождения Гертруды — ничего не значили, но ныне значат, правда, из всех только одна. Ты знаешь, что я имею в виду. И в связи с ней мне многое надо сделать.
Дональд Гэллап, куратор американской литературы в Йельском университете [библиотеке] — в реальности [куратор] всех рукописей — кто ангельски ко мне относится — был здесь 10 дней — и приедет еще — так что я была занята им — знакомила его с друзьями Гертруды. Он берет с собой моего раннего небольшого Пикассо, портрет пуделя работы Мари Лорансен и все бумаги, чтобы вывезти их из страны — все должно пройти через офис под названием office d’echange[136], не говоря уже о двух часах, проведенных в американском посольстве ради заполнения письменного свидетельства — только благодаря тому, что я была подругой Гертруды, меня освободили от повторного утреннего посещения.
Число знакомых и друзей знакомых, которые объявились и заполонили квартиру, трудно определить. Но было так тепло и сухо, что артрит — если это он — задремал, спасибо ему.
Однажды все было очень музыкально — скрипач Энджел Регус был здесь и устроил концерт. Моцарт и Барток — да, почему Барток, можешь спросить — а затем у друзей играли Баха, Баха и Баха и это было божественно — не игра, а Бах — включая Итальянскую сюиту, помнишь, как я пыталась справиться с ней, создав путаницу. Затем упомяну молодых американцев — которых мы знали еще молодыми — Пол Боулз, Джон Кейдж и Аарон Коплэнд — у первого есть заметный дар и большее понимание — они исполняли его концерт для двух фортепьяно, духовых и ударных инструментов, заинтересовавший меня своим истинно американским характером, никак не примитивным, с приближением к яростным кличам краснокожих индейцев. Кейдж[137] раздражает меня своим «подготовленным пианино» с индийско-тибетско-японским (?) ладом. Аарон Коплэнд не интересен — таков вердикт моего существенно устаревшего музыкального опыта — первое восприятие после многих лет и, по-видимому, последнее. Конечно, не считая В. Томсона — он всего лишь продолжение.
Нет, ты и Клэр [де Груши] достигли многого. Вы жили полноценной жизнью и успешно, я думаю об этом и вас обеих часто. Да, есть Бах и Хуан Грис — если ты имеешь в виду высшую дисциплину, порядок, без натужной мелодии или чувственности. Ubu Roi как кукольное представление? Как это? Я не помню, чтобы использовался такой подход к пьесе, — в начале — середине или конце, Она была написана либо когда он был еще в lycée или сразу же после него, с мальчишеским — особенно французского мальчишки — восторгом и зубоскальством и конечно с большим чувством драматического искусства. Вот и все, остальное же просто читай и не надумывай.
Гертруда не любила чтение вслух, просто потому что не выносила, когда ей читали. Французы никогда не дадут тебе прочесть рукопись — они тут же читают ее вслух или договариваются, когда читать. Это заметно раздражало Гертруду. Она никогда не слушала то, что ей читали. Она считала, что существуют две разные вещи — разговорный язык и написанные проза или поэзия. Когда студенты спрашивали ее — почему вы не говорите так, как пишете — ее обычный ответ: вы думаете, Шелли разговаривал языком «Оды Соловью» или любой другой автор говорит, как пишет? Может быть больше, чем кто-либо другой возможно, но не так же. Что касается музыки, которая легче отвлекает при чтении вслух, она использовала, по ее словам, непреднамеренно — музыка играла — особенно в один период, но то был побочный фактор. Все-таки, пусть люди получают удовольствие от чтения, сами ли читают или им читают — она целиком была за то, чтобы каждый получал удовольствие, как того пожелает. В одной из бесед с Пикассо после Освобождения она закончила разговор примерно такой фразой — я читаю своими глазами, не ушами — уши внутри меня. На что Пикассо сказал — Разумеется, писатели пишут глазами, художники рисуют ушами. И более того: ни художников, ни писателей никогда не рисовали с открытыми ртами. Что ж мы подошли к концу предмета обсуждения — страницы — твоего терпения и моего времени. Да здравствует декабрь, когда Агнес и ты будете здесь.
С всегдашней глубокой любовью,
Элис.____________
Аннетт Розеншайн, Беркли, Калифорния.
24 ноября 1949 г.
улица Кристин, Париж VI.
Что за трагическая история с Сарой — преследуемая фуриями, это у греков — преследуемая собственным внуком — это уже еврейство, прискорбное в любом случае. До меня доходили смутные сведения о том, об этом, но вся история, рассказанная Рубиной по возвращении, меня поразила и шокировала — Сара всеми считалась необычайно защищенной против всяких ударов судьбы — конечно, была защищена Майком. Но всякое могло случиться, многое и в самом деле произошло с ней с тех пор. Рубина, похоже, действовала решительно и разумно, но с таким опозданием, что хотя Сара и защищена от дальнейшей катастрофы, но здоровье ее разбито. Что за dégringolade[138] с той, которую мы знали. Не очень блестящее положение и самой Рубины. Аллан, отец Денни — более хитер и менее рисковый. Трудно что-нибудь посоветовать Рубине — дети в данный момент в пансионате. Аллан находится в Американском госпитале, сама Рубина в Гарше, поправляется после небольшой операции — детали которой мне неизвестны (Рубине свойственна восточная застенчивость — что не так уж непривлекательна, но каждый раз сызнова удивляет меня). Что со всеми случится, они и сами не знают.
Мои собственные новости более веселые — пудель и я ходим нашим маленьким цугом. Молодежь посещает меня побеседовать о Гертруде — иногда я могу ответить на вопросы или поменять мнение. Кое-кто приходит взглянуть на картины — весьма немногие — и дюжина людей, посещающих меня более-менее постоянно — друзья Гертруды, а теперь и мои — с ними я временами хожу в концерты и театр — весной и осенью — зимой держусь поближе к радиатору.
Магазины завалены товаром по чрезмерно высокой цене — только сахар и кофе выдают по купонам, друзья из посольства снабжают меня всем необходимым (у них есть специальный склад с американскими товарами всевозможного ассортимента, о которых я даже и не слыхивала — соевое масло — водяные орехи — соленые кокосовые палочки). За полвека (как ты отметила, это стало привычным) даже продукты не узнаваемые. Как можно набавить вес, если всякие жиры запрещены — позволены ли молоко и хлеб — они питательны и ведут к ожирению — кукурузная мука (пудинг или каша) с медом или патокой — молоко — овощной или рыбный супы и хлебные запеканки. Я прибегаю к обильному обеду один раз в день — в 12 или 2 часа — немного мяса или рыбы — два овоща — хлеб. Кофе поутру, когда встаю. Тарелку печеных фруктов вечером — очень мне подходит. Когда у меня гости — как можно реже — негостеприимная? — да, но физически не утомляюсь — тогда я готовлю целый день — если предварительно в предыдущий день не подготовила задел.
Да, мне не так давно показали репродукции фресок Матисса — честно, меня они не впечатлили совершенно, как и его последние картины — он непохож на себя, ибо болен и страдает от боли — но в прошлом году было 10–12 больших (цветных) рисунков, отличающихся большей, чем когда либо прежде, красотой, концентрацией и конечно линиями,
Два огромных интерьера Пикассо — на большой его выставке, все еще открытой — совершенно потрясающие — единственное, что пугает меня — хороший ли знак в том, что они — шедевры. Задаешься вопросом: были ли те шедевры, которые рисовали Гойя или Греко в пожилом возрасте, бесспорными шедеврами в глазах их современников. Его сын ни черта не делает — гоняет на мотоцикле или автомобиле — Пикассо пока не позволяет ему зарабатывать себе на жизнь, хотя Паоло показал себя вполне способным во время войны, работая в Красном Кресте в Швейцарии (он, разумеется, испанский подданный). Его отец, когда мать умоляла разрешить ему работать, сказал: Кто добытчик в этой семье? Паоло совсем умственно не отсталый, но с неустойчивым характером — легко поддается внушению и, сверх всего, обожает своего отца — иногда я, думаю, он плохо кончит — какой-нибудь ужасный несчастный случай. Его сын Паблито точная копия Пикассо, кажется не таким счастливым, каким должен бы быть. Я редко вижу его, но он очень хорошо ко мне относится — как и все друзья Гертруды. Кстати говоря, Пикассо сохранил юношескую привлекательность, не так заметную на последних фотографиях.
Довольно часто встречаю Мари Лорансен — она хочет чтобы я перевела для нее поэмы Эмили Динкинсон, а она — сделать к ним иллюстрации — определенно ее конек.
Всегда с любовью,
Элис.____________
Фернанде Пивано[139], Милан.
[4 июля 1950 г.]
улица Кристи, 5, Париж VI.
День Независимости.
Нанда, дорогая, Париж полон американцев — два миллиона — по меньшей мере — приходят ко мне — они надоедают и изматывают меня — хотя я принимаю только тех, кто был другом Гертруды и кого она хотела бы видеть, — они не должны бы мне наскучить — но несмотря на желание видеть их всех, некоторые наскучили бы и ей. Упоминала ли я когда-нибудь тебе — Гертруда собиралась дать объявление в «Нью-Йорк Геральд Трибюн»: Мисс Гертруда Стайн не желает видеть тех друзей, которых не видела более 15 лет.
Читала ли ты интервью с Хемингуэем в марте в «Нью Йоркер»? В нем содержатся странные откровения и разоблачения о себе и жене — частично объясненные мне Дженет Флэннер тем, что он смертельно болен. Новость эта почему-то расстроила меня. Не испытывая особой симпатии к нему, я болезненно воспринимаю сложившуюся ситуацию и тот ужас, которые достался на его долю. На земле и так чересчур много возмездия — куда приятнее чувствовать, если ни за что не надо расплачиваться.
Гертруде нравилось книга Sanctuary, но не понравились две последующие и она более не пыталась читать. Она не думала, что в Sanctuary заметно влияние ее творчества. Но я вижу ее заметное влияние (сознательно или несознательно) в Intruder (in the Dust)[140].
Торнтон собирается работать над американским романом (это секрет) о неосуществленной судьбе американской женщины.
Всегда с любовью к вам обоим,
Элис.____________
Карлу Ван Вехтену, Нью-Йорк.
[4 июля 1950 г.]
улица Кристин, 5, Париж VI.
День Независимости.
Дорогой папа Вуджюмс!
Умираю, как хочу видеть книгу Лео — письма — статьи — и т. д. Конечно, он упомянет Малышку на каждой странице, так же как она искренне отрицала в 1936 наличие другого, кроме Майка, брата в Калифорнии, когда некий человек позвонил ей и сообщил, что только что видел ее брата в Италии. Она выбросила из головы и его и доставленное им горе настолько решительно, что он и оно больше не существовали. Я не представляла себе этого, пока не произошел один инцидент. Мы увидели его в 1919-м или 1920-м на Сен-Жермен де Пре, и я спросила, кому она кланяется. Она ответила одним словом (и довольно дружески) «Лео» и больше не произнесла о нем ни звука. В тот вечер она написала такое прекрасное эссе «Как она поклонилась своему брату». В нем она исторгла его и все то несчастное время, доставленное им. Потому я должна увидеть эту книгу, чтобы тоже выбросить его из своих мыслей — он заставил меня страдать. Можешь ли послать ее мне. Я прочту и немедленно верну заказным письмом. Масса любви Фане и тебе,
М. В.____________
Дональду Гэллапу, Нью Хейвен.
31 июля 1948 г.
Ля Реджи, Сей-эн-Септэн, Шер.
Дорогой Дональд!
Я получила письмо от Дж. М. Бринина с сообщением, что он пишет книгу о Г. С. — он предложил приехать в Париж в сентябре, чтобы встретиться со мной — спрашивает, готова ли я принять его. Помня его элегию на смерть Г. С., я спешно ответила, что не могу рекомендовать ему приезжать, если он рассчитывает на мою помощь — это вне моих возможностей, но если он приедет, я конечно же встречусь с ним — и отправила письмо. На следующее утро мне стало очевидно, что я не объяснила ему толком свою точку зрения, поэтому спешно написала ему опять. Маловероятно, что издатель даст совсем неизвестному критику аванс на критическую книгу о творчестве Г. С. — и если ему нужно то, чего от него хотят, он найдет всю необходимую информацию в Йельской библиотеке. Я написала ему и добавила, что если книга будет напоминать сборник отдельных эпизодов, я буду считать себя обязанной отказаться — я однажды так поступила и не повторю эксперимент. Для меня необходимо было знать, что из себя представляет его проект, книга не нуждается в моем одобрении, скорее разрешении Карла. Конечно, было бы лучше написать все соображения сразу, но все-таки второе письмо было послано всего лишь 24 часа спустя после первого.
Я прочла книгу Лео Стайна — кое-что в ней неприятно потревожило меня, но зато окончательно исторгло его из моей системы. Несколько бросающихся в глаза неточностей — не говоря уже о подсознательно неправильной интерпретации — но что можно ожидать от человека, чья первоначальная оценка людей столь резко отличается от поздней, в зависимости от того, кто и как льстил ему. И конечно предисловие Мейбл Уикс, переполнено ядом. Она хотела встретиться с Гертрудой в Нью-Йорке — более того, просила меня устроить ей встречу с Гертрудой — на что я ответила, что это вряд ли возможно. Когда я упомянула об этом Гертруде, та ответила просто: jamais de la vie[141]. Фотография, показывающая картины Матисса на Флерюс 27 — ошибка — они никогда там не были, а принадлежали Майку Стайну на улице Мадам, 58. Жаль, в книге нет фотографии Лео в ранние годы, когда у него была золотисто-рыжая борода, закрывавшая рот и подбородок, благодаря чему выделялась красивая верхняя часть его головы. Он принадлежал большинству — обычному большинству, с каким соотносила его Гертруда — печальному и ошибающемуся.
Моя бесконечная благодарность — признательность и любовь.
Элис.____________
Аннетт Розеншайн, Беркли, Калифорния.
5 августа 1950 г.
Ля Реджи, Сей-эн-Септэн, Шер.
Дорогая Аннетт!
Десять дней тому назад друзья по дороге в Зальцбург на концерт привезли меня сюда в своей машине и подберут меня через 4 недели на обратном пути в Париж. Этим избегаешь путешествия поездом и стояния в открытых проходах. Меня чересчур утомляют поездки по железной дороге — в самом деле, никогда больше не поеду. Два года назад с пуделем на коленях — он весит как шестилетний ребенок — я пыталась удержать равновесие с моими узлами в коридоре во время 5-часового возвращения в Париж. Поэтому путешествие в машине было дивным, место — просто чудо. Я договорилась с мадам Дебар, что остановлюсь у нее с оплатой — имея лишь рекомендацию от ее друга! Дом и обширное имение очаровательны. Мне выделена огромная кровать, гостиная с 6-ю окнами и дверь, выходящая в сад. Все владение окружено стеной, и я и Баскет можем бродить, не используя для него привязь. Очень хорошая еда, приготовленная моей весьма способной, умной и тактичной хозяйкой полностью дополняет комфорт, очарование и доброжелательность Реджи.
Перед отъездом из Парижа позвонила Рубина и сообщила, что ее с судебное дело против Аллана близится к успешному завершению, но, к моему удивлению и шоку, сказала, что она больше не ищет развода, а только юридически оформленного разъединения — что дает Аллану права на совместное воспитание детей. Она не объяснила, чем вызвано изменение ее позиции.
Любопытная история о Матиссе. Еженедельники регулярно извещали о фресках, которые Матисс разрабатывал на бумаге для монастыря около Ванса, на юге Франции. Отец Кутюрье, толковый доминиканский монах — должен был уговорить le cher maître предпринять этот проект ради Церкви. В течение многих лет Матисс не практиковал католицизм. Когда все привыкли к его появлению в церкви, распространился слух, что он стал коммунистом. Поскольку обе эти вещи не совместимы, многие были шокированы и удивлены — хотел ли он этим сказать, что отдаст свою, возможно последнюю работу Церкви, не веря в оную? Всем прожужжали уши, пока с юга не вернулась Ольга Пикассо, где она повстречалась с мадам Матисс, и та рассказала ей, что это она была мэром-коммунистом в небольшой деревушке, где жила, а не ее муж. Матиссы жили раздельно уже многие годы — у него русская женщина — секретарь — модель — домохозяйка — сиделка. Ты помнишь, что он дружил с русскими, начиная с Ольги Мерсон.
Знаешь ли ты, что любимый кузен Гертруды Джулиан Стайн из Балтимора женился на Роуз Эллен Хехт из Сан-Франциско — когда она осталась вдовой с двумя дочерями. Позднее она родила ему сына и через какое-то время овдовела опять. Сын — Джулиан-младший в Париже, занят в плане Маршалла со своей юной красивой интеллигентной (сверх модная ныне идея образовывать правительственных служащих, и т. д.) женой-южанкой. Она охвачена такими передовыми идеями, что лишена расовых предрассудков — хотя до сих пор в их очаровательном доме в Виль д’Авре я не встречала негров.
Возможно, Джуди этого не одобрила бы.
Всегда с любовью,
Элис.____________
Карл Ван Вехтен, Нью-Йорк.
27 сентября 1950 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Папа Вуджюмс!
Ты помнишь Ксавьера Фуркада, приятеля Джона [Бриона] — удивительного, замечательного — из Гарэ Монпарнас в тот день, когда мы вернулись из Шартра. Около двух недель тому назад он позвонил мне и сказал, что надеется встретиться со мной и рассказать мне нечто — спустя несколько вечеров он пришел. Он готовился основать литературный журнал вместе с опытным человеком — они искали материал — предпочтительно неопубликованный, на английском языке. Я им объяснила, что их выбор можно отнести к так называемым «трудным» — трудным возможно не только для читателей, но и для предполагаемого переводчика. Он сказал, что приведет своего редактора, и мы сможем все обговорить — что и сделал. На меня их план и метод реализации произвел впечатление. Деньги, видимо, обеспечит его семья — то есть его отец — которого Джон охарактеризовал как очень богатого. Я сделала несколько запросов и кажется он действительно весьма богат. Все это я выполнила, чтобы убедиться, что издание — серьезный литературный журнал — достаточно обеспечен финансово для осуществления их предложения — опубликовать с твоего согласия, серийно, «Миссис Рейнольдс». Оба знают творчество Малышки — мнение Ксавьера для меня не важно — и хотят нечто длинное — характерное по содержанию и по форме, непривычной для французов. Я ответила, что напишу тебе. Хочешь ли ты, чтобы они сделали формальный запрос именно к тебе? Ответь мне, не откладывая. Если ты согласишься, я попробую убедить мадам Сейльер — ты с ней не встречался во время твоего приезда сюда, в то время ее в городе не было — заняться переводом. Малышка считала ее перевод «Становления» замечательным.
Бриннин и его книга — он позвонил мне неделю назад, что прибыл в прошлый понедельник, а сегодня пришел ко мне. Я не придала значения тому, что он был заметно прочувствован, оказавшись в квартире Малышки — его романтизм отталкивает. Таким было первое впечатление, таким оно и осталось после последнего интервью в последний вечер. После чая он так и не пришел к чему-то определенному касательно своей книги — мне показалось необходимым повторить то, что я ему написала, и спросить, что он хотел от меня — где его вопросы — он ведь сказал, что принесет их — что он и сделал двумя днями позднее — тщетно — несерьезные и бесполезные для любого понимания творчества Малышки и даже ее характера. Что она думала о поэзии Аполлинера и почему не упомянула об этом в «Автобиографии». Затем он внезапно перешел к Лео и его книге, и это подлило масла в огонь. Тут должна сказать тебе, что он торжественно обещал не упоминать ни книгу, ни мнение Лео — никоим образом не защищать Малышку от атак Лео. Состоялся длинный спор, поскольку он считал, что это оттолкнет будущих читателей. Но я и в самом деле испытываю гордость, что убедила его не касаться Лео — это только ослабит и уменьшит эффект от его книги — найдется не так много читателей, которых он сможет убедить, что Лео был неправ. Тех, кто верит уверениям Лео, немного, но они пылкие адепты своего ошибочного героя — тех же, кто интересуется творчеством Малышки, множество — и к ним он и должен обратиться — и т. п. и т. п. и так без конца. В итоге, он уяснил все себе сам (это конечно, единственный способ убеждения). Я успокоилась, ибо проблемы с Лео следует избегать. Затем я уговорила его исключить из книги меня, потому что атмосфера в доме Малышки — дело частное — и если мое существование и повлияло как-то на ее творчество — оно было ничтожным даже по сравнению — к примеру — с окружающим пейзажем — и вообще может ли он указать, откуда и из каких внутренних источников он знает, как все было. Мы договорились, что мое имя нельзя исключить в связи с «Плейн Эдишн», но постараться игнорировать в других местах. Имела ленч в Le Bosse с человеком, которого мы знали, а затем на просмотр коллекции Кристиана Диора! Кучу благодарностей и любовь.
М. В.____________
Фернанде Пивано, Милан.
10 октября 1950 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая, милая Нанда!
Вчера пришла самая радостная весть из всех возможных — ничего подобного больше у меня не будет. Письмо Дональда Гэллапа, извещающее что издательство Йельского Университета с энтузиазмом (vous m’entendez)[142] опубликует все inedits Гертруды. Это превыше всего, о чем я могла мечтать. Я с трудом верила, что они возьмутся печатать одну, но не все, все, все. Меня всю переполнило от радости, ничто другое не казалось реальным. Они хотят первый том приготовить к марту и отпечатать в октябре 1951 г. Назначен и наблюдательный совет — Гэллап — Торнтон Уайлдер — Сазерленд с участием Карла Ван В.
Здесь только две вырезки о Хемингуэе — их было много — люди почему-то думают этим сделать мне приятное. Далеко не так — вся хемингуэевская легенда — а мы наблюдали, как он ее создавал и soigner[143] — на глазах разваливается на куски — самая трудновообразимая и жалкая история. Нынешнее крушение Хемингуэя — одолжу [это слово] из словаря самой великой из его жертв[144] — сопровождается чересчур огромной массой старобиблейских наказаний и служит успокоением и наградой для живущих. Но именно этого сам он и не делает — он безнадежно в 1890 — и не следует проклинать его и дальше[145]. Он приобрел как бы новый облик, но живет традициями Киплинга. Но достаточно об этом.
Так похоже на тебя — желать цветов Гертруде на 27-е. Я отправилась рано утром и сказала: вот цветы от меня и каждого из твоих друзей, так что твои цветы были и там. Я осталась на весь день, а на следующий друзья отвезли меня за город, где я отдыхала пять недель, и даже сейчас чувствую себя не так усталой, чем прежде и не так опасаюсь прихода зимы. Большое и теплое спасибо за твою память о Гертруде, ты их выказывала и тогда и всегда
Шлю тебе mille tendresses[146] и свою преданность,
Элис.____________
Марк Лутц, Филадельфия[147].
[? Ноября 1950 г.]
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Марк!
Так любезно с твоей стороны написать мне и прислать вырезки о коллекции сестер Коун. Они заинтересовали меня необыкновенно — так много известно мне с ранних лет о двух сестрах и покупке картин Доктором Кларибель. К слову сказать, они куда интереснее сами, чем их коллекция — отношения между двумя сестрами — их заметно разные характеры — поступки — вкусы — истинно привлекательный сюжет — готовый для Генри Джеймса — не меньше. И даже в газетной вырезке о коллекции мисс Этты (как ее всегда звали в благопристойной балтиморской манере) вкралось нечто об ее поразительной — колоссальной — личности. Я полагаю, самые важные покупки совершила доктор Кларибель — произошло это до 1928–1929, когда она умерла.
Кстати, если тебе когда либо придется взглянуть на эту коллекцию, посмотрите на очень раннюю Мари Лорансен (1912?) — она на картине с Гийомом Аполлинером — Пикассо — Фернандой Бельвали (Оливье) и белой собакой. Пожалуйста, не шлите мне каталог. Я в таком возрасте, что уничтожаю бумаги, а не собираю их. Но очень благодарна за вырезки.
Всегда с нежностью,
Элис.____________
Луиз Тэйлор, Англия.
23 января 1951 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Луиз!
На прошлой неделе, внезапно, но не неожиданно умер Аллан Стайн — многие из моих прежних тревог оказались излишними — столь много пустых усилий оказаться провидцем и предусмотрительной. Если помнишь, прошло много времени с тех, как я его видела.
В прошлый раз, когда я посоветовала юристу принять последнюю меру предосторожности, я сказала, что она возможно и не понадобится, поскольку намерена пережить его. Он ответил заученно как артист на сцене — я надеюсь на это мисс Токлас — я искренне надеюсь на это!!! Писала ли я тебе, что получила несколько очень приятных строк от Питера Хейдена. Когда сейчас искала его адрес, то не нашла, он был вероятно на конверте, который Габриэль присвоила из-за марки — поэтому возьми на себя труд и передай ему мою признательность. Не слушай побасенки Фрэнсиса. Я не знакома с послом с того времени, как старик Буллит ушел — было в этом мало чести. Сейчас должна отправляться в постель, иначе толку не будет.
С любовью,
Элис.____________
Луиз Тейлор, Англия.
11 февраля 1951 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Луиз!
В спешке пару строчек — во-первых, массу благодарностей за возможность ознакомиться с поваренными книгами твоей матери и попросить прощения за то, что отослала обратно, не поблагодарив. Я получила от них большое удовольствие — та, которая мне больше всех понравилась, содержит наиболее экстравагантные рецепты — позволить себе хоть один из них невозможно, но это делает чтение более романтичным и захватывающим. Рецепты эти подали мне идею для моих собственных робких попыток. Вот поваренная книга, которую следует прочесть! Что скажешь?
Рубина Стайн, жена Аллана — в лапах юристов — он, похоже, оставил успешный бизнес и колоссальный долг. Теперь ей предстоит выправлять ситуацию — имея на руках двух малолетних детей, что на удивление является отягчающим обстоятельством с точки зрения французского законодательства. Я сопровождаю ее утром в дом правосудия в Севре, а вечером выслушиваю ее печальную историю и избегаю давать совет. Она в порядке — честная и благородная — но меня ее дела не интересуют, я буду с ней видеться только в случае необходимости.
Ты — ангел, предлагая мне приехать в Ривьеру — предложение становится все более заманчивым, но этому легче противиться — я всегда находила привычку сопротивляться искушению удобней, чем привычку уступать ему — более практичная и не требует проявления инициативы! Быть целиком свободной от всяких треволнений — жизнь медузы как раз для меня.
Элис.____________
Аннетт Розеншайн, Беркли, Калифорния.
8 марта 1951 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Аннетт!
Совершенно неожиданно друзья, направляющиеся на юг в своем автомобиле, предложили мне отправиться с ними. Когда уезжали, стоял крепкий мороз — после Лиона в небе полная луна — на следующий день — среди цветущего миндаля и мимозы. Три дня на Антибах с открытыми окнами — с кровати видно море — визит в музей Пикассо посмотреть его картины — истинная причина моей поездки — несравнимое великолепие — посещение Ванса и часовни Корбюзье, для которой Матисс задумал и зарисовал плитки, покрывающие стены — долгий, радостно проведенный день с Пикассо — его новые картины — новая жена (?) и новые дети. Два дня в Провансе, который мы с Гертрудой хорошо знали и так любили. Затем обратно, по снегу, в Париж — это был благословенный перерыв в скучной, мрачной зиме и хотя здесь холод — в воздухе запахло весной — она на пороге.
Знаешь ли ты, что в Йельском музее, в Америке, устроена выставка картин, прежде принадлежащих Гертруде[148]. Самый важный экспонат, конечно, портрет Гертруды работы Пикассо, одолженный музеем Метрополитен. Иллюстрированный каталог содержит историю ул. Флерюс, 27 с тех времен, когда ты впервые ее посетила. Великолепное предисловие и комментарии — почти как учебник. (Кстати говоря, Гарриет и я приехали в сентябре 1907, а не следующей весной)
Ну, а теперь я должна рассказать тебе о женщинах, которые тебя интересуют. Вначале о Мейбл Уикс, поскольку тут все очень коротко. Она была одной из трех или четырех близких подруг в Нью-Йорке, с которыми Гертруда проводила время, когда наезжала туда из Рэдклиффа, а позже из Джонса Гопкинса. Затем она познакомилась с Лео и все трое вместе с дядей Гертруды, скульптором из Балтимора, отправились за границу. Когда Лео поссорился с Гертрудой из-за его оценки творчества Гертруды и живописи Пикассо, он отправился в Италию. Мейбл внезапно приняла точку зрения Лео и прежняя близость с Гертрудой испарилась.
О Ситуэллах — Эдит была страстной поклонницей Гертруды, поместила статью в английском журнале о сборнике «География и Пьесы» и приехала в Париж встретиться с ней. У них сложились теплые дружеские отношения, продолжавшиеся около 10 лет. По ее настоянию. Гертруда читала лекции в Оксфорде и Кембридже. Со временем мы встретились с двумя ее братьями. Сачеверелл — младший, менее интересный и менее одаренный, и Осберт — весьма приятный. Однажды мы пригласили ее на ленч и появился Павлик Челищев. После ленча они оба отправились вместе и в течение многих лет мы их не видели. У них была бурная любовь — Эдит возможно до сих пор его любит. В течение долгих лет они писали друг другу ежедневные письма и оба обещали передать свои письма, запечатанные, разумеется, библиотеке Йельского университета, и не подлежащие открытию до 2000-го года. Я говорю, что Эдит переступит запрет на вскрытие писем (продолжение в следующем письме). Что мы за сплетницы!
Будь здорова.
Всегда с любовью,
Элис.____________
Карлу Ван Вехтену, Нью-Йорк.
28 марта 1951 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
К моему большому облегчению пришло твое письмо, мне не нравятся все эти простуды, к которым ты снисходительно относишься. Не можешь разве избежать их, принимая меры предосторожности, прежде чем появляться в опасных местах — трамваях, поездах, автобусах, театрах, кино и т. д. — а лучше вообще избегать появления там. Малышка научила меня как. Она успешно предохранила себя в 1917, когда занималась эвакуацией больных испанским гриппом. Обязательно прими что-нибудь — любое средство — чтобы вылечиться или предохранить себя от простуд. Они ужасно ослабляют. Думаешь, я примирюсь с еще одним месяцем молчания? Нет, сэр — не примирюсь.
Касательно Йельского фонда — давай будем его звать так. У меня есть план — продать картины, но пока еще рано этим заниматься. Я жду, пока жена Аллана вместе с Дэнни Стайном — старшим сыном Аллана [от первого брака] — он уже взрослый и неизменно нуждается в деньгах — начнут таскать каштаны из огня. Как только услышу, что она с ним договорилась, я немедленно открою дело со своим юристом — потом с ней, как с попечителем двух малолетних детей — потом с По, кто сможет оседлать Дэнни — et vous — останется только осуществить мою долго вынашиваемую маленькую мечту о продаже en Ыос[149] какому-нибудь музею, чтобы коллекция Малышки не разошлась по свету. Это единственная задача, решение которой облегчила смерть Аллана.
Мама Вуджюмс.____________
Дональду Гэллапу, Нью Хейвен.
29 апреля 1951 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Дональд!
Наконец прибыло «Становление американцев». Вы написали замечательный комментарий — необычайно интересный. Эпизод с МакЭлмоном приведен со всеми раздражающими деталями — он все время безответственно пил (Хемингуэй сказал о нем: тяжко наблюдать, как твой издатель пропивает твой гонорар) — усилия Джейн Хип довольно свежи в моей памяти, но письма Хемингуэя оказались приятным сюрпризом — его преданность в то время была неоспоримой. И еще есть один момент, неожиданный для меня — и только вы можете его разъяснить. Что было добавлено в 1911? На моей памяти Гертруда писала непрерывно до тех пор, пора не закончила его. Рукопись, которая поначалу печаталась на машинке Yetta von Blickensdorf или Henriette de Dactyle, я перепечатывала на большой машинке и сравнялась с Гертрудой, так что день за днем я печатала новый текст. Затем умер Дэйвид[150] и в тот день мы отправились навестить Милдред Олдрич. Гертруда поделилась со мной, что прошлой ночью она убила своего героя, а Милдред, бывшая до войны очень эмоциональной, воскликнула: «О, Гертруда, как ты могла» — но возможно, я уже рассказывала вам все это, в таком случае простите. Тогда Гертруда написала «мертвый есть мертвый» и все было закончено — это я помню — так что вы должны мне рассказать, что было добавлено в 1911 году.
Теперь я должна вам поведать о Клэр Голль и ее письмах к Рильке и рукописях. Знаете ли вы ее — она поэтесса(?), вдова поэта(?) Ивана Голля. Во время оккупации они уехали в США и приняли американское гражданство. Почему они вернулись, мне неизвестно, но он умер год тому назад, а она жива. Смутно помню ее у Натали Барни — она и ее муж были хорошо знакомы с Рильке, у них большое количество его писем и несколько неопубликованных поэм. Она хочет отправить их в Америку — спрашивала меня о Гарварде — я же говорила о Йеле. Она живет эмоциями — то хочет их отдать — то продать — то отдать после своей смерти. Но ее можно уговорить на любой из этих вариантов, и если Йейлу это интересно, возможно, стоит принять решение прежде, чем кто-нибудь другой дотянется до нее. Она ожидает услышать от вас. Ее адрес: Madame Claire Goll, Hotel du Palais d’Orsay-Quai d’Orsay. Ей легко польстить по любому вопросу.
У нас были чудные весенние дни — четыре-пять — но сейчас опять уныло, темно и пасмурно. Еще раз спасибо, дорогой Дональд — за многое.
С любовью,
Элис.____________
Фернанде Пивано, Милан.
9 августа 1951 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Нанда, дорогая!
О книгах Фитцджеральда — прежде чем писать предисловие к роману «По эту сторону рая», ты должна прочесть эссе «Крушение» под редакцией Эдмунда Уилсона, опубликованное вскоре после его смерти (1941?), содержащее письма и статьи (одно — Гертруды), высоко оценивающих его творчество и много, много его собственных чудесных писем. Ты знаешь, конечно, что в прошлом году в США опять возрос огромный интерес к Ф. С. Ф. Одна книга — скабрезный роман, который я не видела и видеть не хочу, написана человеком по имени Шульберг, другая — благоприятная, под названием «Далекая сторона рая» — Майзенером[151] — и эту тебе обязательно надо прочесть. Я ее не видела, иначе естественно послала бы тебе. Конечно, я расскажу, что помню, но немногое, ибо видели мы его с полдюжины раз. И ты наверняка знаешь историю Фитцджеральда и Хемингуэя. В Париже живет американка по имени Эстер Артур (жена внука одного из наших президентов), которая до замужества с ним была женой Джона Стрэйчи, английского министра и (она) очень политически настроена, но близко была знакома с Фитцджеральдом; хотя знаю ее очень мало, она бы с радостью согласилась поговорить с тобой о Фитцджеральде. «Ночь нежна» в основном о Фитцджеральдах, когда они жили у брата Эстер Артур. И Торнтон знал Фитцджеральда, когда тот вернулся из Франции и провел странный уикенд с ним в Делавере.
(Entrenous[152] рассказы Фитцджеральда очень неудачны, вот почему я не могу ничего о писать о них, только о нем самом).
Мои самые теплые пожелания вам обоим,
Элис.____________
Карлу Ван Вехтену, Нью-Йорк.
27 ноября 1951 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой папа Вуджюмс!
Если от меня не было никаких вестей после того, как ушла Габриэль, то только потому, что у меня было столь много работы, что поначалу не было даже времени искать femme de ménage — дважды были гости, нездоров Баскет, и если не звонил телефон, то звонил дверной звонок. Но сейчас приходит чудесная женщина и делает всю тяжелую работу и все более-менее в порядке. Габриэль была аккуратна, но ужасно не организована. Надо было многое привести в порядок, но теперь с удовлетворением смотрю в будущее, когда появится время заняться другими делами.
На днях в автобусе увидела даму в тончайших, удивительно красивых канареечного цвета перчатках — она казалась знакомой — подошла и уселась рядом со мной и говорит: «Вы меня не узнаете, я — Мерседес д’Акоста». Она превратилась в буржуазного вида даму, приятного среднего возраста, пообещала навестить меня. Несколько дней тому назад позвонила и сказала, что, она, Сесиль [Битон] и Грета Гарбо накануне звонили в дверной звонок несколько раз, но никто не ответил (Баскет и я нуждаемся в более громком звонке) и не могут ли они прийти прямо сейчас. И пришли. Сесиль — всклокоченный, усталый, влюбленный — она [Гарбо] немного робкая, похожая на студентку колледжа Вассар — непретенциозная, но с опасным складом ума. Она спросила у меня просто и откровенно — Знали ли вы месье Воллара, был ли он интересным человеком — большой charmeur — был ли он соблазнителем. Она была разочарована как юная девица, мечтавшая о любовном свидании. Объясни мне ее. Она не была загадочной, но у меня нет ответа. Французские газеты сплетничают что они [Битон и Гарбо] женаты — но она не повела бы себя подобным образом — неприкрыто, невинно. Expliquez moi[153] как обычно обращался Пабло к Малышке.
Ты приедешь, если они поставят «Четверо святых»?
Любовь, любовь и еще раз любовь от
М. В.____________
Сэмюэлу Стюарду, Чикаго.
30 января 1952 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Сэм!
Не так уж много новостей. Макс Уайт, твой большой поклонник, отправился в Испанию ранним летом и чувствовал себя счастливым. Она притягивает его, как и двадцать лет тому назад, он бы остался там на неопределенный срок, если бы серьезная болезнь матери не вынудила вернуться. Он был здесь очень короткое время. Он неповторим. Чета Напик относится ко мне ангельски. Вирджиния как всегда прекрасна и очень хорошо — ты удивишься — занимается переплетом книг — она берет уроки прямо за углом и придет навестить меня этим вечером. Фрэнсис [Роуз] занят важной работой — в конце лета жил недалеко от Венеции, а сейчас в Кесси. Он сдает свою меблированную квартиру и живет на эти деньги и, хоть немного, но продает свои картины. Конечно, хороший признак, что не всякий покупает их бездумно — но обескураживает. Его личная жизнь смахивает на более фантастическую, чем прежде. Если бы Гленуэй Уэскотт был бы более полезным — bien, но как литературный судья он — ад. Он сочиняет претенциозные, воображаемые, высокопарные письма любому и каждому. Я видела парочку и понимаю так: он надеется, что их сохранят и опубликуют еще при его жизни. В течение 30 лет он прилагает неустанные усилия, чтобы стать — он верит — самым совершенным человеком в мире. И тем не менее, он написал очень хороший старомодный роман (в традиции У. Д. Хоуэллса!).
Помнишь ли ты пейзаж Доры Маар — она прошлым летом нарисовала три восхитительных пейзажа, и еще более восхитительные натюрморты. Дважды видела я Фернанду Оливье — по прошествии 40 лет. Она не изменилась, разве что физически — она полностью сокрушена. И они привели мне Грету Гарбо. И со многими моими ответами на вопросы о ее друзьях mystere c’est devoilee[154]. Она не так интересна — но даже без макияжа ей дашь не больше 36 лет.
С любовью,
Элис.____________
Дональд Сазерленд, Боулдер, Колорадо.
7 апреля 1952 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Дональд!
Наконец-то после многих недостоверных обещаний «Четверо Святых» будут идти в АНТА в течение двух недель и приезжает сюда для двух представлений на музыкальном и художественном фестивалях в конце следующего месяца. Вирджил репетирует с певцами (неграми) и оркестром, которым будет дирижировать и там и здесь. Мне рассказывают, что постановка будет более тщательной, чем первоначальная. Жаль, ибо мисс Стетхеймер соединила целлофан и шелковый вельвет — замечательная экономия, а Фредди Эштон поставил фантастичные танцы и религиозное шествие. Эти вещи теперь никто не знает. Французское радио сделало передачу о творчестве Гертруды и опере — Вирджил и Жан Кокто должны провести беседу перед представлением
Из Австрии привозят «Воццека»[155], друзья позвали послушать. Деяния Европы оставляют меня холодной — особенно после того, как выбросили за борт Рильке. Честно говоря, предпочла бы концерт Бостонского оркестра!
Дело Бернара [Фая] меня беспокоит — здоровье его крайне плохое — финансы в плачевном состоянии — у него есть разрешение на проживание, но запрещено зарабатывать на жизнь. Примут ли его прежние издатели? Если необходимые sous[156] подоспеют, появится искушение навестить его в длинный уикенд.
Спасибо за время, потраченное для объяснения мне греческих слов и как разбираться в них самих — это делает вас идеальны учителем. Кстати говоря, в рекламе Oedipus [Rex] Стравинского говорится, что драму перевел на средневековый латинский язык месье Жан Даниэлу, а уж затем Жан Кокто перевел его на французский — вот уж русский винегрет с piquante соусом!
Да, шокирующее обстоятельство, когда всякий, кроме их авторов, делает деньги на книгах, которые будут жить — Гертруду это не удивляло, куда больше удивляло число людей, которым удается немного заработать, потому что книгу кто-то должен писать. Это справедливо и в случае книг доктора Уайтхеда. Он жил только на свою зарплату и позднее на двух пенсиях.
Да, пикассовские ощущения объемности, пространства света рождаются вместе с его объектом и материалом и однажды он сказал, что этот факт — он воспринимает его естественно — оберегает его от необходимости решать эти проблемы. У него опять все в порядке. У Франсуазы Жило выставка, но я избегаю ее посещения — хотя редко встречаюсь с Пикассо, будет пагубным встретиться с ним, обозревая ее картины.
С глубокой любовью к вам обоим,
Элис.____________
Дональду Сазерленду, Боулдер, Колорадо.
6 августа 1952 г.
26 бис, улица Луи-Периссоль,
Канны, Приморские Альпы.
Дорогой Дональд!
Два месяца прошло с твоего первого письма — второе ожидало меня по возвращению из Испании; эстетика «Илиады», которая ускользала от меня в нескольких местах, существенно прояснилась. Здешняя жара угнетала меня несколько дней. Вчера я перечитала вступление — кладезь для понимания и объяснения не только «Илиады», но живописи и литературы. Ты так объяснил геометрическую абстракцию, что раздельные элементы в натюрмортах Пикассо слились в единый поток и воспринимаются как лирическая поэзия — однако остались при этом реалистическими и геометрическими. Далее — то, что ты говоришь о малой значимости глагола и важности существительного в англоязычной литературе, объясняет язык Гертруды. Твое объяснение танца и искусства движения это то, что Гертруда открыла в пешем марафоне, увиденным в Чикаго. И это двойное достоинство Святой Терезы, что привлекло Гертруду, но смутно мною понимаемое — из-за присущей мне несообразительности — в тот замечательный день, проведенный в Авиле, где Г. и ее святой были явью и рядом. Почти на каждой странице есть нечто, что служит объяснением к Гертруде. Интерес Гомера к насилию и величию жизни и смерти (то же и у Пикассо) — его мораль — основаны на благородном поведении и повторении во времени. Тысячу раз жаль, что ты не обсуждал это с Г., это доставило бы ей огромное удовольствие. Если это только вступление, то какую огромную важность приобретет твой законченный труд.
Совершенно неожиданно супруги Бэрри пригласили меня провести с ними большую часть прошлого месяца в поездке по Испании — вниз по средиземноморскому побережью до Мурсии — через Гранаду к Малаге и Кадису — и вглубь страны, к Кордобе, Севилье, вслед Толедо, Мадрид, Эскориал, Сеговия — Авила, Бургос, Вальядолид. Общую панораму, картины и несколько церквей — вот, что я хотела посмотреть и посмотрела. Бесконечный Эль Греко из частных коллекций, не виденный нами прежде, и Сурбаран (его Дева Мария находится в Метрополитен — посмотришь, когда опять окажешься в Нью-Йорке) — Гойя уже не привлек моего внимания. На пути вниз мы остановились взглянуть на Собор Алби (получил ли ты открытку оттуда — она отражает суть Испании), на обратном пути остановились в Баоне посмотреть две последние картины Гойя и обнаружили невероятного Энгра — особенно скульптуру руки, пещерные рисунки в Ласко, удивительно пост-сезановские — пропустила их в Альмерии. В следующем году, буду жива, любыми средствами, но посещу Кастилию.
А сейчас я нахожусь в Средиземноморье, в самом обычном и малоприятном месте на французском побережье, но устроилась прилично с подходящими друзьями. Гарольд Напик, композитор, целый день за пианино — он оставался бы там постоянно, если бы не готовил еду, а делает он это очень хорошо. Дом расположен на границе коммунистического, рабочего района и, тем не менее, рядом с великолепными — рыбным
— фруктовым — овощным — и цветочным базарами — насколько мне удалось в них углубиться. Но прежде, чем вернуться в Париж в конце месяца, я намерена посмотреть Пикассо в Валлорисе.
____________
Карлу Ван Вехтену, Нью-Йорк.
24 ноября 1952 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой папа Вуджюмс!
Баскета больше нет — он умер сегодня, совсем внезапно у ветеринара — у него был ужасный приступ в пятницу вечером. На следующий день утром я взяла его к ветеринару, тот нашел его состояние серьезным, но вчера ему стало лучше, он ел трижды в тот день — и затем свалился — боли после пятницы вечером он не испытывал. Его смерть выбила меня из колеи — через некоторое время я поняла, как многое он для меня значил, и потому начинается жизнь без единой души рядом до конца отведенных мне дней.
Работа с Катцем[157] интересна и отвлекает, заметки куда полнее по содержанию, чем я ожидала — я видела только те, которые были сделаны в связи с диаграммами — которые, возможно, лишь двадцатая часть всех записей. После того, как на все вопросы будут получены ответы — только десятая часть отвечена за 4 сеанса — он даст мне ознакомиться со всем материалом. Катц встречался с Фрэнсисом Роузом и сделал копии со всех писем от Малышки.
Как только я обнаружила, что вопрос о немедленной публикации не стоит, даже дата была очень неопределенной, мои ответы и увертки (!) приобрели более прозрачный фон, который придется тебе по вкусу. Предполагается, что работа Катца не будет доступна даже студентам в течение очень значительного периода. Сначала я повторяла: не для книги, только для вас — пока Катц не сказал, что вопрос о немедленной публикации не стоит. Катц очень приятный — воспитанный, чуткий и дружески настроенный. Я попросила его сходить со мной на концерт, где должны были играть Физдейл и Голд. Играли они в целом ангельски и были очень общительны. Они играли Сати, как никто прежде — Стравинского как целый оркестр, Бизе вкусно. Я послала им несколько строк, прося снова навестить меня, если у них есть время. Я только собралась отнести им письмо на почту, как пришли их отличные фотографии [сделанные тобой]. Тогда на обороте конверта я приписала для них пару строчек. Ты замечательно ухватил пульсирующую чувствительность. Бесспорно, ты — единственный человек, кто в состоянии выразить красоту и боль юности. Тебе нужно устроить выставку портретов молодых людей. Дай знать без промедления, если ты в процессе устройства таковой.
Любовь, любовь, любовь,
М. В.____________
Сэмюэлу Стюарду, Чикаго.
19 декабря 1952 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Сэм, дорогой!
О Фрэнсисе — история разворачивается как может произойти только у него. Фредерику втянули в историю по материальным и практическим причинам — никакой уверенности, что Фрэнсис — отец ребенка. С ее разрешения Фрэнсис признал его, объявив его на время французом — но когда мальчик Л. станет совершеннолетним? Фрэнсис хочет, чтобы он взял испанское гражданство и смог унаследовать испанские титулы, которые сам Фрэнсис унаследовал от бабушки! Можешь ли ты представить себе подобное. Бернар говорит — Кто-нибудь уверен в отцовстве? Действительно ли нынешний легальный отец — его отец, а его мать — его мать! Можем мы задать один главный вопрос — только один, который меня интересует: когда, в течение всей этой истории, Фрэнсис узнал, что мальчик его сын — с самого начала — после — попросту говоря, когда — вы знаете? У Фредерики есть такая возможность, но в Лондоне у нее была операция и она хочет держать Фрэнсиса по эту сторону канала, чтобы она могла спокойно выздоравливать. В этом заключается трудность моей задачи, но где же на юге болтается Фрэнсис? Надо его найти и не вызывая подозрений держать там, где он есть. Если бы он был здесь, я смогла бы угрозами выяснить, но писать такого сорта вещи! Странно заниматься такими делами в моем возрасте.
Ты знал, не правда ли, что Дора Маар делала мой портрет. Так вот она кончила его и несколько дней тому назад принесла. И теперь вопрос, где его повесить. Конечно, я не потревожу картины, повешенные Гертрудой, А это значит, что Фрэнсис отправляется с зеркала назад, к двери на левую сторону от камина, где первоначально и висел, портрет займет его место на зеркале. Что же Фрэнсис скажет? Но, кажется, другого решения и нет.
Не так уж холодно, но влажно, как обычно — дни становятся длиннее, но незаметно — моя femme de ménage говорит: они удлиняются с полуночи. Французы такие оригиналы! Когда однажды я заметила Жанне Рупле, что в году 13 месяцев, она ответила: «Не во Франции!».
Сэм дорогой — желаю тебе доброго, счастливого года — хорошей работы — вся моя благодарность и любовь.
Преданно,
Элис.____________
Дональду Сазерленду, Боулдер, Колорадо.
8 января 1953 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Дональд!
Прошло два месяца с твоего первого письма. Всегда думаю о тебе — с большой любовью и глубокой благодарностью. Очень много трудностей возникает, чтобы справиться с бестолковой ситуацией, в которую крайний холод — вышедшее из строя водоснабжение — и электричество ставят человека, и унизительно признаваться в своей полной несостоятельности. Не нужно говорить, что при хорошей погоде все будет по-другому — просто придет ли. В любом случае писать тебе — замечательное отдохновение и ты простишь мою жалобу, когда увидишь, как быстро сможешь от нее избавишься.
Начинать следует с того, что я влипла в серьезную неприятность, связавшись с приятным человеком по имени Леон Катц, который появился с записями Гертруды 1906–1918 — 400 машинописных страниц — в основном «Становление американцев», но также включающих Many Many Women — A Long Gay-Book[158] и ранние портреты. У него есть разрешение Ван Вехтена и библиотеки Йейла работать с ними. Некоторые из замечаний колоссальны — Гертруда выражается абсолютно четко
— легко и с блеском, чего обычно избегала. Катц — очень деликатный человек, с даром следователя, подсказывая ответы на вопросы, которые сам и задавал, сверяясь с рукописью — строчку за строчкой — слово за словом. Вроде бы хорошо. Но в рукописи наметки портретов тех людей, которые станут действующими лицами, и ее всестороннее изучение двух основных групп характеров. Пока тоже хорошо, достаточно для Катца. Но Гертруда — наедине с собой и прототипами ее характеров и портретов — может показаться откровенной, что делает конфиденциальность зыбкой. Карл и Гэллап спешно просмотрели записи после того, как Катц скопировал их с их разрешения и так же, как и мистер Уилсон в 1916–1917 гг., были удивлены, узнав с какой тщательностью Гертруда описала людей, не только которых знала — друзей — Лео — Сару Стайн — но и себя. Ван В. и Гэллап сказали, что Катц может продолжать — он получил стипендию от фонда Форда к тому времен — при условии, что как только книга будет закончена, запечатанная рукопись будет помещена в Библиотеку Йела, а публикация книги — на ее усмотрение. Катц появился у меня, чтобы я указала ему имена, места, даты — все это было похоже на откапывание скелетов. Были вопросы, доставившие мне беспокойство — на такие вопросы обычно отказываешься, как на допросе в ФБР. Теперь ты поймешь, что движет моей озабоченностью увидеть эти записи, лишь малой часть которых Гертруда мне показывала. Ничего, абсолютно ничего не может меня остановить. Вся история не ограничивается моей дилеммой. Утрясется сама собой. Но настоящий вопрос — что собиралась Гертруда сделать с этими записями в будущем. Она отправила их в Йельский университет вместе с рукописями. Они были в связке и лежали забытыми в течение 30 лет и скорее всего она никогда их не перечитывала. Забыла их, как забыла и Q. Е. D. (Things As They Are), как забыла Лео, (Она сказала одному человеку, который сообщил, что недавно видел ее брата во Флоренции — Нет, мой брат живет в Калифорнии. У меня только один брат и живет он в Калифорнии. Когда этот человек ушел я спросила ее, почему она отрицала существование Лео. «О, Лео! — ответила она. — Я забыла его навсегда»). Ну и о Q. Е. D. — Хаас, который недавно был здесь, рассказал, что когда написал ей и спросил, следует ли включить эту [новеллу] в библиографию, Гертруда ответила: «Нет». И тем не менее, Карл ее напечатал. Следует ли из этого предположить, что и эти записи должны быть опубликованы? И еще вопрос об этих заметках, который Пабло назвал цветочками по сравнению с той бомбой, которую К. Ван В. взорвал в предыдущем письме. «Не будет ли — спрашивает он — лучше, если Катц напишет предисловие к тому поэзии, намеченному к публикации в 1954 г.». Полностью обескураженная, я тут же ответила, что в моем понимании, окончательно решено, что ты подготовишь предисловие к тому поэзии, что Катц никоим образом не подготовлен для него — его период простирается до 20-го года, таково и его мнение. Абсурдно держать меня в неведении — поднять какой-нибудь вопрос и затем впасть в длительно молчание. Надеюсь, ты поймешь, что все, мною высказанное, не означает, что я ищу у тебя симпатии, совета или успокоения. Если тебе докучило разбираться во всей этой истории, прости меня. Хотя на самом деле, какое-нибудь энергичное слово могло бы меня подбодрить.
Касательно твоих привлекательных планов на это лето — нет ничего приятнее для меня, чем обсуждать их. Конечно, они не смогут отказать рекомендации Т. Уайлдера, хотя могут [отказать] без нее. Все эти фонды и гранты руководствуются высшим законом. [Фонд] Гуггенхайма отказал рекомендации Гертруды трижды и дважды Пабло. Т. У. относится к genre plus sérieux[159]. Так что ты и Гилберта должны появиться вскоре, то есть в начале лета.
Всегда с любовью к вам обоим,
Элис.____________
Карлу Ван Вехтену, Нью-Йорк.
24 апреля 1953 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Милейший и единственный Папа Вуджюмс!
Ты само сокровище, понимаешь, почему я не пишу чаще — трудность, связанная с окончанием поваренной книги, требует мучительных и не приносящих удовлетворения усилий. Голова моя пуста. Не должно было тянуться столь долго. Я корпела, полная отчаяния. Это не преувеличение. Доктор полагает, что мое выздоровление необычное для моего возраста. Новые анализы — кровь и т. п. — покажут (результаты станут известны сегодня) есть ли новые симптомы или последствия. Я становлюсь крепче.
Виделась с Джорджией О’Киффи. Она навестила меня, едва предупредив о приходе. Я нашла ее приятной во всех отношениях — редкой красоты и чистоты, как-то совершенно неожиданно. Мне она очень понравилась и я рада, что ты послал ее ко мне.
Касательно последних слов Малышки. Он спросила, очнувшись от сна: «Каков вопрос?» Я не ответила, полагая, что она еще полностью не проснулась. Тогда она спросила снова: «Каков вопрос?» и прежде чем я смогла ответить, продолжила: «Если нет вопроса, тогда нет и ответа». Она повернулась и опять уснула. Были ли эти слова подведением итогов жизни или возможно картиной будущего — часто именно так они мне представляются и служат успокоением.
М. В.____________
Аннетт Розеншайн, Беркли, Калифорния.
10 июля 1953 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Аннетт!
Рассказывала ли я тебе, что появился человек, работающий над объемистыми записями. Четыреста пятьдесят машинописных страниц, которые Гертруда подготовила в течение 1906–1914 годов во время работы над изучением характеров — что она называла глубинной натурой каждого вида. Они без преувеличения блестящи и безумно интересны. Я получила большое удовольствие, пройтись по ним вместе с Катцем. В этом месяце должна выйти из печати книга избранных писем к Гертруде. Мне только что прислали сигнальный экземпляр, который я прочла прошлой ночью. Оживают прежние дни, как всегда воспоминания наводят печаль, и в то же самое время ясно осознаешь — как хорошо, что они есть. Помнишь ли Макса Жакоба — он недавно говорил о том времени как о L’Age — Heroique[160] — было нечто героическое в их преданности своему творчеству. Бедный Макс умер от рук немцев — великомученик — святой и герой. Время от времени встречаю Пабло — он мой ближайший сосед, но редко появляется в Париже. Он приехал на выставку своих работ прошлого и частично этого годов. Его картины еще прекраснее, чем когда-либо — цвет в них несет чувственную прелесть, композиция и проще и сложнее — простая, более плавная по цветовой гамме и более сложная по форме. Было и несколько пейзажей, характерных свежестью и силой, которые только он может изобразить, но «Сидящая женщина» — лучшее из сделанного им. «Портрет Гертруды» был его первой великой картиной, и я надеюсь, что эта новая его картина не окажется его последней. Он энергичен и, наконец, вернул себе кое-что из прежней привлекательности, которую потерял в среднем возрасте. Он очень хорошо ко мне относится, но я его не беспокою. Он знает о моей искренней привязанности к нему все эти годы, и по-своему сохраняет au fond[161] преданность своим очень немногим старым друзьям.
Рубина стремится сделать своих детей американцами. Таково, по ее словам, было намерение Аллана. Они определенно не смогут адаптироваться к американскому образу жизни, не говоря уже о том, чтобы понять американскую ментальность. Майкл упрям, Мими — более гибкая и широких взглядов. Рубина попросила меня об одной услуге, чего я не могла позволить и с тех пор я не видела ее и вероятно не увижу, поскольку прошло уже много времени [с тех пор]. Она хорошая мать — по ее убеждению.
Да, Лео и Гертруда знали Глэди Дикон благодаря Беренсону, еще до ее замужества. Гертруда находила ее достаточно искренней, но неинтересной. Лео рассказал мне, что однажды на званом обеде она заявила — Стайн и я, единственные люди, у которых оказалось достаточно мужества, чтобы целиком преодолеть манеры, с которыми были рождены и воспитывались, и потому оказались в состоянии вести свободную, необремененную ничем жизнь.
С наилучшими пожеланиями, дорогая Аннетт.
Всегда с любовью,
Элис.____________
Дональду Гэллапу, Нью-Хейвен.
12 июля 1954 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Дональд!
Увидите в своих газетах нечто вроде шумихи, в которую мы все вовлечены в связи с требованием дочери Щукина отдать ей картины отца, выставленные советским правительством в Pensée Française. Но что вы, по-видимому, не знаете, что она также потребовала картину № 10[162] в каталоге, одну из десяти, ту, которая находится здесь [у Стайн]. Это длинная и узкая картина, которая висит в petit salon и на ней есть русские буквы. Это и есть причина, по которой она требует ее! Но есть Канвейлер, который будет свидетельствовать сегодня во второй половине дня, что он продал картину Гертруде в 1914, и картина никогда не покидала ее квартиру. На обратной стороне холста имеется печать: «Эта картина принадлежит наследственному имуществу Г. С.», которую я поставила на всех картинах, опасаясь, что Аллан силой заберет одну или несколько, чтобы продать для собственных нужд. Русские забрали картины Щ. в свое посольство чтобы защитить их — [мои] десять все еще здесь в Pensée Française и меня спросили, не желаю ли я забрать их. Канвейлер посоветовал не забирать. Если быстро последует положительное решение — что легко может произойти — выставка опять откроется.
Картины, вероятно, хорошо защищены двумя французскими законами — так утверждает мой адвокат — но решение может затянуться. Что за глупая мадам Щ. Де Келльнер! Вся история вызвала столько же ажиотажа, как и l’affaire Indo-Chine[163] — здесь в Париже. Не стоит говорить, каким рассудительным и эффективным оказался Канвейлер.
Позволив себе экстравагантность — [авторучку] Паркер 5 — я измучилась до смерти, используя ее — следует ли ее выбросить или необходимо предпринять нечто ужасное, чтобы привести ее в порядок? Должно быть придумано нечто лучшее, чем эта схватка. Приезжайте, как наметили. О, будет замечательно. Я припасу очень хорошую бутылку бренди. Приезжайте, пропустим по рюмочке.
С любовью дорогой Дональд,
Элис.____________
Аннетт Розеншайн, Беркли, Калифорния.
2 февраля 1955 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Аннетт!
Смерть Матисса вероятно вызвала в твоей памяти воспоминаний куда больше, чем у меня. Его здоровье в последние несколько лет было таким шатким, что известие о смерти не явилось шоком. Миссис Хаас, которая посетила меня несколько лет тому назад, только что прислала весточку, что она с приятельницей отдают портреты Майка и Сары в ваш музей искусства, чтобы они послужили отправной точкой для создания коллекции их памяти — замечательный и щедрый geste. Миссис Хаас вскоре будет в Париже, и я узнаю больше подробностей. Йельский литературный журнал The Yale Literary Magazine готовит специальный номер «Памяти Анри Матисса», деньги от которого предназначаются для студента-француза, обучающегося в Йейле. Среди людей, коих пригласили участвовать, есть и я. Меня попросили прислать воспоминания о раннем Матиссе. Они и в самом деле ранние, ибо я не видела его свыше тридцати лет. Он не одобрял кубизм Пикассо — было трудно найти соответствующий материал — в конце концов я собрала его достаточно и отослала, заметив, что они могут вырезать все, что найдут бесполезным.
Я думаю, что мадам Матисс еще жива — они развелись много лет тому назад. Она и [дочь] Марго были серьезно связаны с Сопротивлением и за несколько месяцев до освобождения были схвачены гестапо. Мадам Матисс отправили в тюрьму во Франции, а Марго — в Германию, откуда она вернулась в очень плохом состоянии. Мы встретились с ней на каком-то званом обеде, и позднее Гертруда отвезла их домой. Марго была очень симпатичной. Отличная физическая подготовка мадам Матисс была очевидной. Позднее она навестила меня и продемонстрировала свои героические усилия.
От вездесущей миссис Спригг я узнала о ее визите к тебе — она может писать, но может ли она читать? После встречи со мной, [выяснилось], что она прочла очень мало произведений Гертруды. Она — личность успешная, если принять ее стандарты.
Не ранее чем через два месяца «Харперс» даст отчет о продаже кулинарной книги — они пишут, что книга продается хорошо. Будет приятно, если это обеспечит двухмесячный отпуск — все пугающе дорого здесь, но правильно говорят: так обстоит дело во всем мире.
Читала ли ты книгу Луиса Бромфильда A Remedy for a Tired World[164]. Его видение не вдохновляет — но он весьма практичен и потому может сказать нечто, что подталкивает к чтению [его книг] — в течение многих лет он глубоко изучал, исключив все другое, проблему истощения фермерской земли в Соединенных Штатах.
Надеюсь, ты здорова и шлю тебе массу теплых и добрых пожеланий.
Всегда с любовью,
Элис.____________
Дональду Гэллапу, Нью-Хейвен.
13 February 1955 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Дональд!
Я не видела каталога выставки [сестер] Коун, но знаю большинство картин, у них имеющихся. The Blue Nude[165] висела над софой на улице Флерюс — при разделении картин она досталась Лео, который обменял ее (вместе с другими картинами) на Ренуара. Портрет Лео — ему подарок от Пикассо. При разделе Лео не хотел его (даже он был ему неприятен), поэтому портрет остался на улице де Флерюс, пока Гертруда не продала его сестрам Коун. Знаете, дядя Гертруды, Сол, когда она с Бертой[166] отправилась жить на Восточное побережье, хотел купить у нее фотографию ее бабушки (его матери) — Гертруда пришла в негодование: «Никто не продает фотографию своей бабушки». Если она и продала портрет брата, то ответила бы, что это совсем другое дело — и в самом деле, это было другое дело. Могла ли она надеяться его забыть, если он висел на стене. Кстати говоря, портрет был очень похож на него, таким он был, когда я его впервые увидела.
С глубочайшей любовью к вам — дорогой Дональд —
от Элис.____________
Луиз Тейлор, Англия.
24 февраля 1955 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дражайшая Луиз!
Вырезка о поведении Пикассо по отношению к Ольге меня шокировала. Статья довольно лживая и чтение ее в данный момент повергает меня в шок. Разреши мне изложить факты. Пикассо, да, оставил ее, но тому были вполне разумные причины. Им ни за что не следовало жениться — русский и испанский темпераменты совершенно противоположны, ничего общего. В итоге Пикассо не смог работать — она, бедняжка, не могла поверить, что не всякий чувствует себя, как чувствует русский. Он выделял очень щедрую сумму ей и ребенку для жизни. Она, конечно, была несчастлива, но и он был несчастлив. Гертруда и я поддерживали контакты с Пикассо и не встречались с Ольгой — пока однажды Гертруда не встретила ее на улице Дофен. Это случилось незадолго до смерти Гертруды. После этого Ольга как-то пришла ко мне и, хотя я по-прежнему чувствую, что Ольга повела себя глупо, меня переполняет к ней и печаль и жалость. Неверно, что они не встречались после разрыва, они виделись время от времени. Во время ее болезни, Пабло приходил, сидел с ней, нанимал крупных специалистов, настаивал на уходе профессиональными медсестрами и т. п. Портреты, где он нарисовал ее, выставлялись на выставках — разумеется, не на продажу, он хранил их, как и множество прочих своих картин. Мальчишка в Швейцарии вырос своевольным, необузданным. Пикассо не позволил бы ему зарабатывать себе на жизнь — у него не было особых талантов, за исключением разве подражания, если это считать талантом. Во время войны он вернулся в Швейцарию и работал волонтером в Красном Кресте; после войны ему там предложили оплачиваемую работу, но Пикассо ответил: «На хлеб для семьи зарабатываю я». Ольга и я встречались, о чем необходимо было известить П., что мы и сделали. Он ничего не сказал, а я повторила, что она стала для меня ангелом, когда я впервые оказалась одна. «Она — сказал П. — c’est bien elle[167] — если кто-то в ней нуждается, она тут же приходит на помощь». Когда франк девальвировался, он увеличивал пособие Ольге на гораздо большую, чем девальвация, сумму — и так каждый раз. Все последние годы она не пряталась, жила в самом лучшем maison de santé[168] в Каннах — очень шикарном — где он и Паоло ее навещали. В последние четыре года я отдыхала летом на юге и виделась с ней — приятное, хрупкое создание, прекрасные глаза — она носила красивые украшения — крупные усеянные камнями браслеты, подаренные, конечно, Пикассо. Последний раз я видела ее в октябре — опустошенную, но все еще прелестную, она была удовлетворена добрым отношением к ней Пикассо. Ее трагедия — типично русская трагедия. Сын водит отцовскую машину — единственное удовольствие в его жизни и П. поддерживает его в этом увлечении, ибо он не носится как угорелый, когда отец рядом — как поступил бы, будь он за рулем один. И у бедолаги П. нет никакого желания снова жениться. Статья утверждает, что он не может развестись, потому что Ольга принадлежит к греческой католической церкви, не разрешающей развод. Православная церковь не только признает развод, но и ее служители женятся и разводятся. П., разумеется, р[имский] католик и никогда не хотел развода. Я буду сильно удивлена, если он женится повторно. Почему ты все это должна выслушивать — один бог знает. Я люблю Испанию, все испанское и Пикассо!
С большой любовью к вам обоим,
Элис.____________
Карлу Ван Вехтену, Нью-Йорк.
14 июля 1955 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой папа Вуджюмс!
На вернисаже Пикассо видела многих знакомых, но одно лицо оказалось сюрпризом — Питер Родс, с которым мы познакомились в Лионе сразу же после освобождения и которого никогда не видели здесь (его демобилизовали в Нью-Йорке). Мы были ужасно влюблены в него. У нас было несколько замечательных встреч. Он познакомил меня со своей женой и принес фотографии Кюлоза и Малышки, сделанные им в сентябре 1944. Он также сделал две мои фотографии, которые вам посылать не будет (кто-то сказал, что одна из них появилась в журнале Time. Возможно). Какой-то фотограф хотел сделать мою фотографию. «Нет, — сказала я ему, — убирайтесь». На что он ответил: «Вы либо жена, либо вдова одного великого художника». «Нет, — сказала я, — не мадам Матисс и не мадам Дюфи».
Дженет [Флэннер] привела трех человек из Нью-Йоркского музея современного искусства, а с ними и приятного Марка Тоби, чтобы посмотреть картины. Наступило время моих лучших манер и они были искусно продемонстрированы. Поэтому когда мисс Мартин(?) [Миллер] и один мужчина заметили, что никогда не видели такого прекрасного Брака, указывая на Пикассо, я попридержала свой язык — это произошло в другой комнате. Затем они пришли сюда и повторили ту же ошибку. Silence de ma part[169]. Они обратились ко мне — разве не так — указывая на большую картину над камином. Было бы правильно, коли бы так — я позволила себе ответить. Я потчевала их хересом — pate brioche[170] — и своими лучшими бисквитами — позволив себе рассказать историю sans discretion[171] — любому, кто готов слушать
У нас тут три мероприятия, посвященные официальному событию — Salut a la France — Oklahoma, на которую Дженет и Ноэль [Мэрфи] взяли меня. Президент Республики — Национальная гвардия в своей наполеоновской форме — наш посол — офицеры в парадной форме — весьма блестящая аудитория для такого музыкального (некто заметил: такие мелодии, спел их и забыл), хотя и скучного вечера. Затем спектакль «Медея», билеты на который мне прислал Гатри МакКлинтик и на который я попросила сопровождать меня Эдварда [Уотермена]. Джудит [Андерсон] была великолепна — я впервые видела ее на сцене
— она произносила свои ужасные слова, звучащие как оригинальные, греческие. Постановка скверная, но она была замечательна. Я люблю ее. Ставили еще The Skin of Our Teeth[172] Торнтона — мне хотелось бы в этой постановке видеть Фаню в роли гадалки. Мэри Мартин была прелестна — Хелен Хейес великолепна, мужчины неадекватны, Потом был прием — Изабель Уайлдер взяла меня предыдущим вечером на репетицию, где я встретила Мэри Мартин — ее мужа и дочь (которая тоже в числе исполнителей) и Хелен Хейес с мужем. Джуди выглядит прекрасно — она отсутствовала два дня, провела их на фестивале в Греции — Euripides? Я устроила чаепитие для Мэри Мартин — Хелен Хейес — членов их семей и т. д. Мэри Мартин — неизбалованная, спонтанная и изысканно женственна. Ленч для Гатри Мак Клинтика с Натали [Барни] и Фрэнсиса [Роуза]. Благодаря Гатри и Мак Клинтику я познакомилась с Фрэнсис Робинсон из Метрополитен Опера — симпатичная.
Видите, какой общественной жизнью я наделена.
Вернусь к твоему письму. Арнольд Уайссбергер появился неожиданно и пригласил меня на ленч — очень приятная неожиданность в самом деле. Мне очень нравится Арнольд У. Твое письмо пришло после этой встречи, я не знала, что он выполняет незаметную и малоприятную работу, чтобы обеспечить мне гонорар. Я предположила, что он выполняет ее из-за любезности к тебе — Вирджилу — даже мне — за незначительный (для него) процент. Сейчас же ты говоришь, что нет даже и этой малости. Как же мне отблагодарить его — послать ему что-нибудь — редкую старую книгу — если я смогу найти такую на английском языке — на какую тему? Пожалуйста, посоветуй мне поскорее. Его мать передала мне с ним нейлоновые чулки. Все это очень хорошо, очень по-доброму. Получилось так, что я очень полюбила и его самого. У него необычайно мягкие манеры.
У нас позавчера случился жуткий шторм с молнией, и мы в ожидании очередного — побегу закрывать ставни и окна.
Счастливых дней Фане и папе Вуджюмс.
С любовью — преданностью — благодарностью,
М. В.____________
Карлу Ван Вехтену, Нью-Йорк.
18 ноября 1955 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Папа Вуджюмс, дорогой!
В своем письме от 31 октября ты писал, что [галерея] Knodler хочет «одолжить ряд работ из картин на улице 5, Кристин». Теперь же ты говоришь, что они хотят всего Пикассо и Гриса — совсем иная просьба. Грис — здесь его только 7 — из них 3 в Берне — не все в хорошем состоянии, приемлемом для путешествия (напр, коллаж). Во всяком случае, я определенно не согласна одолжить им всего Пикассо. Не приму я и предложения быть их гостем и «находиться в галерее часто, как смогу». Ça n’est pas dans mes moeurs[173]. Так я и отвечу мисс Уиттлер. Она весьма приятная личность и поймет, что чествовать Малышку — одно дело, а рекламировать K[nodler] — другое. Я понимаю, ты считаешь, что это поможет продавать выходящий в следующем году том, но если для этого требуются все картины, то это невозможно, о чем, как я отметила, и сообщу мисс У. Они здесь и это честь для Малышки такая же, как и chez К.
Урра! Pained Lace[174] только что вышла к из печати — копии Дональд [Гэллап] выслал Вирджинии (дабы избежать налога и похода на таможню). Просто физически ощущаешь красоту, наиболее обворожительное совершенство Малышки — конечно, содержание — приводящий в восторг сюрприз для меня, предисловие Канвейлера читается очень хорошо. Суперобложка не такая хорошая, как переплет — как ты и сказал — но это не так уж важно.
О, дорогой папа Вуджюмс — Painted Lace приводит меня в восторг — и больше, чем прежде.
Твоя любящая и благодарная,
М. В.____________
Карлу Ван Вехтену, Нью-Йорк.
16 марта 1956 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
«Травы и специи» были моим десертом с того момента, как в понедельник пришла эта книга. Я выкраиваю минуты от дел, которыми занята по возвращению из Брюсселя неделю тому назад — она как лекарство уносит меня в голубой мир счастливой иллюзии. Спасибо тебе — спасибо тебе — спасибо! Особенно меня порадовало и удивило, что паприка, моя любимая специя, которую я осторожно использую, боясь излишней остроты — основной источник витамина С, и что человек, открывший этот факт, получил Нобелевскую премию. Я до жалости безграмотная. Теперь я буду применять ее в полной мере. Паприка заменит все — наши кислые апельсины на теперешнем базаре. «Травы и специи» отныне — мой национальный [американский] флаг! Бесполезно мне самой писать книгу о травах — я сконцентрируюсь на приправах, которые включат вино и ликеры — увидим.
Теперь о поездке в Бельгию — она была удовольствием — поездка в посольской машине — останавливалась у Браунов в их комфортабельном, обширном доме — вечерний прием и встреча с некоторыми из их друзей. Миссис Браун — из французской Канады — замечательная кухарка, домохозяйка, умеет принимать гостей. Они показали мне потрясающие частные коллекции и музеи. Меня представили королеве-матери — ей 82 года — веселой и оживленной как птичка — выглядит на 60 — настояла, чтобы я сидела справа от нее — громадные букеты орхидей размером с ярд — гирлянды жемчуга — невиданные канапе и hautes toutes[175] — попросила меня прислать ей экземпляр кулинарной книги, а фрейлину — передать Брауну, что желает видеть больше американцев, похожих на меня. Испытывала ли я сердцебиение? Возможно. Посетила Гент, чтобы посмотреть Ван Эйка — коктейль в загородном поместье — ленч в доме XIV века на набережной. Causerie прошло хорошо, мой frousse[176] улетучился, как только я начала — затем коктейль для избранных. Обед в Поэтическом Клубе (поэты хорошо питаются в Бельгии, в самом деле). Первый тост в мою честь! Стивен Спендер также почетный гость. Встретила Анну Бодар, чью книгу перевела[177] — имела продолжительную беседу с ней о предисловии, которое необходимо в спешке написать по возвращении, и получила фотографию рисунка тушью, выполненного Пикассо для этой книги. Итак, из примадонны назад к рутине — от пальто Фани — каждый день — назад к кухонному одеянию.
Мисс Уиттлер из галереи Knodler лишила меня дара речи письмом, в котором сообщила, что подходит время для устройства осенней выставки картин. Больно ушлые — я ответила, что она, по всей видимости, забыла о моем последнем письме к ней. В ответ она поинтересовалась — На каких условиях я могла бы согласиться? Она, что, думает, что картины — овощи, а я — базарная торговка?
Массу любви моим дорогим от
М. В.____________
Мерседес де Акоста[178], Нью-Йорк.
28 июня 1956 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Мерседес, дорогая!
Смерть Мари Лорансен явилась для меня шоком. Когда я видела ее в последний раз — два месяца тому назад — она казалась вполне здоровой и в прекрасном настроении. Сегодня во второй половине дня я видела Жана Деноеля, он то и рассказал мне о последних днях Мари. Он видел ее за 4 дня до смерти, она была в прекрасном состоянии. Он уехал за город, а когда вернулся, узнал о смерти Мари. За два дня до кончины она пожаловалась Сюзан, что чувствует себя неважно, послали за доктором, и тот сказал, что у нее обычные желудочные боли и ей следует оставаться в постели. На следующий день она почувствовала себя еще хуже и еще до появления доктора сказала Сюзан, что умирает, и просила послать за священником. Доктор нашел проблемы с сердцем. И никакой надежды. Она скончалась на следующее утро. Натали полагает, что смерть — следствие трудностей Мари, связанных с сохранением за собой квартиры (три судебных иска), приведением ее в порядок и переездом, что измучило ее после многих лет исключительного покоя. Мари была неотъемлемой частью моей счастливой жизни в Париже в первые годы — 48 лет тому назад — она была обворожительна — даже легендарна. Временами она не любила, когда ей об этом напоминали. Но она принесла мне фотографии — свои и матери. Ее уход — потеря еще одной связи с моим прошлым, придает дополнительное ощущение одиночества. Если бы не существовали дела, связанные с Гертрудой, у меня не осталось бы никаких причин продолжать жизнь.
Натали [Барни] переживает новый и прекрасный период расцвета — выглядит удивительно цветущей — яркое пятно в довольно безрадостном мире.
Я собираюсь послать тебе приятную шкатулку, которую Мари когда-то дала мне. С ней скверно обращались руки грубых femmes de ménage. Ее надо было убрать с глаз для лучшей сохранности, но Гертруде и мне никогда не нравилась сама мысль прятать вещи, но ты увидишь, насколько вещица напоминает Мари — изящная романтическая и очаровательная. En souvenir от Мари и с глубокой любовью от
Элис.____________
Бернару Фаю, Фрибург, Швейцария.
19 декабря 1956 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой и добрый друг!
К моему глубокому сожалению и стыду много недель прошло со времени получения твоих замечательных писем — утешительных и ободряющих — но мадам Азам поведает тебе о тревожных и волнительных днях этих последних месяцев, вполне достаточно объясняющих мое молчание. Отныне моя жизнь станет гораздо спокойнее. Попробуй простить меня — пожалуйста.
Мадам Азам — так человечна по отношению ко мне, совершенно ангельски ко мне относится — излучает сияние — милое понимание — все малые несчастья исчезают в воздухе. И удовольствие знать ее — целиком твоя заслуга — за что, как и за многое другое, я благодарна тебе.
Одна из приятных новостей — постановка небольшой пьесы Гертруды, переделанной в оперу с довольно остроумным музыкальным сопровождением[179]. Небольшую оперную труппу из Нью-Йорка попросили показать ее и две другие одноактные оперы на фестивале в Эдинбурге. Представление было настолько успешным, что они замыслили идею гастрольного тура с этими операми. Погрузились вместе с декорациями и костюмами в микроавтобус и дали представление в Лондоне, Копенгагене, наконец, в Вене и здесь. Гертруде это определенно пришлось бы по душе. Пение было хорошим — достаточно музыкальным, а их признательность и воодушевление просто заразительны. Я встретилась с ними после представления, затем они пришли навестить дом Гертруды. Кстати говоря, они исполняли также очаровательную оперу молодого Чанлера.
Никто более не шлет мне романов — шлют поваренные книги! некоторые из них — написанные зарубежными авторами — довольно любопытны. Честно говоря, те, что написаны американцами и посвященные американской пище — достойны сожаления. Я же посылаю тебе антологию американской поэзии (изданную в Англии), в которой ты обнаружишь некоторых из своих старых друзей. В ней есть не такое уж неинтересное предисловие Одена.
Сильвия Бич навестила меня и попросила моего (!) разрешения включить в автобиографию, которую она пишет (Shakespeare and Company) фотографию Гертруды, сделанную в начале 20-х. Она рассказала, что ее дважды посетила грозная миссис Спригг, которая сказала, что английский издатель попросил ее сделать некие открытия касательно произведений Г. С, и что она их сделала. Она открыла, что книги писала я. Сильвия ответила ей: «Меня не удивляет, что вы так подумали — вы не читали книг Г. С. Говорили и говорят, что я писала книги Джеймсу Джойсу — те, кто их не читал».
Всегда с любовью и преданностью,
Элис.____________
Брайону Гисину[180], Танжир, Марокко.
11 июня 1957 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Брайон!
Не стоит говорить, что ваша Нью-Йоркская выставка возродилась к жизни благодаря появлению более чем умеренной поддержки критиками и теплой оценки случайных, но влиятельных людей. (House Beautiful — Museum of М. A. — Vogue) — это реклама космического размера, ниспосланная свыше. Знаете ли вы что такое ответное письмо? Не давайте им и их энтузиазму по вашему поводу — ваших картин — ваших статей
— задремать даже в атмосфере летней жары. Простите за бабушкин совет, но так необходимо было себя вести, чтобы продвигаться вперед, когда книги Гертруды печатались здесь и необходимо было найти торговцев книгами, чтобы рекламировать и продавать их в США. Не оставляйте их в покое, но мягко — обвораживайте, но с разбором!
Писала ли я вам, что Бернар Фай помилован и восстановлен в своих гражданских правах. Он вернулся во Францию и пришел с повинной, чтобы снять с себя «de la peine.»[181] Девять недель во Френе на повторном суде. Не будь положительного вердикта, его бы опять отправили в тюрьму на 11 лет, он бы не выжил и умер бы до истечения тюремного срока. Удивительно храбрый человек — необычайно сильного духа — но довольно слабого здоровья.
Натали Барни, говорят, завела новую любовную интригу, разве это не диво? У Пикассо состоялась невероятная выставка его последних картин — еще больше чудес! Огромное впечатление от Андре Массона.
Масса добрых пожеланий и любви от
Элис.____________
Сэмюэлу Стюарду, Чикаго.
14 сентября 1957 г.
Маганьос-пер-Грасс, Приморские Альпы.
Дорогой Сэм!
Позади много недель, заполненных работой с последующей естественной усталостью — прерываемой шоком от неожиданной смерти одного из друзей и еще Фрэнсисом, попавшим в скандальные передряги, а затем и в больницу.
Джеймс Пардю донимает меня. Он попросил меня написать что-нибудь о его последнем произведении — что я буду среди его друзей — Карла и Эдит Ситуэлл, но я проигнорировала его просьбу и книгу. Он, его сюжет, и то, как он с ним обращается, лишены вкуса.
Две недели минуло с тех пор, как друг Вирджинии и Гарольда привез всех нас сюда. Это была замечательная поездка — солнечно — по дороге на Гренобль — Наполеоновская дорога. Друг отправился на Майорку, а мы здесь в удобном, если не сказать очень комфортабельном доме, в небольшом саду с огромными оливами и ивами, с запахом цветущего жасмина, доносящимся с не столь отдаленных полей. Я целыми днями сижу в саду и не выбралась посетить Грасс — не говоря уже о Каннах, где собираюсь навестить Пикассо — он больше не появляется в Париже. Если мне удастся, я приму лечение в грязевых ваннах (самих по себе непривлекательных) в Акуи, в Пьедмонте — Анита Лос недавно чудодейственно вылечилась от длительного артрита. Было бы весьма приятно, если бы и у меня получился такой результат. Я сегодня упоминаю о сроках. Лечение краткосрочное — три недели — поэтому вернусь в Париж до конца следующего месяца
О Фрэнсисе — месяц тому назад он внезапно появился в Париже с жалобой на Фредерику — она продала две небольшие комнаты на набережной Анжу — не была в состоянии платить налоги. Он в последнее время не рисовал, а зарабатывал и много, занимаясь декором тканей для текстильной промышленности, по-видимому, у него к этому большие способности. Затем однажды ночью, довольно поздно раздался звонок и незнакомый грубый голос сообщил, что Фрэнсис находится в британском военном госпитале Левалуа. Затем последовал звонок врача-ординатора, явно расстроенного неким voyou[182], которого Фрэнсис привез с собой из Лондона. Тот поколотил Фрэнсиса в пьяной потасовке и привел в госпиталь, сказав, что у Фрэнсиса серьезный инфаркт. Доктора говорят, что ничего страшного у него, за исключением ужасного характера. Крайне неприятно.
Дует экваториальный мистраль, надо уходить в дом. Когда будет время, напиши мне.
Со всей любовью,
Элис.____________
Джону Лукасу[183], Нортфилд, Миннесота.
16 ноября 1957 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой мистер Лукас!
Каталог «Ателье Хуана Гриса», который я намеревалась вам отослать, вы получили от Луиз Лейрис — фантастически прекрасен — захватывающе интересен и волнителен. Две — великоватые для Гриса
— картины женщин — стали большим сюрпризом. Кое-что вы должны знать — Канвейлер поверил мне по секрету — иногда он так поступает со мной, как и должно быть поступает с вами: Пикассо признался честно и без обиняков, что сейчас готов — чего прежде не было — признать Гриса большим художником, о чем он знал и раньше. Вот уж открытие! Забавный секрет.
С сердечным приветом всем вашим,
А. Б. Т.____________
Карлу и Фане Ван Вехтен, Чикаго.
26 декабря 1957 г., среда.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогие!
То, что я скажу в этот благословенный радостный день, вероятно, удивит моего родного папу Вуджюмса, больше возможно, чем дорогую Фаню. В любом случае вы разделите глубокое удовлетворение, узнав, какое счастье мне досталось. В праздник Непорочного зачатия я была принята в лоно Католической Церкви — исповедалась и причастилась. Какое-то время я к этому уже была готова, но завершение произошло внезапно и быстро, потому что в детстве меня крестили. Как-то месяц тому назад я беседовала с мадам Азам, и она сообщила мне имя священника-англичанина, с которым имела долгий разговор, он-то и сделал остальное возможным. Мне предстоит многому научиться, но с помощью катехизиса и молитвенника я компенсирую потерянное время. На прошлой неделе появился Бернар, у нас состоялась длительная беседа о том, что произошло со мной и Малышкой. Они [?] много говорили о церкви и еврействе Малышки — нечто вроде этической концепции — о современной версии Моисеевых законов, которые, конечно, исключают загробную жизнь. Ныне же большим утешением служит тот факт, что царство небесное существует не только для Бога и Христа, для ангелов и святых, но и для народа. Дорогие мои, я надеюсь, что вы рады моему вновь обретенному счастью. В настоящее время я никому об этом не сообщаю, но в ближайшие дни напишу Дональду Гэллапу.
Люблю вас от всего сердца.
Всегда любящая, преданная, благодарная,
М. В.____________
Карлу Ван Вехтену, Чикаго.
21 May 1958 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой папа Вуджюмс!
Дни и годы пролетают не оставляя свободной минуты. Макс [Уайт] приходит шесть дней в неделю на четыре-пять часов, чтобы поработать над книгой. Работа идет плавно и не продлится столь долго, как он предварительно полагал. И мы согласились, что воспоминания должны концентрироваться вокруг Малышки и ее творческой работы. А мое участие исключено — возможно, чтобы все внимание было уделено ее методу. Ты согласен, не правда ли? Я — ничто, лишь память о ней.
Затем мне пришлось сделать инвентаризацию картин — их размеры, даты — когда написаны и нынешняя стоимость, все для успокоения Эдгара Алана По. У него перехватило дух от удивления, когда он увидел цены, которые Жорж Маратье любезно проставил; спасибо ему, избавил от расходов на эксперта, каковым является сам. Я послала список юристу, чтобы тот отправил его Э. А. П. (сама я не связываюсь с ворчливым дедом). Он сказал по телефону: Это будет ему такой удар, от которого он не оклемается!
Тем временем, всяк стремится в Париж, некоторые — интересны, другие — не так уж. Самым приятным посетителем до сих пор оказалась Анита Лос, которая в Париже работала над французским фильмом по пьесе Колетт[184]. Ее сопровождали вдовец К. — агенты — юристы — нотариус. Она позвонила мне за день до отъезда и мы вместе с театральным критиком «Нью Йорк Геральд» позавтракали в очень хорошем ресторане на Монмартре, который мне давно рекомендовал Эдвард [Уотермен]. Владеет им молодой шеф, готовит великолепно. Джеймс Берд сказал, надо иметь его в виду. Анита прелестна, прекрасно выглядит, умна и оригинальна. Она сообщила, что давно тебя не видела, но собирается позвонить, как только окажется в Нью-Йорке Она работает в Италии до конца месяца, а затем отплывает из Неаполя.
Морис Гроссер был здесь по дороге в Португалию (в малютке-автомобиле), где планирует рисовать. Говорит, что Пол Боулз в Португалии, а Джейн осталась в Нью-Йорке для лечения (серьезного) глаз.
Отчеты в американских газетах несомненно чрезвычайно преувеличивают здешнюю политическую атмосферу. Она — путаная и обескураживающая, но не вызывает тревоги. Все политические партии расходятся во мнениях, да и внутри каждой партии наблюдаются противоречия. Де Голль может прийти к власти, но только на несколько месяцев. Он долго не удержит большинство. Вам не следует беспокоиться обо мне. Все спокойно и всего вдосталь.
Объятия и поцелуи,
М. В.____________
У. Дж. Роджерсу, Нью-Йорк.
26 мая 1958 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Кидди!
Твой А. П. [Ассошиэйтед Пресс] послало кого-то из своего парижского бюро взять у меня интервью. Его не следовало бы впускать, если бы он не был послан другом друга. Непохоже на правду? Он был — мне потом разъяснили — типичным американским журналистом — но не в моем представлении. Он спросил меня, каково мнение парижского Музея Современного Искусства о картинах? Когда в последний раз я видела Пикассо? Что я думаю о последней книге Франсуазы Саган? Что я думаю о ней и балете Менотти? Избавлю тебя от моих ответов. Если я и угостила его коньяком, то только потому, что хотела побыстрее избавиться от него. Когда он уходил, он извинился, что за десять лет жизни в Париже ни разу не удосужился взбежать по этажам и повидать меня. Как он отнесся к моему ответу на это заявление, не собираюсь даже и предполагать.
Дом 5 на улице Кристин продан компании, которая распродает отдельные квартиры. Все нынешние обитатели, за исключением меня, их выкупили. Французский закон охраняет пожилых женщин, поэтому я могу оставаться здесь до конца своей жизни. Лестницы и коридоры перекрашены в темно-зеленый и светло-коричневый цвета — очень приятно.
На следующей неделе я отправляюсь на два дня в Швейцарию, если летят самолеты. Позднее — в Акуи, опять на лечение — опять разыгрался артрит — слишком холодно, сыро и много тяжелой работы в доме. Мадлен в самовольном отпуске — ее следовало бы уволить. Подменяющая ее не слышит, не видит и не понимает. Знаешь ли ты Аниту Лос? Завораживает. Вирджил ожидается здесь летом. Knodler открыла парижскую галерею выставкой в Soirée de Paris — видел ли ты ее каталог? Прекрасный. Почему Милдред не пошлет свои стихи в «Нью Йоркер»? Скажи ей de ma part они нуждаются в ней.
С любовью к вам обоим,
Элис.____________
Сэмюэлу Стюарду.
7 августа 1958 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Сэм, дорогой!
Макс [Уайт] выкинул фокус — просто растворился в воздухе. Гарольд пришел ко мне сразу же после посещения отеля, где останавливался Макс. Известно лишь, что он выписался. Он обедал у Напиков, оставался там до полуночи и ни слова не сказал о предстоящем отъезде. Мы с Гарольдом обсудили ситуацию довольно подробно и пришли к заключению, что я выбралась из неприятной заварушки. Когда мы пришли к такому выводу, то почувствовали облегчение. Издатели обрадовались, они нашли общение с ним трудным и сейчас ищут преемника. Рассказываю все подробно, ибо такова истинная история с Максом.
Нет, дорогой Сэм, прошлое никуда не исчезает, как и Гертруда (жизнь бесконечна — отец Тейлор — мой духовник — разъяснил мне это абсолютно ясно). Я была в крайнем смущении, когда внезапно мне стало ясно, где Гертруда. Она — там, ждет нас
Молюсь за тебя, мой дорогой.
Ты знаешь, что сказала Гертруда Хемингуэю в ранние годы — он не должен зарабатывать на жизнь работой в газете и одновременно писать — он должен как Шервуд [Андерсон] зарабатывать на жизнь работой в прачечной. Отделяй татуировку от писательства[185].
С любовью от преданной тебе,
Элис.____________
Уильяму Альфреду[186], Кембридж, Массачусеттс.
26 августа 1958 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Уильям!
Первые шаги во францисканском мистицизме предсказывают мне долгую и радостную дорогу впереди. Каждый вечер об этом читается и перечитывается. Вы и Бернар Фай — крестные отцы моей духовной жизни.
Касательно места Гертруды. Поначалу существовало неоспоримое мнение, что ей не предопределена будущая жизнь. Добрый Отец Тэйлор, принимавший мое первое причастие, и Бернар оба уверили меня, что она в царстве небесном и что я должна молиться за нее здесь. Конечно, это большое утешение. Бернар говорит, что знал об этом в течение долгого времени и ждал, когда я вернусь в лоно Святой Церкви.
Спасибо за слова Святой Терезы — Альфонс Мадридский был ее духовным наставником, не так ли. В мое последнее пребывание в Мадриде — пять-шесть лет тому назад я посетила мессу в ее церкви, это был ее день, это было прекрасно.
Масса добрых пожеланий,
Элис.____________
Неду Рорему[187], Нью-Йорк.
27 ноября 1958 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой мистер Рорем!
Замечательная новость — Филармонический оркестр Нью-Йорка исполнит вашу симфонию. Недавно ко мне привели познакомиться Леонарда Бернстайна. Он — в высшей степени очаровательное создание, рассказал мне о Поле и Джейн [Боулз] — здоровье Джейн очень печалит меня — к ней очень привязываешься — ее неспособность постоянно работать приводила к тому, что я часто не сдерживалась в разговоре с ней, теперь вот стыжусь, сожалею, что так поступала. Вы спрашивали о Брайоне Гисине — он находится здесь и великолепно рисует — упорно работает. Знаете, в Париже все работают, за исключением рабочих. Не хочешь работать здесь, едешь в Италию.
Дайте мне знать, как приняли вашу симфонию.
Теплые пожелания вам и дорогой мисс Рорем,
Элис Токлас.____________
Арнольду Уайссбергу[188], Нью-Йорк.
16 апреля 1959 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Арнольд!
Оба чека — на 10 и 20 долларов (за «Брюси и Уилли») пришли сегодня утром, как раз тогда, когда собралась отправиться к моим модисткам, где заказала новую шляпку. Я попросила ее: «Используйте больше перьев». Она так и поступила! Выглядит здорово! Подождите, вот увидите. Не удовлетворившись этой экстравагантностью, я пересекла Вандомскую площадь и купила себе бутылочку Jicki от Гертэна и рядом же красивую косынку.
Буду рада встретиться с вами и Оливией де Хэвиленд (такая романтическая фамилия) и пригласить на ленч.
С любовью к вам всем,
преданная Элис.____________
Паркеру Тайлеру[189], Нью-Йорк.
4 сентября 1959 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой мистер Тайлер!
Гертруда Стайн познакомилась с работами Павлика Челищева благодаря Джейн Хип. Шесть молодых художников выставили свои работы в начале 20-х в галерее на улице Ройяль. Она начала с Павлика, купила порядочно его картин. Позднее она приобрела картины Кристианса Тонни, Жени Бермана и Кристиана Берара из той же группы неоромантиков. Ни один из них не оказался достаточно удовлетворительным. В конце концов, она сняла их всех со стены и позднее обменяла на картины других художников. Между ней и Павликом не было никакой размолвки — Павлик нашел других патронов. Ни она, ни я никогда не слышали, чтобы Павлик изменился в своих чувствах к нам — ни от него, ни от других.
Сердечно,
Элис Токлас.____________
Вирджинии Напик[190], Чикаго.
23 апреля 1960 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Вирджиния, дорогая!
Жизнь суматошна — реальная и нешуточная — по крайней мере, через день. У меня был ленч в другом ресторане — изнурительно — утомительно и нездорово. Когда я устроюсь в Риме в монастыре, мир и покой снизойдут на меня, я снова приду в нормальное состояние.
Мерседес [д‘Акоста] грозится навестить меня там, Наоми [Бэрри] тоже. Думаю, смогут. Это недалеко и нет дождя. Человек, который редактирует письма Шервуда Андерсона, должен был появиться и расспросить меня о нем и Гертруде. Он, вероятно, не смог найти звонок, я сидела в ожидании до 11 часов, а затем обнаружила на двери записку и без указания адреса!
В посольстве ко мне отнеслись очень доброжелательно в отношении моего паспорта. Я забыла свой старый паспорт, пришлось прийти снова. Они просили и фотографии. Всучили уйму бумаг, чтобы я заполнила, и мне потребовалось потратить все свое свободное время за три дня (где ваш разведенный муж или жена, их дети от предыдущего брака). Я пришла туда со всеми заполненными бумагами и фотографиями, старым паспортом и уснула в кресле. Молодая женщина подвела меня к своему столу, вскоре появился сотрудник и попросил меня принять присягу на преданность и верность (чего я не делала, начиная с 1914 года). Я поблагодарила его, рассказала, что уезжаю в Италию через месяц, и что там буду делать. «Ну, вот, — сказал он, — можете приходить за новым паспортом послезавтра (т. е. сегодня)». «А, — спросила я, — могу ли я послать за ним ответственного человека?». Да, был ответ, если она получит от вас разрешение. Так что сегодня утром Мадлен принесла мне паспорт.
Дорогая моя, отдыхай — будьте, ты и Гарольд, благословенны.
С любовью,
Элис.____________
Анита Лус, Нью-Йорк[191].
8 Мая 1960 г.
Святая Жанна д’Арк,
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Анита!
Мои друзья встречались с тобой. Почему я не могу? Из Акуи я отправляюсь в Рим побыть неделю у друзей — потом вернусь обратно и останусь там до 15 июля.
Дженет [Флэннер] чувствует себя хорошо. Увидишь, что ее прежняя привязанность к генералу [де Голлю?] остыла, она теперь очень тепло относится к монсеньору К. Карл Ван Вехтен стар почти как я, но не так потрепан и может еще получать удовольствие от жизни.
Читала ли ты книгу Мерседес де Акоста Here lies the heart?[192] В ней содержится классическое описание Греты Гарбо. Один из моих друзей как-то сказал: «Нелегко выбросить Мерседес из головы — у нее две самые влиятельные женщины [подруги] в США — Грета Гарбо и Марлен Дитрих».
Кто-то прислал мне совсем не интересную книгу — The jazz age. Просматривая иллюстрации, я к своему ужасу обнаружила фотографию Гертруды и en face[193] Эзру Паунда, а несколькими страницами дальше — твою.
Дорогая Анита — с огромной любовью к тебе и самыми нежными чувствами от твоей преданной
Элис.____________
Вирджиния Напик, Чикаго.
9 августа 1960 г.
монастырь Пресвятой Крови.
Дорогая Вирджиния!
Ну, вот я здесь, в окружении сестер милосердия — чувствую себя удобно и весьма довольна — моя небольшая комната (самая обычная) жаркая, но окончательно можно будет оценить лишь в следующем месяце, ночи холодные, ветер дует с моря, что в 15 милях отсюда. Рассвет наступает медленно, а сумрак быстро — у меня достаточно времени одеться к вечерней молитве в часовне в 6:30 — затем кофе в 7:40 — позже ванна, когда вода согреется. Джон Браун и Симона навестили меня в воскресенье и взяли в поездку. Улица под окном идет над Трастевере, я еще не видела собор — весь район расчищен и удивительно застроен с тех пор, как мы видели его. Я в ужасном состоянии от того количества недоваренного патэ, которого наелась у Браунов. Я приняла столько слабительного — собаку бы убило. Здесь же пища простая и питательная, есть и овощи. Готовят удивительный суп, но его лучше есть зимой. А если зима не окажется настоящей, то что? Артрит немного отпустил. Я спускаюсь на один этаж, затем по ступенькам к часовне и обратно в свою комнату, а также два этажа и обратно на ленч — все без палки и в здании есть лифт, поэтому не посылай мне чулки и блузки. Мадлен вымыла одну — ту, которую ты привезла из Америки, она выглядит как новая. Здесь моют также хорошо, как и Мад. Я думаю, стирают монахини. Может так быть? Я привезла с собой достаточное количество блузок.
Полет сюда был замечательным — 1 час 40 минут, вторым классом, 50 долларов туда и обратно. Джон Браун договорился с посольской машиной отвезти нас в парижский аэропорт, а его друг вызвался привезти нас [в монастырь] по Аппиевой дороге!
Элис.____________
Карлу и Фане Ван Вехтен.
21 октября 1960 г.
монастырь Пресвятой Крови, Рим.
Дорогие!
С замечательной годовщиной, мои дорогие — сегодня 46 лет, как вы женаты. Молю бога, чтобы он сохранил глаза Фани и она не испытывала боли. Я, видите, помогаю своим старым и усталым глазам тем, что пишу большими буквами.
Только что вернулась с ленча, устроенного в мою честь семейством Уильяма Пеппера — они, похоже, не родственники ваших Пепперов. Арнольд Уайссбергер послал им рекомендательное письмо. Она написала четыре поваренные книги — серьезный кулинар — рисует и увешана чересчур большим количеством очень изящных золотых украшений. Он мне очень нравится — менеджер журнала «Ньюсуик» для Средиземноморья. У них отличный дом в предместье. Меня пригласили люди, с которыми я несколько лет тому назад познакомилась в Париже — приятные южане — Джон и Вирджиния Бекер. Они заехали за мной в машине Принцессы Каэтани! За столом было еще четыре человека, имена которых я не запомнила — оживленная беседа. Я встречусь с ними — с Пепперами — опять. Когда Арнольд писал рекомендательное письмо, то в конце приписал: Эжен Берман ныне обитает в Риме. Думаю, ему надо сообщить, что вы здесь. Я ответила: пожалуйста, не надо.
В 1929 Малышка увидела на выставке молодых художников работы Жени и купила две — классические пейзажи, римская архитектура. Он принес их на улицу Флерюс. Мы как раз через день-два собирались в Билиньин. Женя сказал, что хотел бы нарисовать его. Малышка пригласила его приехать и вскоре после того, как мы туда приехали, появился и он.
Наша парижская служанка не захотела отправиться с нами в сельскую местность, и я наняла симпатичную толковую девушку, которая проработала один год в отеле в Белле еще до того, как мы нашли Билиньин. Она была красивой, цвет волос, глаз и кожи — восхитительны. Одним вечером Малышка захотела попросить Терезу что-то принести и позвонила ей. Она не ответила. Малышка позвонила еще несколько раз, никакого ответа. Малышка спустилась в холл и постучала в дверь Терезе — нет ответа. Малышка отворила дверь, Терезы нет — кровать нетронута. Малышка услышала голоса, доносившиеся из комнаты Жени. Ни малейшего представления, что произошло. Ни Малышка, ни я не верили, что Тереза была с ним в постели. Она происходила из семьи благонравных женщин.
После того, как он уехал, Тереза сказала: «Le jeune peintre est tres Russe»[194].
С благодарностью, преданная,
М. В.____________
Принцессе Дилкуше де Роган, Лондон[195].
21 ноября 1960 г.
монастырь Пресвятой Крови, Рим.
Дражайшая Дилкуша!
В течение нескольких дней я пробовала рассказать тебе, что приключилось со мной — чем больше происходит, тем меньше остается времени для рассказа.
Ксавьер [Фуркад] взял меня в прошлую субботу на встречу с Папой. Это было исключительно важно и трогательно. Вдоль стен большой комнаты было два ряда стульев, мы сидели в первом, рядом с местом, откуда Папа вышел. Расстояние пять шагов к трону были выложены блестящим красным ковром. Его Святейшество невелик ростом. Движения точны
— понятны. Голос выдает крестьянское происхождение. Говорил на итальянском, благословение естественно на латинском. С ним были четыре монсеньора в своих алых шапочках, которые отвечали по-английски, по-французски, по-немецки и по-испански. Когда все закончилось, я почувствовала себя ослабевшей.
Сын [Ивлина?] Во похож на отца — глубоко недолюбливаю обоих. Спасибо, что позволила мне прочесть письмо Луиз и узнать, что она вернулась из своих путешествий весьма посвежевшей и отдохнувшей. Жаль, что ей приходится расставаться с квартирой в Челси. Если бы у меня появилось желание и деньги содержать дом в Билиньин и квартиру на улице Кристин, французские законы не позволили бы мне это сделать — только один дом. От Пикассо потребовали отказаться от квартиры на улице ля Бети, а ведь он обладает большим влиянием в политических кругах.
Замечание, что мой почерк стал более четким — это результат прилагаемых мною болезненных усилий. Мне требуется 40 минут чтобы написать одну из таких страниц при ярком свете лампы и на расстоянии не более одного фута от глаз — это самый малый шрифт, который я могу прочесть.
С нежными мыслями, дорогая Дилкуша — благословение и любовь от
Элис.____________
Вирджиния Напик, Торонто.
12 января 1961 г.
монастырь Пресвятой Крови, Рим.
Вирджиния, дорогая!
Так приятно было получить от тебя письмо, но из-за слабого зрения должна попросить тебя в будущем писать черным на белой бумаге — иначе требуется много усилий — ничего не поделаешь, старость.
Вчера Дама Джуди Андерсон и ее племянница по пути в Монако, где их ожидают в гости Принц и его американская принцесса [Грейс Келли], провели день со мной. Джуди привезла мне пакет с маракуйей, которые собрала в своем саду за два дня до отъезда. Они отвезли меня обратно на такси до самых ворот монастыря, очень расчувствовались на прощанье, поцеловали семь раз и естественно забыли отдать пакет. Уезжая в Монако, она оставила пакет в отеле, попросив их доставить мне. Доставят ли? Если ты не пробовала этот фрукт, то должна попробовать — Хедьярд до последней войны делал из него сироп, из которого приготовляли удивительно вкусное мороженое. Что представляют из себя гавайские орехи, которые рекламирует «Нью Йоркер»?
Пока мы продолжаем кушать, поваренную книгу переводят на итальянский язык, выплатили аванс в двести долларов, что очень кстати, поскольку позволяет покрыть задолженность ресторанам за ленчи со многими гостями. Знаешь ли ты такой ресторан Alfredo a la Scofa с золотой вилкой и ложкой, которые подарила Мэри Пикфорд предыдущему поколению. Дважды я давала им — trop d’honneur[196] — но их толщенная куриная грудка в соусе из сливок — non pareil[197].
Ты просила меня не докуривать окурки, и я не курю.
Тепло, но дождь льет как из ведра и темно. Монастырь хорошо отапливается. Я даже открыла окно и внезапно заглянула Сестра, святая Паулина[198]. Она ужаснулась.
Je t’embrasse my chère. [199]
Преданная Элис____________
Рассел Портер, Париж[200].
2 мая 1961 г.
монастырь Пресвятой Крови, Рим.
Дорогой мистер Портер!
Ваше только что полученное письмо серьезно удивило меня Вы должно быть вспомните, я написала вам, что прежде чем приехать ко мне, мистер Эдгар Алан По, Мл. разрешил мне продать картину, чтобы покрыть расходы на страховку остальных картин, мои месячные расходы и возможные расходы на лечение. Когда он появился в Риме, у нас состоялась длинная и дружеская беседа. Он попросил меня описать вам суть дела и пообещал позвонить вам во время перелета Рим — Париж — США.
О продаже мною рисунков — ничего скрытого в этом. Я не делала секретов их этого. Я спросила согласия Пикассо. Он пришел на квартиру и позвонил Канвейлеру. Они оба посмотрели рисунки и согласились передать их артдилеру, который должен был выставить их и продать. Для этой выставки Канвейлер написал глубокое и прочувствованное предисловие о Пикассо и Гертруде Стайн.
Напомню вам, что жена Аллана Стайна навещала меня три-четыре года тому назад и просила продать для нее одну из картин, поскольку у нее образовались долги. Я отказалась, говоря, что стараюсь жить скромно, чтобы не пришлось этого делать самой, и что ей не следует держать автомобиль.
Они [рисунки] никуда не исчезли, они проданы, на что я имею право согласно завещанию Гертруды Стайн.
Таковы факты.
От всего сердца,
Элис.____________
Фернанде Пивано, Милан.
9 июня 1961 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Нанда, дорогая!
Твое письмо ожидало меня по возвращении из Акуи, но меня ожидали другие сюрпризы, и неприятные.
Тебе следует знать шокирующую новость, ожидавшая меня на пороге квартиры. Стены были голые — не осталось ни одного Пикассо — дети Аллана Стайна хотят одолжить картины музею, где их соответствующим образом застрахуют, что мне конечно не под силу. Два хороших юриста защищают мои интересы в этом случае. Разве не морока?
Погода отвратительная Темно — как при частичном затмении солнца, сильный дождь по нескольку часов каждый день.
Париж удивительно украшен к приезду четы Кеннеди — огромные флаги на очень высоких белых столбах. Мне удалось увидеть из окна такси и Площадь Согласия и Елисейские поля
Дорогая — посылаю вам обоим самую горячую и преданную любовь.
Элис.____________
Принцессе Дилкуше де Роган, Лондон.
23 августа 1961 г., воскресенье.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дикуша, дорогая!
Картины ушли навсегда. Мое слабое зрение больше не может их видеть, к счастью, живая память видит.
Благодаря одному из друзей у меня появилась испанская горничная (soubrette), 34 года, одевается в Prisunic. У нее два свободных полдня в неделю и каждый вечер с восьми до полуночи — хорошая плата и социальная страховка. Для своего класса она устроилась шикарно. Она умеет торговаться — кухарка так себе, но учиться не хочет.
Таковы мои тягостные новости
За исключением — мой редактор очарователен — с красивой молодой женой они приезжали в Париж обсудить со мной рукопись[201]. И поскольку я уже набрала 215 страниц, он собирается нанять секретаря до окончания и платить ему из будущего гонорара.
Мои глаза все еще покрывает пелена — вот почему я не пишу чаще. Могу вообще перестать — не волнуйся — сюрпризом для меня не будет. У меня не может быть много новостей. Звонит телефон — soubrette что-то лопочет и приносит мне какую-нибудь невероятную новость. Роберт Лешер (издатель) думает, что она бесполезна, но забавна.
Поваренная книга о писателях и художниках, для которой меня попросили написать предисловие, вот-вот выходит из печати.
Сейчас я должна привести свой угол в порядок — приходит мой доктор — колено гораздо лучше — артрит хуже — усталость огромная.
Не волнуйся обо мне — мне 84 года. Все старые люди падают — тетушка, катающаяся на льду — бабушка, выскакивающая из трамвая.
С большой любовью. Ты всегда в моих мыслях и молитвах.
Элис.____________
Принцессе Дилкуше де Роган, Лондон.
26 ноября 1961 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогая Дилкуша!
Пьер Балмэн приходил на днях навестить в сопровождении весьма очаровательного молодого китайца, с которым познакомился в Пекине. Пьер хотел посмотреть книгу Фрэнсиса [Роуза]. Женщина, читавшая его книгу мне вслух, так наскучила мне, и я часто «отсутствовала», чтобы не слышать ее неприятный голос. Не помня, что Фрэнсис написал о нем и его матери, я дала Пьеру книгу. Мать Пьера, вдова доктора — в свое время открыла магазин для продажи драгоценностей неопределенного вкуса — продала даже свой жемчуг, чтобы оплатить его [Балмэна] первый взнос на улице Франсуа Премьер. Ну вот, когда Пьер прочел описание своей матери как «зеленщицы», представляешь его ужас. Первой его мыслью было призвать к порядку, но он быстро понял, что это была одна из бесконечных врак Фрэнсиса. Американское издание его книги окажется в аховом состоянии, Он пишет, что ежедневно встречался в Берлине с Герингом — Гитлером — Муссолини, все это время гостил вместе с Сесилем в Билиньине. Умоляю, не исправляй книгу для американского издания. Твое имя не должно путаться с его!
Только собиралась написать тебе о Дженет, как она позвонила — она появится завтра утром, чтобы прочесть мне пять страничек, которые написала о картинах. Молю Бога, чтобы она не выболтала лишнего. Она удивительно худая и суетливая — у нее серьезный артрит, она постарела.
Я на ¾ полька[202]. Напики — чистые поляки, никакой ненависти к кому-либо. Не думаю, что и я ненавижу кого-нибудь теперь. Мой духовный отец вернулся в Англию, а его преемник — старый, старый друг Бернара. Он поможет мне.
Да благословит тебя Бог.
Преданная тебе,
Элис.____________
Арнольду Уэйссбергеру, Нью-Йорк.
29 января 1962 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Арнольд!
Я выздоравливаю — не очень быстро, но вполне приемлемо. Я отправилась вчера на просмотр коллекции Пьера Балмэна. Сидела на маленьком стуле между принцессой Изабеллой и нашим послом, генералом Гэвином с его привлекательной женой. Шоу было изумительно прекрасным. И я там присутствовала в лучах славы, которую мне устроил Пьер, но вернулась домой одеревеневшей и уставшей.
Я вошла в комнату сама, без помощи сиделки.
Преданно,
Элис.____________
Дональду Сазерленду, Боулдер, Колорадо.
16 мая 1963 г.
улица Кристин, 5, Париж VI.
Дорогой Дональд!
Не знаю, какой сегодня день — Хасинта отобрала бумагу, а календарь мне не помогает. У меня чертовская неразбериха, все стараются мне помочь. Женщина, которая купила эту квартиру, когда дом [был продан] несколько лет тому назад прислала huissier[203] вчера в 7:30 утра, который предупредил, что вызовет полицию с ордером на выселение. Джо Бэрри и Дода Конрад пытаются мне помочь. Дода привлек на помощь Мальро. Похоже, что он может помочь. Мадлен же утверждает, что если генерал де Голль мне не поможет, придется отправиться сейчас же в отель.
Новостей нет, и потому, что никто не приходит, разве что в порядке оказания помощи. Но возможно вскоре будут и хорошие новости. Ни тебе, ни Гилберте не следует ничего предпринимать в связи с намерением полиции выселить меня.
С горячей любовью к вам обоим.
Преданно,
Элис.____________
Луиз и Редверс Тейлор, Англия.
[4 Ноября 1964 г.]
улица де ля Конвенсьон, 16, Париж, XV.
Дорогие Рэд и Луиз!
Вы даже не представляете, как я рада, что увижу вас здесь, в Париже 11 декабря. Проиграв дело в суде, меня выселили с улицы Кристин. После 3-х месячного пребывания в американском госпитале и двух недель в реабилитационном доме, где мной занимался слепой массажист, Мадлен перевезла сюда мебель и мои принадлежности. Ну вот, теперь я здесь, в моем возрасте в новом доме, очень современном, — но без права даже вбить гвоздь в стену — это страна живописи! Увидите меня 13-го, когда, надеюсь, стану достаточно здорова, чтобы ходить.
Всегда о вас думаю и молюсь за вас.
Преданная Элис____________
Уэнделл Уилкокс, Чапл Хилл, Северная Каролина[204].
15 января 1965 г.
улица де ля Конвенсьон, 16, Париж, XV.
Дорогой Уэнделл!
Рада услышать от тебя. Сэм вполне мог передать тебе новости, гораздо лучшие, чем настоящие, ибо я уже год как прикована к постели. Новая квартира вполне приемлемая и я постепенно к ней привыкаю. Улица Кристин была полна любимых воспоминаний о Гертруде, но меня выселила владелица, которая переделала квартиру по своему вкусу. Несколько лет тому назад она пришла посмотреть квартиру и сказала: «У вас много замечательных картин». А я ответила: «Они никак не сочетаются с вашей квартирой». Тогда она не могла отличить одну картину от другой, теперь же она эксперт.
Квартира современная — с центральным отоплением. Если что с ним случится, будет страшное бедствие. Пять этажей подниматься. Не думаю, что когда-нибудь полюблю это жилище.
Моя глубокая любовь вам обоим и наилучшие пожелания к Новому году.
Элис.____________
Бенджамину Дж. Бенно, Нью-Йорк.
22 марта 1965 г.
улица де ля Конвенсьон, 16, Париж XV.
Дорогой Бенно!
Одним из самых живых и радостных воспоминаний был визит Гертруды Стайн к тебе на квартиру, расположенную очень высоко на самом верху бесчисленных этажей. Гертруда позднее сказала мне: «В его картинах так ощущается влияние, скорее понимание Пикассо. Спустя столетие их будут продавать не как псевдо-, а как истинный Пикассо». Интересно, приходилось ли тебе быть у нас в Париже и видеть принадлежащие ей Пикассо.
После последней войны мы вернулись в Париж, она купила портрет работы Доры Маар — единственная картина, оставшаяся у меня. Скучаю по старой квартире, заполненной памятью Гертруды Стайн. Если будешь в Париже, хотела бы с тобой увидеться. У меня катаракта, которую в самом ближайшем времени удалят и тогда я смогу посмотреть документы, который ты мне послал.
Сердечно,
Элис____________
Гарольд и Вирджиния Напик, Нью-Йорк.
9 января 1966 г.
улица де ля Конвенсьон, 16, Париж XV.
Дорогие Гарольд и Вирджиния!
Так рада получить от вас весточку, устала ждать, когда вернетесь в Париж. Я ожидаю массажиста, который должен был появиться еще несколько месяцев тому назад. Вообще говоря, я ждала, чтобы собрать денег на оплату его услуг. Не знаю, что будет со мной. В данный момент я живу на деньги, посылаемые банком. Юрист армянки[205] пытается выработать какое-то соглашение, не продавая картин. Но как он собирается добиться этого, я, конечно, не знаю.
Приезжайте скорее, меня не хватит надолго.
A bientôt ЭлисОни приехали в Париж творить[206]
До моего появления в Париже Генри Джеймс жил уже в Англии. Когда мы отправились туда в 1902 году[207], было договорено, что один день мы погостим у него в Райе. К моему горькому разочарованию, нас известили, что он по состоянию здоровья не сможет нас принять в назначенный день, и предложили прийти на следующей неделе. Увы, нам надо было возвращаться в Париж. Это была моя единственная и утраченная возможность. Влияние проведенных Джеймсом лет во Франции можно с избытком найти в произведениях, написанных им в Англии. Смог бы он так едко написать «Трофеи Пойнтона» о событиях, происходящих в Англии, не имея глубокого личного французского опыта? Разве опыт проживания вначале в Италии, затем во Франции и наконец в Англии, даже приобретение им британского подданства делает его менее американским писателем? Разве его национальный характер не укрепился благодаря внешней приверженности к привычкам и образу жизни других стран?
Первой, кого я встретила на французской земле, сойдя с корабля, была писательница Гертруда Стайн. Она так много написала о своей работе, друзьях и себе, с таким сокровенным пониманием и точностью, что испытываешь определенную робость, пытаясь добавить свои соображения к тому выбору лиц и событий, которые заслужили ее пера.
После освобождения в 1944 году Стайн начала встречаться с большими группами солдат и офицеров. Среди первых навестивших ее был Джозеф Бэрри, ныне корреспондент «Нью-Йорк Таймс», с которым у нее сложились теплые дружеские отношения. Она также встретилась с 4-мя или 5-ю генералами и была удивлена, обнаружив удовольствие от общения с ними. Один из них, уходя, поинтересовался: «Могу ли я прийти опять, мисс Стайн? Вы, ни чуть не смутившись, высказали мне свою привязанность к визитам солдат. Увы, так уж получилось что я — генерал». На это она ответила: «Конечно, приходите. Вероятно, генералы не похожи на произведения живописи. Видите ли, в картинах меня не интересует конец серии. Я люблю картины, в процессе создания которых продолжается борьба за выражение чего-то нового. Но поскольку генералы — законченный продукт, они меня интересуют. Да, приходите».
Один солдат заметил: «Хорошо же вам, сидя в своей комфортабельной квартире, советовать нам отправляться домой и испытать себя на новом поприще. Совет, данный из кресла, воспринимается не очень убедительно». На это Стайн ответила: «Думаю, что у меня есть доказательства того, что я пережила трудности, выпавшие на долю первопроходцев». Эта борьба была для нее естественным образом существования. «Искушение искушает?» — спрашивала она обычно. Американцы были удивлены, некоторые шокированы ее характерным американизмом, ее неприятием того преимущества, которое представляет чужая культура.
Следующим писателем, с которым я познакомилась, была Милдред Олдрич, чей роман «Вершина на Марне» был бестселлером в 1915 г. Она числилась театральным критиком журнала «Бостон Транскрипт» и обращалась к каждому по имени. Представляя нам двух очередных друзей, она сказала: «Разрешите представить Генри и Роджерса». «Милдред, — спросила Г. С., — есть у них фамилии?». «Да, кстати, — ответила Милдред, обращаясь к обоим, — какие у вас фамилии?». Высокий американец ответил: «МакБрайд», а черноглазый англичанин, прошептал: «Фрай».
В те ранние дни в Париже было несколько американских женщин, писавших романы, смотревших свысока на тех, кто писал об искусстве, а те, в свою очередь, свысока относились к тем, кто писал обозрения по вопросам моды.
Затем одним летом — должно быть в 1912 г. — у нас состоялась краткая встреча с Карлом Ван Вехтеном. Это была взаимная любовь с первого взгляда, которая стала началом продолжительной, редкостной дружбы, неописуемой преданности с его стороны и абсолютного доверия со стороны Г. С. И когда ей, ужасно боявшейся высоты, предложили лететь в Чикаго для посещения ее оперы, она ответила [обращаясь к Вехтену]: «Я полечу, если ты полетишь со мной». Год спустя, мы опять свиделись с Вехтеном и его очаровательной женой Фаней Маринофф. С того посещения началась беспрерывная переписка.
Он-то и нашел для Стайн первого, а позднее и последнего издателя. Именно Карл убедил Дональда Эванса опубликовать «Нежные кнопки». Он же написал затем роман «Питер Виффл», первый из романов о той эпохе, в создании которой принимал участие. Затем однажды он внезапно отбросил самое величайшее из искусств и переключился на фотографию. Когда Стайн осудила частые разводы и замужества одной из их общих друзей, он сказал: «Ты должна запомнить, что каждое ее замужество очередной трамплин в высшее общество».
Затем пришла война 1914–1918 гг. Американские женщины-писательницы, поэтессы и обозреватели моды, вернулись домой. После окончания войны их сменили представители молодого поколения американцев, заполонившие Париж, чтобы заняться литературным творчеством. Многие из них верили, что в городе уличных кафе и алкогольных баров (сухой закон в США был в полной силе) и Бодлера мастерство писательства передается друг другу как инфекция.
В первое же свое посещение Парижа Шервуд Андерсон нанес визит Г. С. Во второй приезд он уже встречался с ней часто. Он обладал прямолинейным характером, саркастическим остроумием и всеобъемлющим сердцем — неотразимая комбинация. Он не знал французского языка, но удивительно легко общался с парижанами, особенно с рабочим людом. Он рассказал нам, что в течение какого-то времени разъезжал по стране с лекциями. Однажды обнаружил, что приковывает к себе внимание слушателей [как лектор] — точно как певец в опере. Он, естественно, немедленно разорвал контракт и прекратил чтение лекций. Он был очень красивым, невероятно очаровательным и талантливым рассказчиком.
Скотт Фитцджеральд, первый из «потерянного поколения», как его нарекла Г. С., был единственным из парижского десанта, кто уже продемонстрировал свой талант и талант огромный. Фитцджеральд, весьма интеллигентный, необыкновенно притягательный выделялся среди всех остальных. На свое тридцатилетие он пришел к Г. С. и поделился своим неприятием того факта, что с юностью покончено. «Но ты и пишешь как тридцатилетний», — убежденно сказала Г. С. «Правда?» — спросил он. Он никогда не верил ее оценке своего творчества, уж чересчур отрадной, чтобы быть правдой. Он обладал скептическим умом. «Легко льстить пожилому человеку», — прокомментировал он топорность одного из своих современников, когда те пришли навещать нас.
Был еще и Дос Пассос, с его очаровательным испанским и Гленуэй Уэскотт с его канадским акцентом, и Хемингуэй, чьи черные сверкающие глаза — в то время они были именно такими — чьи ослепительная улыбка и guiches[208], делали его похожим на итальянца. Он однажды и упомянул, что у него течет итальянская кровь. Отделение Красного Креста, куда он поступил добровольцем, было прикомандировано к итальянской армии, участвовало в сражении и отступлении под Капаретто, что Хемингуэй подробно описал в романе «Прощай, оружие». Хемингуэй, говоря об одном американце и его жене, приехавшими в Париж, чтобы стать писателями сказал, что знал их, когда те даже не умели читать и писать. Подобное ощущение у меня возникло и в отношении Хемингуэя: ни чтение, ни писательство не было естественным и неизбежным зовом его натуры.
Эзра Паунд, с которым в 20-х мы встречались несколько раз, интересовался японскими эстампами, политической экономией и восточной музыкой. Его суждения напомнили мне замечание королевы Виктории, когда кто-то неудачно выступил перед ней с ирландской уличной балладой «Зеленые одежды»: досадно и весьма ошибочно[209].
Т. С. Элиота привели к нам только один раз. Он был мягким, немного импозантным, уже немолодым человеком. Он сидел, отказавшись отдать зонтик, сцепив руки, глаза сверкали на безучастном лице.
Торнтона Уайлдера Г. С. встретила лишь в 1934 году и между ними сразу же завязалась дружба. Бесконечными были их дискуссии на прогулках в сельской местности, на переполненных городских улицах, у нее дома. Некоторые из идей, возникших в этих беседах, использованы в ее произведениях. Разнообразие интересов и деятельности Тортона приводило ее в восхищение, оно, казалось, целостно объединяло его творчество, а не распыляло его. Роман «На небо мой путь…» она считала истинно американским романом. Она хотела, чтобы он больше создавал подобных романов. Из его пьес выделяла одноактную пьесу «Королевы Франции».
Сегодня в Париже достаточно молодых писателей-солдат с их Биллем Прав и вторым романом на выходе. Они берут курс в Сорбонне, именуемый Французская Цивилизация, по окончанию которого в конце года им выдадут свидетельство о посещении. Есть более серьезные специалисты, обладатели стипендии Фулбрайта, исписывающие тома для своих докторских диссертаций. Есть молодой, очень молодой человек по имени Отто Фридрих, который в настоящее время работает над своим четвертым романом и который возможно окажется очень важным человеком будущего. И молодой Джордж Джон, чья ранняя поэзия произвела большое впечатление на Г. С. и чье нынешние достижения она предвидела. Хорошо было бы закончить на этой оптимистичной ноте, но нельзя целиком проигнорировать пеструю группу людей, околачивающихся вокруг разнообразных кафе на улице Сен-Жермен де Прэ. Они публикуют и поставляют свои эссе, по крайней мере, в один, небольшой журнал. Их можно без опаски не брать в расчет как «непредсказуемое будущее».
Дж. Уикс Кто на самом деле написал «Автобиографию Элис Б. Токлас»[210]
Я встретился впервые с Элис Токлас в 1958 году. Тогда я работал в Брюсселе и по выходным дням время от времени наезжал в Париж. Останавливался я у своего друга Фрэнка Уайта, сотрудника журнала «Тайм Лайф», жившего в старом Латинском квартале. Фрэнк разделял мой интерес к американским писателям, побывавшим в Париже в двадцатые годы, и познакомил меня с несколькими из тех, кто остался там надолго. В основном это были журналисты, которые в их золотую пору обживали Dome и Dingo и запросто рассказывали о близких знакомствах с Хемингуэем, Фитцджеральдом и героями книги «И восходит солнце». Большинство были хорошими рассказчиками, знали множество занятных историй, заметно сдобренных ностальгией и воображением.
Вскоре эти истории стали повторяться и я понял, что набор их ограничен, основан на слухах, а иногда и просто надуманы, поскольку я распознал некоторые, взятые у Хемингуэя. «Воспоминания» эти не надоедали, но мне после какого-то времени захотелось подобраться поближе к их первоисточникам и поговорить с теми, кто и в самом деле участвовал в событиях тех дней, а не просто ошивался в Монпарнасских кафе. Я хотел встретиться с такими людьми как Сильвия Бич. Дженет Флэннер, Эжен и Мария Жола и услышать их рассказы о Джойсе. И хотя мной владело любопытство и любовь к сплетням a la Boswell[211], я всегда сохранял чувство такта и руководствовался принципом, в соответствии с которым нечестно лезть в частную жизнь людей без легитимной на то причины.
Тем не менее, для посещения мисс Токлас у меня и в самом деле был мотив. Во мне зародилась идея сделать запись серии интервью с целью создания биографии Гертруды Стайн, в изложении самой Элис Б. Токлас. Уверенности, что Элис Токлас посчитает такую идею привлекательной, у меня не имелось — я слышал, что она сама являет собой достаточно мощную личность и потому колебался. Но когда я поделился этой идеей с Фрэнком, он убедил в меня, что стоит попробовать, даже если Токлас откажется, и обещал с ней договориться. Он встречался с Токлас несколько раз и нашел ее вполне доступной, хотя и непростой. В следующий приезд в Париж у меня уже была назначена встреча с Элис Б. Токлас. Фрэнк хотел сопровождать меня, поскольку я нервничал, но этот визит я хотел осуществить самостоятельно, и потому он покинул меня у двери на улице Кристин, 5. Существует масса описаний этой квартиры, увешанной захватывающими дух картинами Пикассо, и нет смысла добавлять к этой массе и свое собственное впечатление. Существует много описаний и самой мисс Токлас, но в данном случае мои собственные впечатления были совершенно отличны от существующих, и я не могу не изложить их в этой статье. Большинство людей, видевших ее после смерти Гертруды, (и многие знакомые с ней при жизни Стайн), похоже, считали ее чем-то вроде ведьмы или сравнивали с пауком — маленьким, скрытным и опасным. Мне же она показалась просто одной из моих двоюродных бабушек.
У меня большой опыт общения с ними, так как значительную часть своего детства я проводил в их компании. Моя мать сумела воспитать во мне чувство божественного почтения к членам семьи, которое включало ухаживание за болеющими и престарелыми родственниками, и мы росли, воспринимая эти обязанности как само собой разумеющиеся, иногда даже находя визиты к ним увлекательными, Престарелые родственники состояли в основном из вдов и старых дев. У нас было значительное число тетушек с обеих сторон семьи и вдобавок несколько вне ее — так сказать, двоюродных и одиноких старушек, не состоящих ни каком родстве. Я вспоминаю бесчисленные субботние чаи с печеньем, игру в карты и беседы с ними. Встречи с некоторыми были вполне занимательными, в других случаях они воспринимались как часть нашей работы.
Вот почему я почувствовал себя в своей тарелке, как только перестал таращиться на Пикассо и обрел самообладание. У мисс Токлас, которой было за 80, были проблемы со слухом и со зрением. Она напомнила мне мою двоюродную бабушку Элис, дожившую до 92 лет, ослепшую и почти глухую, но до самой смерти сохранившей доброе настроение. Как и у тетушки Элис, у мисс Токлас на подбородке выросли волосы, и сама она издавала какой-то старческий запах. На такого рода детали в нашей семье внимания не обращали, от нас требовалось целовать старушек при встрече и расставании. С моим детским навыком, с полуденным чаем и печеньем, эта суббота с мисс Токлас напомнила старые времена. Относиться вежливо и внимательно к старым женщинам было моей второй натурой, мне не пришлось подстраиваться, и мы наладили контакт с первых же минут.
Ее ум был в полном порядке. Она, как и прежде, была энергична, жива, проницательна. Она точно уловила, что я не отношусь к ней как к доисторическому чудищу, и вскоре поняла, что я не собираюсь выкачивать из нее информацию, как до меня поступали журналисты и биографы, а позволяю говорить лишь ей самой и то, когда ей вздумается. Мы приятно побеседовали — мисс Токлас была остроумна, как моя тетушка Хильда, обладавшая бесконечным количеством баек о людях, которых я, предполагалось, обязан был знать, хотя на самом деле не знал. Но наступил момент, когда я решил, что вполне безопасно могу изложить свое предложение.
Поначалу мисс Токлас, кажется, не сразу уловила, что у меня было на уме. Когда же поняла, то взглянула на меня и сказала: «О, я не смогу этого сделать». Я опасался, что она отвергнет сам замысел или отрицательно отнесется к присутствию магнитофона, как многие пожилые люди, но не это имела она в виду. Причина, которую она привела, оказалась для меня полной неожиданностью: «Видите ли, прежде всего надо заметить, что именно я написала „Автобиографию“».
Она стала объяснять, что Гертруда уговаривала ее написать мемуары под названием «Мои 25 лет с Гертрудой Стайн». Элис отказывалась, приводя массу разного рода возражений: «Я люблю вышивать и кухарничать. Самое большее, что я смогу сделать — написать поваренную книгу». Но Гертруда продолжала настаивать. Элис же напирала на то, что не имеет ни малейшего представления о писательстве. Но Гертруда сказала, что это неважно, что она сама годами игнорировала фундаментальные принципы писательства и вроде никто не возражал. В конце концов, Гертруда предложила гострайтинг, но Элис отказалась. Она напишет только, если будет стоять ее имя. Элис принялась за работу, но это оказалось трудным занятием, самым трудным, когда-либо ею выполняемым. Она, да, знала, что хотела изложить в книге, но сам процесс написания представлял для нее трудности. Гертруда помогала, как могла, вначале редактируя, написанное Элис, а затем стала сама записывать слова Элис, по ходу редактируя текст. Именно по этой причине, пояснила Элис, книге и следовало присвоить название «Автобиография Элис Б. Токлас» с авторством Г. Стайн.
С самого начала ко всей этой истории обе относились как к небольшой шутке, а книга должна была именоваться «Мои 25 лет с Гертрудой Стайн». Но когда «Харкорт Брейс» принял рукопись к печати, а «Атлантик Мансли» решил опубликовать отрывок, для Гертруды Стайн оказалось чересчур трудным отказаться от искушения стать автором публикация в «Атлантик Мансли». Это была мечтой всей ее жизни и Элис сказала, что не возражает. Мисс Токлас подтвердила мне, что и теперь, в 1958 году, у нее нет никаких сожалений по поводу происшедшего. Для нее эта книга была целиком и полностью книгой Гертруды. Меня это очень тронуло тогда, как и впоследствии, когда она опубликовала «То, что помнится» — тронуло преданностью мисс Токлас памяти Гертруды Стайн.
Она достаточно благосклонно и с любопытством отнеслась к предложению написать биографию Гертруды Стайн, но не рассматривала его серьезно. Она сообщила мне, что Джон Мальколм Бриннин пишет биографию Гертруды Стайн, и она наверняка окажется самой точной и тщательной по сравнению с тем, что она смогла бы восстановит по памяти. К тому ж, сказала она, память ее уже не такая хороша, как бывало.
Я встречался с мисс Токлас еще несколько раз, и каждый раз она немного подтрунивала над моей автобиографией Гертруды Стайн, имея в виду мою, не ее. Во время последующих визитов я заметил, что ее память действительно отказывает ей. Она повторяла некоторые случаи из «Автобиографии Элис Б. Токлас», забывая, что они не только уже опубликованы, иногда неправильно излагая их. В одном таком случае, который она упоминала неоднократно, она каждый раз опуская заключительную фразу. Речь идет о случае, когда Фитцджеральд взял верх над Хемингуэем. Как хорошо известно, мисс Токлас не разделяла увлечение Гертруды Стайн Хемингуэем. Она предпочитала Фитцджеральда и высказывала свою привязанность, повторяла эту историю всяческий раз. Совсем недавно в годовом сборнике «Фитцджеральд-Хемингуэй» за 1970 год, к моему удовлетворению, это мое наблюдение было подтверждено Лоуренсом Стюартом. Он сообщает о своих визитах к мисс Токлас в 1960 году и записал несколько вариантов этого случая, который мисс Токлас повторяла несколько раз.
Хотя мисс Токлас отклонила мое предложение, она должно быть задумывалась об этом, возможно ощущая некую обязанность по отношению к памяти Гертруды Стайн. Так это или не так, но спустя пять лет она опубликовала мемуары под своим именем «То, что помнится». Весной 1963 года я снова побывал в Париже и навестил ее незадолго до появления этой книги. Элис выглядела усталой и еще более постаревшей. «Ну что ж, книга окончена, — сказала она. — Думала, никогда не окончу. Она забрала у меня все оставшиеся силы и на сей раз рядом со мной не было Гертруды. Но книга закончена». Элис казалась душевно успокоенной и даже горда собой. «Разница на этот раз заключалась не в написании, а в воспоминании». И из древних этих глубин раздалось нечто вроде усмешки: «В этом смысл названия».
Д. Сазерленд Встречи с Элис Токлас (отрывок)[212]
1966
Я прибыл в Париж на день Перемирия, в пятницу и вкупе с последующими субботой и воскресеньем, даже понедельником, образовался длинный выходной, так что почти у каждого парижанина оказалось достаточно отпускных дней, чтобы выбраться из города. Такая ситуация обещала мне скучное время пребывание, если не превратиться опять в туриста и заняться посещением памятников. Я мог бы в один из этих дней навестить Элис, иначе дни окажутся утомительно длинными.
У Элис нашлось для меня время, и она пригласила меня на ленч в субботу. Она по-прежнему принимала гостей, хотя обычно в полусидячем положении и во второй половине дня, поэтому я посчитал полученное приглашение большой удачей.
Новая квартира в высоком здании на улице де ля Конвенсьон выглядела безыскусной и строгой, но по-своему элегантной, а большой и дорогой восьмиугольный стол, за которым мы перекусывали, оказался весьма удобным. Элис уже не ходила самостоятельно, ее подвезли к столу, но в остальном была в прекрасной форме. У нее были хорошие новости: появился юрист, русский из Парижа, которого ей нашел Гил Харрисон и в ближайшем будущем все ее долги буду погашены, ей восстановят положенную регулярную материальную поддержку. Вышло в будущем не совсем так, но сама перспектива придала ленчу радостную атмосферу. Мы болтали о многом: об автобиографии Вирджила Томсона, которую я нашел чудесной и примечательной своей конфиденциальностью. Она согласилась, что книга чудесная и примечательная, но содержит конфиденциальную информацию, делая общедоступным тот факт, что Сэр Томас Бичем был любовником Леди Кунар. Я ответил, что это действительно явилось для меня новостью и возможно нарушением конфиденциальности. В ту же минуту мне пришло на ум, что Томсон не был осторожен и в отношении Гертруды и Элис, но поскольку для меня его высказывания не были в новинку, я и не подумал об этом как о нарушении конфиденциальности. Я посмотрел на Элис — она сохраняла невинное выражение на лице, будто не она только что упомянула историю Бичем-Кунар как нарушение конфиденциальности Вирджилом Томсоном, чтобы избежать упоминания настоящего секрета. Поэтому я сменил тему разговора и упомянул автобиографию, написанную Анитой Лос, которую Элис еще не прочла, поскольку куда-то задевала свой экземпляр. Я сказал, что книгу действительно следует прочесть, она прекрасная, искренняя как сама Анита, и очень забавная. Я пообещал прислать другой экземпляр, если она не найдет свой. Я также предложил свой экземпляр книги «Хладнокровное убийство», только что вышедшее в Европе. Ей нравились произведения Трумена Капоте, гораздо больше чем мне. Несмотря на это, меня привлекла его новая книга, и я подумал, что она может особенно прийтись по вкусу Элис. «Много ли там кровопролития?». «Бог мой, там ничего другого и нет», — ответил я. «Тогда она не для меня», — вздохнула Элис с сожалением. Мы редко сходились в оценке литературных произведений или живописи, за исключением двух священных тем — Стайн и Пикассо, но даже в этих случаях мы, естественно, читали или смотрели не в одном и том же ракурсе. Но эти расхождения были незначительными и служили лишь основой для оживленных бесед. Иногда мы соглашались полностью, например, в том, что Шагал был ужасен. Я высказал предположение, что он мог бы быть прекрасным иллюстратором детских книг или сказок, но она ответила: нет, для этого, по крайней мере, необходимо чувство цвета. Она сказала, что, по мнению Гертруды, Пикабиа обладал некоторыми идеями, у него, однако, ничего подобного не было. «Но, — сказал я, — у него в рисунках ощущается напряжение, движение». «Гертруда тоже так считала». Она и Гертруда постоянно, но в большинстве случаев, лишь слегка, расходились во мнениях…
Должно быть во вторник, пополудни я отправился повидаться с Элис опять, сообщив по телефону, что скверно себя чувствую и должен преждевременно уехать из Парижа. Я не сказал насколько скверно, подозреваю серьезно, а судя по тому, что мне пришлось покинуть Париж, голос мой должно быть звучал очень тревожно. Элис сидела в гостиной с маленькой бутылочкой туалетной воды на коленях… На столе у кресла, предназначенного для меня, стояла бутылка хереса и немного печенья. Когда я уселся, она поинтересовалась, что со мной. Она уставилась на меня как ястреб своим единственным, относительно хорошим правым глазом. Я поведал ей свои симптомы, которые сам диагностировал как небольшой инсульт или небольшой инфаркт, но не был уверен.
«Должно быть, усталость», — заметила Элис. «Будем надеяться», — ответил я. Разговор принял серьезный тон. Оба понимали, что, скорее всего, этот разговор — наш последний, как то и случилось. Мы не могли не понимать, что даже если у меня и была всего лишь усталость и я вернусь в Париж в следующем году, вполне вероятно, ее уже не будет в живых. Я пытался избежать серьезности и неизбежности ситуации, но Элис ее коснулась. «Почему ты так добр ко мне?». Я не относился к тем, кто отличался особенно внимательным отношением к ней. Более естественно было бы задать этот вопрос Джо Бэрри или Дода Конраду, Торнтону Уайлдеру или Дженет Флэннер, Вирджилу Томсону или Пикассо, женщине из Чикаго или Мадлен, во-первых, потому, что большинство из них были старше и более близкими друзьями, а во-вторых, их ответы были бы куда интереснее. Элис не была привычна к доброте, не ожидала ее выказывания, а потому вынуждена была допытываться о причине ее малейшего наличия. Гертруда не была добра к ней. В течение всей их долгой, наполненной событиями совместной жизни, ссоры и случаи распавшейся дружбы с разными писателями и художниками, несомненно, привели к тому, что у Элис было больше врагов, чем друзей. Будучи по натуре воинственной, она не возражала против хорошей схватки и возможно даже ценила врагов в той же степени, если не больше, как и друзей.
Я определенно не собирался делиться с ней этими соображениями, потому что любил ее, и это было бы правдивым заявлением, хотя и смущающим и смехотворным, если не сопровождать длинным объяснением характера этой любви. К тому же я не люблю откровенного всплеска подобного рода эмоций. И будь я тогда даже в полном здравии, я бы не сделал подобного заявления. А потому ответил: «Потому что вы всегда были добры ко мне».
«Правда?». Было похоже на то, что она сама не подозревала об этом или доброе отношение ко мне не числилось в ее памяти. Но я не собирался вдаваться в детали отношения:
«Ну почему ж, — сказал я. — Не вы ли устроили мою книгу о Гертруде Стайн в издательство „Галлимар“ в 1950 году?»
Элис не была расположена к шуткам. Она с раздражением покачала головой.
«А Йейл?» — спросил я.
«Да», — это она согласилась принять как причину. Но это была самая незначительная из причин.
«И гораздо больше, — сказал я. — Вы достаточно хорошо знаете. Мы были друзьями, начиная с 1934 года, более 30 лет и, бог мой, никогда не ссорились. Были ли у нас расхождения?». «Полагаю, нет».
Мы никогда не обсуждали религию или политику или секс, придерживаясь весьма старомодных правил этикета, оберегая нашу дружбу от подобных рифов.
«Ну вот», — сказал я, стремясь перейти к более легким вопросам. Отвлекающий маневр удался лишь на короткое время, ибо вскоре всплыло имя Хемингуэя.
Определенно не я поднял эту тему. С момента посмертной публикации «Праздника, который всегда с тобой», среди нас было согласие, что книгу надо держать подальше от Элис и не упоминать при ней ни имя Хемингуэя, ни саму книгу. Там описывалось, как «компаньонка» Гертруды обращалась к Элис на языке, который Хемингуэю никогда не доводилось слышать в разговоре. Несомненно, это была излишняя предосторожность, ибо упоминание этого случая скорее развлекло бы Элис, а не расстроило. Да и она, кажется, читала книгу, но мне об этом никогда не упоминала. Последний раз, когда она при мне произнесла его имя, случилось до того, как вышла эта книга, вскоре после его самоубийства. Она не выказала ни радости, ни эмоций, узнав новость о мелодраме его самоубийства, повторившей самоубийство его отца. Только спокойно и без видимого злорадства вздохнула: «Что за наследственность для детей!». После этого, кажется, и не вспоминала о нем. Что же до пошлостей или ругани, мне от нее непосредственно никогда не приходилось их слышать. Самое «близкое», что я могу вспомнить, произошло в Акуи, когда она заподозрила, что я чересчур заинтересовался несколькими женщинами в отеле. Одна из них страдала артритом рук, настолько слабым, что могла легко унять боль простым похлопыванием ими. Элис именовала ее мадам «хлоп-хлоп». Я привык внимательно прислушиваться к ее эвфемизмам. Например, она употребляла выражение «компрометировать» вместо «соблазнять» или еще откровеннее, «прямолинейный» вместо «бессовестный», «нечистый» вместо «бисексуальный», «неадекватный» вместо «в стельку пьян»; потому с первого раза не сообразил, что «хлоп-хлоп» относится не только к шуму, производимому той женщиной[213]. Сейчас, четыре года спустя, я понял и готов был поверить рассказу Хемингуэя.
Теперь она объявила мне: «Знаете, я заставила Гертруду избавиться от него».
«Знаю», — ответил я. Я знал не только по книге; мне также было известно то, чего мы никогда не касались в наших беседах — отношения между Гертрудой и Хемингуэем в один период вышли за рамки литературной дружбы или взаимной привязанности матери и сына. Я слышал, что Хемингуэй нередко упоминал в разговорах, а однажды и в письме, что хотел уложить ее в постель. Легко могу в это поверить, ибо, когда я встретился с Гертрудой вторично, она подошла слишком близко ко мне и моя сексуальная реакция была недвусмысленной, а учитывая разницу в возрасте — мне было 19, а ей 60 — обескураживающей. Она отметила в книге, что я нервничал, когда мы встретились впервые; выражение «нервничал» и близко не отражает мое состояние при вторичной встрече. Разница в возрасте между ней и Хемингуэем была меньше, и поскольку тогда она была на 14 лет моложе, чем при нашей встрече, ее сексуальная привлекательность должна была бы быть еще более настораживающей. Во всяком случае, ясно, что ее привлекательность, как и стремление быть желанной, встревожили Элис. Но она не знала, что все это было мне известно, как и то, что, заставляя Гертруду избавиться от Хемингуэя, Элис разрушала либо любовный треугольник, либо зарождавшуюся связь. Я, по-видимому, выглядел озадаченно, так как она настаивала: «И когда подумаешь обо всех его женах! Думаю, я была права».
«Несомненно», — сказал я, хотя в тот момент целиком еще не понимал, что Элис имела в виду: она предполагала, что препятствует не простой интрижке, а супружеству, которое наверняка окажется кратковременным. У Хемингуэя либо не хватило смелости рассказать об этом, либо это была не та история, которую он смог бы должным образом изложить. Но присутствие серьезной страсти в рассказанной им истории — необходимая ее часть и это оправдывает всплеск сквернословия Элис, в противном случае не внушающий доверия. «У меня слабость к Хемингуэю», — признавалась Гертруда, обрамляя свои слова в мягком и вежливом стиле времен своей юности. Этот факт подкрепляется в ужасном конце этой романтической истории, который Стайн поведала Джо Бэрри, а он опубликовал, не излагая предысторию. После войны, после освобождения Ритца, в котором участвовал Хемингуэй, когда Стайн вернулась из своего убежища в департаменте Эн, он внезапно возник на пороге ее дома и сказал: «Привет, Гертруда, я стар и богат. Давай прекратим драться». На это Стайн ответила: «Я еще не стара и уже не буду богата. Давай продолжим драться». «А когда вспоминаю всех мужей Мейбл Додж, — думаю, я была права».
Я не был готов к такой фразе совершенно, голова моя была не в состоянии воспринять это. Но Элис действительно сумела избавиться от Мейбл Додж и держаться от нее на расстоянии. Она была удовлетворена, когда Мейбл, наконец, благодаря разрешению Конгресса смогла выйти замуж за индейца в резервации, и не расстроилась, когда Мейбл умерла. Как ухитрились бы жить вместе Гертруда Стайн и Мейбл Додж, даже на короткий срок, не могу вообразить, но для Элис такая ситуация, кажется, представлялась вполне вероятной. Такие смелые и решительные заявления, временами довольно новые в наших разговорах, начинали меня утомлять, как и вопрос, почему она их высказывает и почему ей так важно быть правой. Возможно, такие уверения делались на тот случай, если я доживу до того времени, когда решусь написать о ней — аналогично тому, как я написал о Гертруде, но в ту минуту даже мысль о необходимости написать простую открытку была изнурительной. Быть всегда правым есть весьма старое и традиционное пристрастие французов, не очень присущее католицизму. Так предположительно и в еврействе, и хотя у Элис такого поначалу не наблюдалось, она пыталась привить себе эту привычку. Гертруда как-то заметила ей: «Ты всегда хочешь быть правой. Не устаешь от этого?» По всей видимости нет, и стремление оказаться правой беспокоило ее, наверное, больше, нежели желание быть праведной — по понятиям той религии, на которой, как я полагаю, основывалась ее вера. Я не был в ясном состоянии ума и отбросил все эти вопросы.
Наконец я поцеловал ее на прощанье и неуверенно направился к выходу. «Спасибо за все», — сказала она и помахала бутылочкой с туалетной водой. Я сподобился обернуться и послать ей воздушный поцелуй со словами: «Спасибо за все, дорогая». Затем, крадучись, вышел…
1967
Последнее письмо от Элис датировано 7-м января 1967 года. Двумя месяцами позднее, утром 7 марта она умерла, слегка не дотянув 90-летия. Мой друг Чероки позвонил мне во второй половине дня с Восточного побережья, где вечерние известия уже передали это новость. Так получилось, что в это время в Боулдере я репетировал с актерами, готовя их к сценическому чтению пьесы Еврипида «Вакханки» и времени скорбеть у меня не было, как и писать в Париж, запрашивая детали. Кое-что стало известно из прессы, из письма Дженет Флэннер в «Нью-Йоркер» и взвешенно уважительной и гневной статье Джо Бэрри в «Виллидж Войс». Об остальных деталях мне пришлось дожидаться поездки осенью в Париж. Похороны Элис устроили по католическому образцу, видимо со всеми положенными правилами, хотя в течение нескольких дней она находилась в коме. Думаю, к тому времени, а может даже в последнюю нашу встречу, вера перестала означать что-нибудь для нее, но церемония прошла так, будто ей это было важно. Ее похоронили рядом с Гертрудой на кладбище Пер Лашез. По свидетельству Джо, она принимала снотворное, ей предписанное, в большом количестве и, задолго до того, как впасть в кому, была почти в беспамятстве. В его статье описывается, как Хасинта подошла к ее кровати и спросила, не хочет ли она есть. Элис отрицательно покачала головой: нет. Хасинта спросила, не хочет ли она пить. Элис покачала головой: нет. Хасинта со свойственной испанцам нетерпением и прямолинейностью спросила, не хочет ли она тогда умереть. Элис утвердительно кивнула головой: «Да».
Список публикаций Э. Токлас
1. Food, Artists and The Baroness, Vogue, March 1, 1950.
2. They who came to Paris to write. The New York Times, 1950, August 6.
3. Short Stories of Fitzgerald. The New York Times, 1951, March 4.
4. The Alice B. Toklas Cookbook. Random House, NY, 1954.
5. Secrets of French Cooking, Part I. House Beautiful, 1954, November.
6. Secrets of French Cooking, Part I. House Beautiful, 1954, December.
7. Blessed Blender in the Home. House Beautiful, 1955, July.
8. Cooking with Champagne. House Beautiful, 1955, October.
9. Some Memories of Henry Matisse. Yale Literary Magazine, 123, 1955, Fall.
10. How to Cook with Cognac. House Beautiful, 1956, March.
11. Aromas and Flavors of Past and Present. Harper & Brothers, NY, 1958.
12. Fifty Years of French Fashion. The Atlantic Monthly, 1958, June.
13. The rue Dauphine refuses the Revolution. The New Republic, August 18, 1958.
14. Sylvia and her friends. The New Republic, October 19, 1959.
15. What Is Remembered. Holt, Rinehart & Winston, NY, 1963.
16. Staying on Alone. Liveright Publishing Corporation, 1973.
17. Bodart Anne. The blue dog, and other fables for the French — перевод и предисловие Э. Токлас, Houghton Mifflin (1956).
Иллюстрации
Элис Токлас с братом Кларенсом, 1899–1900 гг.
Афиша о концерте Элис, 1901 г.
Элис Токлас, начало 1900-х.
Элис, 1902–1903 г.г.
Гертруда, 1903 г.
С Гертрудой Стайн в Венеции, 1908 г.
На вилле Барди Фьезоле 1908 г. Лео Стайн демонстрирует приемы фехтования с Александром Хейротом.
Слева — улыбающаяся Гертруда Стайн с 13-ти летним племянником Алланом, положив голову на колени Элис.
Снова кормят голубей в Венеции. 1908 г.
С медицинским персоналом больницы в Ниме, 1917 г.
Грузовик Форд, на котором Стайн и Токлас помогали Фонду по оказанию помощи раненым солдатам, 1918 г.
В квартире на улице Флёрюс, 1922 г.
В квартире на улице Флёрюс, 1922 г.
Гертруда Стайн позирует скульптору Джо Дэйвидсону, 1922 г.
С Пабло, Ольгой и Паоло Пикассо в Билиньине, 1930 г.
Два небольших кресла, обшитых Элис Токлас по эскизу Пикассо в конце 1920-х годов.
Гертруда Стайн и Элис Токлас в Экс-Ле-Бен, около 1927 г.
Стайн и Токлас спускаются по трапу самолета в аэропорту Чикаго, впервые совершив авиаполёт, 1934 г.
Прибытие в Америку, 1934 г.
Выступление по радио в США в студии NBC, 1934/1935 г.г.
Спокойное время в Билиньине, 1936 г.
Гертруда и Элис в Билиньине, 1938 г.
Стайн и Токлас в Кюлозе, 1944 г.
На прогулке в освобожденном Кюлозе, 1944 г.
Солдаты в гостях у Гертруды и Элис, 1945 г.
Элис и Стайн на веранде резиденции Гитлера в Берхстенгадене во время тура по Германии, 1945 г.
Гертруда Стайн в наряде от Пьера Балмэна, 1946 г.
Алиса Токлас, 1949 г.
Портрет Элис работы Доры Маар, 1952 г.
У портрета Стайн работы Пикассо на выставке в Париже, 1955 г.
Незадолго до смерти, 1967 г.
Общая могила Стайн и Токлас на кладбище Пер-Лашез в Париже.
Именной указатель
Приведенный указатель имен является сокращенным. Количество имен в тексте достигает свыше пятисот, многие из которых (например, знакомые детства, юности, или случайные знакомые) не представляют интереса для читателя, особенно русскоязычного. Поэтому для удобства заинтересованного читателя список сокращен.
* * *
Азам, Дениз (Aime-Azam, Denise).
Акоста, Мерседес де (Acosta, Mercedes de).
Андерсон, Шервуд (Anderson, Sherwood).
Аполлинер, Гийом (Apollinaire, Guillaume).
Аргентина, Ля (Argentina, La).
Атертон, Гертруда (Atherton, Gertrude).
Баланчин, Джордж (Balanchine, Georges).
Балмэн, Пьер (Balmain, Pierre).
Барни, Натали (Barney, Natalie Clifford).
Басс, Кейт (Buss, Kate Meldram).
Бендикс, Отто (Bendix, Otto).
Бердсли, Обри (Beardsley, Aubrey).
Берман, Евгений ‘Женя‘ (Berman, Eugene).
Бернар, Сара (Bernhardt, Sarah).
Бернерс, Джеральд (Berners, Gerald).
Бернстайн, Леонард (Bernstein, Leonard).
Битон, Сесиль (Beaton, Cecil).
Бич, Сильвия (Beach, Sylvia).
Боулз, Пол ‘Фредди‘ (Bowles, Paul ‘Freddie‘).
Брак, Жорж (Braque, Georges).
Бриннин, Малькольм (Brinnin, John Malcolm).
Бромфильд, Луис (Louis Bromfield).
Брэдли, Уильям и миссис Брэдли (Bradley, William Aspinwall & mrs. Bradley).
Бутчер, Фанни (Butcher, Fanny).
Бэрри, Джозеф (Barry, Joseph A.).
Ван Вехтен, Карл — папа Вуджюмс (Van Vechten, Carl).
Ван Вехтен, Фаня (Van Vechten, Fania).
Вейль, Оскар (Weil, Oscar).
Вик, Фридрих (Wieck, Friedrich).
Вульф, Вирджиния (Woolf, Adeline Virginia).
Гарбо, Грета (Garbo, Greta).
Гевара, Mepo (Guevara, Meraud).
Гершвин, Джордж (Gershwin, George).
Гибб, Гэрри Фелан (Gibb, Harry Phelan).
Гика, Принцесса, Лиана де Пужи (Ghika, Princess,Liane de Pougy).
Годдар, Полетт (Goddard, Paulette).
Голль, Клэр (Goll, Claire).
Голь, Иван (Goll, Ivan).
Греко, Эль (Greco, El).
Грис, Хуан (Gris, Juan).
Гэллап, Дональд (Gallup, Donald).
Д‘Аннунцио, Габриель (D’Annunzio, Gabriele).
Дарантьер, Морис (Darantiere, Maurice).
Де Голль, Чарльз (De Gaulle, Charles).
Дэйвидсон, Джо (Davidson, Jo).
Дерен, Андре (Derain, Andre).
Джеймс, Генри (James, Henry).
Джеймс, Уильям (James, William).
Джойс, Джеймс (Joyce, James).
Джон, Джордж (John, George).
Динкинсон, Эмили (Dickinson, Emily).
Диор, Кристиан (Dior, Christian).
Дитрих, Марлен (Dietrich, Marlene).
Додж, Мейбл (Dodge, Mabel).
Донн, Джон (Donne, John).
Дос Пассос, Джон (Dos Passos, John).
Дункан, Раймонд (Duncan, Raymond).
Жакоб, Макс (Jacob, Max).
Жид, Андре Gide, Andre).
Жило, Франсуаза (Gillot, Françoise).
Изабелла, Инфанта Испанская (Isabella, Clara Eugenia, Infanta of Spain).
Имс, Брейвиг (Imbs, Bravig).
Ирвинг, Эмма (Erving, Emma).
Канвейлер, Даниель-Анри (Kahnweiler, Daniel-Henry).
Капоте, Трумен (Capote, Truman).
Катц, Леон (Katz, Leon).
Каэтани, Принцесса (Caetani, Princess — Marguerite Chapin).
Кейдж, Джон (Cage, John).
Клермон-Тоннерр де, Графиня (Clermont-Tonnerre, Duchess de).
Клодель, Поль (Claudel, Paul).
Кокто, Жан (Cocteau, Jean).
Коплэнд, Аарон (Copland, Aaron).
Коун, Кларибель (Cone, Claribel).
Коун, Этта (Cone, Etta).
Коутс, Роберт (Coates, Robert).
Кревель, Рене (Crevel, Rene).
Кук, Уильям (Cook, William).
Лафлин, Джеймс (Laughlin, James).
Леви, Гарриет (Levy, Harriet).
Лейн, Джон (John, Lane).
Липшиц, Жак (Lipchitz, Jacques).
Лист, Франц (Liszt, Franz).
Лоб, Гарольд (Loeb, Harold).
Лозер, Чарльз (Loeser, Charles).
Лонсбери, Грейс (Lounsbery, Grace).
Лорансен, Мари (Laurencin, Marie).
Лус, Анита (Loos, Anita Коринн).
Лутц, Марк (Lutz, Mark).
Маар, Дора (Maar, Dora).
МакБрайд, Генри (McBride, Henry).
МакЭлмон, Роберт (McAlmon, Robert).
Мальро, Андре (Malraux, Andre).
Маратье, Жорж (Maratier, Georges).
Маркусси, Луи (Marcoussis, Louis).
Массон, Андре (Masson, Andre).
Матисс, Анри (Matisse, Henri).
Мерсон, Ольга (Merson, Olga).
Moypep, Хедли Хемингуэй, (Mowrer, Hadley Hemingway).
Моэм, Соммерсет (Maugham, W. Somerset).
Назимова, Алла (Nazimova, Alla).
Напик, Вирджиния (Knapik, Virginia).
Напик, Гарольд (Knapik, Harold).
Нижински, Вацлав (Nijinsky,Vaclav).
О’Киффи, Джорджия (O’Keeffe, Georgia).
Олдрич, Милдред, (Mildred Aldrich).
Оливье, Фернанда Бельвали (Olivier, Fernande Bellevallee).
Паунд, Эзра (Pound, Ezra).
Пивано, Фернанда (Pivano, Fernanda).
Пикабиа, Франсис (Picabia, Francis).
Пикассо, Пабло (Picasso, Pablo).
Пикфорд, Мэри (Pickford, Mary).
Пол, Эллиот (Paul, Elliot).
Пруст, Марсель (Proust, Marcel).
Пуленк, Франсис (Poulenc, Francis).
Пуррманн, Ханс (Purrmann, Hans).
Райт, Ричард (Wright, Richard).
Рамабай, Пандита (Ramabai, Pundita).
Рассел, Бертран (Russell, Bertrand).
Рильке, Рейнер Мария (Rilke, Rainer Maria).
Робсон, Поль (Robeson, Paul).
Роган, Дилкуша де (Rohan, Dilkusha de).
Роджерс, Уильям Гарланд (Rogers, William Garland).
Розеншайн, Аннетт (Rosenshine, Annette).
Ропс, Даниель и Мадлен (Rops, Daniel & Madeleine).
Роуз, Леди Фредерика — Дороти Каррингтон (Rose, Lady Frederica, Dorothy Carrington).
Роуз, Фрэнсис (Rose, Francis).
Рузвельт, Элеанор (Roosevelt, Mrs. Eleanor).
Руссо, Анри (Rousseau, Henri).
Рэй, Ман (Ray, Man).
Сабартес Хайме (Sabartes, Jaime).
Саган, Франсуаза (Sagan, Francoise).
Сазерленд, Дональд (Sutherland, Donald).
Сати, Эрик (Satie, Erik).
Севарид, Ерик (Sevareid, Eric).
Сезанн, Поль (Cezanne, Paul).
Серф, Беннет (Cerf, Bennett).
Ситуэлл, Осберт (Sitwell, Osbert).
Ситуэлл, Эдит (Sitwell, Edith).
Ситуэлл, Сачеверелл (Sitwell, Sacheverell).
Стайн, Аллан Даниэль (Stein, Allan Daniel).
Стайн, Джулиан (Stein, Julian).
Стайн, Лео (Stein, Leo).
Стайн, Майкл, ‘Майк‘ (Stein, Michael).
Стайн, Рубина (Stein, Roubina).
Стайн, Сара (Салли) Stein, Sarah (Sally).
Стайн, Фред (Stein, Fred).
Стравинский, Игорь (Stravinsky, Igor).
Стюард, Сэмюэл (Steward, Samuel).
Сульцбергер, Чарльз (Sulzberger, Charles L.).
Тейлор, Луиз Хейден (Taylor, Louise Hayden).
Томсон, Вирджил (Thomson, Virgil).
Тонни, Кристианс (Tonny, Kristians).
Уайлд, Оскар (Wilde, Oscar).
Уайлдер, Торнтон (Wilder, Thornton).
Уайссбергер, Арнольд (Weissberger, L. Arnold).
Уайт, Макс (White, Max).
Уайтхед, Альфред Норт (Whitehead, Dr. Alfred North).
Уикс, Мейбл (Weeks, Mabel).
Уилкокс, Уэнделл (Wilcox, Wendell).
Уилсон, Эдмунд (Wilson, Edmund).
Унье, Жорж (Hugnet, Georges).
Уэллс Герберт (Wells, Herbert).
Уэскотт, Гленуэй (Wescott, Glenway).
Фай, Бернар (Fay, Bernard).
Фитцджеральд, Зельда (Fitzgerald, Zelda).
Фитцджеральд, Ф. Скотт (Fitzgerald, F. Scott).
Флетчер, Констанция (Fletcher, Constance).
Флэннер, Дженет (Flanner, Janet).
Фолкнер, Уильям (Faulkner, William).
Форд, Форд Мэдокс (Ford, Ford Madox).
Хансен Л. Элизабет ‘Лилиан‘ (Hansen, L. Elizabeth ‘Lilyana‘).
Хапвуд, Эвери (Hopwood, Avery).
Харден, Элмер (Harden, Elmer).
Хейден, Луиз (Hayden, Louise), см. Тейлор, Луиз.
Хейден, Питер (Hayden, Peter).
Хеллман, Лилиан (Heilman, Lillian).
Хемингуэй, Эрнест (Hemingway, Ernest).
Хохлова-Пикассо, Ольга (Khokhlova, Olga).
Хэммет, Дешил (Hammett, Dashiell).
Чаплин, Чарльз (Chaplin, Charles).
Челищев Павел (Павлик), (Tchelitchev, Paul, Pavlik).
Челищева Александра (Шура), (Tchelitchev, Choura).
Шаляпин Федор (Chaliapin, Fedor).
Шанель Коко (Chanel, Coco).
Шуман, Клара (Schumann, Clara).
Эгю, де Роберт, барон (d’Aiguy, Robert, Baron).
Эдстром, Дэйвид (Edstrom, David).
Эктон, Гарольд (Acton, Harold, Sir).
Элиот T. C. (Eliot, Thomas. S.).
Энтони, Сюзан (Anthony, Susan В.).
Юлялия Инфанта Испанская (Eulalia, Infanta of Spain).
Примечания
1
Подчеркивание и курсив в тексте выполнены авторами. Примечания принадлежат переводчику.
/В файле: курсив (в цитатах, письмах) выделен полужирным, подчеркивание — полужирный + код (Прим. верст.)/.
(обратно)2
Linzie Anna. The true story of Alice B. Toklas: a study of three autobiographies. University of Iowa Press, 2006.
(обратно)3
Alice В. Toklac Staying on Alone. Liveright Publishing Corporation, 1973.
(обратно)4
Copyright © What Is Remembered. Holt, Rinehart & Winston, NY, 1963.
(обратно)5
Тете Берте (нем.).
(обратно)6
Кларенс Фердинанд Токлас (Clarence Ferdinand Toklas), брат Элис. (1887–1937).
(обратно)7
«Бен Гур» (англ. Ben-Hur: A Tale of the Christ, 1880) — исторический роман, книга американского писателя Льюис «Лью» Уоллеса (1827–1905).
(обратно)8
«Фонарщик» (англ. Lamplighter, 1854) — роман американской писательницы Марии Камминс (англ. Maria Susanna Cummins, 1827–1866).
(обратно)9
Район и парк нынешнего Сан-Франциско.
(обратно)10
Come into the garden, Maud— первая строчка одноименной поэмы Альфреда Теннисона (англ. Alfred Tennyson, 1809–1892).
(обратно)11
Нелл, Нелли (англ. сленг Nell) — самая замечательная из встреченных девушек.
(обратно)12
«Кукольный дом» (норв. Et dukkehjem) — пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена (Henrik Johan Ibsen, 1828–1906).
(обратно)13
«Лорд Джим» (англ. Lord Jim) — роман английского писателя Джозефа Конрада (Joseph Conrad, псевдоним Юзефа Теодора Конрада Корженевского, 1857–1924). Роман повествует о том, как команда корабля «Патна» покидает корабль и его пассажиров в преддверии катастрофы.
(обратно)14
Срочное письмо, передаваемое пневматической почтой (фр.).
(обратно)15
Декорированный карниз (фр.).
(обратно)16
Второе, после улицы Флерюс, место жительства Гертруды и Элис.
(обратно)17
Дверной замок, изобретенный Лайнусом Йейлом (Yale key).
(обратно)18
Этот эпизод описан Стайн и в Автобиографии Элис Б. Токлас с любопытным и характерным отличием: у Стайн извиняется за опоздание Пикассо.
(обратно)19
Макияж (фр.).
(обратно)20
Нечто невероятное (фр.) — игра в придумывание или демонстрацию необычного.
(обратно)21
Авангардистское течение в живописи французского постимпрессионизма — (букв. зал диких).
(обратно)22
Токлас имеет в виду, видимо, Исидора Филиппа (фр. Isidor Edmond Philipp, 1863–1958).
(обратно)23
Дорогой учитель (фр.).
(обратно)24
The Making of Americans — Роман Г. Стайн.
(обратно)25
Далее Токлас цитирует разрозненные абзацы из «Становления Американцев» Г. Стайн (для любознательных — с. 192, 312, 324, 329 американского издания книги).
(обратно)26
У Стайн в оригинале own — имеют (англ.).
(обратно)27
Обо всем этом Токлас узнала, конечно, позже, после смерти Гертруды, когда обнаружились записи, сделанные писательницей в процессе работы над романом.
(обратно)28
И вызывая неодобрение и ревность Гертруды.
(обратно)29
Бывшая (с 1909 г.) несколько лет женой Дэйвида Эдстрома, о чем Элис видимо забыла по прошествии стольких лет.
(обратно)30
Miss Furr and Miss Skeene — новелла Г. Стайн (1922).
(обратно)31
Майкл Стайн, взял на себя контроль за финансами девушек.
(обратно)32
Элис имеет в виду окончание II Мировой войны.
(обратно)33
По преданию, в Губбио Св. Франциску удалось приручить кровожадного волка.
(обратно)34
Ну, и что же (фр.).
(обратно)35
Горничная, домработница, женщина по уходу за домом (фр.).
(обратно)36
Я — газовая горелка Ауэра (фр.); Карл Ауэр фон Вельсбах (нем. Carl Auer von Welsbach) — изобретатель газовой горелки, использованной в уличных фонарях.
(обратно)37
Рис по-валенсиански (фр.).
(обратно)38
Нашему Руссо (фр.).
(обратно)39
В данном случае — Бюро по взаимоотношениям владельца и жильцов.
(обратно)40
Салон отказников (фр.). Туда Стайн переносила картины художников, к которым теряла интерес.
(обратно)41
Грейс была одной из сторон любовного треугольника с участием Стайн в их студенческие годы. Эта история легла в основу ранней новеллы Стайн Q. Е. D. (1903).
(обратно)42
Героиня романа Теккерея «Ярмарки тщеславия».
(обратно)43
Preciosilla (1913).
(обратно)44
Portrait of Mabel Dodge at the Villa Curonia (1912).
(обратно)45
Ведущий английский литературный журнал того времени, имевший желтую обложку и выходивший ежеквартально.
(обратно)46
Все хорошо, нет опасности уничтожения. Обнимаю тебя, Нелли (фр.).
(обратно)47
Английская фирма Wedgewood по изготовлению высококачественной посуды. Основана в 1759 году. Существует и поныне.
(обратно)48
Innovation Trunk Co — компания по выпуску чемоданов и сундуков.
(обратно)49
Вода жизни (лат.).
(обратно)50
Небо, небо вот идет сивая лошадь (англ. — нем.).
(обратно)51
Hilltop on the Marne (1915) — роман американской писательницы Милдред Олдрич (1853–1928).
(обратно)52
How She Bowed to Her Brother (1931).
(обратно)53
Визитандинки — монахини Ордена Св. Марии, посещавшие больных и немощных бесплатно.
(обратно)54
The Eater of Darkness (1926) — роман американского писателя Роберта Коутса (англ. Coates Robert Myron, 1897–1973).
(обратно)55
The Fifteenth Of November (1924).
(обратно)56
В саду своего арендованного дома Натали Барни выстроила Храм Дружбы в честь лесбийской любви.
(обратно)57
Поражение итальянской армии в битве у города Капоретто в ноябре 1917 г., описанное Хемингуэем в романе «Прощай, оружие». Хемингуэй в это время был приписан к итальянскому фронту.
(обратно)58
The Princess Casamassima — роман американо-британского писателя Генри Джеймса (англ. Henry James, 1843–1916).
(обратно)59
Баскет (англ. basket) — корзина.
(обратно)60
Мэри Гарден (англ. Mary Garden (1874–1967) — оперная певица (сопрано).
(обратно)61
Nigger Heaven — роман американского писателя, журналиста и фотокорреспондента Карла Ван Вехтена (англ. Carl van Vechlen, 1880–1964).
(обратно)62
Melanclha — вторая новелла повести Г. Стайн «Три жизни».
(обратно)63
Может быть (фр.).
(обратно)64
Bravig Imbs. The professor’s wife. 1928.
(обратно)65
Я не знаю этого господина (фр.).
(обратно)66
An Elucidation — эссе Г. Стайн (1927).
(обратно)67
Писк, скрип. От английского squeak.
(обратно)68
Герои повести «Поль и Вирджини» (фр. Раиl el Virginie) французского писателя Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьера (фр. Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, 1737–1814).
(обратно)69
Lucy Church Amiably (1927).
(обратно)70
How to Write (1931).
(обратно)71
Operas and plays (1932), Matisse Picasso and Gertrude Stein (1911–1912). Befory the flowers of friendship faded friendship faded (1931).
(обратно)72
S. S. Champlain — океанский лайнер, построенный в 1932 г., самый комфортабельный в то время, назван в честь Самюэля де Шамплена, французского путешественника и картографа.
(обратно)73
Шутливая парафраза знаменитого выражения Стайн: «Роза есть роза есть роза».
(обратно)74
Four Saints in Three Acts — опера американского композитора Вирджила Томсона на либретто Г. Стайн (1927–1928).
(обратно)75
Бестактный, несносный ребенок (фр.).
(обратно)76
Клубника (фр.).
(обратно)77
Балет написан по произведению Г. Стайн «Они должны жениться на своих женах» (англ. They Must Be Wedded to Their Wife. 1931).
(обратно)78
Белая лошадь в континентальной Галлии считалась Богиней-Матерью.
(обратно)79
Wars I have seen (1934).
(обратно)80
The Mother of Us All — опера Вирджила Томсона на либретто Г. Стайн (1947).
(обратно)81
Slaying on alone. Copyright © 1973 BY LIVERIGHT.
(обратно)82
Карл Ван Вехтен и его жена, актриса Фаня Маринофф настолько сдружились с Гертрудой и Элис, что для укрепления дружбы «объединились» одной фамилией «Вуджюмс» (происхождение неизвестно). Ван Вехтен стал именоваться Папа Вуджюмс, Гертруда — Малышка Вуджюмс, Элис — Мама Вуджюмс и Фаня Маринофф — Императрица или Мадам Вуджюмс.
(обратно)83
Brewsie and Willie (1946) — последнее произведение Гертруды Стайн.
(обратно)84
In Savoy or Yes Is For A Very Young Man (1946) — «В Савойе или „Да“ для очень молодого человека» — пьеса Стайн.
(обратно)85
В данном случае — выражение уважения и признание заслуг.
(обратно)86
Здесь и далее в тексте — подчеркивание сделано Токлас.
(обратно)87
Такой пьесы в архиве Стайн не обнаружено.
(обратно)88
Four in America (1932–1933) — произведение Стайн.
(обратно)89
Picasso (1939) — эссе Стайн.
(обратно)90
Монти Джонсон и Тони Мерилл — артисты, участвовавшие в инсценировке.
(обратно)91
Viva voce (лат.) — живым голосом, устно.
(обратно)92
Композитор Вирджил Томсон.
(обратно)93
В связи с тем, что Гертруда не упомянула о месте и процедуре захоронения, возникла бюрократические осложнения, на разрешение которых ушло несколько месяцев.
(обратно)94
Десять взрослых мужчин необходимо для миньяна — богослужения по еврейскому образцу.
(обратно)95
Чета Гудспид, известные общественные фигуры в Чикаго. В их семье проживали Стайн и Токлас в 1934 году во время Американского тура.
(обратно)96
Юристы — отец и сын — однофамильцы поэта.
(обратно)97
Дональд Гэллап — куратор коллекции Американской литературы при Йельском университете.
(обратно)98
Ольга Пикассо, к тому времени, жившая отдельно от Пикассо, пыталась понять, почему он стал коммунистом.
(обратно)99
Добрые отношения (фр.).
(обратно)100
Во время II Мировой войны, живя в оккупации и бедствуя, женщины продали картину Сезанна «Портрет Мадам Сезанн».
(обратно)101
Своей твердости, закаленности (фр.).
(обратно)102
Geography and Plays (1922) — сборник произведений Стайн.
(обратно)103
Генри Раго (англ. Henry W. Rago, 1915–1969) — американский поэт и издатель, написавший статью о. Стайн.
(обратно)104
Мы с тобой никогда больше не встретимся (фр.).
(обратно)105
Q. E. D.
(обратно)106
Жест (фр.).
(обратно)107
Джулиан Сойер (англ. Julian Sawyer) — американский писатель, читавший лекции о творчестве Стайн. Недовольная его разбором сексуальности Стайн, Токлас даже не подписала письмо.
(обратно)108
Американский солдат, впоследствии американский писатель Уильям Гарланд Роджерс (англ. William Garland Rogers) познакомился и подружился с Гертрудой и Элис во время службы во Франции в период I Мировой войны. Женщины прозвали его «Kiddie» — «Малыш». Токлас имеет в виду книгу о Стайн, которую Роджерс в это время готовил.
(обратно)109
«Поцелуй феи» — балет И. Ф. Стравинского.
(обратно)110
Видимо, Баланчина.
(обратно)111
Опера Ф. Пуленка «Груди Терезия».
(обратно)112
Сэмюэл Стюард (англ. Samuel Morris Steward, 1909–1993) — американский поэт и писатель, большой друг обеих женщин…
(обратно)113
Бюро по обмену (фр.).
(обратно)114
Практикант (фр.).
(обратно)115
Такие как есть (фр.).
(обратно)116
Дональд Сазерленд (Donald Sutherland, 1915–1978) — американский литературовед, критик и переводчик.
(обратно)117
The Wings of the Dove (1902) — роман Генри Джеймса.
(обратно)118
Клянусь вам (фр.).
(обратно)119
Округ (фр.).
(обратно)120
Видимо, в своем письме Сазерленд отметил влияние творчества Гертруды на Джойса.
(обратно)121
Потеряла к нему интерес (фр.).
(обратно)122
Хансен, Лили (англ. Lily Anna Elizabeth Hansen) — подруга Токлас времен юности, учившаяся игре на фортепиано вместе с Элис у Бендикса.
(обратно)123
«Желание, пойманное за хвост» (англ. Desire Caught by the Tail, 1941).
(обратно)124
The Life and Death of Juan Gris (1927) — эссе Стайн на смерть художника.
(обратно)125
Anette Rosenshine — подруга юности Элис. Знакомая Стайнов по Сан-Франциско, художница (вместе с Сарой Стайн) в школе Матисса.
(обратно)126
Когда увидишь это, вспомни меня (англ. When This You See Remember Me, 1948) — книга-воспоминание У. Г. Роджерса.
(обратно)127
Не говорить о [подробнее?] (фр.).
(обратно)128
Владение (фр.).
(обратно)129
Здесь — безопасно, с доходных бумаг (фр.).
(обратно)130
Свинина (фр.).
(обратно)131
Пьеса «Разбивающий тарелки» (1923) французского драматурга Армана Салакру (фр. Armand Salacrou, 1899–1989).
(обратно)132
В данном случае — лишенный (фр.).
(обратно)133
Здесь: вынужденно (фр.).
(обратно)134
Часовня Розер в Вансе (Франция), украшенная мозаикой Матисса.
(обратно)135
Сэр Фрэнсис Сирил Роуз (Francis Cyril Rose, 1909–1979) — английский художник, которому Стайн и Токлас покровительствовали всю жизнь.
(обратно)136
Бюро, дающее право на вывоз документов и иных ценностей из страны (фр.).
(обратно)137
Джон Кейдж — изобретатель т. н. «подготовленного» пианино, звук которого меняется с помощью различных предметов, размещенных между струнами или молоточками.
(обратно)138
Падение (фр.).
(обратно)139
Фернанда Пивано (итал. Fernanda Pivano, 1917–2009) — итальянская писательница, переводчица Г. Стайн.
(обратно)140
«Святилище» (Sanctuary, 1931), «Осквернитель праха» (англ. Intruder in the Dust, 1948) — романы Уильяма Фолкнера.
(обратно)141
Никогда в жизни (фр.).
(обратно)142
Слышите ли вы меня (фр.).
(обратно)143
Старательно заботился (фр.).
(обратно)144
Сборник эссе С. Фитцджеральда назывался «Крушение» (The Crack-Up, 1945).
(обратно)145
Токлас имеет в виду, что в своем сборнике Фитцджеральд, в отличие от Хемингуэя, был самокритичен.
(обратно)146
Тысячу нежностей (фр.).
(обратно)147
Марк Лутц (Mark Lutz, 1901–1968) — близкий друг Карла Ван Вехтена.
(обратно)148
Видимо, выставка картин из Балтиморского музея, купленных у Стайн сестрами Коун.
(обратно)149
И вы (фр.), целиком (фр.).
(обратно)150
Герой книги «Становление американцев».
(обратно)151
The Far Side of Paradise — роман (1951) американского писателя Майзенера (англ. Arthur Mizener).
(обратно)152
Между нами (фр.).
(обратно)153
Извини меня (фр.).
(обратно)154
Тайна открывается (фр.).
(обратно)155
Опера австрийского композитора А. Берга.
(обратно)156
Су — французская монета. Здесь: деньги (фр.).
(обратно)157
Среди неопубликованных материалов Стайн, переданных Йельскому университету, обнаружились записные книжки и заметки откровенного характера, сделанные Стайн при подготовке книги «Становление американцев». Эти материалы были переписаны и расшифрованы Леоном Катцем, для чего Катц провел несколько месяцев в Париже в беседах с Токлас. Он обещал ознакомить с этими материалами всех интересующихся творчеством Стайн, издать книгу, но она до сих пор не издана и вряд ли увидит свет. Катцу ныне без малого сто лет.
(обратно)158
Matisse Picasso and Gertrude Stein (GMP), A Long Gay Book, Many Many Women — ранние произведения Стайн (1909–1912).
(обратно)159
В данном случае: более серьезным лицам (фр.).
(обратно)160
Здесь: о героических днях (фр.).
(обратно)161
В основном (фр.).
(обратно)162
Картина Пикассо «Женщина с мандолиной» (1914).
(обратно)163
Финансовая афера во время войны в Индокитае (1948–1953).
(обратно)164
«Лекарство для уставшего мира» — книга американского писателя Луиса Бромфильда (англ. Louis Bromfield, 1896–1956).
(обратно)165
Картина Пикассо «Обнаженная в голубом».
(обратно)166
Старшая сестра Г. Стайн.
(обратно)167
Она добра (фр.).
(обратно)168
Здесь: доме для пожилых (фр.).
(обратно)169
Молчание с моей стороны (фр.).
(обратно)170
Сдоба к чаю (фр.).
(обратно)171
Без утайки, открыто (фр.).
(обратно)172
«На волосок от гибели» — роман Торнтона Уайлдера.
(обратно)173
Это не в моих привычках (фр.).
(обратно)174
«Цветное кружево и другие истории» — сборник произведений Гертруды Стайн (1955).
(обратно)175
Здесь: все по высшему разряду (фр.).
(обратно)176
Causerie — выступление; frousse — страх (фр.).
(обратно)177
См. Список публикаций Э. Токлас в этой книге.
(обратно)178
Мерседес де Акоста (англ. Mercedes de Acosta, 1893–1968) — американская поэтесса, драматург, новеллист.
(обратно)179
«В саду» (англ. In a Garden, 1944) — одноактная опера Мейера Купфермана.
(обратно)180
Брайон Гисин (англ. Brion Gysin, 1916–1986) — английский художник, писатель.
(обратно)181
Наказание (фр.).
(обратно)182
Бандитом (фр.).
(обратно)183
Джон Лукас (англ. Lucas, John S.) — поэт, профессор университета в Миннеаполисе. Познакомился с Токлас в Париже в начале 50-х годов.
(обратно)184
Жи-Жи (фр. Gigi) — новелла французской писательницы Сидони Колетт. Новеллу переделала в пьесу Анита Лос.
(обратно)185
Стюард был не только писателем, но одним из ведущих специалистов в искусстве татуировки.
(обратно)186
Уильям Альфред (англ. William Alfred, 1922–1999) — американский поэт, драматург, профессор английской литературы в Гарвардском университете.
(обратно)187
Нед Рорем (англ. Ned Rorem, г. р. — 1923) — американский композитор, написавший оперу на пьесу Стайн «Три сестры, которые не сестры)».
(обратно)188
Арнольд Уайссбергер (англ. Weissberger, L. Arnold, 1907–1981) — известный американский юрист. Представлявший нтересы знаменитых русских балерин Алисии Марковой и Александры Даниловой, работавших в балетной труппе Дягилева.
(обратно)189
Паркер Тайлер (англ. Tyler, Parker, 1904–1974) — американский писатель.
(обратно)190
Чета Гарольд и Вирджиния Напик поселились в Париже в 1948 году и встретившись с Элис Токлас, подружились, сохранив дружбу до конца ее жизни.
(обратно)191
Коринна Анита Лус (Corinne Anita Loos, 1888–1981) — американская писательница и киносценарист.
(обратно)192
Здесь покоится сердце (1960).
(обратно)193
Лицом к лицу (фр.).
(обратно)194
Молодой художник — истинно русский (фр.).
(обратно)195
Принцесса Дилкуша де Роган (англ. Rohan, Dilkusha, princess de, 1899-?).
(обратно)196
Слишком много чести (фр.).
(обратно)197
Несравненный (фр.).
(обратно)198
Монахиня общества Св. Павла (фр.).
(обратно)199
Обнимаю тебя, моя милая (фр.).
(обратно)200
Рассел Портер (англ. Porter, Russel) — юрист, защищавший интересы Элис Токлас в вопросе о наследстве Г. Стайн.
(обратно)201
«То, что помнится».
(обратно)202
Элис родилась в семье польских евреев.
(обратно)203
Судебного исполнителя (фр.).
(обратно)204
Уэнделл Уилкокс (англ. Wilcox Wendell, 1906–1981) — американский писатель.
(обратно)205
Рубина Стайн.
(обратно)206
Copyright ©The New York Times.
(обратно)207
Описка, должно быть, 1912.
(обратно)208
Локоны волос, свисающие на лоб (фр.).
(обратно)209
Королева Англии и Шотландии якобы заметила: «Нам не интересно». Элис сомневалась, что Паунд глубоко разбирался в своих увлечениях.
(обратно)210
Джордж Уикс (George Wickes), профессор английского языка и литературы в Университете штата Орегон, один из известнейших литераторов, специализирующихся на изучении литературы периода «потерянного поколения». Одним из его самых известных и значительных произведений «Американцы в Париже, 1903–1939 годы».
Copyright © Lost Generation Journal Carbondale, Illinois, winter 1974.
(обратно)211
Джеймс Босуэлл (англ. Boswell, James, 1740–1795) — шотландский писатель, автор знаменитой и подробной автобиографии Сэмюэла Джонсона.
(обратно)212
Дональд Сазерленд в течение многих лет дружил с Гертрудой и Элис. Он написал книгу о творчестве Г. Стайн: «Гертруда Стайн: биография ее работ». Сазерленд долгое время был профессором классической литературы Университета в Колорадо, специализируясь по истории и литературе Древней Греции.
Copyright © Prairie Schooner, Vol. 45, No. 4 (Winter 1971/72).
(обратно)213
Английское слово clap, используемое автором и Токлас, означает в обыденной речи «похлопывание», а на сленге — венерическую болезнь.
(обратно)
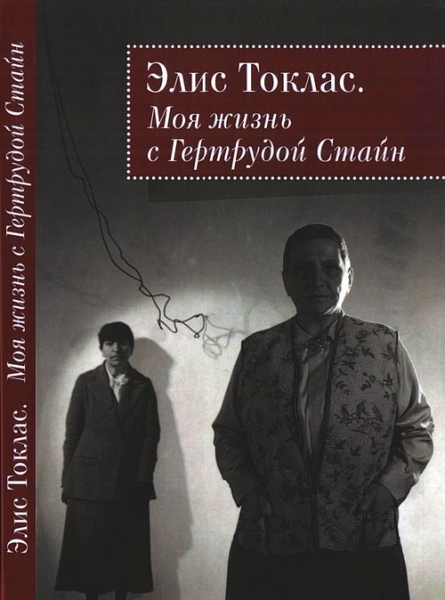



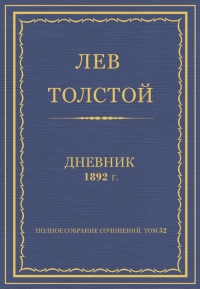


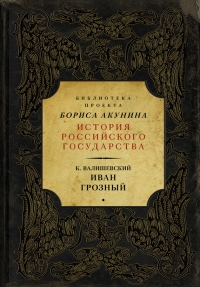
Комментарии к книге «Моя жизнь с Гертрудой Стайн», Элис Токлас
Всего 0 комментариев